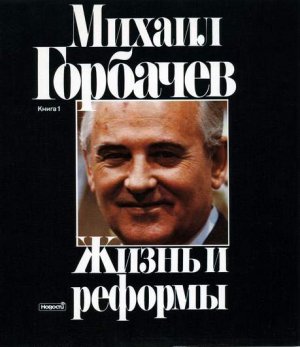
Вместо предисловия
Обращение к советским гражданам
Выступление по телевидению Президента СССР
25 декабря 1991 года
«Дорогие соотечественники! Сограждане!
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям.
Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны.
События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться.
И после Алма-Атинской встречи и принятых там решений моя позиция на этот счет не изменилась.
Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления.
Тем не менее я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ.
Выступая перед вами последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений.
Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них.
Причина была уже видна — общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно — на пределе возможного.
Все попытки частичных реформ — а их было немало — терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять.
Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью Генерального секретаря только для того, чтобы «поцарствовать» несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным.
Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, — труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года.
Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству:
— Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это — самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, и потому что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее проделана работа исторической значимости:
— Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.
— Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность. Права человека были признаны высшим принципом.
— Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация.
— Поворачивая экономику к рынку, важно помнить — делается это ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается стариков и детей.
Мы живем в новом мире:
— Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны.
Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием.
— Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением.
— Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, демократических началах.
— Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу заключения нового Союзного договора.
Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил старого, отжившего, реакционного — и прежних партийно-государственных структур, и хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков, уравнительной и иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, низкий уровень политической культуры, боязнь перемен. Вот почему мы потеряли много времени. Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился.
Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике властей на всех уровнях и лично моей деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть: кардинальные перемены в такой огромной стране, да еще с таким наследием, не могут пройти безболезненно, без трудностей и потрясений.
Августовский путч довел общий кризис до предельной черты. Самое губительное в этом кризисе — распад государственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны — последствия могут оказаться очень тяжелыми для всех.
Жизненно важным мне представляется сохранить демократические завоевания последних лет. Они выстраданы всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. В противном случае все надежды на лучшее будут похоронены.
Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой моральный долг.
Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления, включились в осуществление демократических реформ.
Я благодарен государственным, политическим и общественным деятелям, миллионам людей за рубежом — тем, кто понял наши замыслы, поддержал их, пошел нам навстречу, на искреннее сотрудничество с нами.
Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни.
Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше. Но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды, наши народы будут жить в процветающем и демократическом обществе.
Желаю всем вам всего самого доброго».
К читателю
В нынешнее бурное время люди у нас в России, в государствах бывшего Советского Союза, да и повсюду в мире задаются вопросами. Что произошло со всеми нами в последние годы? Была ли переживаемая драма предопределена ходом общественного развития или явилась результатом человеческой воли — доброй, по мнению одних, злой, как считают другие? Где глубокие корни и причины тех событий, которые второй раз в XX веке перевели в другое русло жизнь у нас в стране и вышли далеко за ее пределы? Наконец, в какой точке исторических координат мы сейчас находимся и что день грядущий нам готовит?
С 1985-го до конца 1991 года я был, можно сказать, в эпицентре событий. Теперь, освободившись от груза государственных обязанностей, считаю своим долгом сказать все, что знаю, дать свой ответ на вопросы, тревожащие современников. Само собой разумеется, речь пойдет прежде всего о политике, власти, новом мышлении, начатых нами реформах в стране, переменах на международной арене. Но не только. Меня часто спрашивают о тех или иных подробностях личной жизни, пытаясь понять, из какого корня выросла перестройка, где, когда, при каких обстоятельствах сложилось намерение покончить с укрепившейся у нас тоталитарной системой. Расскажу я и об этом.
Впрочем, рассказ этот будет не столько о себе, сколько об условиях, в которых формировалось наше поколение, о людях, с кем я постигал жизненные и политические премудрости, общение с которыми оказало влияние на формирование моих убеждений, характера.
С университетской скамьи и до последнего времени пришлось мне встречаться с великим множеством людей. Особенно насыщенными в этом смысле были семь лет у власти. До конца сохраню чувство искренней благодарности всем, кто помогал мне в делах личным участием или поддерживал морально. Скажу о них как сумею.
Немало и противников встретилось на моем пути. Я не питаю к ним зла. По крайней мере, к тем, кто отстаивал свои убеждения не таясь, бросал перчатку, а не угодничал, чтобы потом предать, нанести удар из-за угла. Теперь всех нас рассудит история.
За эти годы я прочитал и услышал о себе, своей деятельности, моральных установках самые разные суждения. Наряду с честным описанием происшедшего в ходу немало домыслов, спекуляций, да и беспардонной лжи. К серьезным оценкам я отношусь соответственно — даже если они и неприятны для меня, и с ними не согласен, — они заставляют думать. На злопыхательство не считаю нужным реагировать.
Я начал свою деятельность в 1985 году с желания быть понятым. Хочу в этих книгах представить себя и свои искания с той же целью — объяснить не только свой выбор, но и то, как я шел к нему. Попытался рассказать о том, как трудно было реализовать замыслы, и о том, что многое пришлось кардинально менять по ходу перестройки.
Мне хотелось не впасть в какие-то преувеличения, избежать изображения событий в выгодном для себя свете. Не знаю, насколько это удалось, но я стремился к этому.
Стараясь объяснить те или иные свои решения и поступки, я вовсе не хочу все их оправдать. Не снимаю с себя ответственности за начатые реформы, потому что по-прежнему глубоко убежден: они были жизненно необходимы и в конечном счете послужат благополучию моей Родины, будут благотворны для мира.
Впрочем, мое дело рассказать, а читателю судить.
В работе над воспоминаниями я постоянно чувствовал помощь и поддержку моей жены. Пытливый ум и женская интуиция Раисы Максимовны, ее непосредственное участие во всех моих жизненных перипетиях имели при написании книги неоценимое значение.
Хочу выразить сердечную признательность всем, кто помог в подготовке этих книг. Среди них мои единомышленники и друзья, которые были со мной в годы перестройки, и те, кто сейчас трудится рядом со мной в Фонде, — А.С.Черняев, В.А.Медведев, Г.Х.Шахназаров, В.Т.Логинов, Г.С.Остроумов, В.В.Загладин, А.Б.Вебер, В.Б.Кувалдин.[1]
Душевно благодарен Т.П.Мокачевой и И.Г.Вагиной — моим постоянным помощницам на протяжении многих лет[2]. Очень важную работу проделали Л.Н.Пучкова. Г.К.Прозорова, О.И.Дубровина, С.Л.Кузнецов, В.Н.Миронова[3].
Был момент, когда мысль написать этот «отчет» о моей жизни и реформах, таившаяся где-то в подсознании, превратилась в настоятельную потребность.
В последние дни декабря 1991-го — драматические для страны и, конечно, для меня самого — происходило нечто непостижимое. На глазах распадается Советский Союз, еще недавно могучее государство. Страну пускают «под нож», а люди воспринимают происходящее чуть ли не как благо?! Верховные Советы республик отбрасывают проект Договора о Союзе Суверенных Государств, подготовленный Госсоветом СССР в составе руководителей республик под руководством президента страны, и проглатывают ядовитые плоды беловежского сговора[4]. Пресса растеряна. Интеллигенция молчит. Мои обращения к депутатам и народу, предупреждения о тяжелых последствиях распада СССР остаются без внимания — общество оказалось дезориентированным, не способным адекватно воспринимать происходящее. На этом сыграли разрушители страны, узурпировав право народов самим решать свою судьбу. Произошло то, чего я более всего не хотел допустить.
Сейчас, когда пишутся эти строки, за окном уже осень 1993-го. Многое, о чем так яростно спорили в 1990–1991 годах, прояснилось. Обещанного в рамках СНГ сохранения целостности экономического, политического, оборонного и, главное, «гражданского пространства» не получилось. С душевной болью я смотрю на ситуацию в бывших республиках СССР: экономическая разруха, войны, насилие, разгул преступности, попрание прав граждан и национальных меньшинств. Все это — расплата за авантюризм амбициозных политиков, столкнувших общество и государство с пути реформ на путь «великих потрясений».
Суровая штука — время, все расставляет по местам. Блеск вчерашних кумиров сильно потускнел, а крики одобрения толпы в их адрес сменились на проклятия. Кажется, мы начинаем понимать, что нельзя предаваться иллюзиям. А это — залог выздоровления и осуществления надежды. Я остаюсь при убеждении, что задуманные и начатые в 1985 году реформы были исторически необходимы. Пройдя полосу испытаний, наш народ сумеет достойно распорядиться главным результатом перестройки — свободой, демократией, гражданскими правами. Россия, другие бывшие союзные республики найдут путь к восстановлению своего союза — не в прежней унитарной, имперской форме, а в форме демократического объединения государств.
Верю я и в то, что, миновав период разлада и неустроенности, вызванных концом прежней биполярной системы, мировое сообщество сумеет выстроить новый миропорядок и общими силами одолеть угрозы, отовсюду нас обступающие, — военную, экологическую и другие. Начатое нами движение к безъядерному миру и глобальной безопасности, интеграции стран, относившихся в прошлом к враждующим военно-политическим блокам, будет, несомненно, продолжено.
С этими убеждениями и надеждами приглашаю читателя в путь.
Часть I. КТО Я И ОТКУДА
Глава 1. Избрание секретарем ЦК
1978 ГОД, 27 НОЯБРЯ
Такая надпись сделана на одном из блокнотов, который я обнаружил в своем архиве. Это знаменательная дата в моей политической карьере. 27 ноября 1978 года — понедельник, день Пленума ЦК КПСС, на котором меня избрали секретарем ЦК.
Трапеза с неожиданным концом
25 ноября я прилетел из Ставрополя в Москву. А в воскресенье часов в 12 оказался на юбилее у моего земляка и друга еще по комсомолу Марата Грамова. Ему исполнилось 50. Это, конечно, был повод для встречи друзей. На Малой Филевской улице в новом доме, в квартире на 4-м этаже, собрались несколько человек, в основном ставропольцы. Как у нас такие даты отмечаются, известно. По-русски — широко, с обильным угощением, дружеским разговором, с шуткой и песней. А на этот раз встретились к тому же люди, давно знавшие друг друга. Трапеза началась с традиционных тостов. Но поскольку это был круг друзей, то они звучали и искренне, и нестандартно. Настроение у всех было приподнятое, в том числе у юбиляра. Ну что такое 50 лет! Это еще даже не полдень!
За тостами пошел разговор. Говорили, в частности, о том, кто заменит скончавшегося Кулакова на посту секретаря ЦК КПСС.
Мы, областные секретари, члены ЦК, обычно знали, как говорили тогда, «кто на подходе». Иногда с нами по таким вопросам советовались. На сей раз консультаций не было.
В застолье прошло несколько часов. А в конце дня выяснилось, что меня тщетно целый день разыскивают сотрудники Черненко. Оказывается, со мной хотел встретиться Леонид Ильич Брежнев. Позвонили в гараж Управления делами ЦК, выяснили, что Горбачев вызывал машину, нашли шофера, который меня отвозил по адресу Грамова. В середине дня позвонили на квартиру. Никто из сидевших за столом не обратил внимания на телефонный звонок. А сын Грамова на просьбу пригласить к телефону Горбачева ответил — «не туда попали»…
Прошло еще два-три часа. И уже где-то около 6 часов приехал еще один ставрополец и сказал, что в гостинице всех поставили на ноги — ищут Горбачева.
Я набрал номер телефона, который мне сообщил приехавший земляк. Ответили из приемной Черненко: «Вас вызывает Генеральный секретарь. Нас с работы повыгоняют…» «Хорошо, сейчас приеду», — успокоил того, кто звонил.
Надо сказать, нравы того времени были таковы, что выпивать приходилось не так уж редко. Правда, у меня пристрастия к алкоголю не было никогда. Поэтому и на сей раз мое состояние было вполне нормальным. Но все-таки известная, я бы сказал, неловкость присутствовала. Оказавшись в кабинете Черненко, я в шутливой форме сказал: «Знаете, сошлись земляки, посидели, поговорили…» Константин Устинович шутки не принял и без всяких предисловий сообщил: «Завтра на Пленуме Леонид Ильич собирается внести предложение об избрании тебя секретарем ЦК партии. Поэтому он и хотел встретиться с тобой».
Многозначительное напутствие
Отношения у нас с Константином Устиновичем были на тот момент неплохие: как первый секретарь крайкома я поддерживал с ним регулярный контакт и решал многие вопросы, связанные с нашими заботами. Можно было надеяться на достаточно откровенный разговор. Но эта беседа сильно отличалась от всех предшествующих.
В нашей среде знали Черненко как человека малоразговорчивого — многие называли его молчуном. Таких людей нередко воспринимают как сдержанных, даже скромных, на их фоне люди иного склада и темперамента, вроде моего, могут казаться претенциозными. Но все же симпатии мои на стороне открытых людей. «Тихонь» типа Черненко я воспринимаю настороженно, под их кажущейся скромностью может скрываться самое неожиданное.
Я высказал сомнение: достаточно ли продумано решение о моем избрании. Сказал, что знаю ситуацию в сельском хозяйстве, но не уверен, смогу ли сделать то, в чем сейчас нуждается деревня. Черненко выслушал и возразил своеобразно: «Леонид Ильич исходит из того, что ты на его стороне, лоялен по отношению к нему. Он это ценит».
Мои отношения с Брежневым были ровными, деловыми, но отнюдь не близкими.
Я намеревался продолжить разговор, но Черненко прервал:
— Раз Леонид Ильич пришел к этому выводу, никаких разговоров быть не может.
Я попытался сказать, что дело это тяжелое, надо очень многое менять. По Ставрополью знаю, как непросто даются перемены. На это прозвучал неожиданный для меня ответ:
— Да брось ты! 235 миллионов тонн хлеба собрали, а ты все — тяжело, тяжело! Знаешь что, делай то, что делал Кулаков, вот что я тебе скажу.
Я понял, что речь идет не просто о сельском хозяйстве. Роль Кулакова в Политбюро, его близость к Брежневу мне были известны.
— Вы знаете, Константин Устинович, с Кулаковым мы в последнее время много спорили. — Но эта реплика не изменила направленности беседы.
— Хорошо, я тебя понял. Решения по сельскому хозяйству ЦК принял крупные. (Он, видимо, имел в виду решения июльского Пленума ЦК КПСС 1978 г.) Ими и займешься. А захочешь еще что-то новое сделать или изменить, тогда говори с Леонидом Ильичом, но сначала посоветуйся и со мной. Мы ведь давно знаем друг друга. Плохого совета не дам.
Желания у Черненко продолжать наш разговор дальше, как я понял, не было. Да и мне следовало знать меру. Спросил, будет ли Леонид Ильич беседовать со мной завтра до открытия Пленума.
— Не знаю. Об этом разговора не было. Он поручил мне сказать все то, что я тебе сказал. — Черненко торопился.
Последнее, что меня интересовало, не придется ли выступать на Пленуме.
— Твое выступление на Пленуме вряд ли потребуется. Предложение будет вносить сам Леонид Ильич. Значит, ЦК сразу поддержит… И потом ты не так давно выступал, — добавил с ехидцей Черненко.
На этом наш разговор окончился.
Почему выбор пал на меня?
Во время поездок в Москву я останавливался в гостинице «Россия». В гостинице «Москва» жил всего 2–3 раза. Многих интересовало почему. Ведь «по чину» мне была положена «Москва».
Но я как-то привык к «России». Там, на 10-м этаже, был номер, кажется, 98, окна которого выходили на Кремль. Придешь поздно вечером или ночью, усталый после дневной суеты, а тут тихо, далеко от шума улицы, от пьяных объяснений и полуночных драк у выхода из гостиничного ресторана. Перед глазами Кремль. Ночью, особенно когда он подсвечен, это не просто красивое зрелище — возникает какое-то особое состояние духа. Позднее Кремль стал местом моего постоянного пребывания, но и тогда я не стал равнодушен к его соборам, площадям, садам и парку. Мы любили семьей гулять по его территории. Иногда в праздничные дни ездили в Кремль, чтобы оттуда посмотреть салют.
В эту ночь мне заснуть не удалось. Не зажигая света, придвинул кресло к окну — прямо передо мной парили в ночном небе купола собора Василия Блаженного, величественное очертание Кремля… Видит Бог, о таком назначении я не думал!
Без малого четверть века я проработал на Ставрополье после университета, из них почти 9 лет — первым секретарем крайкома партии. Многое удалось сделать и понять, но немало проблем остались неразрешимыми. И дело тут было уже не только во мне, их решение упиралось в существующие порядки. Деятельность на посту секретаря краевого комитета партии меня удовлетворяла. Работал я, забывая обо всем, с желанием найти «архимедов рычаг», чтобы все переменить к лучшему в родном крае. Но время шло, и со мной стали заводить разговоры о переходе на другую работу.
В начале 70-х годов П.Н.Демичев интересовался, как бы я отнесся к предложению перейти на работу в ЦК заведующим отделом пропаганды. Ф.Д.Кулаков говорил о посте министра сельского хозяйства. Моя кандидатура, оказывается, обсуждалась и на предмет назначения генеральным прокурором СССР: состояние здоровья Руденко серьезно ухудшилось, встал вопрос о его замене, а дело это крайне непростое, если иметь в виду, какими критериями тогда руководствовались при принятии решений такого рода. Позднее заведующий административным отделом ЦК Н.И.Савинкин рассказал мне, что с моей кандидатурой не согласился А.П.Кириленко, сказав при этом: «Нашли топор под лавкой». Савинкин это понял так, что в отношении меня у них другие планы.
На все предложения подобного рода я реагировал негативно.
Впрочем, дело было, конечно, не только и не столько в моих настроениях. У членов Политбюро на мой счет были разные взгляды. Из доверительных разговоров с некоторыми работниками аппарата ЦК я знал, что кое-кому из руководства ЦК нынешний ставропольский секретарь с его независимым характером не по душе. Вот уж воистину, как говорил мой друг Николай Карпович Кириченко, первый секретарь Крымского обкома: «Не высовывайся из ряда, а то по роже дадут». Так что дальше обмена мнениями дело не продвигалось. Думаю, как раз это и было определяющим, так как при согласии в руководстве мое желание по тем временам мало что значило.
Кроме того, у нас на этот счет был безошибочный барометр — зарубежные поездки. Мне не раз звонили из отделов ЦК, спрашивая, не смогу ли я поехать в составе или во главе делегации в ту или иную страну. Бывало, я даю согласие, но в последний момент кто-то отводит мою кандидатуру. Объясняли так: «Знаешь, в руководстве считают, что край большой, нецелесообразно отрывать тебя от дел». Меня это не очень-то беспокоило. В таких случаях я задавал обычно ехидный вопрос: «А что, у тех, кто ездит за рубеж, дел мало, или они вообще отпетые бездельники?» Смеялись, на том разговор и заканчивался.
Ну, ладно с этими поездками. Куда важнее было другое. За все годы работы секретарем крайкома — с начала 1970-го и до ноября 1978-го, то есть за восемь с половиной лет, мне лишь один раз дали слово в прениях на Пленуме ЦК и раз на сессии Верховного Совета СССР: многие из моих коллег выступали многократно. Впрочем, я находил способы публично изложить свои позиции: писал в центральные и местные газеты, журналы. Немало бесед состоялось с секретарями ЦК, членами союзного и российского правительства.
При добром взаимном расположении, все чаще и острее становились наши споры с Кулаковым. Особенно запомнился наш разговор с ним поздней осенью 1977 года. Запомнился, наверное, потому, что в тот раз дело не ограничилось обменом мнениями.
Началось вроде бы с частных вопросов — с кредита и гарантированной денежной оплаты.
— Ведь как мы кредиты даем? — говорил я. — Если хозяйство плохонькое, убыточное — ему побольше; а если крепкое, передовое — ему ни кредитов, ни стройматериалов, крутись как хочешь. Те, кто может развернуть свой потенциал, лишаются нашей поддержки. А теперь? Вместо того чтобы крестьянин, колхоз, совхоз зарабатывал или разорялся, ввели гарантированную оплату труда, которая всех подравняла. Деревня лишается стимула к работе.
— Эх ты, умник, — ответил Кулаков, — сидишь у себя в Ставрополье и дальше носа не видишь. Здесь, в центре России, деревня погибает, земля зарастает лесом. Надо хоть что-то дать людям, чтобы последние не разбежались.
Фраза насчет «собственного носа» раззадорила меня…
— Если смотреть на проблему в плане «неотложных мер», то вы правы, помочь надо. Но сколько можно «принимать меры», «спасать», «вести борьбу» за урожай, за скот, за головы и хвосты? Ведь в той же деревне центральной полосы, где и осадки и прочие природные условия в норме, результаты никудышные и земля погибает. А раньше-то крестьянин жил, работал, кормил… Значит, политику надо менять. Вы гордитесь мартовским Пленумом 1965 года. И я считаю, что им можно гордиться. Это был крупный шаг к тому, чтобы решать проблемы села политически, то есть с точки зрения взаимоотношений с крестьянством в целом. Ну а теперь? Мартовский Пленум погублен: нарушили нормальный взаимовыгодный обмен между промышленностью и селом. Вот крестьянин и рассуждает: раз вы мне не платите за продукцию как положено, то плевать мне на все. Тем более есть гарантированная оплата. Деваться вам некуда, кредиты дадите, а возвращать он их не будет, потому что долг не за ним, а за вами… Перевернуто все вверх ногами…
Реакция Кулакова была бурной. По-человечески его можно было понять: и на Ставрополье, и на посту секретаря ЦК по сельскому хозяйству он за деревню стоял горой, выбивая для села трактора, комбайны, автомашины, запчасти, удобрения. И после всего этого — услышать такие слова. И от кого — от Горбачева!
И, не скрывая обиды, он рассказал, что идет подготовка нового Пленума ЦК по вопросам сельского хозяйства, однако председателем комиссии, вопреки ожиданиям, назначен А.Н.Косыгин, а не он, Кулаков, являющийся членом Политбюро и секретарем ЦК именно по этим вопросам. Его не ввели даже в состав комиссии.
Я был поражен. Ведь именно Косыгин в конце шестидесятых приложил руку к тому, что обернулось разрушением эквивалентного обмена между городом и деревней.
Хитровато улыбаясь, Кулаков предложил:
— А ты напиши обо всем, что сказал. — Он был уверен, что я откажусь. Но я согласился.
— Хорошо. Когда прислать?
— До первого января.
Работал я над запиской основательно. Получилось 72 страницы. Последнюю редакцию закончил в три часа ночи 31 декабря 1977 года и тут же отослал.
Кулаков прочел, показал помощнику Брежнева Голикову, а спустя два-три месяца позвонил мне:
— Слушай, Михаил, а что, если твою записку разослать членам комиссии Политбюро?
Я ответил, что писал ее лично ему, а для комиссии надо доработать. Он согласился, но просил сделать все побыстрее. Через неделю сокращенный вариант записки был отправлен в ЦК. В нем были сохранены все основные положения. В таком виде она и была разослана по комиссии Политбюро.
Сам июльский Пленум запомнился очень хорошо. С докладом «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР» 3 июля выступил Брежнев. Начались прения. На второй день, 4 июля, выступали: министр сельского хозяйства СССР В.К.Месяц, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.М.Машеров. После секретаря Амурского обкома слово предоставили мне. Это было мое первое выступление на Пленуме ЦК — на девятом году работы секретарем крайкома. Я твердо решил: хотя бы в спрессованном и «упакованном» виде сказать то, о чем писал в записке…
Обычно в зале заседаний обстановка рабочая. Если даже то или иное выступление не заинтересовало, присутствующие сохраняют спокойствие, может быть, даже чрезмерное. Однако определенный звуковой фон — от перешептываний и шуршания газет — все же был.
Началось мое выступление, и, по мере того как я развертывал свою аргументацию, в зале возникла какая-то напряженная тишина. За моей спиной в президиуме сначала тоже было тихо, а потом до меня стали доходить какие-то реплики.
Когда, закончив выступление, я сел на свое место, министр сельского хозяйства Российской Федерации Л.Я.Флорентьев, мой давний добрый друг, большой мудрец, шепнул:
— В общем-то, все хорошо. Но зря не послушался — я же советовал тебе кое о чем не говорить. Уж очень занервничали в президиуме.
Почему же в ноябре 1987-го выбор пал все-таки на меня? Что произошло? Вспомнилась фраза Черненко: «Леонид Ильич исходит из того, что ты на его стороне». Так что же, есть другая сторона, где она, что из себя представляет, и кто на «той стороне»?
Я знал о разных точках зрения по тем или иным проблемам, о спорах в руководстве страны. Но воспринимал это как обычное явление, стремление в дискуссиях найти оптимальные варианты решений. Уже работая в ЦК, понял, что это были не просто различия мнений, а нечто большее — наличие группировок в составе руководства и борьба между ними. И все же не следует заблуждаться на сей счет, думать, что речь шла о борьбе между «реформаторами» и «консерваторами». Нет, это были люди одной «веры» и приверженцы одной системы. Соперничество группировок означало не что иное, как борьбу за власть. Брежнев искал опору» Сначала это были Гречко и Кириленко, затем Громыко и Устинов и уж потом Андропов и Кулаков, а еще Щербицкий с Кунаевым, Рашидов и Алиев… Я не говорю о тех, кто находился на других ступенях иерархической лестницы и на кого также опирался Брежнев. Но сейчас я подумал, что ведь консолидация в ПБ вокруг генсека в конечном счете обернулась не столько позитивными, сколько негативными последствиями, реанимацией в новых формах сталинизма, ограничениями демократии. Так что не такое уж безобидное дело — подавление одной группы другой.
После скоропостижной смерти Кулакова в июле 1978 года Брежнев стал искать замену. Ему прежде всего нужен был человек, назначение которого не нарушило бы неустойчивое равновесие, существовавшее в «верхах». Тогда я понял это, но многого еще не знал, узнал позже. И сейчас догадываюсь, как трудно далось решение о рекомендации Пленуму моей кандидатуры. Боялись ошибиться. В структуре ЦК секретарь по сельскому хозяйству — ключевая должность, поскольку он постоянно связан со всей страной, с первыми секретарями республиканских ЦК, крайкомов и обкомов. А корпус первых секретарей — вотчина и опора генсека. Значит, и окончательный выбор на этот пост был за Брежневым.
Андроповский «фактор»
В августе 1978-го мне позвонил в Ставрополь Ю.В.Андропов.
— Как у тебя дела?
— Хлеба хорошие: год урожайный. Да и в целом обстановка в крае неплохая.
— Когда в отпуск собираешься?
— В этом году хочу пораньше поехать.
— Вот и хорошо! Встретимся в Кисловодске.
Особого значения я этому звонку не придал. Увидел в нем лишь подтверждение Андроповым наших добрых отношений — не больше. Теперь вспоминаю, что в этот раз на отдыхе в Кисловодске мы встречались чаще обычного, а говорили меньше о Ставрополье, больше о том, как складываются дела в стране. Особенно щедро Юрий Владимирович делился информацией и своими оценками по многим проблемам внешней политики. Из тех необычных бесед в моей памяти отложились и его рассуждения о решающем значении «фактора Брежнева» для сохранения единства в руководстве, консолидации страны, социалистических государств. Сейчас понимаю, что эти дружеские «воспитательные беседы» Андропов проводил не случайно. Очевидно, в то время в верхах уже «перемывали мои косточки», и с учетом этого он давал мне наставления. Я же на эти беседы смотрел как на продолжение нашего давнего спора, когда я в самой откровенной форме поделился с ним своими сомнениями.
Дело было так. В одном из разговоров еще в году 1975-м у меня вырвалось:
— Вы думаете о стране или нет?
— Что за дикий вопрос? — с недоумением ответил Юрий Владимирович, привыкший к моим «всплескам».
— Ведь в течение ближайших трех-пяти лет большинство членов Политбюро уйдет. Просто перемрет. Они уже на грани…
Надо сказать, что к этому времени в возрастном отношении ситуация в Политбюро сложилась довольно напряженная: средний возраст что-то около 70 лет. Людям претило, что многие из них, не отличаясь особыми талантами, по двадцать — тридцать лет находятся у власти и теперь уже в силу естественных причин не способны выполнять свои обязанности. И тем не менее все они продолжают оставаться на своих постах.
Андропов рассмеялся:
— Ну, ты уж нас совсем…
— Да я не о вас лично, но надо ведь думать об этом. Вы посмотрите — и среди секретарей то же самое, и на местах…
В ответ Юрий Владимирович стал излагать свою «концепцию», согласно которой выходило, что, мол, когда двигаешь человека в годах, за его плечами жизнь, опыт, и нет у него амбиций. Делает свое дело без всяких карьеристских замашек. А все эти молодые только и думают о карьере, о том, чтобы перескочить повыше… В общем, суть концепции: «Старый конь борозды не портит». Я шутя возразил:
— Это что-то новое в ленинском учении о кадрах. До сих пор я думал, что сочетание молодых и опытных работников — то, что необходимо всегда. Это дает синтез, сплав. Одни предостерегают от авантюризма, другие — от застоя и консерватизма.
— Это все теория, а в жизни другое, — отмахнулся Андропов.
— И все-таки тут я согласен с Лениным, — с азартом напирал я.
— С Лениным и я согласен, — иронически заметил Юрий Владимирович.
— Ну хорошо, пускай не Ленин… Помните, что в народе говорят: «Леса без подлеска не бывает».
До конца жизни Андропов не мог забыть мне этот «подлесок» и весь этот разговор. А страна уже просто не воспринимала и психологически отвергала «совет старцев». Безусловно, информация о настроениях в обществе доходила до «верхов». И в открытой, и в другой, «классической», форме — в виде анонимок, анекдотов. Один из них мне запомнился, правда, появился он позже, после XXVI съезда КПСС. Вся соль в ответе на вопрос: «Как будет открываться XXVII съезд партии?» «Делегатов попросят встать, а членов Политбюро внести».
Словом, «сигналы» доходили до Политбюро и генсека. И это их беспокоило. Так что сменщик Кулакова должен был быть еще и относительно молодым. Думаю, Андропов «приложил руку» к моему выдвижению, хотя мне не сделал и намека.
Этой осенью произошло еще одно событие. 19 сентября Брежнев выехал на поезде из Москвы в Баку для участия в торжествах, посвященных вручению столице Азербайджана ордена Ленина. Сопровождал его Черненко. Каждый раз, когда по пути следования поезд останавливался в каком-нибудь городе, встречать выходило местное начальство. В Донецке Леонид Ильич встретился с первым секретарем обкома Б.Качурой, в Ростове — с Бондаренко, на станции «Кавказская» Краснодарского края — с Медуновым.
Поздно вечером того же дня спецпоезд прибыл на станцию «Минеральные Воды». Встречали — Андропов, я и председатель Ставропольского крайисполкома И.Т.Таранов.
Сама станция «Минеральные Воды» очень уютная, симпатичная, но небольшая — проедешь и не заметишь… Ночь была теплая, темная-темная. Силуэты гор-локалитов. Огни города. На небе огромные звезды. Такие только на юге можно увидеть. Тишина. И лишь шум самолетов, прибывавших в аэропорт «Минеральные Воды», нарушает ее. Состав плавно остановился, из вагона вышел Брежнев, а чуть позже, в спортивном костюме, Черненко. Таранов, поздоровавшись с генсеком, отошел, и мы четверо — Брежнев, Андропов, Черненко и я — стали прогуливаться по пустому перрону…
Об этой встрече много потом писали, и вокруг нее изрядно нагромождено всяких домыслов… Еще бы — четыре генеральных секретаря, сменившие в последующем друг друга!
Из Кисловодска мы ехали встречать Брежнева вместе с Андроповым, в одном ЗИЛе. Разговаривали, все было как обычно. Как бы между прочим Юрий Владимирович сказал:
— Вот что, тут ты хозяин, ты и давай, бери разговор в свои руки…
Но разговор не клеился. После приветствий и ничего не значивших слов о здоровье и нашем с Андроповым отдыхе воцарилось молчание. Генсек, как мне показалось, отключился, не замечая идущих рядом. Пауза становилась тягостной…
До этой встречи я не раз встречался с Брежневым, бывал у него на приемах в связи с решением проблем края. Брежнев каждый раз проявлял неподдельный интерес и оказывал поддержку. Поэтому я не удивился, когда, после затянувшейся паузы, он вдруг спросил:
— Ну, как дела, Михаил Сергеевич, в вашей овечьей империи?
Ставрополье давало 27 процентов тонкорунной шерсти в Российской Федерации. Ранним летом, после окота, в степях паслись тысячи отар —10 миллионов овец. Картина, я вам скажу, впечатляющая. Действительно — «овечья империя». Кратко рассказал о наших делах. В том году был богатейший урожай — пять с лишним миллионов тонн — по 2 тонны на каждого жителя Ставрополья.
Последовал второй вопрос:
— Как канал? Очень уж долго строите… Он что, самый длинный в мире?
Постарался пояснить, в чем тут загвоздка. И снова молчание. Юрий Владимирович выжидающе посматривал на меня, а Черненко был абсолютно нем — этакое «шагающее и молчаливо записывающее устройство».
— А как у вас с отпуском, Леонид Ильич? Не получается? — спросил я, стараясь хоть как-то поддержать беседу. Он покачал головой.
— Да, надо, надо бы…
К разговору подключился Андропов. Они обменялись репликами по поводу программы пребывания Брежнева в Баку. И опять наступило молчание. По всему было видно, что генсек не очень расположен вести беседу. Время остановки закончилось. Подошли к вагону. Уже стоя в тамбуре и держась за поручни, он вдруг спросил Юрия Владимировича:
— Как речь?
— Хорошо, хорошо, Леонид Ильич, — быстро ответил Андропов.
В автомобиле я поинтересовался, о каком выступлении спрашивал генсек. Оказалось другое. Андропов пояснил: Леонид Ильич все больше чувствовал затруднения с речью. Возможно, этим во многом и объяснялась его неразговорчивость, хотя по натуре он был человеком общительным.
В общем, встреча мне показалась странной. А Юрий Владимирович, по всему видно, был доволен.
Были и вторые «смотрины». После встречи в Минеральных Водах неожиданно наведался в Ставропольский край Кириленко. Он отдыхал в Сочи и к нам прилетел на вертолете. В течение суток ездили мы с ним, побывали в Зеленчукской обсерватории АН СССР, в сельских районах. Я рассказывал ему о наших проблемах. Меня поразила его манера кстати и некстати цепляться за каждую мелочь… Увидел с дороги машинный двор и начал раздраженно отчитывать:
— Это сколько же там машин неиспользованных? Нахапали лишней техники… Или на металлолом сдавать будете? Заелись вы тут…
Он отвечал в Политбюро за машиностроение и считал, что у села непомерные требования. Его высокомерно назидательный тон бил по нервам, а косноязычие приводило к тому, что разговор с ним превращался в сплошную муку, никак нельзя было понять, что он хочет сказать. Вообще, весь диалог наш от начала до конца был крайне напряженным. Я внутренне чувствовал недоброжелательность и в ответ повел беседу жестко, давая понять, что наш гость не разбирается в предмете, о котором судит…
— Зерно у нас уже на седьмой день после биологического созревания теряет в весе, — объяснял я ему. — А мы с нашей техникой убираем его в лучших хозяйствах 15 дней, в остальных — месяц, а то и полтора. Несем колоссальные потери. Особенность села в том, что в отличие от завода многие машины здесь используются раз в год, в сезон. Вот они и стоят, ждут своего применения. И потом — для проведения многих работ вообще техники нет. Видели бы вы, как мы вносим органические удобрения. Вывозим на тележках, а потом бульдозером разгребаем. Нигде в развитых странах так бестолково не работают. Так что нужного набора и количества машин село пока не имеет.
Мои разъяснения вызывали у Кириленко еще большее раздражение:
— Деревня на июльском Пленуме отхватила треть капитальных вложений. В село уже столько набухали… Прорва какая-то, все как в дыру идет.
Мы явно не понравились друг другу. И это осталось навсегда. Потом, уже работая в ЦК КПСС, я увидел, что Кириленко был одним из тех, кто не желал моего появления в Москве. Ко всему он оказался властолюбивым и злопамятным человеком. Наши отношения переросли в противостояние, а затем и политическое противоборство.
И все-таки выбор пал на меня. Несомненно, Брежнев, боясь ошибиться, сомневался до последнего момента. Потому-то беседа со мной не состоялась раньше. В подборе людей в состав руководства Брежнев действовал очень осторожно, выбирая долго и трудно. Но, приняв решение, от него уже не отказывался.
Всю ту ночь я провел у гостиничного окна, перебирая в памяти многое из пережитого. Пришло утро, пора было собираться на Пленум. Еще раз подумав, решил: если придется выступать, обязательно скажу и о положении крестьян, и о необходимости перемен в государственной политике по отношению к деревне.
Из гостиницы я вышел пораньше, чтобы ни с кем не встречаться. Не хотелось объясняться.
Пленум ЦК КПСС открылся в 10 часов. Места в Свердловском зале Кремля заранее не распределялись, но каждый знал свое, некоторые восседали на них уже десятилетиями.
Все произошло, как и предсказывал Черненко. Начали с организационных вопросов. Первым Брежнев предложил избрать секретаря ЦК по сельскому хозяйству, назвал мою фамилию, сказал обо мне несколько слов. Я встал. Вопросов не было. Проголосовали единогласно, спокойно, без эмоций.
Затем Пленум столь же спокойно перевел Черненко из кандидатов в члены Политбюро, а кандидатами избрал Тихонова и Шеварднадзе. «По состоянию здоровья и в связи с его просьбой» был освобожден от обязанностей члена Политбюро Мазуров. Вся процедура заняла считанные минуты — ни одного выступления, вопроса, голоса «против».
Пленум заслушал и обсудил доклады председателя Госплана СССР Н.К.Байбакова «О государственном плане экономического и социального развития СССР на 1979 год» и министра финансов В.Ф.Гарбузова «О государственном бюджете СССР на 1979 год и об исполнении государственного бюджета за 1977 год».
В перерыве обступили в кулуарах знакомые, коллеги, министры — стали поздравлять. Однако продолжалось это недолго — меня пригласили в комнату президиума, где собирались члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК.
Я вошел. Все были там. Ближе всех оказался Андропов. Улыбаясь, шагнул навстречу:
— Поздравляю, «подлесок».
Подошел Косыгин и как-то очень доверительно сказал:
— Поздравляю вас с избранием, рад вашему появлению среди нас.
Я подошел к Брежневу, стал ему что-то говорить. Он, продолжая пить чай, только кивнул головой. Когда Пленум завершил работу, вернулся в гостиницу. Меня ждали: «В вашем распоряжении ЗИЛ, телефон ВЧ уже поставлен в номер. У вас будет дежурить офицер — все поручения через него…» Я воочию убедился в том, как четко работают службы КГБ и Управление делами ЦК.
Разговор с Брежневым
Позвонил домой Раисе Максимовне: «Вечером слушай сообщение». Утром следующего дня, без приглашений и не обратившись с просьбой заранее, пошел в Кремль к Брежневу, попросил доложить.
Прием у генсека мне был очень нужен. Я хотел поделиться с Брежневым своими мыслями. Без этого не считал возможным приступать к работе. Не знаю, хотел он этой встречи или нет, но меня сразу же пригласили в кабинет. Леонид Ильич сидел за большим столом. Я сел поближе, заметил, что настроение у генсека неважное, какое-то безразлично-подавленное. Оно сохранялось таким на протяжении беседы.
Я начал с того, что поблагодарил за избрание, сказал, чем является для меня село, земля, заверил, что немедленно включусь в работу.
— Не знаю, как мне удастся, но могу сказать одно, — завершил я, — все, что умею и смогу, сделаю. И, зная ваш неизменный интерес к селу, надеюсь на поддержку.
Идя в Кремль, хотел изложить Брежневу свои соображения относительно необходимости изменений в аграрной политике, но понял, вернее, почувствовал, что это бессмысленно. Он не только не втягивался в беседу, но вообще никак не реагировал ни на мои слова, ни на меня самого. Мне показалось, что в этот момент я был ему абсолютно безразличен. Единственная фраза, которая была сказана им:
— Жаль Кулакова, хороший человек был…
Я был поражен. А после встречи с Брежневым понял, что «попал как кур в ощип». На душе было муторно.
Из Кремля направился на Старую площадь. Там меня ждал управляющий делами ЦК Павлов. Мой предшественник Кулаков сидел на четвертом этаже в старом здании, недалеко от кабинета Брежнева, находившегося на пятом этаже. Меня посадили подальше — в новое здание (6-й подъезд).
Павлов обстоятельно доложил мне, что «положено» секретарю ЦК: 800 рублей в месяц («как у Леонида Ильича»), лимит на питание, по которому можно заказывать продукты на 200 рублей (членам Политбюро — 400 рублей), стоимость питания и представительские расходы во время работы также берет на себя Управление делами.
— Предложения о квартире и даче, а также о персонале, который будет вас обслуживать, подготовим к моменту вашего возвращения из Ставрополя, — закончил Павлов.
Решил пойти по секретарям ЦК с визитом вежливости — поговорить, установить контакты, как-никак, а работать вместе. Побывал у Долгих, Капитонова, Зимянина, Рябова, Русакова. Когда зашел к Пономареву, то услышал советы по вопросам сельского хозяйства. Это, кстати, продолжалось и потом, вплоть до его ухода на пенсию. Борис Николаевич принадлежал к числу «аграрников-любителей»: проезжая на машине со своей дачи в Успенском, отмечал все, что попадалось на пути…
— Вчера видел у дороги поле. Хлеб созрел. Надо косить, но ничего не делается. Что же это такое?
Или:
— Вчера гулял недалеко от дачи, набрел на овраги — трава по пояс… Почему не косят? Куда смотрят?
Так вот и было: эксперт по международным делам, особо не смущаясь, выдавал «экспертные» рекомендации и по сельскому хозяйству.
Что меня больше всего поразило во время визитов к секретарям ЦК — поведение работников аппарата: помощников, консультантов и референтов. Многих я хорошо знал, во время наездов в Москву десятки раз разговаривали, шутили. Отношения, как мне казалось, были вполне нормальными. И вдруг… В каждой приемной встретил как будто других людей. Возникла некая «дистанция». Аппарат был вышколен, дисциплинирован, и я понял, что теперь вместо человеческих отношений в силу вступает «табель о рангах». Чинопочитание в КПСС было утвердившейся нормой.
Заведующего сельскохозяйственным отделом Владимира Алексеевича Карлова, с которым мы в хороших товарищеских отношениях, я попросил собрать всех, с кем теперь мне предстояло работать. И тут то же самое… Вчера они давали мне рекомендации и указания, вмешивались в ставропольские дела. И каждый при этом многозначительно изрекал: «Есть мнение…» Чье — не говорят. И все-таки отношения были у меня нормальные. А теперь, когда собрал их, смотрят настороженно, как на «начальство», и тревога в глазах — «новая метла». Надо было вносить ясность, снимать беспокойство, и поэтому сразу же сказал:
— Устраивать чехарду с кадрами не намерен, будем работать как работали. — Все успокоились, и началась деловая беседа.
Правила игры
Следующий визит — к Андропову… Идея встречи принадлежала ему. Но мне показалось, что беседу со мной он назначил с ведома… Брежнева. В начале разговора была какая-то заминка. Да и вся беседа сильно отличалась от прежних, каких у нас было немало.
— Мне бы хотелось, Михаил, ввести тебя немного в курс дела. Ты понимаешь, единство сейчас — самое главное. И центр его — Брежнев. Запомни это. Были в руководстве… как бы тебе сказать… я имею в виду, к примеру, Шелеста или Шелепина, того же Подгорного. Тянули в разные стороны. Теперь такого нет и достигнутое надо крепить.
Говорить с Андроповым намеками было не в моем обычае, и я прямо сказал:
— Юрий Владимирович, вы лучше других знаете меня, мои взгляды и позиции. И я не собираюсь их менять в угоду кому-то.
Андропов улыбнулся.
— Ну, вот и хорошо. А то я смотрю — тебя уже Алексей Николаевич начал обхаживать. Держись.
Вот оно что!.. Во время перерыва на Пленуме, принимая поздравления в комнате президиума, я ловил на себе пристальный взгляд Андропова. Видимо, от него не ускользнула фраза Косыгина и тот доверительный тон, каким она была сказана.
Спросил:
— Юрий Владимирович, вы меня извините… До сих пор я считал, что мы с вами друзья. Теперь что-то изменилось?
— Нет, нет, — ответил он, — действительно так, мы с тобой друзья. — И Андропов был верен своему слову.
Затем позвонил Суслову, он пригласил меня к себе. Михаила Андреевича я знал давно, со Ставропольем у него были крепкие связи. В 1939 году он был направлен к нам из Ростова первым секретарем крайкома. На Ставрополье связывают с его деятельностью выход из периода жестоких сталинских репрессий 30-х годов. В беседе со мной он вспоминал, что обстановка была крайне тяжелой, а его первые шаги по исправлению ошибок встречали сопротивление части кадров. Конференция Кагановичского района города Ставрополя приняла решение, объявлявшее «врагами народа» все бюро крайкома во главе с Сусловым. Но обошлось.
К слову сказать, беседы с Сусловым были всегда короткими. Он не терпел болтунов, в разговоре умел быстро схватить суть дела. Сантиментов не любил, держал собеседников на расстоянии, обращался со всеми вежливо и официально, только на «Вы», делая исключение для очень немногих.
На сей раз он вызвал меня, чтобы обсудить вопрос о преемнике на посту первого секретаря крайкома. На столе лежали два личных дела: Мураховского и Казначеева. Мураховский, 1926 года рождения, первый секретарь Карачаево-Черкесского обкома; Казначеев, 1935 года рождения, второй секретарь крайкома.
— Каково твое мнение? — спросил Суслов.
— Думаю, надо выдвигать Мураховского, — ответил я. — У него за плечами большой опыт. Это уже сложившийся человек. А Казначеева можно либо оставить вторым, либо направить его в Карачаево-Черкесский обком первым секретарем.
— Вот и договорились, — заключил Суслов вставая. — Езжай и проводи решение. Все бумаги отсюда пошлю вслед.
Вскоре я вылетел в Ставрополь.
Глава 2. Ставрополь — Москва — Ставрополь
Из Ставрополя в Москву мне приходилось летать часто. Пленумы ЦК, сессии Верховного Совета СССР, совещания и семинары, поездки в столицу для решения проблем края…
Летал сначала через Минеральные Воды, а когда (не без моего участия) в окрестностях Ставрополя построили аэропорт и посадочную полосу для приема больших самолетов, дело совсем упростилось и экономия времени стала еще большей. Ритм жизни сложился такой, что беречь время приходилось постоянно, и я считал тех, кто ездил поездом, людьми, отлынивающими от работы, легально устраивающими себе дополнительный отпуск.
Сами полеты вызывали у меня всегда положительные эмоции. Я любил летать. Когда в пасмурный день или в снежную метель самолет взмывает за облака и ты оказываешься в лучах солнца, появляется непередаваемое чувство широты и свободы. А когда еще зайдешь в кабину к пилотам, ощущение скорости, мощи полета многократно возрастает, и кажется, что мир перед тобой расширяется до бесконечности. Космонавты говорят, что оттуда, из космоса, наша планета видится не такой уж большой. Иное дело, когда наблюдаешь из самолета: земля поистине огромна.
На сей раз я летел в Ставрополь впервые на персональном самолете из специального авиаотряда, обслуживавшего руководство страны. Сопровождавшая охрана пересела в другой салон, и я остался один. Прислонившись к иллюминатору, я ожидал, что и этот полет даст мне ощущение свободы, полноты жизни. Увы, на душе было неспокойно. Вдруг понял, что расстанусь со Ставропольем надолго, если не навсегда. Из 47 лет своей жизни 42 я прожил на этой земле. Когда учился в университете, приезжал сюда каждые летние каникулы (для поездок зимой денег не хватало).
Чем был для меня этот край?
Здесь были мои корни, моя Родина. Я сросся с этой землей, и жизненные ее соки — во мне. Я любил Ставрополье.
Истоки
От москвичей, особенно в студенческие годы, мне не раз приходилось слышать: «У вас там, в провинции, темнота… Сонное царство. Тишь да гладь». Говорившие были убеждены в том, что вся многовековая история человечества творилась лишь в столицах. Но я знал, что это не так. И история моего родного края была лучшим тому подтверждением. Не «сонное царство», не периферия, а стык континентов, перекресток дорог разных цивилизаций, культур, религий, соприкосновение многих народов, языков, традиций и укладов жизни.
Я узнавал об этом не только из учебников и краеведческих исследований, которые тщательно собирал. В 1975 году недалеко от Пятигорска при проведении строительных работ в совхозе «Машук» вскрыли курган. Обнаружилось погребение — останки вождя и четырех его приближенных. Ученые установили, что возраст захоронения — около 40 веков.
Еще в первом тысячелетии до нашей эры Ставрополье, северо-западный Кавказ населяли племена, известные античным авторам под именем меотов, синдов, которые, как полагают некоторые исследователи, создали на территории Северного Кавказа рабовладельческое государство. В VIII–VII веках до нашей эры из Приднестровья и Крыма сюда вторглись скифы. Позднее эта земля оказалась в сфере греческой колонизации. В начале нашей эры сюда пришли аланы. Они создали свое государство, просуществовавшее сотни лет. Их разгромили гунны. Примерно с IX века из Византии и Грузии приходит христианство. В X веке появляются первые русы и возникает Тмутараканское княжество, тесно связанное с Киевской Русью. В XIII веке начинается татаро-монгольское нашествие.
По мере того как складывалось Русское государство, народы Кавказа стали искать в связях с ним спасение от всякого рода завоевателей. В августе 1555 года посол Ивана Грозного Андрей Щепетов вернулся в Москву с Северного Кавказа с посольством адыгейских князей. Иван IV объявил, что Пятигорское царство перешло в вечное русское подданство. Развернулось строительство оборонительных рубежей Российского государства, и во времена Екатерины II была сооружена так называемая Азово-Моздокская пограничная укрепленная линия из семи крепостей. В их числе был и Ставрополь. Первыми стражами были хоперские казаки (Воронежская губерния) и гренадеры Владимирского полка (Владимирская губерния).
И пошли сюда русские войска. Начали строиться казачьи станицы. Из неволи от жестоких помещиков на Юг бежали крестьяне. Потом их стали направлять на поселение уже в принудительном порядке. И это переселение было тяжелейшей человеческой драмой, стоившей немалых жертв. Так оказались здесь и мои предки по линии отца — Горбачевы, переселенцы из Воронежской губернии, и по линии матери — Гопкало с Черниговщины.
Здесь, на южной окраине Российского государства, и характер-то формировался особый, я бы сказал, бунтарский. Недаром именно в этих местах собирали свое войско и зачинали походы предводители многих народных движений: Кондратий Булавин и Игнат Некрасов, Степан Разин и Емельян Пугачев. По преданию, и покоритель Сибири Ермак — тоже из этих краев.
Это, видимо, было у живущих здесь в крови и передавалось по наследству из поколения в поколение.
Прадед мой — Моисей Горбачев — поселился с тремя сыновьями, Алексеем, Григорием и Андреем, на самом краю села Привольное. Жили они поначалу все вместе, одной большой семьей —18 душ. А рядом — близкие и дальние родственники, тоже Горбачевы. И когда у направлявшегося к ним односельчанина спрашивали: «Куда идешь?» — он отвечал: «На Горбачевщину». Порядок в семье был жесткий и ясный: прадед всему голова, слово его — закон. Позже сыновьям с их семьями отстроили хаты, и дед мой Андрей Моисеевич, женатый к тому времени на бабушке Степаниде, зажил своей семьей. В 1909 году у них родился мой отец — Сергей Андреевич Горбачев.
Прошлое во мне
Прошлое сохранялось в народных легендах, пропитывало устную молву, становилось частью жизненного уклада, окружавшего меня, и я постоянно ощущал свою сопричастность с теми далекими событиями, которые происходили на ставропольской земле.
Меня глубоко взволновала судьба участников восстания 1825 года, сосланных в наши края. Обычно, когда говорят о декабристах, вспоминают офицеров-дворян, которые в благородном и смелом порыве бросили вызов самодержавию. На Кавказ были отправлены 11 из них. Потом число их выросло до 25, и жизнь многих оборвалась в бесчисленных стычках с горцами во время кавказских войн. Среди ссыльных декабристов был и поэт Александр Одоевский.
Приезжая в Пятигорск, я часто заходил в музей Лермонтова, где хранится дневник Одоевского. Его записи вводили в возвышенный духовный мир той среды и того времени. На пожелтевших страницах мелькали имена людей, известных по школьному учебнику. Здесь Одоевский сблизился с Лермонтовым, встретился с Огаревым — другом Герцена. И когда я читал в учебнике фразу: «… декабристы разбудили Герцена», она воспринималась мною как живая связь знакомых и близких мне людей, бывших здесь, на моей земле.
Но меня волновала не только судьба декабристов-офицеров. Ведь за ними стояли простые солдаты. И как раз солдаты Черниговского и других полков, вовлеченных в заговор «Обществом соединенных славян», были этапированы приговором Белоцерковской военносудной комиссии в Ставрополь. За семьдесят пять дней шесть рот Черниговского полка прошли маршем более 1200 верст. Они шли по ставропольским степям через село Летницкое, в церкви которого в 1931 году меня крестил дед Андрей, сменив имя Виктор, данное мне при рождении, на Михаил. Черниговцы проходили через Медвежье, нынешнее Красногвардейское, наш районный центр. А между Летницким и Медвежьим как раз и лежит мое родное село Привольное.
Я живо представлял себе, как шли они по нашему бездорожью. Привольное находится от Ставрополя всего в 137 километрах, но даже в мое время добраться туда было нелегко. В распутицу или в метельные снежные зимы село оказывалось надолго отрезанным от всего остального мира, и в мои студенческие годы мать и отец постоянно жаловались, что писем из Москвы им приходилось порой ждать чуть ли не месяцами.
В общем, и на солдат-черниговцев смотрел я как на своих земляков. В самом центре Ставрополя сохранились остатки старой крепости. Долго еще стояло неказистое и ветхое одноэтажное здание, в котором когда-то размещались гарнизонные службы. Тут бывали Пушкин и Лермонтов, Одоевский и другие декабристы — офицеры и солдаты. Может быть, сюда заходил по «казенной надобности» и кто-нибудь из моих предков. К сожалению, реконструируя город, этот дом и старый базар по решению властей снесли, очистив место для центральной площади и целого комплекса зданий.
Родина
Когда иронизируют над «местным патриотизмом», нередко усматривают в этой любви к «малой Родине» чуть ли не признак провинциальной ограниченности. Мне кажется, наоборот, восприятие «большой Родины» через судьбу свою, своих предков, своего края — это и есть не книжный, а подлинный, уходящий корнями в родную почву патриотизм.
Была у этого патриотизма своя очень важная особенность: он формировался не в мононациональной среде, а в условиях удивительного, я бы сказал, многоязычия, многообличия и многонародия.
Как река после весеннего паводка оставляет на берегах большие и малые озерца (у нас их называли — мочаки), так и переселения и передвижения народов, проходившие на протяжении тысячелетий, оставили в Ставрополье множество самых различных этнонациональных групп. Едешь по дорогам края и кроме привычных русских названий то и дело встречаешь: Антуста, Джалга, Тахта — это от монгольских корней, а вот Ачикулак, Арзгир — это, скорее, тюркское.
Когда позднее я стал Президентом СССР и передо мной встали национальные проблемы страны, я не был новичком в этих вопросах.
На Ставрополье помимо русских, составляющих в крае 83 процента, жили карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы, осетины, греки, армяне, туркмены, представители других народов. В Карачаево-Черкесской автономной области книги, газеты, программы телевидения и радио выпускались на пяти языках. И каждая народность — это не только свой язык, но и свои обычаи, нравы, костюмы, даже тип застройки и компоновки усадеб. Сейчас облик населенных пунктов сильно изменился, я бы сказал, однообразно стандартизировался. Но еще недавно, в годы моей юности, вы могли въехать в типичный кавказский аул горцев с саклями и стенами, сложенными из камней, а совсем неподалеку увидеть казачью станицу или русское село с саманными хатами под соломенными или камышовыми крышами. И обязательно у каждой плетень, который вязался из прутьев молодых деревьев (и я в свое время делал это неплохо, точно так же, как не раз крыл крышу соломой, знал, каким раствором надо ее полить, чтобы не растащили воробьи и не промокала в дождь).
Жизнь в многонациональной среде приучала к терпимости, деликатному, уважительному отношению друг к другу. Обидеть горца, оскорбить его значило приобрести смертельного врага. И, наоборот, проявить уважение к его достоинству, обычаям — заиметь верного друга. Таких друзей у меня было множество, ибо уже тогда, не зная еще мудреных слов, я постепенно осознавал, что не вражда, а терпимость и согласие способны обеспечить мир между людьми.
Не только история человечества, но и вся история моего края говорила об этом. Бесчисленные нашествия завоевателей в древности, многолетние кавказские войны в недавнем прошлом стоили множества жизней. Страшный кровавый след оставила в наших местах Гражданская война.
Я уже упоминал, что центр нашего района — Медвежье — позднее назвали Красногвардейское. Почему? Потому, что Советская власть шла к нам со стороны Ростова. Места наши были первыми на этом пути, и именно у нас в районе сформировались первые отряды Красной гвардии.
Ставропольскую советскую республику провозгласили 1 января 1918 года. Избрали свой Совнарком. Полмиллиона крестьян получили землю. Установили восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль над производством, бесплатное обучение в школе. Но уже в марте в Медвежинском уезде шли бои с офицерскими частями генерала Корнилова, в апреле — с Добровольческой армией генерала Алексеева. В июле 1918 года Ставропольская республика вместе с Кубано-Черно-морской и Терской создали Северо-Кавказскую советскую республику, просуществовавшую до января 1919 года. Потом были генералы Деникин, Шкуро.
Для тех, кто знал о революции и Гражданской войне по кинофильмам и популярным брошюркам, они рисовались чем-то вроде грандиозного физкультурного парада, когда под красными или белыми знаменами стройными рядами шли с одной стороны рабочие и крестьяне, с другой — буржуи и помещики. Я знал, что это было не так. Общество раскалывалось не только по классовому, национальному, религиозному или территориальному признаку, но и внутри семей.
Борьба достигла крайнего ожесточения. Часть казачества вместе с «иногородними» шла в Красную Армию. Во второй половине 1918 года на Южном фронте действовали 14 красных казачьих полков, из которых потом формировали бригады и конные армии. Наши местные ветераны утверждают, что в знаменитой 1-й Конной ставропольцы составляли чуть ли не 40 процентов и без них не было бы ни самой Конармии, ни Буденного как красного командира.
Но другая, значительная, часть казачества влилась в белое движение. Схватка была смертельная. Когда в мае 1918 года на Дону произошел мятеж и генерал Краснов с помощью немецких войск установил военную диктатуру, около 45 тысяч казаков, сочувствовавших Советской власти, были расстреляны и повешены. Впрочем, и красные не церемонились: об ужасах «расказачивания» теперь написано немало. Мне же запомнился один эпизод.
Отмечалась очередная годовщина Советской власти, и, как было принято, проводились встречи с участниками революции и гражданской войны. Когда одному из ветеранов — генералу Василию Ивановичу Книге, отличившемуся и в годы Великой Отечественной войны (его родное село так и назвали — Книгино), предложили поехать поделиться своими воспоминаниями в одно из дальних сел на севере края, он вдруг замялся:
— Охрану дадите?
— Охрану? Зачем?!
— Да было дело, — угрюмо пояснил Василий Иванович. — В гражданку мы там все село порубали.
— Как порубали?
— Да вот так. Порубали и все.
— Всех?
— Ну, может, и не всех. Я вот и думаю: вдруг остался кто… помнит.
Меня поразил этот разговор. Ну, понятно было бы — война, схватились две противоборствующие армии. Но ведь тут иное. Сколько же таких сел и станиц точно так было вырублено — и белыми и красными — под корень? Истребляли сами себя, свой народ. Василий Иванович Книга был профессиональным воякой — они иначе смотрят на смерть, но и у него, видно, не было покоя на душе, мучило, если помнил об этом все сорок лет до самой смерти.
И тогда и сегодня мне не раз приходилось читать «высокотеоретические» рассуждения о том, что при переходе к новому обществу насилие не только оправданно, но и необходимо. То, что при революциях очень часто действительно не удается избежать кровопролития, — это факт. Но видеть в насилии универсальное средство решения любых проблем, призывать к нему и способствовать ему ради достижения каких-то якобы «высоких» целей, то есть опять идти на «вырубку» семей, сел, народа, — такое недопустимо.
Семейные корни
Мне кажется, справедливость этих рассуждений вполне доказала и история моей семьи, микромир которой, ее искания, испытания и потери вполне отразили макромир человеческой драмы, «большой истории». Во всяком случае, жизненные перипетии дальних и близких предков всегда давали мне импульсы для размышлений.
Дед мой Пантелей Ефимович Гопкало революцию принял безоговорочно. В 13 лет он остался без отца, старший среди пятерых. Типичная бедняцкая крестьянская семья. В Первую мировую войну воевал на Турецком фронте. Когда установилась Советская власть, получил землю. В семье так и звучало: «Землю нам дали Советы». Из бедняков стали середняками. В 20-е годы дед участвовал в создании в нашем селе ТОЗа — товарищества по совместной обработке земли. Работала в ТОЗе и бабушка Василиса Лукьяновна (ее девичья фамилия Литовченко, ее родословная своими корнями тоже уходила на Украину), и совсем еще молодая тогда мой мать Мария Пантелеевна.
В 1928 году дед вступил в ВКП(б), стал коммунистом. Он принял участие в организации нашего колхоза «Хлебороб», был его первым председателем. И когда я расспрашивал бабушку, как это было, она с юмором отвечала: «Всю ночь дед твой организует, организует, а наутро — все разбежались».
В 30-е годы дед возглавил колхоз «Красный Октябрь» в соседнем селе, в 20 километрах от Привольного. И пока я не пошел в школу, в основном жил с дедом и бабушкой. Там для меня вольница была полная, любили они меня беззаветно. Чувствовал я себя у них главным. И сколько ни пытались оставить меня хоть на время у родителей, это не удалось ни разу. Доволен был не только я один, не меньше отец и мать, а в конечном счете — и дед с бабушкой.
В детстве я еще застал остатки быта, который был характерен для дореволюционной и доколхозной российской деревни. Саманные хаты, земляной пол, никаких кроватей — спали на полатях или на печи, прикрывшись тулупом или каким-нибудь тряпьем. На зиму, чтоб не замерз, в хате помещали и теленка. Весной, чтоб пораньше цыплят вывести, здесь же сажали наседку, а часто и гусынь. С нынешней точки зрения, бедность невероятная. А главное — тяжелый, изнурительный труд. О каком «золотом веке» российской деревни говорят наши современные борцы за крестьянское счастье, я не понимаю. То ли эти люди вообще ничего не знают, то ли сознательно врут, то ли у них отшибло память.
В доме деда Пантелея Ефимовича я впервые увидел на грубо сколоченной книжной полке тоненькие брошюрки. Это были Маркс, Энгельс, Ленин, издававшиеся тогда отдельными выпусками. Стояли там и «Основы ленинизма» Сталина, статьи и речи Калинина. А в другом углу горницы — икона и лампада: бабушка была глубоко верующим человеком. Прямо под иконой на самодельном столике красовались портреты Ленина и Сталина. Это «мирное сосуществование» двух миров нисколько не смущало деда. Сам он верующим не был, но обладал завидной терпимостью. Авторитетом на селе пользовался колоссальным. Любимая его шутка: «Главное для человека — свободная обувь, чтобы ноги не давило». И это была не только шутка.
Большие чистки 1937–1938 годов
Тогда я, пожалуй, впервые пережил потрясение — арест деда. Его увезли ночью. Бабушка Василиса переехала в Привольное к моим отцу и матери.
Помню, как после ареста деда дом наш — как чумной — стали обходить стороной соседи, и только ночью, тайком, забегал кто-нибудь из близких. Даже соседские мальчишки избегали общения со мной. Теперь-то я понимаю, что нельзя винить людей: всякий, кто поддерживал связь или просто общался с семьей «врага народа», тоже подлежал аресту. Меня все это потрясло и сохранилось в памяти на всю жизнь.
Прошло много лет, но даже тогда, когда я был секретарем горкома, крайкома партии, членом ЦК и имел возможность взять следственное дело деда, не мог перешагнуть какой-то душевный барьер, чтобы затребовать его. Лишь после августовского путча попросил об этом Вадима Бакатина.
Все началось с ареста председателя исполкома нашего района: его обвинили в том, что он якобы является руководителем «подпольной правотроцкистской контрреволюционной организации». Долго пытали, добивались назвать участников организации, и он, не выдержав пыток, назвал 58 фамилий — весь руководящий состав района, в том числе и деда моего, заведовавшего в то время районным земельным отделом.
Вот протокол допроса Гопкало Пантелея Ефимовича:
«— Вы арестованы как участник контрреволюционной правотроцкистской организации. Признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении?
— Не признаю себя виновным в этом. Никогда не состоял в контрреволюционной организации.
— Вы говорите неправду. Следствие располагает точными данными о том, что вы являетесь участником контрреволюционной правотроцкистской организации. Дайте правдивые показания по вопросу.
— Повторяю, что не был я участником контрреволюционной организации.
— Вы говорите ложь. Вас уличают ряд обвиняемых, проходящих по этому делу, в проводимой вами контрреволюционной деятельности. Следствие настаивает дать правдивые показания.
— Категорически отрицаю. Никакой контрреволюционной организации не знаю».
И подпись деда. Сохранилось и обвинительное заключение, в котором деду вменялось в вину:
«а) срывал уборку урожая колосовых, в результате чего создал условия для осыпания зерна. В целях уничтожения колхозного скотопоголовья искусственно сокращал кормовую базу путем распашки сенокосных угодий, в результате колхозный скот довел до истощения;
б) тормозил развитие стахановского движения в колхозе, практикуя гонения против стахановцев…
На основании изложенного обвиняется в антисоветской деятельности в том, что, являясь врагом ВКП(б) и Советской власти и будучи связан с участниками ликвидированной антисоветской правотроцкистской организации, по заданию последней проводил вредительскую подрывную работу в колхозе «Красный Октябрь», направленную на подрыв экономической мощи колхоза…»
Бакатин прислал мне и второе дело — на деда Раисы Максимовны — Петра Степановича Параду, арестованного на Алтае в 1937 году.
Между Ставропольем и Алтаем тысячи километров, но вопросы и обвинения писались как под копирку:
«— Следствие достаточно располагает данными, уличающими вас в том, что вы, находясь в колхозе, занимались контрреволюционной агитацией, направленной против всех проводимых мероприятий, против Советской власти…
— Находясь в колхозе, никакой контрреволюционной агитацией не занимался, виновным себя в этом не признаю.
— Будучи в колхозе после исключения из колхоза, находясь на производстве, вы систематически агитировали трудящихся, колхозников и рабочих, во-первых, против коллективизации, против стахановского движения, старались разлагать трудовую дисциплину в колхозе.
— Против Советской власти я никогда не выступал, также не выступал и не агитировал против коллективизации».
Это из протокола допроса П.С.Парады 3 августа 1937 года. Не правда ли, похоже? Только кончились эти дела по-разному. На обвинительном заключении по делу крестьянина Парады прокурор написал о своем согласии, и по постановлению «тройки» Петр Степанович был расстрелян. Справку о его реабилитации семья Раисы Максимовны получила лишь в январе 1988 года.
С делом моего деда Гопкало, к счастью, получилось по-иному. Следствие продолжалось 14 месяцев. Закончили его в сентябре 1938 года и послали в Ставрополь. Какой-то чиновник прокуратуры черкнул на нем «с заключением согласен». Но помощник прокурора края написал, что «не находит в деле Гопкало П.Е. оснований для квалификации его действия по ст. 17, 58 пункт 7,11, т. к. причастность Гопкало к контрреволюционной организации материалами следствия не доказана». Он предложил переквалифицировать обвинение со ст.58, означавшей в то время верный расстрел, на ст.109 — должностные преступления. Но тут началась чистка органов НКВД, начальник нашего райотдела застрелился, и в декабре 1938 года деда освободили вообще. Он вернулся в Привольное и в 1939 году был вновь избран председателем колхоза.
Хорошо помню, как зимним вечером вернулся дед домой, как сели за струганый крестьянский стол самые близкие родственники, и Пантелей Ефимович рассказал все, что с ним делали.
Добиваясь признания, следователь слепил его яркой лампой, жестоко избивал, ломал руки, зажимая их дверью. Когда эти «стандартные» пытки не дали результатов, придумали новую: напяливали на деда сырой тулуп и сажали на горячую плиту. Пантелей Ефимович выдержал и это, и многое другое.
Те, кто сидел вместе с ним в тюрьме, потом говорили мне, что после допросов отхаживали его всей камерой. Сам Пантелей Ефимович поведал обо всем этом только в тот вечер и только один раз. Больше, по крайней мере вслух, никогда не вспоминал. Он был твердо убежден: «Сталин не знает, что творят органы НКВД», и никогда не винил в муках своих Советскую власть. Прожил дед недолго. Умер в возрасте 59 лет.
Второй мой дед — Андрей Моисеевич Горбачев в Первую мировую войну воевал на Западном фронте, и от тех времен дома осталась фотография: сидит дед в картинной позе на вороном коне и в красивейшей фуражке с кокардой. «Что это за форма такая?» — спрашивал я. Однако дед, в ту пору уже согнутый годами, но сухой и поджарый, только отмахивался. Делались тогда такие фотографии просто: рисовали на щите коня с лихим всадником, а для лица вырезали дырку — оставалось просунуть в нее голову. (Кстати, эта традиция сохранилась и до наших дней. К ней добавилось, может быть, нечто новое, дань нынешним временам — возможность сфотографироваться рядом с любой нарисованной на щите знаменитостью.)
Судьба деда Андрея была поистине драматичной, но в то же время и типичной для нашего крестьянства. Отделившись от отца, он повел свое хозяйство. Семья росла — родилось шестеро детей. Но беда — только двое сыновей, а землю сельская община выдавала на мужчин. Надо было с имеющегося надела получить больше, и вся семья от мала до велика денно и нощно трудилась в хозяйстве. Дед Андрей характером был крут и в работе беспощаден — и к себе, и к членам семьи. Но не всегда работа приносила результаты, на которые надеялись, — засуха за засухой. Постепенно из бедняков дотянулись до середняков. Подходило время замужества трех дочерей, значит, нужно приданое готовить. Нужны деньги, а в крестьянском хозяйстве источник их получения один — продажа выращенного зерна и скота. Выручал еще сад. Дед любил заниматься садоводством и со временем вырастил огромный сад — что только в нем ни росло. Он знал толк в прививках, и на одной яблоне вдруг вырастали яблоки трех сортов. Сад приносил много пользы и был источником радости для семьи.
В 1929 году старший сын Сергей, мой отец, женился на дочери соседа — Гопкало. Сначала молодые жили в доме деда Андрея, но скоро отделились. Пришлось делить и землю. Коллективизацию дед Андрей не принял и в колхоз не вступил — остался единоличником.
В 1933 году на Ставрополье разразился голод. Историки до сих пор спорят о его причинах — не был ли он организован специально, чтобы окончательно сломить крестьянство? Или же главную роль сыграли погодные условия? Не знаю, как в других краях, но у нас действительно была засуха. Дело, однако, заключалось не только в ней. Массовая коллективизация подорвала прежние, складывавшиеся веками устои жизни, разрушила привычные формы ведения хозяйства и жизнеобеспечения в деревне. Вот что, на мой взгляд, было главным. Плюс, конечно, жестокая засуха. Одно наложилось на другое.
Голод был страшный. В Привольном вымерла по меньшей мере треть, если не половина села. Умирали целыми семьями, и долго еще, до самой войны, сиротливо стояли в селе полуразрушенные, оставшиеся без хозяев хаты.
Трое детей деда Андрея умерли от голода. А его самого весной 1934 года арестовали за невыполнение плана посева — крестьянам-единоличникам власти устанавливали такой план. Но семян не было, и план выполнять оказалось нечем. Как «саботажника» деда Андрея отправили на принудительные работы на лесоповал в Иркутскую область. Бабушка Степанида осталась с двумя детьми — Анастасией и Александрой. А отец мой взял на себя все заботы: семья оказалась никому не нужной. Ну а дед Андрей в лагере работал хорошо, и через два года, в 1935 году, его освободили досрочно. Вернулся в Привольное с двумя грамотами ударника труда и сразу вступил в колхоз. Поскольку работать он умел, то скоро стал руководить колхозной свинофермой, и она постоянно занимала в районе первое место. Опять дед стал получать почетные грамоты.
Перед самой войной жизнь как-то начала налаживаться, входить в колею. Оба деда — дома. В магазинах появился ситец, керосин. Колхоз начал выдавать зерно на трудодни. Дед Пантелей сменил соломенную крышу хаты на черепичную. Появились в широкой продаже патефоны. Стали приезжать, правда редко, кинопередвижки с показом «немого» кино. И главная радость для нас, ребятишек, — откуда-то, хотя и не часто, привозили мороженое. В свободное от работы время, по воскресеньям, семьями выезжали отдыхать в лесополосы. Мужчины пели протяжные русские и украинские песни, пили водку, иногда дрались. Мальчишки гоняли мяч, а женщины делились новостями да присматривали за мужьями и детьми.
В один из таких воскресных дней, 22 июня 1941 года, утром, пришла страшная весть — началась война. Все жители Привольного собрались у сельского Совета, где был установлен радиорепродуктор, и, затаив дыхание, слушали выступление Молотова.
Война
Войну я помню всю, хотя кому-то это покажется преувеличением. Многое, что пришлось пережить потом, после войны, забылось, но вот картины и события военных лет врезались в память навсегда.
Когда война началась, мне уже исполнилось 10 лет. Помню, за считанные недели опустело село — не стало мужчин. Повестки о мобилизации привозили из райвоенкомата ближе к ночи, когда все возвращались с работы. Сидят за столом, ужинают, вдруг — лошадиный топот. Все замирают… нет, на этот раз посыльный проскакал мимо. Отцу, как и другим механизаторам, дали временную отсрочку — шла уборка хлеба, но в августе призвали в армию и его. Вечером повестка, ночью сборы. Утром сложили вещи на повозки и отправились за 20 километров в райцентр. Шли целыми семьями, всю дорогу — нескончаемые слезы и напутствия. В райцентре распрощались. Бились в слезах женщины и дети, старики, рыдания слились в общий, рвущий сердце стон. Последний раз купил мне отец мороженое и балалайку на память.
К осени кончилась мобилизация, и остались в нашем селе женщины, дети, старики да кое-кто из мужчин — больные и инвалиды. И уже не повестки, а первые похоронки стали приходить в Привольное. Опять по вечерам со страхом ждали конского топота. Остановится посыльный у чьей-то хаты — тишина, а через минуту — страшный, нечеловеческий, невыносимый вой.
В дом получали единственную газету «Правда». Ее выписывал отец. Читал теперь ее я. А вечерами читал вслух для женщин — о горьких новостях. Врагу сдавали город за городом, появились в наших краях эвакуированные. Мы, мальчишки, лихо распевавшие перед войной песни тех лет, с энтузиазмом повторявшие: «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», надеялись, верили, что вот-вот фашисты получат по зубам. Но к осени враг оказался у Москвы и под Ростовом.
Первая зима военной поры была ранней и суровой. Такой зимы я в своей жизни больше не видел. Снег выпал 8 октября — для наших южных краев явление необычное. И какой это был снегопад! Мощным слоем метель накрыла село. Часть хат — вместе с постройками, скотом, птицей — оказалась под сугробами. Те, кто очутился в домах, из которых можно было выбраться, делали проходы, тоннели, откапывая соседей.
Снег пролежал до весны — настоящее «снежное царство». Только жить в этом царстве было тяжко. С питанием, правда, было еще терпимо. Но вот топить было нечем — рубили сады. Трудно было ухаживать за скотом. Совсем плохо — с кормлением колхозных животных: сено осталось на полях, а дороги замело. Что-то надо было делать. С большим трудом пробили все же дорогу, начали возить сено. Все это делали молодые женщины, и среди них моя мать.
Но в один из метельных дней она и несколько других женщин из поездки не вернулись. Прошли сутки, двое, трое, а их нет. Лишь на четвертый день сообщили, что женщин арестовали и держат в районной тюрьме. Оказалось, они сбились с пути и нагрузили сани сеном со стогов, принадлежавших государственным организациям. Охрана их и забрала. Вот такая случилась история. Она едва не обернулась драматическим финалом: за «расхищение соцсобственности» суд в ту пору был скорый и строгий. Спасло одно — все «расхитители» были женами фронтовиков, у всех — дети, да и брали они корма не для себя, а для колхозного скота.
Изнурительный труд в колхозе и домашнем хозяйстве, недостаток во всем, полураздетые и полуголодные дети, страх за мужей. Трудно перечесть все тяготы, свалившиеся на женщин. Но они находили в себе силы каждый день снова и снова делать дело, стойко нести свой тяжкий крест.
Обильные снега нарушили связь. Почта приходила редко. Радиоприемников в селе тогда еще не было. Но когда газеты все-таки получали, их прочитывали от строчки до строчки. Поздними вечерами женщины часто собирались в чьей-то хате, чтобы побыть вместе, поговорить, обсудить новости, читали полученные от мужей письма. На этих встречах и держались. Но часто такие вечера превращались в неистовый плач, и тогда становилось невыносимо жутко.
Хорошо помню, с какой радостью встретили мы известие о том, что Москва устояла, немцы получили отпор. И еще — пришла с «Правдой» совсем маленькая книжица под названием «Таня» — о партизанке Зое Космодемьянской. Я читал ее собравшимся вслух. Все были потрясены жестокостью немцев и мужеством комсомолки.
С уходом на фронт отца многое по дому пришлось делать и мне. А с весны 1942-го прибавились заботы по огороду, с которого кормилась семья. Мать засветло встанет, начнет копать или полоть, затем передает начатое мне, а сама — на колхозное поле. Потом моей главной обязанностью стала заготовка сена для коровы и топлива для дома. Лесов в наших краях нет: из прессованного навоза готовили кизяк, но он шел на выпечку хлеба и приготовление пищи. Для обогрева хаты заготавливали степной колючий курай. Так вот все круто изменилось. И мы, мальчишки военной поры, перешагнув через детство, сразу вошли во взрослую жизнь. Забыты забавы, игры, оставлена учеба. Целыми днями — один, по горло всяких дел. Но иногда… Иногда, вдруг, забыв обо всем на свете, завороженный зимней метелью или шелестом листьев сада в летнюю пору, мысленно я переселялся в какой-то далекий, нереальный, но такой желанный мир. Царство мечты, детской фантазии.
С конца лета 1942-го от Ростова через наши места покатилась волна отступления. Брели люди — кто с рюкзаками или мешком, кто с детской коляской или ручной тачкой. Меняли вещи на еду. Гнали коров, табуны лошадей, овечьи отары.
Собрав свои пожитки, ушли неизвестно куда бабушка Василиса и дед Пантелей. На сельской нефтебазе открыли цистерны и все горючее спустили в мелководную речушку Егорлык. Жгли неубранные хлебные поля.
27 июля 1942 года наши войска оставили Ростов. Отступали беспорядочно. Шли хмурые, усталые солдаты. На лицах — печать горечи и вины. Бомбовые взрывы, орудийный грохот, стрельба слышались все ближе, как бы обтекая с двух сторон Привольное. Вместе с соседями выкопали на спуске к реке траншею, откуда я впервые увидел залп «катюш»: по небу со страшным свистом летели огненные стрелы…
И вдруг — тишина. Два дня тишины. Ни наших, ни немецких войск. А на третий день со стороны Ростова в село ворвались немецкие мотоциклисты. Федя Рудченко, Виктор Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» — крикнул Виктор. Я остановил: «Стоять! Мы их не боимся». Въехали немцы — оказалось, разведка. А вскоре вступила в село и немецкая пехота. За три дня немцы заполнили Привольное. Стали маскироваться от бомбежек и ради этого почти под корень вырубили сады, на выращивание которых ушли десятилетия. Вырубили и знаменитый сад деда Андрея.
А через несколько дней вернулась бабушка Василиса. С дедом она дошла почти до Ставрополя, но немецкие танки опередили: 5 августа 1942 года город был занят. Дед кукурузными полями, оврагами пошел через линию фронта, а бабушка со своими пожитками вернулась к нам — куда же еще!
Да, от Ростова и до Нальчика немцы двигались, практически не встречая сопротивления. Наши войска были дезорганизованы. Как-то, когда мы познакомились, А.А.Покрышкин, наш знаменитый летчик, рассказал, что в августе 42-го ему удалось взлететь с аэродрома на окраине Ставрополя в момент, когда немцы уже подходили к нему.
Но за Нальчиком начали действовать заградительные отряды, в задачу которых входило выполнение приказа Сталина, известного под названием «Ни шагу назад». Действовали они решительно. Из отступавших быстро формировались части, которые тут же направлялись на передовую. В результате огромных усилий под городом Орджоникидзе немецкие войска, рвавшиеся к бакинской нефти, были остановлены, и, как оказалось, уже окончательно.
После того как немецкие части ушли дальше на восток, в Привольном остался небольшой гарнизон, потом и его заменили каким-то отрядом — запомнились нашивки на рукавах и украинский говор. Началась жизнь на оккупированной территории.
Первая новость — вылезли на поверхность те, кто дезертировал из армии и по нескольку месяцев прятался в подвалах. Многие из них стали служить немецким властям, как правило, в полиции. После возвращения бабушки Василисы нагрянули к нам полицейские. Учинили обыск, все перевернули. Не знаю, что они искали. Потом уселись на линейку, а бабушке приказали идти за ними в полицейский участок. Так она и шла через все село. Там ее подвергли допросу. Но что могла она сказать? Что муж ее — коммунист, председатель колхоза, что сын и зять — в Красной Армии. Об этом и так все знали. Мать во время обыска и ареста вела себя мужественно. Смелость ее была не только от характера — женщина она решительная, — но и от отчаяния, от незнания, чем все это кончится. Над семьей нависла опасность. Возвращаясь домой с принудительных работ, мать не раз рассказывала о прямых угрозах со стороны некоторых односельчан: «Ну, погоди… Это тебе не при красных». Стали приходить слухи о массовых расстрелах в соседних городах, о каких-то машинах, травивших людей газом (после освобождения все это подтвердилось: тысячи людей, большей частью евреи, были расстреляны в городе Минеральные Воды), о готовящейся расправе над семьями коммунистов. Мы понимали, что первыми в этом списке будут члены нашей семьи. И мать с дедом Андреем упрятали меня на ферме за селом. Расправа как будто намечалась на 26 января 1943 года, а 21 января наши войска освободили Привольное.
Четыре с половиной месяца село было оккупировано немцами, срок по тем временам долгий. Старостой немцы назначили престарелого Савватия Зайцева — «деда Савку». Долго и упорно он отказывался от этого, но односельчане уговорили — все-таки свой. В селе знали, что Зайцев делал все, чтобы уберечь людей от беды. А когда изгнали немцев, осудили его на 10 лет за «измену Родине». Сколько ни писали мои односельчане о том, что служил он оккупантам не по своей воле, что многие лишь благодаря ему остались живы, ничего не помогло. Так и умер дед Савка в тюрьме как «враг народа».
Все-таки спасло нас наступление Красной Армии. О разгроме немцев под Сталинградом в селе узнали от самих немцев. А вскоре их войска, боясь попасть в новый «котел», стали спешно уходить с Северного Кавказа. С каким восторгом встречали мы красноармейские части!
…Фронт еще раз, теперь уже на запад, прокатился через наши края. И надо было снова налаживать жизнь, восстанавливать колхоз. Но как? Все разрушено, ни техники, ни скота, ни семян. Пришла весна. Землю пахали на коровах из личного подворья. До сих пор помню эту картину: женщины в слезах и тоскливые коровьи глаза. Но корову еще жалели — ведь для многих, особенно у кого дети, она в ту пору была единственной кормилицей, чаще пахали на себе. Страшную эту картину невозможно описать: одни надевали ремни и, надрываясь, волокли плуг, другие что было сил толкали его сзади. Себя не жалели.
Потом начали собирать семена, сдавали кто сколько может. Осенью урожай собрали небольшой и все отдали государству. Зимой и весной 1944 года начался голод. Выжили мы с матерью ее стараниями и благодаря случаю. Ранней весной, в распутицу, она вместе с другими односельчанами — было ей тогда 33 года — на повозке, запряженной парой уцелевших быков, отправилась на Кубань: говорили, там урожай кукурузы. Из крестьянского сундука мать вытащила вещи отца: две пары новых хромовых сапог и костюм, так ни разу и не надетый, для обмена на кукурузу. Дом оставался на мне. Уезжая, мать отмерила мне на каждый день по горстке кукурузы, из последних в доме остатков. Я делал крупу и варил кашу.
Проходит неделя, идет вторая, а матери нет. Лишь на пятнадцатый день вернулась она с мешком кукурузы. Это и было наше спасение!
Оказывается, отцовы вещи в обмен пошли хорошо, и мать выручила мешок кукурузы — целых три пуда. Но перед отъездом был уговор — на каждого едока везти по пуду. Нас с матерью двое — значит, два пуда, 32 килограмма. Вот и пришлось ей «лишний» пуд пешком, по непролазной грязи на себе тащить. Это действительно было спасение. А тут еще и корова отелилась — значит, были мы и при молоке, и при кукурузе. И стали есть уже не раз, а два-три раза в день. В других семьях недоедали — пухли от голода. Бывало, придут мои приятели — соседские ребятишки — и стоят молча в дверях. Среди них — Федя Рудченко, наш родственник. Мать покряхтит-покряхтит и даст всем понемногу поесть. Вот так и выжили…
А потом, как послание от Бога, на всеобщую радость, пошли дожди. И все вокруг — и в поле, и на огородах — стало расти. Земля нас выручила и на сей раз.
Поступление товаров в деревню практически прекратилось. Не то что техники — ни одежды, ни обуви, ни соли, ни мыла, ни керосиновых ламп, ни спичек…
Сначала научились сами ремонтировать обувь и одежду. А когда это заплатанное старье окончательно расползлось, нашли другой выход — стали выращивать коноплю. Убирали вручную. Вязали снопы, мочили в реке, сушили, трепали, получали нитку — суровье. На «бабушкиных» ручных ткацких станках, спущенных с чердаков, чуть ли не в каждой хате ткали, а потом отбеливали полотно. Из него шили рубахи, а для красоты вышивали по краям черным мулине. Наденешь такую рубаху, а она колом стоит.
Овечью шерсть мыли, чесали, а потом на веретене крутили нить и ткали примитивное грубое сукно для изготовления верхней одежды. Из шкур, которые предварительно квасились, очищались от шерсти, сушились, мялись и пропитывались мазутом, делали примитивную обувь. Соль добывали из Соленого озера, находившегося в пятидесяти километрах от Привольного. Непонятным способом доставали кальцинированную соду, используя которую, научились делать мыло. Огонь получали, высекая искры из кремня, разжигая пропитанную золой вату, «спички» делали из тола противотанковых гранат. Для освещения использовали лампады, «коптилки» из снарядных гильз. Когда понемногу стал появляться керосин — сами начали делать лампы. Всему пришлось научиться, и делал я это в совершенстве. Удивительно живуч и вынослив наш народ. Хотя сейчас иногда думаю: а смог бы я теперь заново выдержать все это?
В конце лета 1944 года с фронта пришло какое-то загадочное письмо. Открыли конверт, а там документы, семейные фотографии, которые отец, уходя на фронт, взял с собой, и короткое сообщение, что погиб старшина Сергей Горбачев смертью храбрых в Карпатах на горе Магуре…
До этого времени отец уже прошел долгий путь по дорогам войны. Когда я стал Президентом СССР, министр обороны Д.Т.Язов сделал мне уникальный подарок — книгу об истории войсковых частей, в которых в годы войны служил отец. С огромным волнением читал я одну из военных историй и еще яснее и глубже понял, каким трудным был путь к победе и какую цену наш народ заплатил за нее.
Многое о том, где воевал отец, я знал по его рассказам — теперь передо мной документ. После мобилизации отец попал в Краснодар, где при пехотном училище была сформирована отдельная бригада под командованием подполковника Колесникова. Первое боевое крещение получила она уже в ноябре — декабре 1941 года в боях под Ростовом в составе 56-й армии Закавказского фронта. Потери бригады были огромны: убито 440, ранено 120, пропал без вести 651 человек. Отец остался жив. Затем до марта 1942 года держали оборону по реке Миас. И опять большие потери. Бригаду отправили в Мичуринск для переформирования в 161-ю стрелковую дивизию, после чего — на Воронежский фронт в 60-ю армию.
И тут его могли убить десятки раз. Дивизия участвовала в битве на Курской дуге, в Острогожско-Россошанской и Харьковской операциях, в форсировании Днепра в районе Переяслава-Хмельницкого и удержании известного Букринского плацдарма.
Отец рассказывал потом, как под непрерывными бомбежками и ураганным артогнем переправлялись они через Днепр на рыбачьих лодчонках, «подручных средствах», самодельных плотах и паромах. Отец командовал отделением саперов, обеспечивающим переправу минометов на одном из таких паромов. Среди разрывов бомб и снарядов плыли они на огонек, мерцавший на правом берегу. И хотя это было ночью, казалось ему, что вода в Днепре красная от крови.
За форсирование Днепра получил отец медаль «За отвагу» и очень гордился ею, хотя были потом и другие награды, в том числе два ордена Красной Звезды. В ноябре — декабре 1943 года их дивизия участвовала в Киевской операции. В апреле 1944 года — в Проскуровско-Черновицкой. В июле — августе — в Львовско-Сандомирской, в освобождении города Станислава. Потеряла дивизия в Карпатах 461 человека убитыми, более полутора тысяч ранеными. И надо же было пройти через такую кровавую мясорубку, чтобы найти погибель свою на этой проклятой горе Магуре…
Три дня плач стоял в семье. А потом… приходит письмо от отца, мол, жив и здоров.
Оба письма помечены 27 августа 1944 года. Может, написал нам, а потом пошел в бой и погиб? Но через четыре дня получили от отца еще одно письмо, уже от 31 августа. Значит, отец жив и продолжает бить фашистов! Я написал письмо отцу и высказал свое негодование в адрес тех, кто прислал письмо с сообщением о его смерти. В ответном письме отец взял под защиту фронтовиков: «Нет, сын, ты напрасно ругаешь солдат — на фронте все бывает». Я это запомнил на всю жизнь.
Уже после окончания войны он рассказал нам, что же произошло в августе 1944-го. Накануне очередного наступления получили приказ: ночью оборудовать на горе Магуре командный пункт. Гора покрыта лесом, и только макушка была лысой с хорошим обзором западного склона. Тут и решили ставить КП. Разведчики ушли вперед, а отец со своим отделением саперов начал работать. Сумку с документами и фотографиями он положил на бруствер вырытого окопа. Внезапно внизу из-за деревьев раздался какой-то шум, выстрел. Отец решил, что это возвращаются свои — разведчики. Он пошел им навстречу и крикнул: «Вы что? Куда стреляете?» В ответ шквальный автоматный огонь… По звуку ясно — немцы. Саперы бросились врассыпную. Спасла темнота. И ни одного человека не потеряли. Просто чудо какое-то. Отец шутил: «Второе рождение». На радостях и написал письмо домой: мол, жив и здоров, без подробностей.
А утром, когда началось наступление, пехотинцы отцову сумку на высоте обнаружили. Решили, что погиб при штурме горы Магуры, и послали часть документов и фотографии семье.
И все-таки война оставила старшине Горбачеву свою отметину на всю жизнь… Как-то после трудного и опасного рейда в тыл противника, разминирования и подрыва коммуникаций, после нескольких бессонных ночей группе дали недельный отдых. Отошли от линии фронта на несколько километров и первые сутки просто отсыпались. Кругом лес, тишина, обстановка совсем мирная. Солдаты расслабились. Но надо же было случиться, что именно над этим местом разыгрался воздушный бой. Отец и его саперы стали наблюдать — чем все это кончится. А кончилось плохо: уходя от истребителей, немецкий самолет сбросил весь свой бомбовый запас.
Свист, вой, разрывы. Кто-то догадался крикнуть: «Ложись!» Все бросились на землю. Одна из бомб упала неподалеку от отца, и огромный осколок рассек ему ногу. Несколько миллиметров в сторону — и отрезало бы ногу начисто. Но опять повезло, кость не была задета.
Это случилось в Чехословакии, под городом Кошице. На том фронтовая жизнь отца кончилась. Лечился в госпитале в Кракове, а там уже скоро и 9 мая 1945 года подоспело, День Победы.
Война стала страшной трагедией для всей страны. Порушено было все, что с таким трудом создавалось. Порушена надежда на счастливую жизнь. Порушена семья — дети остались без отцов, жены — без мужей, девушки — без женихов.
Самые трудные и страшные испытания выпали на долю фронтовиков. Перед этим поколением мужчин и женщин в долгу люди Земли. До конца своих дней отец не мог освободиться от пережитого в годы войны. Он много рассказывал о войне. Каким тяжелым было ее начало, не хватало оружия, да и воевать-то не умели.
Под Таганрогом дали их участку фронта подкрепление — несколько тысяч моряков Черноморского флота. Ребята молодые, отборные — кровь с молоком: «Ну, пехота, мы вам покажем, как это надо делать». В один из дней, разгоряченные водкой, густыми цепями, со штыками наперевес моряки пошли в атаку. А немцы встретили их огнем пулеметов и минометов. Так и остались они почти все на этом поле. Земля покрылась телами в черных бушлатах и тельняшках.
Под Таганрогом и отец участвовал в рукопашном бою. Потом рассказывал. В голове одно: немец тебя или ты его. И никаких других мыслей. Бьешь, колешь, стреляешь, как зверь. И рык какой-то звериный. Не все выдерживали. Да и остальные только через несколько часов с трудом возвращались в нормальное состояние. Я видел, что даже много лет спустя отцу тяжело было рассказывать обо всем этом.
В военные годы я, как и все, пережил многое. И все-таки, когда заходит речь о войне, чаще всего вспоминаю одну кошмарную картину. В конце февраля — начале марта 1943 года, когда сошел снег, я с другими ребятишками в поисках трофеев забрел на дальнюю лесополосу между Привольным и соседним селом Белая Глина. Там мы наткнулись на останки красноармейцев, принявших здесь последний свой бой летом 1942 года. Описать это невозможно: истлевшие и изглоданные тела, черепа в стальных проржавевших касках, из прогнивших гимнастерок — выбеленные кости рук, сжимающие винтовки. Тут же ручной пулемет, гранаты, кучи стреляных гильз. Так лежали они, непогребенные, в грязной жиже окопов и воронок, взирая на нас черными зияющими дырами глазниц… Мы окаменели. Вернулись домой потрясенные.
Тех безымянных солдат схоронили в братской могиле. И никогда я не воспринимал их как чужих, сторонних людей. В центре Привольного сейчас стоит скромный обелиск. На нем высечены фамилии тех, кто не вернулся с войны. Среди них — целый столбец — Горбачевы.
Когда война кончилась, мне было 14 лет. Наше поколение — поколение детей войны. Она опалила нас, наложила свой отпечаток и на наши характеры, на все наше мировосприятие.
Возвращение в школу
Учебу в школе я возобновил в 1944 году, после двухлетнего перерыва. Никакого особого желания учиться я не испытывал. После всего пережитого это казалось слишком «несерьезным» делом. Да к тому же, честно говоря, и идти-то в школу было не в чем. Отец прислал матери письмо: продай все, одень, обуй, книжки купи, и пусть Михаил обязательно учится. А тут еще дед Пантелей — надо учиться, и все тут. В общем, пошел в школу перед самыми ноябрьскими праздниками, когда уже первая четверть кончалась.
Пришел, сижу, слушаю, ничего не понимаю — все забыл. Не досидев до конца занятий, ушел домой, бросил единственную книжку, которая у меня была, и твердо сказал матери, что больше в школу не пойду. Мать заплакала, собрала какие-то вещички и ушла. Вернулась вечером без вещей, но с целой стопкой книг. Я ей опять: все равно не пойду. Однако книжки стал смотреть, потом читать, и увлекся… Мать уже спать легла, а я все читал и читал. Видимо, этой ночью что-то в моей голове произошло, во всяком случае, утром я встал и пошел в школу. Год закончил с похвальной грамотой, да и все последующие годы — с отличием.
О школе тех лет, о ее учителях и учащихся нельзя писать без волнения. Да, в общем-то, это и не школа была, если говорить правду. Мало того, что она размещалась в нескольких зданиях села, построенных совсем для других целей. Школа имела в своем распоряжении мизерный запас учебников, всего несколько географических карт и наглядных пособий, мел, с трудом где-то добываемый. Вот практически все. Остальное было делом рук учителей и учащихся. Тетрадей не было вообще — мне их заменяли книги отца по механизации. Сами мы делали и чернила. Школа должна была обеспечить себя топливом, поэтому держали лошадей, повозку. Я запомнил, как зимой вся школа спасала от голода лошадей: они настолько были истощены и обессилены, что не могли стоять на ногах. Откуда мы только ни тащили корм для них! А добыть его было непросто: все село было занято тем же — спасало личный скот. Я уже не говорю о скотных дворах колхоза, откуда каждый день увозили трупы животных.
Трудно жили и наши учителя в годы войны: холодно, голодно, тоскливо. Но надо отдать им должное: даже тогда они — можно только догадываться, как им это давалось, — старались быть верными своему долгу и делали все, что могли. И страна смогла уже через несколько лет после войны получить специалистов, в которых испытывала настоящий голод.
Наша сельская школа была восьмилеткой. Прошло еще почти 20 лет, прежде чем в Привольном построили современную среднюю школу. А в те годы 9 и 10 класс пришлось кончать в районной средней школе. Это примерно километрах в двадцати. Жил я на квартире в райцентре, как и другие ребята-односельчане, раз в неделю ездил или ходил за продуктами. Так что в старших классах был уже вполне самостоятельным человеком. Никто не контролировал мою учебу. Считалось, что я достаточно взрослый, чтобы свое дело делать самому, без понуканий. Лишь один раз за все годы с трудом удалось уговорить отца пойти в школу на родительское собрание. И еще помню, когда пришла юность и я стал ходить на вечеринки и ночные молодежные гулянья, отец попросил мать: «Что-то Михаил стал поздно приходить, скажи ему…»
Учился с азартом. Весь интерес базировался на неуемном любопытстве и стремлении до всего докопаться. Нравились физика, математика. Увлекался историей и особенно, до самозабвения, литературой.
Еще в Привольном в нашей скудной библиотеке взял новенький однотомник Белинского. Он стал моей библией, я был восхищен им. Перечитывал много раз и носил с собой повсюду. Когда уезжал в Москву учиться, мне подарили эту книгу как первому из наших сельчан, поступившему в МГУ.
Вот и теперь эта книга передо мной: «Подписано к печати 28 декабря 1946 года. Тираж 100 000 экземпляров». Смотрю на пометки, сделанные тогда, когда учился в 7–8 классе и было мне 16–17 лет. Что интересовало? Подчеркнутое говорит о том, что особым вниманием пользовались философские высказывания критика.
От статей Белинского я шел потом к Пушкину, Лермонтову, Гоголю. Особенно увлек меня Лермонтов — своей непокорностью и возвышенным романтизмом. Не только стихи его, но и поэмы знал наизусть. Потом наступила пора увлечения Маяковским, особенно его ранними стихами. Меня поражало, поражает и ныне, как эти молодые люди в своих произведениях поднялись до философских обобщений. Такое — от Бога!
В те годы повальным было увлечение художественной самодеятельностью и спортом, хотя условий для занятий практически не было. Я был не только неизменным участником выступлений и соревнований, но и их организатором как комсомольский секретарь. Наши концертные бригады бороздили села и хутора, места производственной деятельности селян. Но чаще всего роль сцены выполняли спортивные залы школ, а то и просто коридоры. Что же тянуло в эти кружки самодеятельности? Пожалуй, прежде всего желание общения со сверстниками. Но и стремление реализовать себя, узнать то, с чем незнаком. Увлечение это приобрело в моей школе такой размах, что в драматический кружок не могли попасть все желающие — шел отбор! Какие пьесы мы играли? В отличие от профессиональных театральных коллективов у нас не возникал вопрос — посильно ли? Играли драматургов всех времен — чаще, конечно, русских. Можете представить, как это получалось, но нас не смущало, и нравственных мук мы не испытывали. Одно могу сказать: старались изо всех сил. И что-то все-таки выходило, так как на наши постановки шли и взрослые. А однажды драмкружок совершил турне по селам района, давая платные спектакли. На собранные деньги купили 35 пар обуви для ребят, которым не в чем было идти в школу.
Так или иначе, но о нашем драмкружке узнали в Ставрополе, и как-то к нам нагрянули, в ходе гастролей, актеры краевого драмтеатра. Мы им сыграли «Маскарад» Лермонтова, продемонстрировав все свои таланты. Они нас похвалили, сделали замечания, одно из которых я помню и сейчас, а об остальных забыл через неделю. Так вот профессионалы, поддержав наш темперамент при объяснении между героями лермонтовской драмы Арбениным и Звездичем, все-таки посоветовали не хватать друг друга за рукава — в высшем свете даже острые объяснения проходят несколько иначе.
Рядом с отцом
А между тем реальная жизнь беспощадно предъявляла счет ко всем, в том числе и ко мне. С 1946 года каждое лето стал работать с отцом на комбайне. В Привольном, где школа была километрах в двух от нашей хаты, после окончания занятий я забегал к деду Пантелею, который жил в центре села, надевал рабочую робу и бегом в МТС — помогать отцу чинить комбайн. Вечером с работы домой шли вместе.
А потом уборка хлебов. С конца июня и до конца августа работать приходилось вдали от дома. Даже когда из-за дождей уборка приостанавливалась, мы оставались в поле, приводя в порядок технику и выжидая погожих часов. Много было с отцом разговоров в такие дни «простоя». Обо всем — о делах, о жизни. Отношения у нас сложились не просто отца и сына, но и людей, занятых общим делом, одной работой. Отец с уважением относился ко мне, мы стали настоящими друзьями.
Отец отлично знал комбайн и меня обучил. Я мог спустя год-два отрегулировать любой механизм. Предмет особой гордости — на слух мог сразу определить неладное в работе комбайна. Не меньше гордился тем, что на ходу мог взобраться на комбайн с любой стороны, даже там, где скрежетали режущие аппараты и вращалось мотовило.
Сказать, что работа на комбайне была трудной, — значит не сказать ничего. Это был тяжкий труд: по 20 часов в сутки до полного изнеможения. На сон лишь 3–4 часа. Ну а если погода сухая и хлеб молотится, то тут уж лови момент — работали без перерыва, на ходу подменяя друг друга у штурвала. Воды попить было некогда. Жарища — настоящий ад, пыль, несмолкаемый грохот железа… Со стороны посмотришь на нас — одни глаза и зубы. Все остальное — сплошная корка запекшейся пыли, смешанной с мазутом. Были случаи, когда после 15–20 часов работы я не выдерживал и просто засыпал у штурвала. Первые годы частенько носом шла кровь — реакция организма подростка. В 15–16 лет обычно набирают вес и силу. Силу я набирал, но за время уборки каждый раз терял не менее пяти килограммов веса.
Тяжким был труд крестьян. Но достатка в колхозные дома он не приносил. Вся надежда была на приусадебный участок. Выращивали на нем все, и можно было бы кое-как свести концы с концами. Но каждый крестьянский двор облагался всяческими налогами и поставками государству. Не имело значения, держишь ты скот или нет, все равно сдай 120 литров молока, сдай масло, сдай мясо. Налогами облагались фруктовые деревья, и, хотя урожай они давали не каждый год, налоги ты должен был платить ежегодно. И крестьяне… вырубали сады.
Бежать — не убежишь, не давали крестьянам паспорта. А без паспорта — до первого милиционера. Да и не возьмут никуда на работу в городе. Один шанс: завербоваться через «оргнабор» на какую-нибудь «великую стройку». Чем же это отличалось от крепостничества? Даже спустя годы, выступая с докладами об аграрной политике, я с трудом удерживался от самых резких оценок и формулировок, потому что знал, что это такое — крестьянская жизнь.
Наша семья все-таки жила полегче, чем другие: механизаторам платили натурой и деньгами. Но все равно это мизерные заработки; чтобы купить хоть что-то из одежды или домашней утвари, приходилось продавать выращенное в личном хозяйстве. А для этого ехать на рынок в Ростов, Сталинград, Шахты. Одним словом, всего и всегда не хватало.
Даже в поле во время уборки еду привозили нам скудную. Зато уж если за сутки 30 гектаров обмолотил, тут тебе, по установленным правилам, полагалась «посылка». Специально для тебя что-то готовили — вареники с маслом, мясо вареное или, еще лучше, давали банку меда и обязательно две поллитровки водки. Хотя водка меня не интересовала, был такой обед вкуснее всего на свете. Не «посылка», а дар Божий… Праздник!
Ну а насчет водки сыграли со мной однажды в бригаде злую шутку. Это было в 1946 году. Закончилась уборка, и механизаторы решили «обмыть» окончание первой после войны страды — хоть и неудачный был год, а как-никак дело сделано. Купили ящик водки, где-то достали спирт. Собрались в полевом вагончике, сидят, выпивают, закусывают, всякие байки рассказывают.
Надо сказать, мужики наши в бригаде все крепкие были, молодые, но бывалые — в большинстве своем фронтовики. Отцу в то время было 37 лет. Я самый младший — мне 15. Сижу, ем да слушаю их разговоры.
Тут бригадир стал приставать ко мне: «Ты что ж так сидишь? Уборка закончена. Пей давай! Пора уж настоящим мужиком быть». Смотрю на отца — он молчит, посмеивается. Поднесли мне кружку… Думал — водка, оказалось — спирт. А для его питья существовала особая «технология»: надо было на выдохе выпить, а потом сразу же, не переводя дыхания, запить холодной водой. А я так.
Что со мной было! Механизаторы покатываются от смеха, и больше всех смеялся отец. Урок действительно пошел на пользу — никакого удовольствия от водки или спирта я потом не получал. Тут же, в отместку, сговорились подшутить над бригадиром, устроившим мне это испытание. Налили ему в кружку спирта, а вместо воды для запивки подсунули вторую, и тоже со спиртом… Бригадир выдохнул, хватил первую кружку, потом вторую… Все опять от хохота покатились. А он — только крякнул. Крепкий мужик. Вообще, все они хорошими товарищами были, можно сказать, друзьями. В трудной жизни помогали друг другу. И работать умели как надо.
Потом, спустя годы, став Генеральным секретарем ЦК КПСС, приезжая в родные места, я всякий раз встречался с теми, кто работал в нашей бригаде, — трактористами и комбайнерами, уже постаревшими. Встречались без всякой официалыцины, как старые добрые друзья, которые могут откровенно высказать друг другу все. Тракторная бригада навсегда оставила в моей душе глубокий след. Мне близки эти люди и сейчас, хотя, к сожалению, многих уже нет в живых.
Кстати, после работы в поле учеба была уже не в тягость, а в радость и удовольствие. Первые недели после работы на комбайне пальцы сгибались с трудом из-за мозолей. Я даже гордился этими мозолями, хотя ни в малой мере не испытывал непочтительного отношения к людям умственного труда, которым нередко грешат те, кто называет себя «работягами». У настоящих работяг, если судить по нашей бригаде, такого не было. По крайней мере, к нашей сельской интеллигенции — учителям, врачам, агрономам, к ученым — относились уважительно. А главное даже в другом. Кем бы ты ни работал, люди быстро, по известным им одним критериям, определят, чего ты на самом деле стоишь.
Трудно, очень трудно давался хлеб в те годы. 1946 год был неурожайным. Как раз в хлебородных районах случилась засуха. Если верить официальной статистике, в стране собрали зерновых всего 39,6 миллиона тонн (государство заготовило из них 17). А в 1940-м — 95,7 миллиона тонн (при заготовках в 36,4). Драматичность тогдашней ситуации очевидна. Во многих областях уже в который раз разразился голод.
На Ставрополье тоже не уродились хлеба. И весной 1947-го хлынули к нам сталинградцы — голод гнал людей, — предлагали в обмен на хлеб все, что имели. Менять-то нечего было, сами еле-еле концы с концами свели. И все-таки меняли.
1947 год для страны стал более удачным. Собрали 65,9 миллиона тонн зерновых (заготовили 27,5). Сразу после окончания войны народу было обещано, что через год карточную систему снабжения продовольствием и промтоварами отменят. Засуха 1946 года вынудила отложить это мероприятие на год. И вот в декабре 1947-го карточки были наконец отменены. Событие действительно праздничное, но у нас по этому поводу особой радости не было. Для Ставрополья и этот год оказался неурожайным. Кое-как перезимовали. Вся надежда была на урожай 1948 года.
И вдруг ранней весной, в апреле, загуляли пыльные бури, страшные спутники засухи. «Опять беда, — говорит отец, — после войны, считай, третий год подряд». Но через несколько дней пошел теплый-теплый дождь. Идет день, второй, третий… Хлеба пошли в рост.
Это был первый настоящий урожай. Собрали на круг по 22 центнера с гектара. В те времена — особенно после неурожайных лет — результат небывалый. А тогда с 1947 года действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР: намолотил на комбайне 10 тысяч центнеров зерна — получай звание Героя Социалистического Труда, 8 тысяч — орден Ленина. Мы намолотили с отцом 8 тысяч 888 центнеров. Отец получил орден Ленина, я — орден Трудового Красного Знамени. Было мне тогда 17 лет, и это самый дорогой для меня орден. Сообщение о награде пришло осенью. Собрались все классы на митинг. Такое было впервые в моей жизни — я был очень смущен, но, конечно, рад. Тогда мне пришлось произнести свою первую митинговую речь.
Можно сказать, что 1948 год был для нашей семьи если и не счастливым, то, во всяком случае, удачным. Хорошим он стал и для страны: первый послевоенный год без карточек. И хотя при их отмене цены на продукты и промтовары выросли в несколько раз, все-таки создавалось ощущение, что жизнь постепенно налаживается.
В 1947 году 7 сентября, когда мне уже было шестнадцать лет, родился мой младший брат. Помню, ранней зарей отец разбудил меня и попросил перейти в другое место. Я это сделал и опять заснул. Когда проснулся, отец сказал, что у меня теперь есть брат. Я предложил назвать его Александром. Жизнь сложилась так, что уже с 1948 года я жил фактически отдельно от семьи. Брат рос, получая сполна внимание и любовь отца и матери. Другими были его детство и юность. Все это сказалось и на характере, на отношении к жизни. У Александра все было иначе. Мне кажется, проще и легче. Мне это не очень нравилось, и я пытался подогнать под свои жизненные установки. Долго я с ним «воевал», кое-что удалось. Но все же Сашка остался самим собой.
После страшной войны страна поднималась из развалин. Когда несколько лет спустя мне приходилось ездить в Москву и обратно, я побывал в Ростове, Харькове, Воронеже, Орле и Курске. И везде. — руины, следы чудовищных разрушений, оставленных войной. Несколько раз в Москву я ездил через Сталинград. Специально делал так, чтобы туда попасть утром, а выехать в Москву вечером или ночью. Ходил по городу, поднимался на Мамаев курган, усыпанный, даже спустя 7–8 лет после Сталинградского сражения, осколками бомб, мин, снарядов. Побывал на местах самых тяжелых боев. И осталось в памяти, как постепенно, год от года поднимался новый город.
Трудно жила страна. Не жизнь, а борьба за выживание. В годы войны люди понимали: надо спасать землю свою, свое отечество. И думали: вот кончится война, победим, тогда заживем. Но и с окончанием войны, особенно в первые годы, мало что изменилось. Опять тяжкий труд и опять мечта: вот отстроимся, восстановим все и заживем наконец по-людски. Надежда одухотворяла даже самую изнурительную, унижающую человека работу, придавала ей смысл, помогала переносить все тяготы.
Так и сводили концы с концами. Все было в том времени — и тяжкое, и радостное, и горе, и надежда. Это было противоречие самой жизни. И тем, кто сегодня обращается к нашей истории, надо уметь поставить любой ее период, каждый факт в более широкий контекст. Иначе ничего понять невозможно. Ни тех событий, ни тех людей.
Сейчас, оглядываясь на прошлое, я все более убеждаюсь в том, что отец, дед Пантелей, их понимание долга, сама их жизнь, поступки, отношение к делу, к семье, к стране оказывали на меня огромное влияние и были нравственным примером. В отце, простом человеке из деревни, было заложено самой природой столько интеллигентности, пытливости, ума, человечности, много других добрых качеств. И это заметно выделяло его среди односельчан, люди к нему относились с уважением и доверием: «надежный человек». В юности я питал к отцу не только сыновние чувства, но и был крепко к нему привязан. Правда, никогда друг с другом о взаимном расположении мы не обмолвились даже словом — это просто было. Став взрослым человеком, я все больше и больше восхищался отцом. Меня в нем поражал неугасающий интерес к жизни. Его волновали проблемы собственной страны и далеких государств. Он мог у телевизора с наслаждением слушать музыку, песни. Регулярно читал газеты.
Наши встречи превращались нередко в вечера вопросов и ответов. Главным ответчиком теперь стал уже я. Мы как бы поменялись местами. Меня в нем всегда восхищало его отношение к матери. Нет, оно было не каким-то внешне броским, тем более изысканным, а наоборот — сдержанным, простым и теплым. Не показным, а сердечным. Из любой поездки он всегда привозил ей подарки. Отец сразу принял близко Раю и всегда радовался встречам с ней. И уж очень его интересовали Раины занятия философией. По-моему, само слово «философия» производило на него магическое воздействие. Отец и мать были рады рождению внучки Ирины, и она не одно лето провела у них. Ирине нравилось ездить на двуколке по полям, косить сено, ночевать в степи.
Я узнал о внезапном тяжелом заболевании отца в Москве, куда прибыл на XXV съезд КПСС. Сразу вылетел с Раисой Максимовной в Ставрополь, а оттуда автомобилем отправились в Привольное. Отец лежал в сельской больнице без сознания, и мы так и не смогли сказать друг другу последние слова. Его рука сжимала мою руку, но больше он уже ничего не мог сделать.
Отец мой, Сергей Андреевич Горбачев, скончался от большого кровоизлияния в мозг. Хоронили его в День Советской Армии — 23 февраля 1976 года. Привольненская земля, на которой он родился, с детских лет пахал, сеял, собирал урожай и которую он защищал, не щадя жизни, приняла его в свои объятия…
Всю жизнь отец делал добро близким людям и ушел из жизни, не докучая никому своими недомоганиями. Жаль, что пожил он так мало. Каждый раз, бывая в Привольном, я в первую очередь иду к могиле отца.
Глава 3. Московский университет
Зачислен с общежитием
Школу я окончил в 1950 году с серебряной медалью. Мне исполнилось 19 лет, возраст призывной, и надо было решать — что дальше? Хорошо помню слова отца: «После школы — смотри сам. Хочешь — будем работать вместе. Хочешь — учись дальше, чем смогу — помогу. Но дело это серьезное, и решать — только тебе».
У меня настроение было вполне определенное — продолжать учебу. Настроение, характерное для многих моих сверстников тех лет. Страна восстанавливалась, строилась, инженеров, агрономов, медиков, учителей не хватало. В вузы шли целыми классами. Даже самые слабенькие, и те выискивали институты, где был меньший конкурс при приеме, и поступали.
Мои одноклассники подавали заявления в вузы Ставрополя, Краснодара, Ростова. Я же решил, что должен поступать не иначе как в самый главный университет — Московский государственный университет им. Ломоносова на юридический факультет.
Не могу сказать, что это был всецело выношенный замысел. Что такое юриспруденция и право, я представлял себе тогда довольно туманно. Но положение судьи или прокурора мне импонировало. Направил документы в приемную комиссию юрфака, стал ждать. Проходят дни, никакой реакции. Посылаю телеграмму с оплаченным ответом, и приходит уведомление: «зачислен с предоставлением общежития», то есть принят по высшему разряду, даже без собеседования. Видимо, повлияло все: и «рабоче-крестьянское происхождение», и трудовой стаж, и то, что я уже был кандидатом в члены партии, и, конечно, высокая правительственная награда. Во всяком случае, для «оптимизации» социального состава студенчества, достигавшейся тогда главным образом за счет фронтовиков, подошла и моя кандидатура.
Итак, я — студент Московского университета. Первые недели и месяцы чувствовал себя не очень уютно. Сопоставьте: село Привольное и… Москва. Слишком велика разница и слишком большая ломка. От новых знакомых впервые услышал: «Москва — большая деревня». Особенно любили это повторять ленинградцы. Но для меня, выросшего в деревне, Москва представлялась громадиной, гигантским городом. И сегодня живо охватившее меня тогда чувство волнения.
Все для меня было впервые: Красная площадь, Кремль, Большой театр — первая опера, первый балет, Третьяковка, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, первая прогулка на катере по Москве-реке, экскурсия по Подмосковью, первая октябрьская демонстрация… И каждый раз ни с чем не сравнимое чувство узнавания нового.
Все-таки прежде всего память возвращает к неказистому зданию университетского общежития на Стромынке в Сокольниках. Ежедневно колесили мы по семь километров в один конец — на метро, трамвае и пешком — к нашей alma mater и обратно. Каждый такой маршрут открывал для нас новую черточку города, к которому мы все больше привязывались. Конечно, старую Москву с ее исконной «русскостью», с переплетением сотен улочек и переулков не познаешь не только за пять, но, наверное, и за пятьдесят лет. Но все улицы и переулки вокруг университета, все островки студенческого архипелага вокруг общежития — кинотеатр «Молот» на Русаковской и Клуб имени Русакова, неповторимый колорит старой Преображенской площади, старинные бани на Бухвостовской, парк в Сокольниках — остались в памяти навсегда.
Это потом, уже на четвертом курсе, мы переберемся на Ленинские горы, будем жить по два человека в блоке, по неделе, а то и по две не выбираясь в город из «дворянского гнезда». А тогда на Стромынке жили мы, первокурсники, 22 человека в одной комнате, на втором курсе — 11, на третьем — 6.
Здесь же была своя столовая с буфетом, где можно было за копейки взять стакан чаю и съесть с ним сколько угодно хлеба, лежавшего в тарелках по столам. Тут же парикмахерская и прачечная, хотя стирать частенько приходилось самому по причине отсутствия денег и лишней смены белья. Была тут своя поликлиника. И она для меня была новостью, так как в нашем селе таковой не имелось, существовал лишь фельдшерский пункт. Здесь же находилась и библиотека с вместительными читальными залами, клуб со всевозможными кружками и спортивными секциями. Это был совершенно особый мир, студенческое братство со своими неписаными законами и правилами.
Жили мы по-студенчески бедно. Стипендия на гуманитарных факультетах — 220 рублей (в ценах до 1961 года). Правда, одно время я, как отличник и общественник, получал персональную, повышенную, так называемую «Калининскую», стипендию — 580 рублей. Кроме того, 200 рублей ежемесячно присылали из дома. Цену этим деньгам я хорошо знал: у себя на подворье отец с матерью выращивали овощи и всякую живность везли на городские рынки.
В Москве приходилось экономить на всем. Но, как и у всех моих приятелей, на последнюю неделю перед стипендией никак не хватало. Приходилось переходить на «сухой паек», в ход шла банка консервированных бобов или что-то в этом роде стоимостью не более рубля. И тем не менее последний рубль тратился не на еду, а на билет в кино.
С самого начала учеба в университете захватила меня. Она поглощала все время, учился я жадно, азартно. Друзья-москвичи подтрунивали: многое, что для меня было новым, им было известно со школьной скамьи. Но я-то заканчивал сельскую школу.
Любопытство и самолюбие
Мои однокурсники-москвичи часто боялись показать свое незнание каких-то проблем или фактов. Им, видимо, казалось, что спрашивать, выяснять — значит проявлять свою неполноценность. Но во мне горел огонь любопытства и желания узнать и понять все. К третьему курсу я мог на равных участвовать в студенческих дискуссиях с самыми способными однокурсниками.
Чем был примечателен наш юридический факультет? Прежде всего, он давал обширные и весьма разносторонние знания. На первое место я ставлю цикл исторических наук — история и теория государства и права; история политических учений, история дипломатии; политическая экономия в объеме почти таком же, как на экономическом факультете, история философии, диалектический и исторический материализм; логика; латинский и немецкий языки. Наконец, целая гамма юридических дисциплин: уголовное и гражданское право, криминалистика, судебная медицина и психиатрия, административное, финансовое, колхозное, брачно-семейное право, бухгалтерский учет. И, конечно, международное публичное и частное право, государство и право буржуазных стран и т. д.
Идея заключалась в том, что усвоение собственно юридических предметов требовало основательного знания современных социально-экономических и политических процессов и должно было происходить поэтому в контексте овладения основами всех общественных наук.
В моих глазах университет был храмом науки, средоточием умов, составлявших нашу национальную гордость, очагом молодой энергии, порыва, поиска. Здесь ощущалось влияние вековой русской культуры, несмотря ни на что, жили демократические традиции русской высшей школы. Многие знаменитые ученые, академики считали за честь преподавать в МГУ, вести там лекционные курсы. За каждым из них — научные направления, десятки книг и учебников. Их лекции открывали новый мир, целые пласты человеческого знания, неведомые мне ранее, вводили в логику научного мышления. Даже в самые мрачные годы в стенах здания на Моховой чувствовалось биение пульса общественной жизни. Пусть в значительной мере подспудно, но сохранялся дух творческих исканий и здорового критицизма.
Конечно, не следует и приукрашивать реальной ситуации в университете. Первые три года моей учебы совпали с годами «позднего сталинизма», нового витка репрессий, знаменитой кампании против «безродного космополитизма» и т. д.
Атмосфера была предельно идеологизирована. Как и повсюду, господствовали беспрекословные схемы сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», признававшегося эталоном научной мысли. Учебный процесс, казалось, был нацелен на то, чтобы с первых недель занятий сковать молодые умы, вбить в них набор непререкаемых истин, уберечь от искушения самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять. Идеологические тиски в той или иной мере давали о себе знать и на лекциях, семинарах, в диспутах на студенческих вечерах.
Как-то на собрании я сделал критическое замечание в адрес одного из преподавателей по поводу методологии, которую он применил для анализа проблемы. Тогда мой товарищ по общежитию, бывший фронтовик и староста курса (теперь профессор и автор многих работ) Валерий Шапко сказал: с такими речами надо выступать после сдачи экзамена. Я посмеялся над его расчетливостью. Но вот пришло время экзамена. Отвечать я стал уверенно, в одном месте сослался на книгу, исказив ее название. Экзаменатор сделал удивленное лицо. Я тут же поправился, но было поздно.
С ехидной улыбкой он пометил что-то в своем блокнотике и продолжения моего ответа уже не слушал. Когда я закончил, он, не скрывая злорадства, произнес:
— Ну что же, Горбачев, твердая четверка… — и тут же, не мешкая, поставил оценку в зачетку.
Пересдавать этот экзамен, хотя на остальных получил пятерки, не стал. Так потерял я персональную стипендию. Удар по моему самолюбию и особенно бюджету был ощутимый.
Как мне представляется, именно по отношению к университету — и к профессуре, и к студенчеству — проявлялась особая бдительность. Судя по всему, там действовала отлаженная система всеобщего контроля за состоянием умов. Малейшее отклонение от официальной позиции, попытка что-то не принять на веру были чреваты в лучшем случае разбором на комсомольском или партийном собрании.
Доходили до нас отголоски и новой волны чистки среди университетской профессуры. Абсурдность обвинений была порой настолько очевидна, что вынуждала власти предержащие отступать. Например, профессора С.В.Юшкова, крупнейшего ученого, всю жизнь посвятившего изучению Киевской Руси, зачислили в… «безродные космополиты»!
На заседании Ученого совета, где Юшкова подвергли проработке, он в расстроенных чувствах поднялся на трибуну и, вместо того чтобы развернуть контраргументацию в свою защиту, произнес только одну фразу: «Посмотрите на меня!» Серафим Владимирович стоял перед аудиторией в своей рубахе-толстовке, подпоясанной шнурком, держа в руках поношенную соломенную шляпу, как бы олицетворяя всем обликом своим старого добропорядочного русского интеллигента.
По залу прокатился смех. Вместо разбирательства туманных псевдонаучных обвинений здравый смысл подсказал разгоряченному собранию простой вопрос: «Мы что, с ума сошли, какой же это космополит?» Проработка Юшкова была сразу же прекращена.
Мы любили лекции Серафима Владимировича. Это были даже не лекции, скорее, беседы в гостиной, увлекательные рассказы о далеких временах, о жизни наших предков. Предметом своим профессор Юшков владел блестяще. Но мы не раз и по отношению к нему допускали своего рода идеологические розыгрыши, вроде такого — а почему, уважаемый профессор, вы избегаете в своих лекциях ссылок на классиков марксизма-ленинизма? И тогда он лихорадочно открывал громоздкий и весьма вместительный портфель, извлекал из него одну из своих книг и, надев очки, искал соответствующие высказывания.
Я погрешил бы перед истиной, если бы стал утверждать, что массированная идеологическая обработка, которой подвергались питомцы университета, не затрагивала нашего сознания. Мы были детьми своего времени. Если некоторая часть профессуры, как мне сегодня кажется, вынужденно следовала «правилам игры», то мы, студенты, принимали многие положения изучаемых дисциплин как данность, искренне и убежденно.
Система образования, казалось, делала все, чтобы предупредить овладение критическим методом мышления. Но вопреки ей само накопление полученных знаний подводило — где-то на третьем курсе — к этапу, когда мы начинали всерьез задумываться над тем, что вроде бы уже было изучено и усвоено.
Кто-то из современных читателей, прежде всего из числа молодых соотечественников, возможно, поморщится, прочитав, что первыми авторами, заставившими меня усомниться в непреложности преподносимых нам «истин в последней инстанции», были К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин. Но это так. И вот почему.
Несмотря на всю (иногда чрезмерную) полемическую остроту, их труды содержали обстоятельный разбор положений оппонента, систему контраргументов, обоснование выводов, что явно контрастировало с «дискуссионными» приемами Сталина, имевшего склонность заменять аргументацию бранью, в лучшем случае провозглашением непреложных истин. И, наверное, главное: чем больше я вчитывался в «классиков», тем больше задумывался над соответствием их представлений о социализме нашей реальной действительности.
В 1952 году я вступил в партию. Накануне передо мной встала проблема: что писать в анкете о своих репрессированных дедах? Хотя дед Пантелей судим не был, но 14 месяцев отсидел. Да и деда Андрея высылали в Сибирь без всякого суда. При вступлении в кандидаты это никого не волновало — земляки знали обо мне все. Написал письмо отцу, ведь ему при приеме в партию уже пришлось отвечать на такой же вопрос. Когда летом мы встретились, отец сказал:
— Ничего я не писал. Не было у нас этого на фронте, когда в партию перед боем принимали. На смерть шли. Вот и весь ответ.
Ну а мне, сыну его, пришлось в парткоме, а потом в Ленинском РК КПСС долго объяснять всю историю моих предков.
Постепенное интеллектуальное возмужание, стремление к осмыслению происходящего в жизни делали невыносимым схоластическое, начетническое отношение к учебному процессу, чем грешили некоторые преподаватели, видевшие в студентах лишь объект идеологического натаскивания. Было в этом что-то оскорбительное, унижающее человеческое достоинство.
Помню, осенью 1952 года, после выхода в свет работы Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», один из преподавателей не нашел ничего лучшего, как зачитывать нам на лекции одну страницу за другой из этого труда. Я не выдержал и послал ему записку, смысл которой сводился к тому, что с книгой мы знакомы, а ее механическое зачитывание на лекции свидетельствует о неуважении к аудитории.
Реакция была незамедлительной. Разгневанный наставник высказался в том духе, что некоторые смельчаки, которые боятся свою подпись поставить, возомнили, что уже освоили «все богатство положений и выводов, содержащихся в произведении товарища Сталина».
Я встал и сказал, что авторство записки принадлежит мне. И началось… Информация об этом инциденте прошла по комсомольским и партийным организациям, дошла до Московского горкома партии. А я был в то время заместителем секретаря комсомольской организации факультета по идеологии (секретарем был Борис Спиридонов, позже ставший секретарем парткома МГУ). Последовало разбирательство, но в конце концов вопрос был замят: кажется, опять помогло «рабоче-крестьянское происхождение».
Повседневная действительность вторгалась в учебный процесс, заметно корректируя наши книжные представления и о «самом справедливом строе», и о «нерушимой дружбе народов». Глубоко отложился в памяти эпизод, относящийся к зиме 1952/53 года, когда общество потрясло «дело врачей», послужившее поводом для разнузданных антисемитских выходок, огульных обвинений евреев в предательстве.
Мой приятель Володя Либерман, за плечами которого были тяжкие фронтовые годы, однажды не пришел к первой лекции. Появился он лишь несколько часов спустя. Никогда прежде не видел я его в таком удрученном, подавленном состоянии. На нем буквально лица не было. «В чем дело?» — спросил я. Он не мог сдержать слез. Выяснилось, что улюлюкающая публика, обдав бывшего фронтовика градом оскорблений и ругательств, выбросила его из трамвая. Я был потрясен.
Много лет спустя, в тяжелые для меня дни декабря 1991 года, произошла у меня встреча с писателем Беляевым — студентом МГУ того же времени. Вспомнили и эти эпизоды. И тогда мой собеседник сказал, что в те годы Горбачева считали, пользуясь современным языком, чуть ли не «диссидентом» за его радикализм. Но, конечно, никаким диссидентом я не был, хотя критическое отношение к происходящему уже «входило» в меня.
Летом 1953 года, в промежутке между сессией в МГУ и работой в МТС, я проходил юридическую практику в нашей районной прокуратуре в Ставрополье. Тогда впервые столкнулся с довольно типичным для той поры «руководящим районным звеном». И смотрел на вещи и на нравы начальства своего родного района иначе, чем раньше.
Раиса Максимовна в своей книге «Я надеюсь…» опубликовала одно из моих писем тех дней: «…Угнетает меня здешняя обстановка. И это особенно остро чувствую всякий раз, когда получаю письмо от тебя. Оно приносит столько хорошего, дорогого, близкого, понятного. И тем более сильнее чувствуешь отвратительность окружающего… Особенно — быта районной верхушки. Условности, субординация, предопределенность всякого исхода, чиновничья откровенная наглость, чванливость… Смотришь на какого-нибудь здешнего начальника — ничего выдающегося, кроме живота. А какой апломб, самоуверенность, снисходительно-покровительственный тон!» В душе уже зрел протест.
Смерть Сталина
И все-таки диссидентом я не был… Морозное утро 5 марта 1953 года. В аудитории № 16, где обычно читались общекурсовые лекции, — мертвая тишина. Входит преподаватель и трагическим голосом, сквозь слезы сообщает о последовавшей на 74-м году безвременной кончине… Среди студентов были люди из числа тех, чьи родственники пострадали от репрессий, кто тогда уже — в той или иной мере — осознавал тоталитарную сущность режима. Однако основная масса студенчества глубоко и искренне переживала эту смерть, воспринимая ее как трагедию для страны. Примерно такое чувство, не буду кривить душой, охватило тогда и меня.
Свое выпускное сочинение в школе я писал на тему «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет». Получил высшую оценку, и потом еще несколько лет оно демонстрировалось выпускникам — как эталон. А я ведь знал реальную жизнь и кое-что из того, что творилось в годы его правления.
Недавно прочитал письмо академика Андрея Дмитриевича Сахарова, относящееся к этим мартовским дням 1953 года: «Нахожусь под впечатлением смерти Великого Человека. Думаю о его человечности…» Значит, не одному мне это было свойственно.
В те дни, казалось, не было задачи более важной, чем проститься со Сталиным. Мы пошли с группой сокурсников. Медленно, с трудом продвигались целый день, часами стоя на одном месте. Успешно обошли переулками Трубную площадь, где произошла страшная давка, стоившая жизни многим участникам скорбного похода. Квартал за кварталом двигались целую ночь. Наконец дошли до гроба.
Раньше во время праздничных демонстраций мне не приходилось даже издали видеть Сталина. Теперь в Колонном зале впервые увидел его вблизи… мертвым. Окаменевшее, восковое, лишенное признаков жизни лицо. Глазами ищу на нем следы величия, но что-то из увиденного мешает мне, рождает смешанные чувства.
«Что будет с нами?» — таков, разумеется, был главный вопрос, который в мартовские дни 1953 года вставал перед всеми, независимо от отношения к Сталину. Вопрос был неизбежен, ибо усопший олицетворял собой всю систему.
«Оттепель»
Вскоре появились первые симптомы перемен. Было прекращено «дело врачей». Летом, находясь на Ставрополье, узнал об аресте Берии. В «Правде», а затем в других газетах стали появляться статьи о «культе личности» (правда, пока безадресно), о его несовместимости с марксизмом-ленинизмом. Обозначилась «оттепель» в сфере культуры. Все это, конечно, не могло не отозваться в университетской среде. Все более интересными становились лекции, живее шли семинарские занятия, работа студенческих кружков. «Оттепель» затронула деятельность наших общественных организаций.
Политические кампании «позднего сталинизма», о которых я уже упоминал, глубоко травмировали психологию определенной части старшекурсников-фронтовиков, руками которых в значительной мере эти кампании и проводились. Их влияние стало заметно падать.
Помню трехдневное собрание по «делу группы Лебедева» — секретаря партбюро юридического факультета. Окружив себя «доверенными» и «приближенными», Валентин Лебедев фактически узурпировал на факультете всю власть, подмял и партбюро, и деканат. Он влиял на состав преподавателей, вмешивался во все стороны жизни и быта факультета. После жарких трехдневных дебатов сняли его с треском. Определились свои лидеры и на нашем курсе, причем это были уже не москвичи, главенствовавшие в первые годы моей учебы, а «периферия».
В последние два года учебы атмосфера в университете начала меняться. Вначале с опаской, постепенно все более свободно высказывались сомнения в правильности «устоявшейся» трактовки тех или иных исторических событий, да и некоторых явлений современной политической жизни. Конечно, до открытого плюрализма мнений было еще очень и очень далеко. Руководящие партийные и иные органы хотя и ослабили идеологические вожжи, но выпускать их из своих рук отнюдь не собирались.
Встреча
Годы учебы в университете были для меня не только необычайно интересными, но и достаточно напряженными. Аудиторные и самостоятельные занятия чуть ли не ежедневно занимали минимум 12–14 часов. Приходилось восполнять пробелы сельской школы, которые давали о себе знать — особенно на первых курсах, а отсутствием самолюбия я, честно говоря, никогда не страдал. Все новое воспринималось мною довольно быстро, но закрепление знаний требовало штудирования широкого круга дополнительной литературы. Этим, кстати, обучение в университете и отличалось от учебы во многих других вузах.
Человек я общительный, с однокурсниками, да и со многими студентами факультета, как того требовали комсомольские обязанности, поддерживал товарищеские отношения. Образовался и сравнительно узкий круг друзей. Это — Юра Топилин, Валерий Шапко, Василий Зубков, Володя Либерман, Зденек Млынарж, Рудольф Колчанов, Леня Таравердиев, Виктор Вишняков, Володя Лихачев, Наташа Боровкова, Надя Михалева, Лия Александрова, Саша Филипов, Люся Росслова, Элла Киреева, Валя Рылова, Галя Данюшевская, Володя Кузьмин-большой. С ними и с теми, кого я просто не смог здесь назвать, я входил в незнакомый огромный мир столицы.
Вместе бывали мы в театрах и кино, на концертах и художественных выставках. Часто вместе готовились к занятиям и экзаменам.
Московский университет был не только средоточием людей разного образа мыслей, разного жизненного опыта, национальностей. Здесь происходило скрещение человеческих судеб, иной раз мимолетное, но нередко — на долгие годы. И был центр, где чаще всего случались такого рода встречи, — это наш студенческий клуб на Стромынке.
Скромное приземистое здание, кажется, бывшая солдатская казарма, стало для нас очагом подлинной культуры. Сюда приезжали знаменитые певцы и актеры — Лемешев, Козловский, Обухова, Яншин, Марецкая, Мордвинов. Цвет театральной Москвы. Сами актеры рассматривали свои выступления как обязанность прививать молодежи чувство прекрасного. Это было замечательной, уходящей в дореволюционную эпоху традицией художественной интеллигенции, к сожалению, сегодня почти утраченной. И нас, студентов из «разных городов и весей», такие встречи действительно приобщали к настоящему искусству.
Работали в клубе, как я уже говорил, и многочисленные кружки, начиная с домоводства, где могли научить жарить яичницу и перелицевать старое платье или брюки, кончая кружком бальных танцев, увлечение которыми было в те годы чуть ли не повальным. Время от времени в стенах клуба устраивались танцевальные вечера. Я бывал там довольно редко — предпочитал книги. Но друзья мои по курсу заглядывали туда частенько, а потом бурно обсуждали достоинства своих партнерш.
В тот вечер я сидел над какой-то книгой, когда в комнату заглянули Володя Либерман и Юра Топилин…
— Миша, — говорят, — там такая девчонка! Новенькая! Пошли!
— Ладно, — отвечаю, — идите, догоню…
Ребята ушли, я попробовал продолжить занятия, но любопытство пересилило. И я пошел в клуб. Пошел, не зная того сам, навстречу своей судьбе.
Уже от дверей зала увидел длинного, но как всегда по-военному подтянутого Топилина, танцевавшего с незнакомой девушкой. Музыка смолкла. Я подошел к ним, и мы познакомились.
Раиса Титаренко училась на философском факультете, который помещался в том же здании, что и юридический, жила в общежитии на той же Стромынке, и как я не увидел ее раньше — не могу понять.
Попав в Москву, я твердо решил, что все пять лет пребывания в МГУ будут отданы только учебе. Никаких «амуров». И надо отдать должное сокурсницам, они довольно быстро интуитивно почувствовали это, во всяком случае, к разряду «женихов» не относили. Да и я был абсолютно уверен в том, что выстою. И вот…
С этой встречи для меня начались мучительные и счастливые дни.
Мне показалось тогда, что первое наше знакомство не вызвало у Раи никаких эмоций. Она отнеслась к нему спокойно и равнодушно. Это было видно по ее глазам. Я искал новой встречи, и однажды все тот же Юра Топилин пригласил девушек из комнаты, где жила Рая, к нам в гости. Мы угощали их чаем, говорили обо всем, как всегда в таких случаях, несколько возбужденно. Я очень хотел «произвести впечатление» и, по-моему, выглядел ужасно глупо. Она оставалась сдержанной и первой предложила расходиться…
Вновь и вновь я старался с ней встретиться, завязать разговор. Но шли недели, месяц, другой. Лишь в декабре 1951 года такой случай наконец представился. Как-то вечером, закончив занятия, я отправился в клуб. Там происходила очередная встреча с деятелями культуры, зал был заполнен до отказа. Объявили короткий перерыв, и, выискивая знакомых, я пошел по проходу к сцене. Продвигаясь вперед, скорее почувствовал, прежде чем увидел, что на меня кто-то смотрит. Я поздоровался с Раисой, сказал, что ищу свободное место.
— Я как раз ухожу, — ответила она, поднимаясь, — мне здесь не очень интересно.
Мне показалось, что с ней происходит что-то неладное, и я предложил пойти вместе. Она не возражала, и мы вдвоем вышли из клуба. Побродили по общежитию, разговаривая о том о сем. По студенческим меркам было еще рановато — около десяти часов, и я пригласил ее погулять по городу. Раиса согласилась, через несколько минут мы встретились и направились по Стромынке в сторону Клуба имени Русакова.
Гуляли долго, говорили о многом, но более всего о предстоящих экзаменах и студенческих делах. На следующий день встретились снова и скоро все свободное время стали проводить вместе. Все остальное в моей жизни как бы отошло на второй план. Откровенно говоря, и учебу-то в эти недели забросил, хотя зачеты и экзамены сдал успешно. Все чаще стал я посещать комнату общежития, где жила Рая, познакомился и с ее подругами и их друзьями — Мерабом Мамардашвили и Юрием Левадой (первый позднее стал известным философом, второй — столь же известным социологом). Собеседники они были интересные, но я интуитивно чувствовал, что Рае, как и мне, гораздо больше нравилось быть вдвоем. Поэтому предпочтение отдавали не «посиделкам», а прогулкам по улицам.
Но в один из зимних дней произошло неожиданное. Как обычно, мы встретились после занятий во дворике МГУ на Моховой. Решили на Стромынку идти пешком. Но всю дорогу Рая больше молчала, нехотя отвечала на мои вопросы. Я почувствовал что-то неладное и спросил прямо, что с ней. И услышал: «Нам не надо встречаться. Мне все это время было хорошо. Я снова вернулась к жизни. Тяжело перенесла разрыв с человеком, в которого верила. Благодарна тебе. Но я не вынесу еще раз подобное. Лучше всего прервать наши отношения сейчас, пока не поздно…»
Мы долго шли молча. Уже подходя к Стромынке, я сказал Рае, что просьбу ее выполнить не могу, для меня это было бы просто катастрофой. Это и стало признанием в моих чувствах к ней.
Вошли в общежитие, проводил Раю до комнаты и, расставаясь, сказал, что буду ждать ее на том же самом месте, во дворике у здания МГУ, через два дня.
— Нам не надо встречаться, — опять решительно сказала Рая.
— Я буду ждать.
И через два дня мы встретились.
Мы снова все свободное время проводили вдвоем. Бродили по московским бульварам, делились сокровенными мыслями, с удивлением и радостью находили друг в друге все то, что нас сближало.
В июне 1952 года, в одну из белых ночей, мы проговорили в садике общежития на Стромынке до утра. В ту июньскую ночь, может быть, до конца поняли: мы не можем и не должны расставаться. Жизнь показала: друг в друге мы не ошиблись.
Через год решили пожениться. Но вставали обычные в таких случаях вопросы: где будем жить, что скажут родители о «студенческом браке», а главное, на какие средства будут существовать молодожены? На две мизерные стипендии, на помощь (скорее символическую) из дома?
На отдельную комнату в общежитии на Стромынке рассчитывать не приходилось. Но молодость есть молодость. После окончания третьего курса поехал в родные края, сообщил родителям о своем решении, отработал весь сезон механизатором на машинно-тракторной станции. Трудился более чем усердно. Отец посмеивался: «новый стимул появился».
Перед отъездом в Москву продали мы с отцом девять центнеров зерна, и вместе с денежной оплатой получилась почти тысяча рублей — сумма по тем временам значительная, раньше я таких денег и в руках не держал. Так что материальная база под наши «семейные» планы была подведена.
В Москву приехал раньше на несколько дней, чтобы встретить Раю, ездившую на каникулы к родителям. Во время одной из первых совместных прогулок мы проходили мимо Сокольнического ЗАГСа. Я предложил: «Давай зайдем!»
Зашли, выяснил, какие документы необходимы для оформления брака. А 25 сентября 1953 года мы вновь переступили порог этого почтенного учреждения, где и получили за номером РВ 047489 свидетельство о том, что гражданин Горбачев Михаил Сергеевич, 1931 года рождения, и гражданка Титаренко Раиса Максимовна, 1932 года рождения, вступили в законный брак, что соответствующими подписями и печатью удостоверялось. Получилось несколько прозаично, но быстро.
В нашем семейном «фольклоре» сохранилась память о том, что именно в те дни Раисе приснился сон.
Будто мы — она и я — на дне глубокого, темного колодца, и только где-то там, высоко наверху, пробивается свет. Мы карабкаемся по срубу, помогая друг другу. Руки поранены, кровоточат. Невыносимая боль. Раиса срывается вниз, но я подхватываю ее, и мы снова медленно поднимаемся вверх. Наконец, совершенно обессилев, выбираемся из этой черной дыры. Перед нами прямая, чистая, светлая, окаймленная лесом дорога. Впереди на линии горизонта — огромное, яркое солнце, и дорога как будто вливается в него, растворяется в нем. Мы идем навстречу солнцу. И вдруг… С обеих сторон дороги перед нами стали падать черные страшные тени. Что это? В ответ лес гудит: «враги, враги, враги». Сердце сжимается… Взявшись за руки, мы продолжаем идти по дороге к горизонту, к солнцу…
Студенческая свадьба
Свадьбу сыграли немного позже — 7 ноября, в день революционной годовщины. К этому сроку на деньги, заработанные летом, в ателье на Кировской из итальянского крепа Райчонке сшили красивое платье. Выглядела она в нем просто потрясающе. Мне пошили первый в моей жизни костюм из дорогого материала, который назывался «Ударник». Так что к торжеству мы были готовы. Вот только на белые туфли невесте денег уже не хватило. Пришлось брать взаймы у подруги.
Праздновали свадьбу в диетической столовой на той же Стромынке. Собрались наши друзья-сокурсники. Стол был студенческий — преобладал неизменный винегрет. Пили шампанское и «Столичную». Тост следовал за тостом. Зденек умудрился посадить на свой роскошный «заграничный» костюм здоровенное масляное пятно. Было шумно и весело. Много танцевали. Получилась настоящая студенческая свадьба. Так что, как поется в песне, милой сердцу российских революционеров, «нас венчали не в церкви»…
Начался несколько «странный» период нашей семейной жизни. Почти целый день вместе, а поздно вечером каждый уходил в свою стромынскую густонаселенную «нору». Отдельные комнаты получили мы лишь осенью, когда переехали в общежитие на Ленинских горах, где разместили студентов естественных факультетов и старшекурсников — гуманитарных.
Получить отдельную «семейную» комнату не удалось. Наоборот. Беспокоясь о нашей нравственности, ректорат реализовал уникальный вариант размещения студентов. Все общежитие поделили на две части: мужскую и женскую. Раю поселили в «Зоне Г», а меня в «Зоне В». Вход в ту и другую «зону» ограничивался строгой системой пропусков. С трудом удалось добиться разрешения на ежедневные посещения. Причем каждый раз я носил с собой паспорт с отметкой о регистрации брака. Но и это никак не помогало: ровно в 11 часов вечера у Раисы в комнате раздавался пронзительный телефонный звонок дежурной по этажу: «у вас посторонний».
Но пришел декабрь 1953-го, собралась первая после смерти Сталина университетская комсомольская конференция, и мы, делегаты-студенты, устроили членам ректората нещадный разнос за их ханжество. По ходу конференции выпускались сатирические плакаты по фактам жизни университета. И вот на одном из них (длиною в 4–5 метров) нога ректора, а под его ботинком свидетельство о браке.
Выступление комсомола было резким и решительным. Все было пересмотрено и изменено. Студенты стали жить по факультетам. Восстановилось нормальное общение. Жизнь вошла в естественное русло. Теперь уже у нас случались и семейные завтраки и ужины, а то и обеды. К нам заглядывали приятели. В общем, мы были счастливы, и я уже начинал себя чувствовать настоящим семьянином.
Летом 1954 года мы с Раисой поехали на Ставрополье. Мне казалось, что родители мой выбор примут с восторгом. Но у родителей (как я это понял потом, став отцом) существуют всегда свои представления о «выборе.». Отец отнесся к Раисе с любовью, кстати, как и бабушка Василиса, мать — настороженно, ревниво. И что-то от этого первого знакомства осталось навсегда. Иными словами, «сентиментального путешествия» явно не получилось.
Сходили на могилу деда Пантелея. Скончался он поздней осенью 1953 года. В день его похорон шел проливной холодный осенний дождь. И все же проводить деда в последний путь вышли все жители села. Долго стоял я над дорогой могилой, думая о тяжкой судьбе, выпавшей на его долю, судьбе тысяч таких же, как он.
Учеба наша в университете близилась к концу. На последнем курсе я проходил практику в Москворецком районном народном суде и Киевском райисполкоме Москвы. Запомнилось и произвело большое впечатление одно из дел, слушавшихся в те дни в суде: о жестоком преступлении группы молодых людей, имевшем самые тяжкие последствия. Разбирательство шло долго, и оно стало для меня и моих коллег настоящей школой. В памяти осталось резкое противостояние сторон — обвинения и защиты. Худощавый, более чем скромно одетый, весь напряженный прокурор и целая группа респектабельных, самоуверенных адвокатов. Не скрою, я был всецело на стороне прокурора, адвокатам — не верил. Но как они умело вели защиту!
Пожалуй, наиболее интересным для меня было знакомство с деятельностью Киевского райсовета и его исполкома. Во-первых, там собрал часть материалов для написания дипломной работы на тему: «Участие масс в управлении государством на примере местных Советов». Во-вторых, я получил возможность хоть в какой-то мере сопоставить свои знания по вопросам советского строительства с жизнью и деятельностью одного из столичных Советов. И наконец, мне хотелось попробовать силы в деле — ведь в районном суде нам отводилась лишь роль наблюдателей.
Дипломную работу я подготовил в срок. Защита прошла успешно. Оценка — «отлично». Немалая часть работы была посвящена показу (со ссылкой на Киевский райсовет) преимуществ социалистической демократии над буржуазной.
Хотя до осознания общечеловеческого содержания основных демократических принципов было еще очень и очень далеко, в студенческой среде упрощенное изображение пропагандой черно-белой картины мира вызывало определенное сомнение. Неожиданный импульс на этот счет я получил в июньские дни 1955 года, когда Москву посетил Джавахарлал Неру. Я присутствовал на его встрече с преподавателями и студентами в актовом зале университета на Ленинских горах. Этот удивительный человек с благородной осанкой, умными, проницательными глазами и доброй обезоруживающей улыбкой произвел на меня сильное впечатление. Запомнились его теплые слова в адрес нашей alma mater, выраженная им надежда, что университет будет выпускать юношей и девушек, «великих умом и сердцем», которые станут «носителями доброй воли и мира».
Индийский гость связывал вопрос о мире с сохранением и прогрессом всей человеческой цивилизации, с использованием новейших научных и технических знаний на благо всего человечества, устранением всех преград и барьеров, мешающих росту нашего сознания и духа.
Для людей, воспитанных на «классовом подходе» к событиям и явлениям прошлого, настоящего и будущего, эти слова звучали по меньшей мере непривычно, они будоражили сознание. Много лет спустя, в декабре 1986 года, я вспоминал их, когда ставил свою подпись рядом с подписью внука Неру — премьер-министра Индии Раджива Ганди под Делийской декларацией о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира.
Что впереди?
Пять лет учебы прошли. Для выпускников наступали самые беспокойные дни — распределение на работу. Исход его, по существу, мог определить весь дальнейший жизненный путь.
У Раисы Максимовны все это было позади. Окончив университет на год раньше, она поступила в аспирантуру, сдала кандидатские экзамены, работала над диссертацией, и будущее сулило ей научную карьеру в столице.
Мне тоже сделали предложение — пойти в аспирантуру по кафедре колхозного права, но принять его я не мог по принципиальным соображениям. С так называемым «колхозным правом» мои отношения были выяснены до конца. Я считал эту дисциплину абсолютно ненаучной.
Впрочем, за будущее не волновался. Как секретарь комсомольской организации я входил в состав комиссии по распределению и знал, что судьба моя уже решена. В числе других 12 выпускников (11 из них были фронтовиками) меня направляли в Прокуратуру СССР.
Началась реабилитация жертв сталинских репрессий, и нас предполагалось использовать во вновь образованных отделах по прокурорскому надзору за законностью прохождения дел в органах госбезопасности. Бороться за торжество справедливости — так представлял я себе будущую работу, и это вполне соответствовало моим политическим и нравственным убеждениям.
30 июня сдал последний экзамен. Вернувшись в общежитие, обнаружил в почтовом ящике официальное письмо, приглашавшее меня на место будущей службы — в Прокуратуру СССР. Ехал я туда в приподнятом настроении. Ожидал разговора о моих новых обязанностях, формулировал свои предложения. Но когда, возбужденный и улыбающийся, переступил порог кабинета, указанного в письме, я услышал от сидевшего там чиновника лишь сухое, казенное уведомление: «Использовать вас для работы в органах Прокуратуры СССР не представляется возможным».
Оказалось, правительство приняло закрытое постановление, категорически запрещавшее привлекать к деятельности центральных органов правосудия выпускников юридических вузов. Объяснялось это тем, что среди многих причин разгула массовых репрессий в 30-е годы была якобы и такая: слишком много «зеленой» молодежи, не имевшей ни профессионального, ни жизненного опыта, вершило тогда судьбы людей. И именно я, выросший в семье, подвергавшейся репрессиям, стал, как это ни парадоксально звучит, невольной жертвой «борьбы за восстановление социалистической законности».
Это был удар по всем моим планам. Они рухнули в течение одной минуты. Конечно, я мог бы отыскать какое-то теплое местечко в самом университете, чтобы зацепиться за Москву. И друзья мои уже перебирали варианты. Но не было у меня такого желания.
Мне предлагали работу в прокуратуре Томска, Благовещенска, потом в республиканской прокуратуре Таджикистана, наконец, должность помощника прокурора города с предоставлением жилья в Ступино, совсем недалеко от столицы. Размышляли мы с Раисой Максимовной над этими предложениями недолго. Зачем ехать в незнакомые места, искать счастья в чужих краях? Ведь и сибирские морозы, и летний зной Средней Азии — все это в избытке на Ставрополье.
Решение было принято. И вот в официальном направлении, где значилось: «в распоряжение Прокуратуры СССР», вычеркнули «СССР» и поверх строки дописали — «Ставропольского края».
Итак, домой, обратно в Ставрополь. Предварительно решили съездить к родителям Раисы Максимовны. Надо было «замаливать грехи».
Встретили нас соответственно: не то чтобы недоброжелательно, но обиды своей не скрывали — ведь мы сообщили им о нашей женитьбе лишь постфактум. Сегодня, как отец, я это вполне понимаю. А тут мы еще добавили и новую весть — московская аспирантура дочери срывается, увожу я ее в неизвестность, в какую-то ставропольскую «дыру».
С младшим поколением семьи, братом и сестрой Раисы Максимовны — Женей и Людой, которая как раз окончила 10-й класс, — все было в порядке, сразу же возникла взаимная симпатия. С родителями было сложнее. Отец держал себя более спокойно, а вот с матерью, Александрой Петровной, сначала не получалось. Это у нас потом сложились добрые и сердечные отношения. Особенно подружились наши отцы — Максим Андреевич и Сергей Андреевич.
Оставив на месяц Раису Максимовну у родителей, я вернулся в Москву. Последние дни июля заняла подготовка к отъезду. Все наши веши были уложены в два чемодана. А вот для главного груза — книг — раздобыл огромный ящик, набил его доверху, на грузовом такси отвез на вокзал и отправил в Ставрополь «малой скоростью» — так дешевле.
В ночь должен был отправиться и я сам. Вернулся в общежитие. Принял душ. Лег на кровать, закрыл глаза и, наверное, впервые задумался над вопросом, к которому впоследствии обращался неоднократно: что значил в моей жизни Московский университет?
Для меня было ясно, что тот «рабоче-крестьянский» парень, который летом 1950 года впервые переступил порог здания на Моховой, и выпускник МГУ, который спустя пять лет готовился к отъезду в Ставрополь, были уже во многом разными людьми.
Конечно, семья дала важнейший нравственный импульс моему становлению как личности и гражданина. Конечно, дальнейшему моему формированию во многом способствовали школа и учителя. Я благодарен и своим старшим товарищам — механизаторам, которые научили меня работать и помогли осознать систему ценностей человека труда. И все-таки именно Московский университет дал основательные знания и духовный заряд, определившие мой жизненный выбор. Именно здесь начался длительный, растянувшийся на годы процесс переосмысления истории страны, ее настоящего и будущего. Твердо могу сказать: без этих пяти лет Горбачев-политик не состоялся бы.
Заданная университетом интеллектуальная высота надолго избавила меня от самомнения и самоуверенности. Она помогла мне выстоять в самые трудные дни последующей жизни, когда жизненная среда моя, сфера общения стала совершенно другой, где ценилась не интеллигентность, а совсем иные «добродетели».
Читая биографические повести и романы, я обратил внимание на то, что некоторые их герои ужасно гордились испытаниями, которые выпали на их долю. Своими «университетами» они считали саму жизнь. В моей жизни было разное, хватало и невзгод. Но все-таки я считаю, что университет за моими плечами только один — это Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.
Глава 4. Проба сил
Провинциальный город
В Ставрополе меня никто не встречал. Вещи оставил на вокзале в камере хранения и пошел искать пристанище. Город знал плохо, бывал в нем до этого лишь наездами. Нашел гостиницу, называлась она «Эльбрус». В ней я и расположился. Уплатил за койку и пошел бродить по улицам.
Город поразил меня роскошной зеленью и своим классически провинциальным обликом. Редко трех-четырехэтажные, в основном одно- и двухэтажные дома, облепленные пристройками и надстройками той самой непонятной архитектуры, которая характерна для многих городков российской глубинки. Над каждым домом труба как свидетельство отсутствия централизованного отопления. Потом я узнал, что в городе нет и централизованного водоснабжения, и канализации.
Центр расположен на возвышенной части. Там же — остатки старой крепостной стены. Рассказывали, что до войны здесь же стоял великолепный старый собор, но в 1942 году, когда нависла угроза оккупации, его взорвали. Огромную часть старого города до 60-х годов занимали центральная площадь и Верхний рынок, куда съезжались торговать сельскохозяйственной продукцией со всего края и соседних областей.
По периметру площади уникальные здания, составляющие местную достопримечательность: бывшая гимназия, где учился Герман Лопатин — яркая, крупная личность, первый переводчик «Капитала» Маркса на русский язык; бывший Институт благородных девиц (ныне Педагогический институт); приземистый, будто пришитый к земле одноэтажный дом, где когда-то «стоял» командующий Кавказскими войсками; здание бывшего Дворянского собрания (Дом офицеров); Драматический театр (первый на Кавказе) и дом губернатора, в котором разместился крайком партии. На спуске к прудам стоит искореженный временем 700-летний дуб. Из поколения в поколение передавалось, якобы это было одно из любимейших мест М.Ю.Лермонтова. И вспомнилось мне его стихотворение «Выхожу один я на дорогу…». В конце звучит тема, возможно, навеянная встречами со ставропольским дубом.
От центра вниз, на восток, тянулся широкий проспект, заканчивавшийся когда-то крепостными воротами. Назывались они Тифлисскими. Дорога на Тифлис… И, наконец, еще одна запоминающаяся местная «достопримечательность» — огромная лужа у здания пединститута. В общем, точная картина провинциального города, описанная Гоголем.
Рядом с гостиницей «Эльбрус» располагался Нижний рынок. Поражал он своей грязью и баснословной дешевизной овощей и фруктов. За копейки можно было купить целую кучу помидоров. Но деньги я расходовал экономно, берег для другого — необходимо было к приезду Раисы снять хоть какое-нибудь жилье.
С пятого августа началась моя стажировка в краевой прокуратуре. По вечерам бродил по городу в поисках жилья. Прошел день, второй, заходил в десятки домов, но каждый раз неудача. Наконец коллеги по работе посоветовали: обратись к маклерам. Прокуратура и милиция вели с ними отчаянную борьбу и многих держали на учете. Дали адрес опытного маклера, женщины, — улица Ипатова, 26 (такие «важные» сведения врезаются в память). Пришел, и она сразу поняла, что явился не для «борьбы», а за помощью. Взяла с меня 50 рублей и дала адреса трех домов. Один из них — на улице Казанской — и стал нашим жильем на ближайшие годы.
В доме жили симпатичные интеллигентные супруги-учителя, вышедшие на пенсию, их дочь и зять — Люба и Володя. Потом появился и внук — назвали Анатолием. Хозяева сдали мне одиннадцатиметровую комнатку, одну треть которой занимала печь. Из трех небольших окон открывался вид на прекрасный старый сад. Правда, сами окна приходилось закрывать с большим трудом — настолько все перекосилось. Из мебели — длинная, узкая железная кровать с сеткой, провисавшей чуть ли не до самого пола. Да и вся комнатка была запущена до крайности, но лучшего выбора по моим деньгам, видимо, не существовало. С хозяевами договорились, что буду платить за комнату 250 рублей в месяц[5]. О дровах, угле, керосине должны сами заботиться. В центре комнаты, в качестве стола и шкафа для книг одновременно, я поставил тот самый фанерный ящик, который хоть и «малой скоростью», но прибыл в целости из Москвы. Соорудил вешалку для одежды. А перед самым приездом Раисы Максимовны купил два стула. На этом меблировка была завершена.
Разрыв с прокуратурой
Бесцеремонность, проявленная работниками Прокуратуры СССР, безразличие к моей семейной ситуации и вся история с моим распределением зародили у меня серьезные сомнения относительно работы по специальности. Не развеяла их и стажировка в Ставрополе. И я принял решение порвать с прокуратурой.
Вступил в контакт с крайкомом комсомола. Встретил знакомых, помнивших меня по прежним временам. Поделился своими мыслями. Значок Московского университета и рассказ о моей общественной деятельности на юридическом факультете, видимо, произвели впечатление. Через несколько дней я был приглашен на беседу к первому секретарю крайкома комсомола Виктору Мироненко: познакомились, поговорили, и я принял предложение перейти на работу в крайком — на должность заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды.
Кажется, все шло хорошо. Но это только на первый взгляд. Как молодой специалист, я должен был прибыть к месту распределения и выполнять ту работу, которая будет поручена. Теперь надо было как-то уладить дела в прокуратуре края. Мою ситуацию облегчало то, что Мироненко вопрос о моем переходе на комсомольскую работу согласовал с крайкомом партии. Но я решил не обходить прокурора края и напросился к нему на разговор. Василий Николаевич Петухов пользовался большим авторитетом, репутацией весьма самостоятельного и принципиального человека. В правоте такой оценки не раз смог убедиться потом, работая в комсомоле.
— Вы вправе решить, отпускать меня или нет. Но я прошу пойти навстречу моему желанию, — этими словами я закончил свое обращение к прокурору края.
Об этой беседе в тот же день написал Раисе Максимовне: «Был длинный неприятный разговор с прокурором края». А на другой день в следующем письме: «Со мной еще раз побеседовали и, обругав кто как хотел, согласились на мой уход в крайком комсомола».
Спустя десятилетия, уже в 80-х годах, я получил от Василия Николаевича две его книги с дарственными надписями и письмо: «Сегодня я с огромным удовлетворением думаю о том, что поступил тогда правильно, не встав на Вашем жизненном пути». Но это было позже, а тогда беседа с Петуховым все-таки оставила в моей душе неприятный осадок.
В комсомоле
В 50-х годах после суровых лет войны и восстановления молодая энергия, живой дух товарищества еще сохранялись в комсомольской среде. Но вся работа в комсомоле держалась на энтузиазме, и не так легко было сделать даже самое простое дело.
Приступив к работе в крайкоме, я старался как можно быстрее войти в курс дела, вникнуть в свои новые обязанности, побывать в местных организациях. Начались мои регулярные поездки по районам Ставрополья. До отдаленных пунктов надо было добираться на поезде или на попутных грузовиках, а внутри районов более всего пешком. С первой же зарплаты (на руки — 840 рублей) пришлось купить кирзовые сапоги, другая обувь просто не подходила в условиях нашего бездорожья.
Еще более трудной в те времена для командировочных была проблема питания. Весь день на ногах, устанешь, проголодаешься, а поесть негде, закусочных, кафе, столовых, просто буфетов — ничего этого не было. Пожалеет, позовет к себе кто-либо из коллег или просто сельчан, угостит — стакан молока, кусок хлеба — и уже хорошо. А когда окажешься в гостях у кого-то из местного начальства, то это уже целое событие.
Еще большая проблема — ночлег. Гостиниц или домов приезжих в большинстве сел не было, разве что в районных центрах. И тут выручали ребята-комсомольцы: либо устраивали к какой-нибудь «тете Мане», либо приглашали в семью.
В каждой поездке завязывались все новые и новые знакомства, делались какие-то открытия. Узнавание людей, узнавание жизни в ее самом натуральном виде стало для меня главным.
В одну из первых своих поездок я оказался на юго-востоке края в селе Горькая Балка Воронцово-Александровского района. Целые дни проводил в мастерских, на фермах, в бригадах — положение ужасающее, бедность и разорение полное. Вечерами засиживались в правлении колхоза, проясняя бесконечное множество проблем. О многом теперь уже и не вспомнишь — сколько лет прошло. Но вот что врезалось в память. В один из дней мы с секретарем комсомольской организации решили добраться до самой отдаленной животноводческой фермы, встретиться с работающей на ней молодежью. С трудом выдирая сапоги из непролазной грязи, шаг за шагом двигались вперед. В какой-то момент, с усилием преодолев подъем, оказались на пригорке, остановились.
Картина, открывшаяся перед нами, была поистине фантастичной. Внизу, в долине, по обе стороны речушки Горькая Балка, раскинувшись километров на двадцать, лежало село. Насколько хватало глаз виднелись хаотично разбросанные низкие мазанки, курившиеся дымком, черные корявые плетни… Где-то там, внутри этих убогих жилищ, шла своя жизнь. Но на улочках (если их можно так назвать) не было ни души. Будто мор прошел по селу и будто не существовало между этими микромирками-хатами никаких контактов и связей. Только лай и перелай собак. И я подумал — вот почему бежит из этого Богом забытого села молодежь. Бежит от заброшенности, от этой жути, от страха быть похороненным заживо.
Я стоял на пригорке и думал: что же это такое, разве можно так жить?
В командировках впечатления буквально захлестывали меня. Хотелось поделиться с близким человеком, и я стал чуть ли не каждый вечер, когда оставался один, писать письма Раисе Максимовне в Ставрополь. Приходили они к ней, как правило, через неделю, а то и дней через десять, нередко уже после моего возвращения. Но иллюзию постоянного общения эта переписка создавала.
Как оказалось, Раиса Максимовна сохранила многие из этих писем 35-летней давности. В книге «Я надеюсь…» она опубликовала отрывки из некоторых. Вот один из них: «…Сколько раз я, бывало, приеду в Привольное, а там идет разговор о 20 рублях: где их взять, при том что отец работает круглый год. Меня просто захлестывает обида. И я не могу (честное слово) удержать слез. В то же время думаешь: а ведь они живут еще неплохо. А как же другие? Очень много надо еще сделать. Как наши родители, так и тысячи таких же заслуживают лучшей жизни».
Люди заслуживают лучшей жизни — это то, что все больше волновало меня.
А жизнь шла своим чередом. Командировки следовали одна за другой — и по делам молодежным, и с поручениями крайкома партии. Выступал много и на самые разные темы.
Собирались дружно и слушали с вниманием, и дело заключалось не столько в моих ораторских дарованиях. Села в то время большей частью были не электрифицированы и не радиофицированы, о телевидении слыхом не слыхивали, газеты приходили с большим опозданием, книг недоставало. Поэтому, как только объявляли, что приехал лектор из «центра», люди шли в клуб. Радовались общению, устраивались на лавках поудобнее, в задних рядах потихоньку грызли семечки и готовы были сидеть и слушать хоть до утра.
Но постепенно «просветительство» в комсомольской работе стало все больше вытесняться хозяйственными кампаниями, разворачивавшимися одна за другой по инициативе Хрущева. Я очень скоро начал понимать, что работа в партийно-комсомольском аппарате по-своему коварна. Она предлагает готовые «правила игры», втискивает в определенные жесткие рамки. Опасность скатиться от работы действительно общественной к чисто чиновно-бюрократической, от которой я бежал из прокуратуры, была крайне велика и здесь, в комсомоле.
Никакой самостоятельностью эта политическая организация молодежи, по существу, не располагала, действуя практически на «субподряде» у КПСС. Более того, всякие попытки комсомола на любом уровне поступать самостоятельно рассматривались как не только нежелательные, но и опасные. Партийные организации, взяв на себя функции прямого руководства экономикой, сами действовали как хозяйственные органы и от комсомола ожидали того же. Все оценивалось через призму хозяйственных успехов. Есть они — хорошо работают и партийные организации, и комсомол. Ну а нет — так и политическая работа ничего не стоит.
Самое удивительное, что поиск живых, человеческих форм работы нередко встречал, мягко говоря, непонимание со стороны партийных комитетов. Я рассказывал о своих впечатлениях от поездки в село Горькая Балка и тамошний колхоз, по иронии судьбы носивший имя Ленина. За несколько дней своего пребывания жалоб я наслушался предостаточно — на развал хозяйства, на беспросветную жизнь. Но более всего угнетало молодежь ощущение полной оторванности от всего на свете. Что-то надо было делать.
Я решил обо всем этом поговорить со специалистами, тоже в основном молодыми людьми. Все были согласны — молодежь нуждается в общении. Решили организовать несколько кружков политического и всякого иного просвещения, прорубить, как говорится, «окно в мир». Провели первые встречи — пришли на них не только люди молодые, но и пожилые. Высказали пожелание о регулярных встречах — лед тронулся. По завершении командировки я поехал в райком партии к первому секретарю Дмитриеву. Рассказал ему о том, что видел и чем занимался в Горькой Балке, выложил все жалобы и вернулся в Ставрополь.
Буквально через день-два вызывают меня в крайком партии — что, мол, там у тебя случилось?
— Ничего чрезвычайного, — говорю, — но впечатления тяжелые.
— А вот тут сигнал поступил от секретаря райкома, что приезжал какой-то Горбачев из крайкома комсомола и, вместо того чтобы наводить порядок, укреплять дисциплину и пропагандировать передовой производственный опыт, стал создавать какие-то «показательные кружки».
Я был буквально ошарашен, а потом понял. Дмитриев рассуждал так: приедет Горбачев в крайком, расскажет о жизни села, о невнимании к людям. Вот и решил многоопытный Сергей Афанасьевич нанести «упреждающий удар». О нуждах и бедах крестьян Горькой Балки он, естественно, и словом не обмолвился.
И вторая стычка с Дмитриевым носила такой же характер. Это было позже, когда я работал секретарем крайкома комсомола. Началась очередная кампания укрупнения районов, и он постарался использовать ее для расстановки на всех сколько-нибудь ответственных постах своих протеже. Из района посыпались жалобы — пришлось немедленно выехать. Встретился с комсомольцами, успокоил их, а потом зашел к Дмитриеву и твердо заявил, что реорганизация — это не повод для разрушения работающих общественных структур и назначения «удобных» людей. Вернулся в Ставрополь, и снова приглашают в крайком партии. Дмитриев, оказывается, уже звонил: опять, мол, приезжал этот Горбачев, присмотритесь к нему — явно мешает.
Не все гладко получалось с моими комсомольскими коллегами. Мой университетский багаж давал, безусловно, определенные преимущества, и, когда возникали споры и дискуссии по общим проблемам, я по студенческой привычке сразу же ввязывался, выдвигал какие-то, может быть, и неожиданные для собеседников аргументы, показывая несостоятельность их позиции. Делал это исключительно ради истины, в запале дискуссии.
И вот однажды, на совещании аппарата крайкома комсомола, мне открыто бросили упрек в том, что я «злоупотребляю» своим университетским образованием. Потом в узком кругу мне сказали:
— Знаешь, Миша, мы тебя любим, уважаем и за знания, и за человеческие качества, но многие ребята в аппарате очень обижаются, когда в споре выглядят как бы неучами или хуже того — дураками. Разве это их вина, что кончали они лишь вечернюю десятилетку?
Я отнесся к замечанию серьезно. А главное — помог многим из них продолжить учебу в вузах.
XX съезд КПСС
Пришла весна 1956 года. XX съезд КПСС, доклад Хрущева на закрытом заседании съезда стали для страны своего рода политическим и психологическим шоком.
Информационное письмо ЦК, почти дословно излагавшее этот доклад, мне довелось прочесть в крайкоме партии. Я поддерживал мужественный шаг Хрущева. Своей позиции не скрывал, выражал ее публично. Но обнаружил довольно смешанную реакцию на доклад в аппарате, даже растерянность.
Понять эти чувства можно. Десятилетиями вся партийная работа, устройство нашей жизни базировались на авторитете Сталина. Этим все освящалось и оправдывалось. А теперь «устои» рушились. Дух железной дисциплины, прочно сидевший в каждом аппаратчике, требовал подчинения новому курсу ЦК, но осмыслить и принять его оказались способными далеко не все. Многие затаились, выжидая дальнейшего развития событий и дополнительных инструкций.
Встал вопрос — как реагировать комсомолу? Пришли к общему мнению — наиболее подготовленные работники должны включиться в разъяснительную работу итогов XX съезда среди молодежи. План наших действий согласовали в крайкоме партии. Меня направили в Ново-Александровский район. Ситуацию я застал там, можно сказать, типичную. Секретарь райкома партии по идеологии Н.И.Веретенников, к которому зашел по приезде, узнав о моей миссии, выразил искреннее сочувствие. Он, как я понял, считал, что меня просто «подставили». Во всяком случае, сам находился в полнейшем смятении и абсолютно не знал, что делать. «Откровенно скажу тебе, — заметил он, — народ осуждения «культа личности» не принимает».
Что скрывается за ссылками на народ, я уже знал — чаще всего это настроения аппарата. И решил, что необходимо самому почувствовать настроения людей. Две недели я провел в районе, ежедневно встречался с комсомольцами, беседовал с коммунистами. Впечатления сложные. У части моих собеседников, особенно в молодежной, интеллигентской среде, а также тех, кого в той или иной мере коснулись сталинские репрессии, тема «культа» находила живой отклик. Другие просто отказывались верить приведенным в докладе фактам, категорически не принимали оценки деятельности и роли Сталина. Третьи — и таких было немало, — не сомневаясь в достоверности фактов, задавали один и тот же вопрос: «зачем?». Зачем публично выносить «сор из избы», зачем открыто говорить об этом и будоражить народ?
Меня поразила и та версия объяснения репрессий, которая сформировалась в сознании многих простых людей. Мол, наказаны в 30-х годах Сталиным были те, кто притеснял народ. Вот им и отлились наши слезы. И это говорилось в крае, который прошел через кровавую мясорубку тех страшных тридцатых годов!
В «верхах», кто интуитивно, кто вполне осознанно, сразу поняли, что критика Сталина — это критика самой системы, угроза ее существованию, а стало быть, благополучию власть имущих. Это стало особенно очевидным, когда на первых же собраниях, посвященных XX съезду, руководство всех уровней услышало в свой адрес: «А где же вы тогда все были?»
Андропов, являвшийся в то время послом СССР в Венгрии, позже рассказывал, что сразу же после XX съезда его неожиданно пригласил на охоту тогдашний венгерский лидер Матиас Ракоши. Когда остались одни, Ракоши по-русски сказал (явно рассчитывая на то, что разговор будет передан в Москву): «Так делать нельзя. Не надо было торопиться. То, что вы натворили на своем съезде, это — беда. И я еще не знаю, во что она выльется и у вас, и у нас».
Уже в первые дни пребывания в районе я понял, что нужны не публичные речи, а откровенные дружеские беседы. Свои наблюдения и предложения после этой командировки передал в крайком партии, и они вызвали интерес. Казалось, все прошло сносно. Но удовлетворения я не почувствовал. У меня самого вопросов только прибавилось, многие из них оставались без ответа. И я понял, что одной из главных причин этого является сам доклад Хрущева. Он носил не аналитический, не «рассуждающий», а, я бы сказал, сугубо личностный, «эмоционально-обличающий» характер. Не доказывал, а бил по нервам. Сводил причины многих сложнейших политических, социально-экономических, социально-психологических процессов к дурным чертам личности самого «вождя». Надо было идти по пути более глубокого анализа. Но, увы…
Сумятица и неудовлетворенность еще более возросли, когда вскоре после XX съезда стали появляться признаки «обратного хода». Стало известно, что отозвано Информационное письмо ЦК по докладу Хрущева. «Правда» перепечатала из китайской газеты «Жэньминь жибао» статью «Об историческом опыте диктатуры пролетариата», в которой говорилось, что Сталин «выражал волю народа и был выдающимся борцом за марксизм-ленинизм».
Наконец 30 июня принимается постановление ЦК «О преодолении культа личности и его последствий», указывавшее на заслуги и «преданность Сталина марксизму-ленинизму», а также на то, что никакой «культ» не мог изменить «природы нашего общественного строя».
Так или иначе, толчок обществу XX съезд дал мощный, он положил начало переоценке внутренней и внешней политики, анализу исторических фактов. Но процесс этот шел противоречиво, старые силы не собирались уступать.
Тяжесть ответственности возрастает
В августе 1956 года исполнился год моей работы в крайкоме комсомола. Большая часть его прошла в командировках. За это время у меня установились довольно тесные контакты с интеллигенцией, со студенчеством Ставрополя. Во всяком случае, я был в курсе их проблем. И все-таки разговор на предмет моего возможного избрания первым секретарем Ставропольского горкома комсомола для меня — человека для города нового — был весьма неожиданным. Тем не менее кандидатура моя на выборах была поддержана, и уже в сентябре я приступил к исполнению новых обязанностей.
Долго размышлял, с чего начать. Проблем было много. Трудно было с работой для оканчивающих не только школы, но и вузы. Неустроенность жизни, вынужденное безделье и сопутствующие им негативные проявления — все это было в Ставрополе. В то же время после XX съезда в обществе, и особенно среди молодежи, усиливалось брожение умов, росли ожидания. Необходимость перемен в содержании и в формах работы была очевидна.
Начал с того, что создал городской дискуссионный клуб. Позднее, в 60-е годы, подобные клубы и «устные журналы» появились во многих городах, стали в какой-то мере стандартной формой идеологической работы. Но когда мы вместе с заведующим кафедрой пединститута Ларионом Анисимовичем Руденко взялись за создание такого клуба у себя в Ставрополе, это, во всяком случае для нашего края, было новшеством неслыханным.
Тема первого диспута была вроде бы достаточно безобидной: «Поговорим о вкусах». Но мы так расшифровали ее в дополнительных вопросах, что она затронула самые острые проблемы молодежной жизни. Пригласили всех желающих принять участие в диспуте прийти в Дом учителя. Реакция последовала незамедлительно. Секретарю горкома партии сразу стали звонить бдительные доброхоты: «В самом центре… Какой-то щит… Явная провокация!»
Первая дискуссия прошла удачно. Спорили живо, задиристо, порой не жалея голосовых связок. Затем последовали вторая, третья встречи. Помещение набивалось до отказа, сидели в проходах, на ступеньках. Те, кому не хватило места в гардеробе, держали пальто на руках. Пришлось искать более вместительное помещение. Им стал Клуб милиции!
Я председательствовал на всех заседаниях клуба, и одно из них запомнилось на всю жизнь. Спор шел о культуре. Затрагивались разные аспекты проблемы. И вот какой-то молодой парень, ужасно волнуясь, стал говорить о культуре при социализме. О том, что культура — это прежде всего сам человек со всей его многовековой историей, а мы сводим ее лишь к одной форме — к идеологии. И то, что нам вбивают в головы, искажает само понятие культуры.
Руденко и я бросились в атаку — «защищать социализм». Говорили, что именно социализм унаследовал и воспринял все богатство духовного наследия человечества, только он открыл дорогу к культуре миллионам. Приводили множество других аргументов, в которых действительно были убеждены. Наш «идейный противник» был не очень опытен в публичных дискуссиях, и победа осталась за нами.
Но в тот момент я больше всего думал о том, что могут прикрыть дискуссионный клуб, которым все мы так дорожили.
Для думающей молодежи города наш клуб стал излюбленным местом встреч. Стали устраивать подобные дискуссии в студенческих и заводских коллективах. Расширялся круг обсуждавшихся проблем. Но все это затронуло преимущественно интеллектуальную сферу жизни, а я прекрасно знал, что значительная часть молодежи жаждет не столько споров, сколько конкретных практических действий. И вслед за клубом мы создали Оперативный комсомольский отряд — ОКО. Не знаю, стал ли он одним из первых в стране, во всяком случае, ни о чем подобном до того я не слыхал.
Родилась эта идея не только потому, что мы искали способ реализовать энергию комсомольцев. Как я уже сказал, часть молодежи Ставрополя оставалась «невостребованной», не находила для себя места, полезного дела. Безделье неизбежно порождало пьянки, хулиганство, воровство. Милиция пыталась пресечь их своими обычными методами, но толку от них было мало. И вот в городе появляется мобильный оперативный отряд — дисциплинированный, смелый, решительный, сформированный на добровольной основе из самих ребят. Через исполком городского Совета депутатов на три дня недели — среду, субботу, воскресенье — мы добились выделения предприятиями и учреждениями дежурных автомашин. Как только где-то возникала «буза», отряд выезжал на место происшествия. Эффект был потрясающий. ОКО завоевал огромный авторитет, вырос с 30 до 130 человек, и нам уже приходилось принимать добровольцев из числа старшеклассников и студентов по строгому отбору.
Казалось бы, прекрасная иллюстрация для тех, кто верит в спасительность исключительно «силовых методов» решения любых проблем. Но очень скоро мы убедились, что уповать только на них — глупо и опасно. Во-первых, под видом нашего оперативного отряда в городе стали действовать хулиганы и грабители. Во-вторых, участились случаи, когда и наши ребята, почувствовав вкус к «силовым методам», шли на задержание и мордобой, явно нарушая элементарную законность. Пришлось усилить контроль за ОКО, придавать каждой группе по опытному милицейскому работнику. Но основное внимание обратили на трудоустройство и организацию досуга молодежи.
Поскольку давно было провозглашено, что в стране безработица ликвидирована окончательно и бесповоротно, никакой государственной системы, через которую можно было бы помочь ребятам, не существовало. Поэтому функции «биржи труда» горком взвалил на себя. На учет были взяты все рабочие места в городе. Приходилось бесконечно спорить с директорами предприятий. И я уже тщательно следил не столько за тем, сколько добровольцев идет в ОКО, сколько за тем, какое количество юношей и девушек удалось пристроить на работу.
Формально у комсомола не было никаких прав, но я использовал то обстоятельство, что меня ввели в состав бюро горкома партии. Это позволило с большим успехом отстаивать интересы молодежи на заседаниях бюро, пленумах, на собраниях в трудовых коллективах. Из репертуара «синеблузников» и «легкой кавалерии» 20-х годов мы позаимствовали «Окна сатиры». Фотографии, помещавшиеся на улицах города, демонстрировали загаженные заводские дворы и улицы, вороватых продавцов, подвыпившее, распоясавшееся, «гуляющее» начальство. Возле стендов постоянно толпился народ, действовали они сильно. Словом, мы искали и находили способы заставить считаться с комсомольскими комитетами, интересами молодежи.
Ирина
Происходили перемены и в личной жизни. 5 января 1957 года Раисе Максимовне исполнилось 25 лет, а 6 января родилась дочь Ирина. Мы радовались дочке, так как оба этого хотели, но очень переживали. Дело в том, что после тяжелого ревматического заболевания, перенесенного в студенческие годы, Раисе врачи запретили идти на такой шаг. Жизнь наша теперь значительно осложнилась. Квартировали по-прежнему на Казанской улице. Магазины, рынок — далеко, в центре города. За водой, как и раньше, приходилось бегать к водоразборной колонке, туалет во дворе, уголь и дрова там же.
По случаю рождения ребенка в те времена отпуск матери составлял всего 55 дней. Жить на одну мою зарплату мы не могли. Надо было идти работать. Стали искать няню. С трудом на время нашли. Ох, как трудно было Раисе Максимовне. Чтобы покормить дочку, надо было бежать домой по ходу дня, оставить грудное молоко на последующие кормления. Никакого детского питания не было и в помине — что могли, изобретали сами. Недоставало всего, бедствовали по-настоящему. Когда Иринке исполнилось два года, стали носить ее на день в детские ясли.
Насмотревшись на нашу маету, коллеги стали хлопотать о квартире. И мы получили две комнатки в так называемом «административно-жилом» доме, в котором два верхних этажа были построены под жилье, а нижний — для расположения всякого рода учреждений, сейчас бы сказали — под офисы. Но городу недоставало жилья, и первый этаж тоже был использован для проживания людей. После заселения он превратился в огромную девятикомнатную коммунальную квартиру с общей кухней и туалетом. Мы прожили там три года до того, как получили отдельную двухкомнатную квартиру.
Эти годы мне хорошо запомнились. Жили здесь с семьями газосварщик, отставной полковник, механик швейной фабрики, холостяк-алкоголик со своей матерью и четыре женщины-одиночки. Уникальный мир, где переплеталось все — и раздражение, злость от тесноты, неустроенности, и искренняя взаимопомощь, если хотите — своеобразный коллективизм: дружили, ссорились, выясняли отношения, мирились, вместе отмечали дни рождения, праздники, вечерами играли в домино.
Донашивали вещи, приобретенные родителями еще в студенческие годы.
Время от времени приезжал отец, привозил нам кой-какую деревенскую снедь. Подолгу беседовали с ним о сельских делах, о событиях в крае, в мире. Изредка, по большим религиозным праздникам, гостевала у нас бабушка Василиса (в Привольном церкви не было). Жаловалась на здоровье, на невнимание к ней родных, сердилась, что не крестили дочь, но говорила это не зло. Очень она привязалась к Раисе Максимовне, к Иринке и каждый раз, отправляясь в церковь, ласково приговаривала: «Помолюсь за всех троих, чтобы Бог простил вас — безбожников». Спустя годы мы узнали, что в одну из поездок в Привольное Иринку, тайно от нас, покрестили.
Новое назначение
Весной 1958 года меня избрали делегатом на XIII съезд ВЛКСМ. В конце съезда мы узнали, что наш первый секретарь Виктор Мироненко введен в состав бюро ЦК ВЛКСМ и отныне будет работать в Москве.
25 апреля 1958 года на расширенном пленуме Ставропольского крайкома комсомола бывшего второго секретаря Николая Махотенко избрали первым, меня — вторым секретарем. А когда в марте 1961 года Николай перешел на партийную работу и возглавил Изобильненский райком КПСС, я стал первым секретарем крайкома ВЛКСМ и пробыл на этом посту до апреля 1962 года.
Теперь при дальних поездках по краю я уже пользовался машиной — знаменитым «газиком». Но как только кончалась автомобильная дорога, в ход опять шли мои видавшие виды кирзовые сапоги.
Эти четыре года моей жизни были до предела заполнены каждодневной будничной работой, что постепенно становилось все более характерным для комсомола тех лет. Одна массовая кампания следовала за другой. Часть из них была связана с шефством ВЛКСМ над отраслями производства. Шефствовали мы над стройками «большой химии», к примеру над Невинномысским азотнотуковым комбинатом; над животноводством, и прежде всего овцеводством, затем птицеводством и кролиководством; над выращиванием кукурузы и сахарной свеклы; садами и виноградниками и прочим.
Не успевал закончиться месячник по заготовке грубых и сочных кормов, как начинался двухмесячник по распространению книги. Заканчивались рейды по проверке хода уборки урожая и начиналась кампания по подготовке к зимовке скота. Все это сопровождалось бесконечной отчетностью, подведением итогов, поездками за опытом.
На мой стол ежедневно ложились бесчисленные постановления и указания, поступавшие из ЦК ВЛКСМ. Складывалось впечатление, что там, «наверху», твердо убеждены: без их бюрократических инструкций и трава не вырастет, и корова не отелится, а экономика вообще может функционировать лишь в режиме «мобилизационной модели», напрочь лишена способности к саморазвитию, хотя я, конечно, понимал, что комсомол — это часть системы.
Соприкосновение с «верхами»
Моя новая должность вывела меня, между прочим, на новый круг общения — с «верхами» региональной политической элиты, секретарями крайкома партии. Мне кажется, в каждом из них по-своему отражалась эпоха.
С 1946 года десять лет проработал у нас первым секретарем Иван Павлович Бойцов — один из руководителей партизанского движения в Калининской области. Это был человек, оставивший после себя в крае самые противоречивые суждения. Он был довольно сухим, жестким, влиянием и авторитетом обладал огромным. Но авторитет этот в значительной мере держался на страхе, который был характерен для сталинских времен. После XX съезда положение Бойцова пошатнулось. Со стороны ЦК его упрекали в том, что он вяло разворачивает новые дела. Все те, кто еще вчера трепетал перед ним, предъявили свой счет. И его перевели в Москву, на работу в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.
На смену в марте 1956 года пришел Иван Кононович Лебедев. До этого он был вторым секретарем ЦК Компартии Латвии, первым секретарем Омского и Пензенского обкомов партии. Последний пост перед приходом в Ставрополь — первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР.
Лебедев был человеком совершенно необузданной энергии, мог заставить работать любого. Мне кажется, в момент страды он и мертвого поднял бы и заставил убирать хлеб или заготавливать сено. Но спроси его: зачем, ради чего? — и Иван Кононович затруднился бы ответить.
В 1956 году в Ставрополье под давлением сверху широко пошли на раздельный метод уборки хлебов — сначала надо было скосить хлеб в валки, а потом уже подобрать и обмолотить. Для сухого лета этот способ был хорош, но в том високосном году лето выдалось дождливое. Тем не менее, вопреки здравому смыслу, специалистов и механизаторов принуждали убирать новым методом. Никаких доводов о выборочном его использовании Лебедев не принимал. Многие поплатились должностями. А вот за то, что в результате этого своеволия сотни тысяч гектаров хлеба сгнили в валках, никто не понес ответственности.
Поначалу мне казалось, что характер Ивана Кононовича вполне индивидуален. Но когда в октябре 1958 года к нам в Ставрополь для вручения краю ордена Ленина приехал Хрущев, я понял, что дело тут не только в «самобытности» Лебедева… Тогда я впервые имел возможность присмотреться к Хрущеву. Наблюдая за манерой поведения Никиты Сергеевича, я отметил его открытость и искренность, своеобразную народность, желание идти на контакты со всеми. «Стиль» Хрущева создавал своего рода эталон, и многие руководители рангом пониже старались подражать ему.
Беда в том, что, будучи заимствованным, да еще при общей низкой культуре, стиль «лидера» приобретал часто вульгарные формы. Непосредственность и народность выливались порой в откровенное хамство, не говоря уже о сквернословии и пьянстве. Видимо, желание походить на Хрущева где-то в глубине души сидело и у Лебедева, но результат чаще всего получался карикатурный. Он мотался по краю, сталкиваясь с непорядками, устраивал разносы, матерился. В крайком от него потоком шли телефонограммы, а там уже весь аппарат сидел наготове: молниеносно писались решения, объявлялись выговоры, сочинялись телеграммы с требованием поднять организованность и усилить партийный контроль.
Перед высшим начальством, наезжавшим из Москвы, Иван Кононович откровенно заискивал. Но стоило кому-то «сорваться» с вершин власти, как готов был чуть ли не пинать его ногами. Так случилось с Николаем Александровичем Булганиным. После разгрома «антипартийной группы» в 1958 году он был освобожден с постов Председателя Совмина, члена Президиума ЦК КПСС и «сослан» к нам председателем краевого совнархоза. Встретили его ставропольчане тепло. По утрам, когда Булганин приезжал на работу, у здания совнархоза собиралась толпа — иногда до нескольких сот человек. Но это лишь взъяривало Лебедева.
— Подыгрываешь отсталым настроениям? — кричал он с трибуны партактива Булганину. — Ты что, приехал сюда демократию разводить?
Лебедев буквально третировал его, собирал о нем сплетни и слухи, вытаскивал на бюро за малейший промах, пытался снять с поста председателя совнархоза и направить директором небольшого заводика. Только вмешательство самого Хрущева спасло Булганина от этого «перемещения» — перевелся на пенсию, уехал из Ставрополя.
Характерен для того времени и конец карьеры Лебедева. Он жестко проводил в жизнь все решения «вышестоящих инстанций», и все складывалось для него блестяще. В 1956 году «за внедрение передового метода раздельной уборки» наградили орденом Ленина; в следующем, к своему 50-летнему юбилею, получил второй орден Ленина. В 1958 году у нас был хороший урожай, сдача зерна государству превысила 100 миллионов пудов, край наградили орденом Ленина, и Лебедев получил свой третий, такой же орден. Потрясающе — три ордена Ленина за три года! А через год его сняли.
Погубила Лебедева безоглядная ретивость. В конце 1958 года, когда эйфория от первых успехов сельского хозяйства окончательно вскружила Хрущеву голову, он публично провозгласил задачу догнать и перегнать США по производству животноводческих продуктов на душу населения. Никита Сергеевич не скрывал от партийных руководителей, что ждет результатов быстрых и ощутимых. А поскольку задача эта была абсолютно нереальной, он тем самым, независимо от субъективных намерений, стимулировал прямое очковтирательство.
Те, кто хотел выслужиться, рьяно взялись за дело. Под нажимом проводились массовая скупка скота в личных крестьянских хозяйствах, закупки в соседних регионах. Особенно отличился в этом рязанский секретарь Ларионов. В 1959 году Рязанская область выполнила три годовых плана по мясу, а Ставрополье — два с половиной. Но какой ценой! Под нож пустили отары овец, рабочих волов, табуны лошадей. Начисто снесли личные подсобные хозяйства крестьян.
Пресса подняла шумиху о «первых ласточках», звала остальных равняться на передовиков. Обман вскоре разоблачили. Ларионов застрелился, Лебедева в январе 1960 года сняли с поста «по состоянию здоровья». Но дело, как говорится, было сделано: эта «мясная кампания» нанесла индивидуальному сектору страны такой удар, последствия которого ощущались до последнего времени.
Как и многие другие, я разделял ожидания, которые пробудились в нашем обществе после XX съезда, воспринимал их как новый жизненный шанс для себя, своих сверстников. Вместе с тем я видел, что перемены идут с большим трудом, проводятся непоследовательно, импульсивно.
На XXII съезде КПСС
Противоречия того времени ярко отразились и в работе XXII съезда КПСС — первого партийного съезда, в работе которого мне довелось участвовать. Я аккуратно записывал в блокнот свои впечатления, но и без этого многие перипетии двухнедельных заседаний прочно вошли в память. Прежде всего запомнились эпизоды, связанные с критикой «культа личности» Сталина. После разгрома «антипартийной группы» Хрущев, видимо, создал ситуацию, при которой многие члены тогдашнего руководства вынуждены были так или иначе публично, в выступлениях на съезде, зафиксировать свою позицию по этому вопросу.
Своего апогея возбуждение в зале достигло 30 октября, когда на утреннем заседании на трибуну поднялась старая большевичка Д.А.Ла-зуркина. От ее выступления повеяло мистикой. Во всяком случае, факт общения с загробным миром был налицо: «Я всегда в сердце ношу Ильича, — сказала она, — и всегда, товарищи, в самые трудные минуты, только потому и выживала, что у меня в сердце был Ильич, и я с ним советовалась, как быть. Вчера я советовалась с Ильичей, будто он передо мною как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Съезд единогласно принял постановление о выносе из Мавзолея саркофага с телом Сталина и захоронении его у Кремлевской стены. В Ставрополе, когда глубокой ночью начали с помощью тракторов снимать огромную скульптуру Сталина, стоявшую в самом центре, собралась толпа, настроенная явно неодобрительно. Но все обошлось, «работу» довели до конца. Скульптуру сняли, а проспект Сталина переименовали в проспект Маркса.
Критика культа личности воспринималась нами тогда как подтверждение и продолжение линии XX съезда партии. Но все сильнее давали о себе знать и настораживающие моменты. В зале вновь зазвучали дифирамбы в адрес Хрущева. В особенности это проявилось при обсуждении новой Программы партии. Документ этот радовал своей обращенностью к нуждам и потребностям человека, провозглашаемой заинтересованностью в обеспечении мира и мирного сосуществования. Но многое в нем отдавало шапкозакидательством, легковесностью отличалась постановка сложных общественных проблем.
Тем не менее ряд делегатов, известных в партии людей, буквально соревновались в восхвалении и превознесении Хрущева. Довольно сумбурный доклад Никиты Сергеевича В.Ю.Ахундов сравнил со звучанием «могучей симфонии». А Рашидов говорил о Хрущеве как о «выдающемся ленинце, замечательном знатоке глубинных процессов жизни и страстном борце за мир». Меня неприятно поразило, что все это славословие Никита Сергеевич выслушивал с явным удовольствием. Повеяло чем-то старым и до боли знакомым. А что мы, делегаты? Аплодировали, хотя многие чувствовали себя неловко.
Драма Хрущева
Память человеческая весьма капризна, особенно когда ею манипулируют средства массовой информации. Все помнят «кукурузную эпопею» или то, как стучал Никита Сергеевич башмаком на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, стычку его с художниками на выставке в Манеже. Но за этими лежащими на поверхности фактами скрывалось нечто гораздо более значимое. Думаю, история никогда не забудет разоблачения Хрущевым «культа личности Сталина». Действительно, в его закрытом докладе на XX съезде было слишком мало анализа и слишком много субъективных моментов. Сводить проблему тоталитаризма к внешним причинам и дурному характеру диктатора — дело нехитрое и к тому же эффектное, но не вскрывает его глубоких корней. Достаточно прозрачными были и личные политические расчеты Хрущева: выступив первым с разоблачением «культа», он сразу же блокировал своих ближайших конкурентов и противников — Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова, которые вместе с ним как раз и составляли ближайшее окружение Сталина.
Все это верно, но для истории и большой политики огромное значение имеют реальные последствия его политических действий. Критика Сталина, олицетворявшего собою режим, не только выявила тяжелейшее состояние нашего общества в целом, извращенный характер политической борьбы, происходившей в нем, но и полное отсутствие элементарной законности. Она морально дискредитировала тоталитаризм, породила надежды на реформирование системы, дала импульс развитию новых процессов как в сфере политики и экономики, так и в духовной жизни. И это должно быть поставлено в заслугу Хрущеву, тем, кто поддержал его.
Я уж не говорю о том, что позиция Хрущева в данном вопросе привела к массовым реабилитациям, сохранившим доброе имя сотням тысяч безвинно погибших в сталинских застенках и лагерях.
В разоблачении Сталина наиболее ярко проявилась противоречивость исторической роли Хрущева — с одной стороны, смелость и мужество, решительность, готовность пойти против течения, а с другой — ограниченность политического мышления рамками определенных стереотипов, неспособность и нежелание вскрыть глубинные основы явлений, с которыми он вел борьбу.
Видеть причину трагических событий в истории советского общества только лишь в личных качествах «злодея» Сталина — значит оказаться в плену «культа личности» наоборот. Если дело в этом, то достаточно сменить плохого руководителя на хорошего, и мы гарантированы от повторения ошибок. Хрущев как бы обращался ко всем: вот я честно говорю о прошлом, ничего не скрывая, верьте мне, идите за мной и все будет хорошо. Иными словами, приглашал сменить один культ другим, не посягая на устои системы.
Углубиться в анализ причин тоталитаризма Хрущев не хотел, да, вероятно, и не смог бы, потому что это требовало преодоления стереотипов, ставших для него символом веры. Поэтому критика культа личности, резкая по словам, была половинчатой по существу, ей был поставлен определенный предел, а процесс реальной демократизации остановлен в самом начале.
Такая же противоречивость была характерна и для внешнеполитической линии Хрущева. Его активный выход на международную арену, приглашение к мирному сосуществованию, первые попытки наладить нормальные контакты с ведущими капиталистическими державами; новые отношения с Индией, Египтом и другими государствами «третьего мира»; наконец, стремление более демократично подойти к союзническим связям с социалистическими странами, отказ от вражды с Югославией — все это получило широкий отклик у нас и за рубежом, имело, безусловно, положительное значение.
А наряду со всем этим — жестокое подавление восстания венгерского народа в 1956 году; элементы авантюризма, приведшие к Карибскому кризису 1962 года, который поставил мир на грань военной катастрофы; ссора с Китаем, перешедшая в длительный период вражды и противостояния с ним.
На всех перипетиях внутренней и внешней политики того периода, безусловно, сказались не только уровень понимания проблем и настроения самого Хрущева, но и влияние различных политических сил, с которыми ему нельзя было не считаться. Особенно мощное давление шло со стороны партийно-государственных структур. Оно заставляло лавировать, облекать те или иные шаги в приемлемую для влиятельных общественных сил форму.
По моим наблюдениям, Хрущев с его взглядами и намерениями мог пойти значительно дальше, если бы не обстановка, в какой ему приходилось действовать. Не могу принять упрощенную схему, согласно которой он вначале выступал как последовательный реформатор, а потом, устранив «старую сталинскую гвардию и укрепив собственное положение», стал насаждать волюнтаризм и субъективизм. При всей противоречивости Хрущев представляется мне более последовательной в своих действиях фигурой. С самого начала, как уже говорилось, его реформизм не был однозначным, равно как и второй этап нельзя сводить к бессмысленным импровизациям. В них, с моей точки зрения, прослеживается продолжение реформистской линии.
Взять, к примеру, вопрос о совнархозах. После снятия Хрущева совнархозам давалась однозначно негативная оценка, писали о том, что они нанесли экономике страны серьезный ущерб, нарушив сложившиеся связи между предприятиями различных регионов, породив местничество, раздробленность в руководстве отраслями, в проведении единой государственной технической политики.
С такой односторонней оценкой согласиться нельзя. Мне кажется, что в ряду многих постановлений тех лет, расширявших права республик, краев, областей, местных органов Советской власти и отдельных предприятий, переход в 1957 году к совнархозам, к управлению по территориальному принципу на базе экономических районов был нацелен прежде всего против бюрократического централизма. Совнархозы ломали ведомственные перегородки в нашей экономике, смягчали диктат центра, создавали больший простор для местной инициативы, для кооперирования производства и более эффективного использования ресурсов в пределах регионов.
Другое дело, что было нелепым столь характерное для Хрущева стремление найти универсальные методы решения любых проблем, одинаково пригодные для всей страны. Если в крупных индустриальных центрах совнархозы, может быть, действительно выглядели излишней надстройкой, то в республиках и областях менее развитых они дали мощный толчок экономическому прогрессу. Так было и у нас в Ставрополье, где в значительной мере именно благодаря совнархозам удалось модернизировать пищевую и легкую промышленность, создать новые химические и машиностроительные предприятия, энергетическую базу.
Не менее важно разобраться и в реорганизации партии, которую Хрущев предпринял после ноябрьского Пленума ЦК 1962 года, разделив краевые и областные организации по производственному принципу — на промышленные и сельские. На опыте края я видел, насколько искусственным являлось это разделение, какую дезорганизацию, склоки и дрязги оно рождало. Крайком являлся реальной властью в своем регионе, в его руках концентрировались все рычаги и нити государственного управления. В случае необходимости он мог сосредоточить силы и ресурсы края на решении какой-то задачи. После разделения положение сложилось иное. Мне, например, приходилось наблюдать драчку, которая постоянно шла между первым секретарем сельского крайкома Кулаковым и первым секретарем промышленного крайкома Н.В.Босенко. Со стороны, глядя на это чуть ли не ежедневное «перетягивание каната», взаимную слежку и конкуренцию, можно было подумать, что они никогда не работали вместе, а всю жизнь были ярыми противниками.
Но уже тогда закрадывалась мысль: замысел Хрущева отнюдь не так прост, как это казалось на первый взгляд. В самом деле, первые секретари многих обкомов входили в состав ЦК. Появление в регионе двух первых секретарей открывало возможность на ближайшем съезде сильно обновить состав Центрального Комитета. Это не все: не собирался ли Никита Сергеевич таким шагом, созданием совнархозов, производственно-территориальных органов управления на селе, вообще как-то ослабить монополию партии на власть, ликвидировать всесилие прежних «губернаторов» и «удельных князьков», дать возможность людям знающим, специалистам и профессионалам квалифицированно вести дело?
Хрущев, конечно, не был против руководящей роли партии, он просто хотел ее модернизировать, ослабить ее монополию на все и вся. Но тут-то он и натолкнулся на мощное сопротивление, которое в конце концов и привело его самого к поражению.
Правда, первый раунд, когда борьба вспыхнула в верхушке политического руководства, он выиграл. В 1957 году ЦК, то есть в основном первые секретари республиканских ЦК, обкомов и крайкомов, не дали съесть Хрущева. Отстранение старых партийных «маршалов», привыкших смотреть на региональных секретарей, как на пешек, расширение Хрущевым прав республиканских и местных органов власти — все это воспринималось рядовыми членами ЦК, «партийным генералитетом» с явным одобрением, и они решительно поддержали Никиту Сергеевича против «антипартийной группы». Поддержала его и армия.
Но дальнейшие шаги Хрущева в отношении партии изменили обстановку. Разделение областных организаций, кадровая чехарда, постоянные переброски с места на место в целях обновления кадрового состава задели их интересы и создали нестабильную ситуацию в этом эшелоне власти. Иными словами, стало назревать недовольство и в «генеральской» среде. Ну а решение о ежегодном переизбрании секретарей в низовых организациях, которое должно было ускорить ротацию кадров, не дать им возможность пускать «корни» и засиживаться на своих местах, вызвало негативную реакцию и среди «офицерского корпуса» партии, тянувшего на себе тяжкий груз непосредственной работы в трудовых коллективах.
И это не все. Хрущев растерял авторитет в народе. Опасения Суслова, высказанные им накануне октябрьского Пленума 1964 года, что отстранение Хрущева от власти может вызвать народные волнения, оказались напрасными. По интересам трудящихся в конечном счете ударила денежная реформа 1961 года. Наступление на личные приусадебные хозяйства крестьян вызвало ропот на селе. Неурожай 1963 года обострил продовольственную ситуацию и привел к «временному» повышению цен на продукты питания. Испортились у Хрущева и отношения с армией, наукой, творческой интеллигенцией.
Критических аргументов в адрес Хрущева вполне хватало, чтобы оправдать «дворцовый переворот». Но за словами о «благе народа» все-таки стояло прежде всего желание партийных «генералов» и «офицеров» сохранить себя у власти. Центральный Комитет КПСС, поддержавший Хрущева в 1957 году, свалил его в октябре 1964 года.
На мой взгляд, главная особенность «хрущевского периода» в целом заключалась в том, что Никита Сергеевич хотел заставить работать систему, применяя ее же методы.
Стремление Хрущева добиться реальных перемен, особенно в сфере экономики, сделать ее более эффективной, придать динамику развитию общества было вполне оправданно. Но система не воспринимала новации, мало того, противилась им.
Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что период, последовавший после смерти Сталина (особенно после XX съезда партии) примерно до середины 60-х годов, является особым и крайне важным для истории нашей страны. По своему смыслу, независимо от субъективных намерений самого Хрущева, это был первый приступ к демонтажу тоталитарного режима, первая попытка повернуть наше общество к демократии.
Глава 5. Начало партийной карьеры
Кулаков в Ставрополе
В январе 1960 года Лебедева сменил Н.И.Беляев — до этого член Президиума ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Пришел он к нам после драматических событий в Темиртау, где в ответ на недовольство и волнения рабочих против них были направлены войска, введены танки. Беляев прибыл вроде бы как в «ссылку». Производил он впечатление человека совершенно потерянного, выбитого из колеи, и всего лишь через полгода покинул Ставрополь, первым секретарем крайкома КПСС стал Федор Давыдович Кулаков.
Кулаков родом из крестьян Курской области, жизнь деревни знал хорошо.
Приняли Кулакова в крае по-доброму, с надеждой. Было ему тогда 42 года. От предшественников его отличали не только молодость, но и завидные решительность, открытость характера, человеческое обаяние. По крайней мере, таковы были мои первые впечатления, и не только мои.
С приходом Кулакова краевая партийная машина заработала с большими оборотами. Это сказывалось на всем, прежде всего на работе кадров. Многое изменилось и в моей жизни. После избрания первым секретарем крайкома комсомола и кандидатом в члены бюро крайкома партии я стал теперь все больше заниматься и партийной работой: поездки в районы, участие в подготовке решений, в обсуждении на пленумах и активах разнообразных вопросов. Особенно много времени уходило на заседания бюро крайкома. Кулаков, давая все новые и новые поручения, как бы присматривался ко мне, изучал, на что способен.
В январе 1962 года на отчетно-выборной конференции меня вновь избрали первым секретарем крайкома ВЛКСМ, а всего через несколько недель Федор Давыдович вызвал к себе и предложил перейти с комсомольской на партийную работу. Создавался новый институт — парторгов крайкома КПСС в территориальных производственных колхозно-совхозных управлениях. И в марте 1962 года я стал парторгом крайкома по Ставропольскому управлению, объединившему три пригородных сельских района: Шпаковский, Труновский и Кочубеевский. Отбору на должности парторгов придавалось настолько важное значение, что меня, как и других, в этой связи приглашали на беседу в ЦК КПСС.
Новое дело захватило меня полностью. Целыми днями, часто прихватывая и ночи, я колесил по хозяйствам и трудился над созданием новых структур управления, веря в то, что ставка на профессионалов обязательно даст свои плоды. Оставаясь кандидатом в члены бюро крайкома, я довольно часто встречался с Кулаковым, и он, как и прежде, давал мне различного рода задания, приглашал в поездки по краю.
Тем неожиданней был эпизод, произошедший летом 1962 года.
На бюро крайкома обсуждался вопрос об Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР к труженикам сельского хозяйства. Таких обращений тогда было бесчисленное множество. Со стороны заведующего отделом пропаганды и агитации И.К.Лихоты, о котором кто-то из его недоброжелателей запустил шутку: «мудр, как кирпич, падающий на голову», на меня вдруг посыпались упреки в недооценке соцсоревнования и других подобных грехах. Я возразил — возникла перепалка. Кулаков предложил создать комиссию по проверке моей работы, а на состоявшемся 7 августа собрании краевого партийного актива Кулаков «выдал мне» сполна. Говорил о «безответственности в работе с Обращением ЦК», высказывался несправедливо, резко, грубо.
Я рвался ответить, но слова для выступления так и не получил. Когда возвращался в район, мой попутчик, старый заслуженный агроном, бывший «синеблузник» Владимир Петрович Чачин, видя, что я продолжаю негодовать, спросил:
— Переживаешь, Михаил Сергеевич, что не дали выступить?
— Конечно, — ответил я. — Ведь это был не просто разнос, а бесцеремонное затаптывание. Разве такое допустимо? При всем моем уважении к Кулакову мириться с подобным я не намерен.
Владимир Петрович снисходительно посмотрел на меня.
— Ну, хорошо, предположим, ты выступил и произнес свою речь. Думаешь, тебе удалось бы убедить всех, что ты прав, а Кулаков не прав? Чепуха. Ладно, ладно, — продолжил он, покосившись на меня, — давай другой вариант: ты выступил, и актив, несмотря ни на что, все-таки тебя поддержал. Ну а Кулаков? Неужели ты всерьез полагаешь, что он бы тебе это забыл? Ты же знаешь его характер. Так что послушай моего совета и запомни: самая лучшая речь — непроизнесенная.
После этого эпизода некоторые коллеги стали посматривать на меня как на конченого человека. Каково же было мое изумление, когда работники аппарата крайкома со ссылкой на Кулакова попросили написать справку об опыте моей работы.
— В ЦК КПСС обобщают наиболее интересные материалы о партийных организациях колхозно-совхозных объединений, — было заявлено мне, — и Федор Давыдович полагает, что твои соображения придутся кстати.
А в конце ноября по решению Пленума ЦК началось «великое» разделение партийных организаций по производственному принципу, о котором я уже рассказывал. Кулаков пригласил меня к себе и — как гром среди ясного неба — предложил перейти на работу в аппарат формировавшегося сельского крайкома заведующим отделом партийных органов. С 1 января 1963 года я приступил к новым обязанностям.
Поскольку КПСС, подменяя все и вся, фактически осуществляла не только руководство, но и функции управления обществом, отдел партийных органов играл в этом существенную роль по сравнению с другими отделами. Круг вопросов, которым занимались его работники, был достаточно широк: организационная работа в парторганизациях края, «курирование» Советов, профсоюзов, комсомола.
Но главное — в компетенции отдела находились кадры, та самая номенклатура, в которую входили все сколько-нибудь значимые должности, начиная с постов сугубо партийных и кончая директорами предприятий и совхозов, председателями колхозов. То, что на партийном сленге называлось «подбор, расстановка и воспитание кадров». Это в первую очередь обеспечивало крайкому реальную власть.
В представлении стороннего человека работа с кадрами — это кляузная бумажная волокита, разбирательство аппаратных склок, прочие малопочтенные и малоприятные занятия. В какой-то мере это справедливо — в орготделах нередко плелись интриги, ломались человеческие судьбы. Но для себя я ставил иную «сверхзадачу»…
Моя «сверхзадача»
Семь лет работы после университета дали мне многое. Я исколесил все Ставрополье, познакомился с тысячами людей, имел возможность наблюдать работу многих из них в городах и районах, краевом центре. К когорте маститых руководителей колхозов относился Семен Васильевич Луценко. В далекие годы он работал шофером у председателя небольшого колхоза «Пролетарская воля», человека в деловом отношении абсолютно бездарного и к тому же беспробудного пьяницы. В конце концов колхозники не выдержали, выгнали его, а новым председателем выбрали Луценко. Логика была предельно проста:
— Ты, Семен, на полуторке повсюду с ним ездил, все его безобразия видел, вот и делай наоборот. Что-нибудь да получится.
И надо сказать, не ошиблись в нем люди. Поднял хозяйство, поставил на ноги. А потом «Пролетарская воля», объединившись с десятком других небольших колхозов, превратилась в крупное хозяйство. Луценко и его сделал одним из лучших в крае, известным в стране. «Пролетарцы» умело использовали благоприятные условия предгорной зоны, стали получать хорошие урожаи, да и в животноводческих делах преуспели. Но понадобилась находчивость Луценко, чтобы получить максимум выгоды от произведенной продукции. У него хватило характера действовать по Уставу колхоза, который давал все-таки определенные права руководителям коллективных хозяйств. Излишки колхоз продавал на рынке и выручал значительно больше, чем платило государство. Луценко построил небольшие заводики по переработке фруктов и овощей, масличных культур, пекарню; их продукцию реализовывали через кооперацию и колхозные рынки, все это увеличивало доходы. За свою предприимчивость Луценко не раз подвергался публичным разносам, были попытки сместить его, но колхозники не дали в обиду своего председателя.
Ценили, конечно, в первую очередь как хозяина, но не менее — его человеческие качества. Человек он был самобытный, несомненно, талантливый, с большим природным умом и изрядной долей чисто крестьянской хитрецы. Долго учиться ему не пришлось, хоть и писал он в анкетах, что закончил семь классов. Но дома у него было на удивление много книг. Читал их по ночам и, по собственному его признанию, особенно любил «про крестьянство». В общем, человек из народа, так и оставшийся в нем, в отличие от тех, кто выходил из народа, чтобы никогда в него не возвращаться.
В бытность мою парторгом крайкома судьба свела меня еще с одним удивительным человеком — Василием Андреевичем Рындиным.
В отрогах Ставропольской возвышенности, неподалеку от краевого центра, в совершенно изумительной природной зоне раскинулись поля колхоза «Заветы Ильича». Здесь из-под земли били родники чистейшей воды, потому и село называлось Бешпагир, что в переводе с тюркского означает «пять ключей». Но при всей красоте здешних мест и хороших землях колхоз хирел на глазах.
Председательствовал в нем некто Чижов — человек бездарный и крайне непорядочный. А на председательском кресле ему удалось отсидеть несколько лет благодаря поддержке кучки подпевал, конечно, небескорыстной. Видя все это, колхозники занялись своими индивидуальными хозяйствами — жить-то надо. Выращивали зелень, овощи, скот, птицу. Везли на продажу в Ставрополь, заодно прихватывая что можно с колхозных полей. В конечном счете колхозное хозяйство было дезорганизовано, пришло в полный упадок и запустение.
Тогда вместе с начальником районного управления сельским хозяйством Александром Будыкой мы и решили сменить председателя колхоза. Им стал Василий Рындин.
Работал Рындин в Кочубеевском районе главным агрономом одного из колхозов. Образование у Василия Андреевича было заочное, но он знал хлеборобское дело досконально и обладал редкой способностью налаживать контакты с людьми, сплачивать их. В общем, человек был интересный, и я твердо знал — дай ему простор, самостоятельное поле деятельности, он развернется по-настоящему.
Прошло несколько лет, и хозяйства уже нельзя было узнать. Ввел Рындин хозрасчет, новую систему стимулирования труда, основанную на бригадном подряде. По-другому люди стали относиться к делу, начали расти доходы. Ну а с ростом доходов стало обустраиваться и село. О «Заветах Ильича» пошла добрая слава, сюда стали приезжать за опытом.
За годы своей работы на Ставрополье я не раз заезжал к своему «крестнику», видел: колхозники на Василия Андреевича, что называется, молятся. Так что все «пять ключей» Бешпагира забили во всю свою силу.
Эти и другие примеры говорили о том, что очень многое упирается в кадры. Свою «сверхзадачу» я видел в том, чтобы поддерживать, если нужно — защищать способных, часто строптивых работников и решительно добиваться замены руководителей некомпетентных, малообразованных, не умеющих, да и не стремящихся строить уважительные отношения с людьми.
Этим определились и методы работы. Менее всего она была кабинетной, бумажной. Я много ездил, встречался с людьми. Такой подход восприняли сельские райкомы. Кулаков не только поддерживал, но высказался за придание этой работе планомерного характера. Так родился перспективный план подготовки кадров.
И вот я снова оказался в Горькой Балке. Теперь меня сюда привел интерес к работе Александра Алексеевича Блескова. Он приехал сюда в 1958 году после ликвидации местной машинно-тракторной станции, директором которой являлся. Избрали председателем колхоза — было тогда Блескову 36 лет. Фронтовик, после тяжелого ранения лицо изборождено глубокими шрамами. Но легко угадывалось — Александр Алексеевич не просто симпатичный, а красивый мужчина.
С приходом Блескова началось новое летосчисление в истории Горькой Балки. Новый председатель свой разговор с колхозниками начал не с производства, он предложил заняться обустройством села. Никто ему на первом собрании не поверил — чудак какой-то. Тогда Блесков подготовил план благоустройства и застройки, договорился о кредитах, нашел подрядчиков на проведение работ, обошел дворы, поговорил с наиболее влиятельными колхозниками и вторично вынес вопрос на собрание. На сей раз поверили, поняли, что не «временщик» пришел, а настоящий хозяин. И план утвердили.
Познакомившись с Блесковым еще в те годы, мы постоянно поддерживали с ним добрые товарищеские отношения. А кое в чем я помог ему — поддержал его подвижнический труд в Горькой Балке. Прошли годы, и колхоз имени Ленина стал одним из передовых в крае. Прежней «мерзости запустения» как не бывало. Не подслеповатые хаты с соломенными крышами, а добротные дома со всеми удобствами, улицы асфальтированы, школа, библиотека, больница, прекрасный Дворец культуры. И вот те, кто в прежние годы бежал отсюда куда глаза глядят, стали возвращаться. А потом и очередь появилась желающих вступить в знаменитый колхоз. Блесков дважды избирался в состав ЦК КПСС, а в 1973 году присвоили ему звание Героя Социалистического Труда, и было за что.
А бывало так, что знакомство с интересным человеком начиналось с персонального дела. На бюро сельского крайкома возник вопрос об исключении из партии Николая Дмитриевича Терещенко. Кулаков поинтересовался: что там случилось?
— Говорят, какой-то сумасшедший председатель по ночам домашнюю скотину колхозников из винтовки расстреливает.
— Поезжай, Михаил Сергеевич, разберись на месте.
Колхоз «Путь к коммунизму», который возглавлял Терещенко, находился километрах в трехстах от Ставрополя на границе с Дагестаном и Чечено-Ингушетией, в полупустынных бурунных степях. Добрался туда, познакомился с председателем. Смотрю, симпатичный парень лет тридцати с небольшим, почти мой ровесник.
Поведал он мне свою историю. В 1953 году демобилизовался из армии, работал ветфельдшером и зоотехником в овцесовхозе «Артезианский»; в 1955 году вступил в партию, заочно окончил сельхозинститут и в 1961 году избрали его председателем колхоза. Когда принимал он хозяйство, видел — люди разуверились во всем и во всех. Попробовал Терещенко начать, как и Блесков, с благоустройства села. Стал строить современный поселок, сажать деревья, розы выращивать. Но не шло дело. Большинство колхозников — ногайцы, предки которых вели кочевой образ жизни, и не было у них в традиции благоустройства быта и мест поселения.
Чтобы как-то сплотить людей, организовал Терещенко хор, решением правления обязал всех ходить на спевки. Сам тоже пел. И хотя стали вокруг него постепенно группироваться единомышленники, дела в колхозе никак не ладились, перемены давались трудно. Люди не верили в колхоз, на работу выходила лишь половина членов колхозных семей, остальные трудоспособные и, конечно, старики занимались индивидуальным хозяйством. А по ночам — воровством. Расхищение колхозного добра стало обычным и привычным делом.
— Так вот и живут, — с грустью сказал Николай.
В тот год стараниями Терещенко и его соратников удалось вырастить хороший урожай люцерны, кукурузы, однолетних трав, но все это стало добычей участников ночных набегов. Терещенко терпел, уговаривал, стыдил, однако дело приобрело угрожающие размеры. Николай Дмитриевич не выдержал, сорвался, схватил старенькую «тулку»-мелкокалиберку и давай палить по ишакам, на которых перевозилось ворованное.
Конечно, Терещенко был не прав. Не только потому, что прибег к такому методу решения проблемы. Как руководитель он должен был заботиться о семьях колхозников, оказывать поддержку в ведении личного подсобного хозяйства. Тем более что колхоз не мог обеспечить крестьян надлежащими доходами и продовольствием. Как ни крути, но без подсобного хозяйства не получается. Об этом я и сказал ему, порекомендовав самому урегулировать конфликт и на будущее иметь в виду: без заботы о крестьянских семьях ничего у него не получится. Николай был согласен со мной и в то же время надеялся на поддержку.
Вернулся я в Ставрополь, говорю Кулакову:
— Терещенко, конечно, крестьян обидел: надо же им где-то свой скот пасти. Но если мы этого парня не поддержим, там все прахом пойдет. И несправедливо это будет чисто по-человечески…
Кулаков задумался:
— А как поддержать его, чтобы нас поняли? Что, кукуруза у него, — спросил вдруг Федор Давыдович, — действительно хороша?
— Чудо какое-то. Посреди выжженной степи, как оазис. И стебли метра в три.
— Ну, даже если не три, а два, — рассмеялся Кулаков, — и то дело. Давай проведем у него краевой семинар по обмену опытом.
Так и сделали. Собрали в этом колхозе специалистов со всего края и обсудили проблему выращивания кукурузы на орошаемых землях. Терещенковская кукуруза «Ли» не подвела. Помню, была у меня фотография: секретарь крайкома комсомола Василенко, сидя на плечах Кулакова, пытается дотянуться до верха стебля. Опыт Николая Дмитриевича одобрили, написали об этом в газетах.
Но и сам Терещенко не терял времени. У себя в колхозе они объяснились, с того времени как-то по-другому начала складываться жизнь. Ему удалось изменить настроение колхозников, увлечь своими планами. Хозяйство с годами стало преуспевающим, а сам он все время был в поиске — вводил новые технологии, малые формы производства, сумел уклониться от дорогостоящих комплексов, по-новому взглянул на севообороты, восстановил пары, перевел на орошение кормовые культуры. С участием московских ученых была разработана своя система стимулирования. Кстати, Терещенко много сделал, чтобы поддержать личные хозяйства колхозников, и село отстроилось, преобразилось. Дважды присваивали звание Героя Социалистического Труда Николаю Дмитриевичу, избирали кандидатом, затем — членом ЦК КПСС. Прекрасный был человек. Умер внезапно — в мае 1989 года — не выдержало сердце.
Работа в отделе партийных органов сблизила меня с Кулаковым. По установленному в партийном аппарате порядку заведующего этим отделом курировал непосредственно первый секретарь крайкома. Встречались мы с ним чуть ли не ежедневно, и постепенно между нами установились ровные деловые взаимоотношения.
Был Кулаков человеком сильным и щедрым. Мне не раз приходилось сопровождать его в поездках по краю, я видел, как легко находил он общий язык и с колхозниками, и со специалистами, ибо досконально разбирался в их делах. Ум у него был своеобразный, я бы сказал, крестьянский.
Когда в октябре 1964 года Кулакова перевели на работу в ЦК КПСС, мы расстались друзьями и сохраняли близкие отношения все последующие годы.
Очередной опальный
Появление у нас Ефремова было совершенно неожиданным. Кулаков, как я узнал позднее, принимал самое непосредственное участие в «подготовительном процессе» смещения Хрущева. Он входил в группу секретарей, которых вызвали в Москву накануне октябрьского Пленума для выполнения особой задачи. Они должны были предъявить свой счет Хрущеву в случае, если у членов Президиума ЦК не хватит аргументов, убеждающих его добровольно уйти в отставку. И эту готовность Кулакова Брежнев оценил. Сразу после октябрьского Пленума Федора Давыдовича утвердили заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК, а через одиннадцать месяцев, в сентябре 1965 года, избрали секретарем ЦК КПСС.
Леонид Николаевич Ефремов был известным в партии и стране человеком. За его плечами был многолетний опыт второго секретаря и председателя облисполкома в Куйбышеве, первого секретаря обкома в Курске и Горьком. В 1962 году он стал первым заместителем председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР. Возглавлял бюро сам Хрущев, но вся текущая работа лежала на замах — Ефремове и Кириленко, которые находились как бы на равном положении и как кандидаты входили в состав Президиума ЦК КПСС.
Участия в подготовке октябрьского «дворцового переворота» Ефремов не принимал. Позднее он рассказывал мне, что события застали его в командировке, кажется, в Улан-Удэ. О Пленуме его заранее не известили, а когда узнал и бросился в аэропорт, ему сказали, что самолет не в порядке, отлет откладывается. Нет сомнения, что это была запланированная задержка.
Дело в том, что за Ефремовым прочно закрепилась репутация рьяного сторонника Хрущева. Незадолго до этих событий Хрущев совершил поездку по ряду областей России. Ефремов сопровождал его. О поездке успели сделать документальный фильм, где позади Никиты Сергеевича постоянно маячила фигура Леонида Николаевича. Такие кадры запоминались.
Многие рассказывали: стоило зайти к Ефремову в кабинет с каким-либо деловым вопросом, как он тотчас же брал со стола аккуратно расставленные томики Хрущева с многочисленными закладками, обильными подчеркиваниями и начинал цитировать. Заканчивал беседу так:
«Вот что сказал по этому вопросу товарищ Хрущев. Из этого вы и исходите».
Судя по рассказам самого Ефремова, вернувшись в Москву, он присоединился к критике Хрущева, но, как и Микоян, высказался за то, чтобы оставить Никиту Сергеевича на прежнем посту.
Наверное, именно из этого и исходили в Президиуме ЦК после снятия Хрущева, когда решили направить Леонида Николаевича к нам в Ставрополь, оставив его кандидатом в члены Президиума ЦК. В ноябре 1964 года Пленум ЦК КПСС по докладу Н.В.Подгорного постановил вновь объединить промышленные и сельские областные и краевые партийные организации. И с 1 декабря Ефремов возглавил оргбюро, которому предстояло решить эту задачу на Ставрополье.
Начались «страстные» недели. Хотя со времени раздвоения крайкома прошло всего два года, но отчуждение и «перетягивание каната» между ними, как я уже говорил, порой доходило до неприличия. Теперь же, когда надо было вновь создавать единый аппарат, интегрируя кадровый состав обоих крайкомов, за новое перераспределение постов начался буквально бой. Я, как заведующий отделом партийных органов бывшего сельского крайкома, оказался в его эпицентре. Каждый боролся за себя, для каждого речь шла не просто о личном интересе, месте работы, а о положении, о власти. Интересы дела многим были глубоко безразличны.
Ефремов вызвал меня с предложениями по составу бюро и аппарата объединенного крайкома. Посмотрел, что я ему принес, и, не найдя моей фамилии, удивился:
— А сам-то где собираешься работать?
Я ответил, что мое желание — вернуться в район или в город.
— Ладно, посмотрим, — сказал Ефремов и предложил со всеми материалами выехать в Москву.
Едва я приехал в Москву, зашел в орготдел ЦК, мне говорят:
— Ефремов просил позвонить ему до всяких бесед и обсуждений.
Я набрал номер.
— Ты еще нигде не был? — сразу же спросил Леонид Николаевич. — Очень хорошо. Я тебя прошу иметь в виду: мы тут договорились, что ты пойдешь на секретаря Ставропольского горкома партии.
— Это вполне совпадает с моими намерениями, — ответил я. После этого разговора я приступил к согласованию новых назначений. Но поздно вечером вновь раздался звонок от Ефремова:
— Михаил Сергеевич, слушай, мы тут поговорили, и я решил, что все-таки будем с тобой работать вместе.
— Конечно, — не понял я, — будем работать вместе.
— Да нет же, — перебил Леонид Николаевич. — Я имею в виду, что ты будешь заведующим орготделом в крайкоме.
— Почему?
— Ты понимаешь, тут такое идет, задергали со всех сторон…
Я живо представил себе, что творилось в кабинетах крайкома, как давят наши аппаратчики на Ефремова и после каждой беседы он начинает колебаться.
— Леонид Николаевич, — сказал я, — не надо этого делать. Я прошу вас — не меняйте позицию.
— Все, — оборвал Ефремов. — Вопрос закрыт, я уже со всеми договорился.
22 декабря 1964 года состоялась краевая партийная конференция. Ефремов был избран первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Бывший первый секретарь промышленного крайкома Босенко стал вторым секретарем. Меня избрали членом бюро и утвердили в должности заведующего отделом партийных органов.
Первые два года работы с Ефремовым стали периодом нашего взаимного узнавания, «притирки», и я бы даже сказал — сближения. От своего предшественника Ефремов отличался широтой политического кругозора, эрудицией, общей образованностью и культурой. Личностью он был, несомненно, крупной, и в то же время — рафинированный продукт системы, яркий представитель аппаратной школы КПСС. В этом смысле годы работы с ним были для меня поучительными.
Тяжело, очень тяжело переживал Ефремов свое перемещение в провинцию. Отчасти поэтому и в дела края он входил довольно трудно. У него, видимо, еще сохранялась иллюзия, что Брежнев вот-вот призовет его обратно в Москву. Поэтому на первых порах события в столице интересовали его куда больше, чем ставропольские проблемы.
Обычно перед тем, как идти к Ефремову с какими-либо соображениями или документами, я звонил по телефону. Но однажды так получилось, что я вошел к нему в кабинет без предупреждения. Он сидел за столом, подперев кулаками подбородок, и смотрел прямо перед собой. Я подошел ближе, сел, но тягостная пауза продолжалась. Целиком погруженный в свои думы, он просто не видел меня.
— Леонид Николаевич, что с вами? — негромко спросил я.
Как бы очнувшись, но продолжая думать о своем, он стал говорить:
— Как же так? Ты понимаешь, ведь я все-таки выступил в поддержку Кириленко, защищал его, а он ни одного слова не произнес в мою поддержку.
— О чем вы, Леонид Николаевич? — не понял я.
Он, как бы окончательно придя в себя, усмехнулся и махнул рукой.
— Да так… Это я вдруг вспомнил о заседаниях Президиума в октябре 1964 года… Вот ведь как, Михаил, в жизни происходит.
Ефремов ждал XXIII съезда и очень волновался. Ему все еще казалось, что он сможет сохранить свое положение кандидата в члены Президиума ЦК. Каждый раз, когда Брежнев выезжал отдыхать к морю, он стремился попасть туда же. Они встречались, иногда даже семьями, и в глубине души у Леонида Николаевича теплилась надежда, что удачное выступление на съезде поможет ему вернуться в Москву. В том, что слово ему предоставят, он не сомневался ни на минуту.
В конце марта 1966 года, как раз накануне открытия съезда, я оказался по делам в Москве. Ефремов попросил задержаться и помочь ему в работе над текстом выступления. Нервничал он ужасно, и я, видя его переживания, даже какую-то затравленность, хотел его как-то поддержать. Все дни, пока шел съезд, мне пришлось сидеть в его номере в гостинице «Пекин» и работать над возможным выступлением, внося в него коррективы с учетом дискуссии на съезде. Каждый перерыв Леонид Николаевич звонил в гостиницу, делал очередные замечания, уточнял какие-то неуловимые для меня оттенки и акценты.
Но чуда не произошло, слово Ефремову так и не предоставили. Как секретарь крайкома, он остался в составе ЦК, о большем помышлять уже не приходилось. И надо отдать должное Леониду Николаевичу, он действительно целиком погрузился в ставропольские проблемы.
Секретарь Ставропольского горкома
26 сентября 1966 года пленум Ставропольского горкома КПСС единогласно избрал меня первым секретарем. По номенклатурной шкале (а соответственно и по зарплате) эта должность была ниже поста заворга крайкома. Но меня привлекала большая самостоятельность в работе. Встретили меня в горкоме хорошо. Многие помнили еще по работе в комсомоле, да и в последующие годы связи с городским активом я не терял: знал большинство руководителей, работников науки и культуры, партийного аппарата.
Забот навалилось великое множество. Я уже говорил, что Ставрополь тех лет являл собой образчик провинциального города, который был столь характерен для всей нашей российской глубинки. До середины 60-х годов вся городская инфраструктура была убогой — это касалось здравоохранения, образования, культуры, сферы быта, транспорта, водо- и теплоснабжения и особенно канализации. Нечистоты нередко сливались прямо в канавы, тянувшиеся вдоль улиц. Промышленность города была представлена заводом деревообрабатывающих станков, швейной, текстильной и обувной фабриками, ликеро-водочным заводом, небольшими молоко- и маслозаводиками.
Мысль о необходимости изменения всего облика города, что называется, витала в воздухе. Его неповторимый ландшафт — с возвышенностями и прудами в низинах, лесами, подступавшими к окраинам, — создавал для этого великолепные возможности. И как раз в сентябре 1966 года, когда я стал секретарем горкома, городской Совет утвердил генеральный план развития Ставрополя на 25 лет, предусматривавший реконструкцию центра и освоение новых свободных территорий, особенно на его западе, между двумя лесными массивами.
Вечный вопрос: где взять деньги на реконструкцию и строительство? Помимо весьма ограниченных общегосударственных, централизованных источников финансирования их могли дать только городские промышленные предприятия, которых, как я уже говорил, раз-два и обчелся. Однобокая политика размещения производительных сил по стране, проводимая многие годы Госпланом, закрепляла это положение, и только с созданием совнархозов в городе появилась возможность построить современные заводы — электроаппаратуры, автоприцепов, химических реактивов и люминофоров и т. д.
Свои планы развития города мы связывали с реализацией «косыгинской реформы», расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, в том числе получением ими права распоряжаться значительной частью получаемых доходов. Судьба реформы в значительной мере зависела от ее восприятия кадрами, инженерно-техническим корпусом. Работой с ними в первую очередь и занялся горком партии. Состоялись встречи в горкоме и на предприятиях, силами партийного аппарата и научных работников провели социологическое исследование. Собранные материалы свидетельствовали, что само положение инженеров и техников на производстве было достаточно неопределенным, приниженным. Единственное, что требовали от них, так это выполнения плана любой ценой.
Весь комплекс проблем, связанных с осуществлением реформы, мы обсудили на пленуме горкома в апреле 1967 года. Искали свою роль как могли, действовали в пользу продвижения реформы, но существенных изменений не происходило. Ключ к переменам находился за пределами Ставрополя. Складывалось впечатление, что союзные министерства и ведомства, выхватывая отдельные проблемы и избегая комплексных решений, менее всего заботились о реальном переходе к новой системе планирования и стимулирования труда. Да и крайком партии, как и ЦК КПСС, по-прежнему больше заботили показатели выполнения плана.
Все-таки шаг за шагом реализация генерального плана развития Ставрополя продвигалась вперед. Город покрылся строительными лесами, которые стали его своеобразной визитной карточкой. А мы, работники горкома, чуть ли не поголовно превратились в прорабов. Возводились новые предприятия промышленности, возрастала потребность в квалифицированных работниках. Если в бытность мою секретарем горкома комсомола для молодежи города не хватало рабочих мест, она уезжала в другие регионы, то теперь надо было приглашать специалистов со стороны. Встал вопрос о техническом вузе. Сначала открыли филиал Краснодарского политехнического института. Расширились действующие институты и техникумы.
Значительно возросли масштабы жилищного строительства: поднимались кварталы, создавались новые микрорайоны. Действовал новый домостроительный комбинат. В городе асфальтировались улицы, появился троллейбус, построили цирк, плавательный бассейн, Дом книги. Заложили парк в районе Круглого леса и еще один в самом центре — на Комсомольской горке.
Свои перемены шли и в семье. Ирине исполнилось 10 лет, мы ей подарили фотоальбом — история ее жизни в фотографиях. В 1967 году Раиса Максимовна защитила диссертацию по социологии, ей была присвоена ученая степень кандидата философских наук. Она с увлечением занималась лекционной, педагогической работой, проводила социологические обследования в районах края. В том же году я окончил экономический факультет сельхозинститута. Успешную защиту диссертации и мое завершение учебы мы отпраздновали с друзьями.
Жизнь наша была чрезвычайно наполненной и, как нам казалось, имеющей большой смысл и значение. Жили дружно, помогая во всем друг другу. Наши доходы выросли, стало лучше жить материально. Появилась возможность обустроить двухкомнатную квартиру, полученную в 1960 году. Купили телевизор «Электрон», до того обходились радиолой.
Но забот не стало меньше. Как раз в это время в наших отношениях с Ефремовым как бы появилась трещина, стали возникать недоразумения по различным, иногда никчемным поводам. В частности, причиной недоразумений стали мои контакты — по телефону — с Кулаковым. К подобным контактам Леонид Николаевич относился очень ревниво. Он по-прежнему надеялся на возвращение в Москву, зондировал почву и опасался утечки любой информации, которая могла бы помешать его планам. На этой слабости, подозрительности и играли те шептуны и подхалимы, которые после моего ухода из крайкома стали группироваться вокруг Ефремова.
Я ожидал, вот-вот недовольство выплеснется наружу. Так оно и произошло вскоре. В один из дней Ефремов пригласил нескольких членов бюро крайкома для обсуждения ситуации в Невинномысской городской парторганизации. Тамошний первый секретарь бесконечными пьянками возбудил недовольство коммунистов, жителей города. Предстояла городская партийная конференция, и Леонид Николаевич хотел предварительно посоветоваться. Поскольку мнение Ефремова еще не определилось, все приглашенные высказывались осторожно, не фиксируя своей позиции. Я же, наоборот, высказался за обновление на предстоящей конференции руководства горкома, ибо другое решение будет компрометировать крайком партии в глазах людей. И вдруг Ефремова как прорвало — наговорил кучу обидных и несправедливых слов, хотя по существу высказанных мною суждений не сказал ничего. Это был срыв. Ну а подхалимам только сигнал нужен — они тут же, как по команде, пошли на меня в атаку.
Но это было уж слишком, с подобным я не мог мириться и прервал очередного оратора:
— Леонид Николаевич, если вам не интересны и, более того, бесполезны мои суждения и оценки, то прошу больше меня сюда не приглашать. Обсуждайте в «своем кругу». У вас тут, я вижу, сложилось «прочное» единство и полное совпадение взглядов.
Ефремов не ожидал такого поворота. Разговор оборвался, создалась неловкая ситуация. С трудом закончили встречу и разошлись. С тех пор отчуждение в наших отношениях с Ефремовым нарастало. Мы стали реже общаться. Я сосредоточился на городских делах.
Аппаратные игры
Летом 1968-го в крайкоме начались «большие аппаратные игры»… с перестановкой лиц. Все из-за того, что первый секретарь Карачаево-Черкесского обкома партии Лыжин демонстративно оставил семью и перебрался на жительство к другой женщине. Общественность негодовала. Лыжина освободили от занимаемого поста, вместо него избрали Ф.П.Бурмистрова, который работал вторым секретарем крайкома.
Окружение Ефремова пришло в движение. Я не только был от всего этого в стороне, у меня зрели свои планы. К тому моменту внутренний выбор для себя я сделал: надо разворачиваться в сторону науки. Сдал кандидатские экзамены, выбрал тему, связанную с проблемами специализации и размещения сельскохозяйственного производства в Ставрополье, стал собирать материалы для исследования. Когда страсти вокруг поста второго секретаря начали разгораться, я оформил отпуск, купил санаторные путевки для себя и Раисы Максимовны в Сочи.
Вдруг перед самым отъездом звонок от заведующего общим отделом Павла Юдина:
— Не уезжай, Михаил, задержись, указание Леонида Николаевича. Проходит день, два. Звоню Ефремову:
— Леонид Николаевич, мне передали ваше пожелание задержаться. Но «горят» путевки, срок уже идет, семья собралась. Прошу разрешить уехать в отпуск.
— Дождешься пленума, — резко ответил он.
— Пленум и без меня состоится, я заранее присоединяюсь к вашему предложению.
— Я тебе сказал, подожди. Все. — Ефремов положил трубку. Прошло еще какое-то время. Наконец Ефремов приглашает к себе. Разговор пошел о моем выдвижении.
— Леонид Николаевич, — сказал я ему, — вы же со мной работать не хотите. И не надо себя насиловать. Претендентов много, а мне разрешите уехать в отпуск.
— Поедешь в Москву, — с явным неудовольствием ответил он. Оказалось, вопрос о моем выдвижении на пост второго секретаря уже предрешен. Ефремов тут же собрал бюро крайкома, и оно… единодушно высказалось в поддержку моей кандидатуры. После заседания все разошлись, а я вновь стал ждать от первого секретаря крайкома приглашения на беседу. Когда же стало очевидно, что оно так и не последует, решил зайти к Ефремову сам.
— Езжай в Москву, — вот и все, что я от него услышал.
— Куда? К кому? Какие рекомендации?
— Сам знаешь куда — в орготдел ЦК. Там твоих заступников хватает. — И никаких напутствий.
В Москве на Старой площади в орготделе со мной беседовал заместитель заведующего отделом Е.З.Разумов, потом состоялись встречи с секретарями ЦК Капитоновым, Демичевым, Кулаковым, и вопрос о рекомендации меня на должность второго секретаря крайкома был решен. Любые мои сомнения буквально во всех кабинетах гасились одной и той же сакраментальной фразой: «необходимо сочетание старых и молодых кадров». Предысторию данного решения рассказали мне работники орготдела: Ефремов действительно упирался, тянул до последнего часа, использовал все свои старые связи, но Капитонов занял твердую позицию, его поддержал Кулаков, в ход пошла все та же формула о «сочетании», и Леониду Николаевичу пришлось уступить.
Передо мной протокол пленума Ставропольского крайкома КПСС, состоявшегося 5 августа 1968 года.
Всесторонне обсудив этот вопрос, посоветовавшись в ЦК КПСС, имея в виду ленинский принцип правильного сочетания молодых и старых кадров, бюро крайкома вносит предложение избрать вторым секретарем краевого комитета партии т. Горбачева Михаила Сергеевича.
Вопросов к Горбачеву не было. Избирают единогласно.
Когда читаешь этот протокол, складывается впечатление всеобщего и благостного единодушия. Будто не было за принятым решением ни человеческих страстей, ни борьбы. Но я-то и другие члены крайкома прекрасно знали, что среди дружно и дисциплинированно проголосовавших «за» были и те, кто решительно выступал «против». В их числе поначалу и сам Ефремов.
Сразу же после моего избрания он взял отпуск и, так и не побеседовав со мной, уехал в Кисловодск. Мне же, наоборот, от отпуска пришлось отказаться и включаться в работу. А когда Ефремов вернулся, ни он, ни я, ни разу не помянув прошлое, стали налаживать совместную работу.
После двух-трех месяцев взаимной адаптации у нас, как и прежде, сложились нормальные товарищеские отношения, которые даже при самых острых разногласиях оставались неизменными.
Второй секретарь
И в мою бытность заворгом, и теперь, когда я стал вторым секретарем крайкома, приходилось уделять немало времени работе с первыми секретарями райкомов, роль которых в иерархической структуре партии была совершенно уникальна. Именно через первого секретаря райкома весь огромный партийный аппарат выходил к «массе», к «низам», то есть на первичные организации учреждений, предприятий, совхозов, колхозов, поселковые и сельские Советы. И от того, каков он — первый секретарь, в значительной мере зависела практическая реализация политики.
У Кулакова отношение к секретарям строилось на основе двух критериев — способности «сделать план» и личной преданности. Все остальное ему представлялось несущественным. Ну а совместные выпивки упрощали взаимоотношения до такой степени, что некоторые из секретарей, как говорится, потихоньку сели Федору Давыдовичу на голову. Многие из них чувствовали себя в районе чуть ли не удельными князьками.
Ефремов трудно, нехотя шел на обновление секретарского корпуса, хотя необходимость в этом была большая.
С мест приходило много писем с жалобами на произвол, неблаговидные поступки и особенно пьянки. По установленному порядку подобная информация поступала непосредственно к первому секретарю крайкома. Это была его «епархия», от него зависел дальнейший ход такого рода писем. Однако от Ефремова в таких случаях, как правило, не следовало никакой реакции.
Я не раз заводил с ним разговор на этот счет, но безрезультатно, Ефремов обычно отмалчивался. Однажды при разговоре об одном из секретарей райкома задал такой вопрос:
— А какие отношения были у него с Кулаковым?
В конце концов я не выдержал и ответил:
— У Кулакова со всеми были хорошие отношения.
— И у тебя, конечно, — не удержался Ефремов.
— И у меня. Однако, хоть и связан я с Федором Давыдовичем, но не все приемлю, что было при нем.
— Ну и напрасно, — рассмеялся Леонид Николаевич. — Это-то как раз у Кулакова правильным было. Секретарь райкома — наша опора. Он должен чувствовать, что мы верим ему. Это самое главное. И мы обязаны всячески поддерживать и защищать его.
— От кого?
— От всякой напраслины. О тех, кто много работает и на виду, всегда много болтают.
— Защищать от напраслины — да, — сказал я ему, — но вы ведь прекрасно знаете, Леонид Николаевич, что речь идет совсем о другом. Нам кое-кого надо уже просто спасать…
Поставить секретаря райкома на место, предъявить ему принципиальные требования — не так просто. Тут нужны и воля, и твердость. А вот этого как раз Ефремову явно не хватало. После «низвержения с Олимпа» Леонид Николаевич побаивался любых конфликтов.
Опыт и чутье были у него колоссальные. Он понимал, что как-то реагировать надо. Ведь рано или поздно жалобы эти вылезут наружу. Но как реагировать? И Ефремов нашел простейший выход — перепоручил все эти дела мне. Приходит очередное письмо, он вызывает меня, и — из рук в руки — поезжай, мол, разберись, но письмо нигде не регистрируй, там посмотрим.
Особенно тяжело решались дела, связанные с «начальственными» пьянками. Помню, в одном из сел торжественно открывали новый Дворец культуры — событие для села, несомненно, неординарное. Председатель колхоза пригласил своих коллег и, конечно, руководителей района. Все в тот вечер было как обычно: сказали о строителях, об успехах колхоза, вручили подарки, отсидели концерт, потом… застолье. Ну а когда стали по домам разъезжаться, как раз туман спустился, произошла крупная авария. И о ней пошла молва, дошла и до Ефремова, мол, гуляет начальство.
Пришлось мне самому учинить проверку и устроить публичное разбирательство.
— Ну хорошо, — сказал Ефремов, когда я вернулся в Ставрополь. — А вообще, скажу тебе, Михаил, не дело это. Мы что, будем с тобой бегать по краю и определять — кому поднести, кому сколько выпить, а у кого и отнять бутылку. Нет, не дело…
Я возразил:
— Леонид Николаевич, вы знаете, я не святоша, но согласиться с вами не могу никак. Пьянки среди руководителей — самая большая сегодня беда.
— А-а, брось ты преувеличивать, — в сердцах ответил Ефремов. — Возьми любого секретаря райкома, день и ночь гоняет по полям, фермам, да под дождем, на ветру. Ну, поужинал где-то, выпил. Что из того? Позволяет ему здоровье — пусть выпьет.
И дело тут было не в личном мнении или пристрастии Ефремова, он тоже иногда мог выпить крепко, — а в общей терпимости к пьянству.
Масштабы пьянства не только в быту, но и на работе принимали угрожающие размеры. Нарастали человеческие беды, связанные с ним. В ноябре 1969 года, выступая на пленуме крайкома, Ефремов привел следующие цифры: за три с половиной года после XXIII съезда КПСС в краевой организации исключено 1743 коммуниста. Из них 743 (42,6 %) — за пьянство, хулиганство и морально-бытовое разложение.
Статистика наводила на размышления. Монополизировав все более или менее руководящие должности, КПСС неизбежно становилась центром притяжения для самых разнородных элементов, в том числе для тех, кто вступал в партию не по идейным, а лишь по сугубо корыстным мотивам. Это, в частности, и порождало злоупотребления среди работников партийного и государственного аппарата.
Но ведь рядом с карьеристами, полагавшими, что партийный билет, занимаемая должность дают им право распоряжаться судьбами людей, я встретил сотни коммунистов, честно выполнявших свой долг. Наблюдая за деятельностью председателей колхозов типа Блескова, Рындина, Терещенко, убедился, как много могут сделать для улучшения жизни инициативные, компетентные, порядочные руководители. И мне казалось тогда, что достаточно подобрать и расставить такого рода кадры на ключевых постах, станет возможным решение многих насущных проблем.
Иллюзии? Пожалуй, да, ибо постепенно я осознавал, что существовавшая система создала достаточно жесткие рамки для любой формы деятельности и инициативы. Эти рамки определялись направленностью политики руководства страны.
В этой связи — о политике периода, получившего позднее название «застоя».
Поражение реформаторов
Тут следует сказать, что дух реформаторства, пробужденный в 50—60-е годы, обладал достаточным запасом силы и инерции. Да и необходимость преобразований во многих сферах жизни общества была слишком очевидной. Как я уже говорил, Брежневу приходилось искусно лавировать между различными группами в составе Политбюро. Свою приверженность консервативным идеям он тщательно маскировал. Вот почему, отменив ряд действительно волюнтаристских решений Хрущева, ЦК КПСС поддержал некоторые новации. И мартовский Пленум 1965 года по вопросам сельского хозяйства, сентябрьский Пленум того же года по проблемам планирования и экономического стимулирования промышленного производства были по своей направленности прогрессивны, нацелены на реформирование системы управления экономикой.
Но этим решениям на практике не суждено было осуществиться. Странная складывалась ситуация. В газетах и журналах бурно дебатировались различные проекты, публиковались статьи экономистов и публицистов, а в это же время в возрожденных министерствах «тихо делали свое дело», все туже завязывая узел бюрократической централизации.
Впрочем, и местные власти относились ко всем новациям довольно скептически: «Они там в Москве болтают, а нам тут надо план выполнять». В Ставрополье все это наглядно проявилось на так называемом «деле И.И.Баракова», случившемся еще до моего прихода на должность второго секретаря.
Иннокентия Баракова я знал хорошо. Человек энергичный, самостоятельный, но, может быть, излишне импульсивный. Он дружил с экономистом-реформатором Лисичкиным, был его ярым поклонником. Пока дело ограничивалось разговорами и выступлениями о необходимости «смягчения» государственного плана, расширении прав колхозов в реализации конечного продукта, его свободной продаже, это мало кого волновало. Когда же Бараков в своем Георгиевском районе попытался осуществить эти идеи на практике, тут уж стало не до шуток.
Как начальник районного управления сельского хозяйства Бараков перестал доводить жесткие планы до отдельных хозяйств, чтобы не сковывать их инициативу, — действуйте, мол, сами. Но в тех условиях в крайкоме это восприняли чуть ли не как открытую атаку против всей «системы». Баракова сначала предупредили на бюро, а 21 января 1967 года сняли с работы.
На том заседании меня не было, но мне потом стало известно, что Баракова обвинили в допущении «грубых ошибок в ряде своих высказываний по принципиальным политическим вопросам». Говорилось, что его «настойчивые, путаные утверждения» о свободной реализации на рынке продукции колхозами и совхозами, об укреплении их экономики любыми методами и средствами «объективно наносили вред делу воспитания кадров в духе высокой ответственности за выполнение решений партии и правительства. Некоторые колхозы района, не выполняя государственных планов продажи зерна и других продуктов, допускали факты торговли ими на рынке…»
Ефремов, тонко чувствовавший конъюнктуру, видимо, решил, что с этим запасом идей «наша организация должна выступить» и на общесоюзной арене. 13 сентября 1967 года в газете ЦК КПСС «Сельская жизнь» за подписями Ефремова и еще нескольких работников края была опубликована статья «Фактам вопреки». Объектом разноса стала статья Геннадия Лисичкина «Спустя два года», напечатанная в № 2 «Нового мира» за 1967 год.
Автор обвинялся в том, что он «доходит до абсурдных, оторванных от жизни предложений: о свободной реализации колхозной и совхозной продукции, об отмене планирования госзакупок продуктов в натуральном выражении… третирует принцип социалистического планирования от достигнутого уровня». А главное — «в целях обоснования теоретически путаных и практически непригодных экономических рекомендаций… передергивает и искажает факты, относящиеся к жизни и деятельности колхозов и совхозов Ставропольского края».
Случай с Бараковым наводил на грустные размышления. Ведь это было время реализации решений мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года, давшего импульс поискам в аграрном секторе. Казалось, начавшиеся «косыгинские реформы» должны были привести к углублению этих поисков. Увы, преобразования в сельском хозяйстве, как и в промышленности, проводились в заранее четко очерченных рамках. То, что предлагали Бараков или Лисичкин, выходило за эти рамки. Вот почему все «дело Баракова» так и осталось свидетельством, с одной стороны, назревших перемен, а с другой — жесткой реакции системы на саму возможность подобного рода изменений. Урок был серьезный.
В начале лета 1967 года я встретился со Зденеком Млынаржем, давним моим другом и сокурсником по МГУ, о котором уже упоминал. Он работал тогда в Институте государства и права Чехословацкой Академии наук и приезжал в Москву в связи с подготовкой предложений о проведении политической реформы. В столичных академических кругах его выступление встретили более чем прохладно. Затем он побывал в Грузии, а оттуда на несколько дней заехал погостить в Ставрополь.
Я уже говорил, что мы жили в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Это была первая в нашей семейной жизни отдельная квартира, и нам она нравилась. Зденек же весьма скептически осмотрел наше жилище. Видимо, по чехословацким меркам для первого секретаря столичного горкома партии выглядела она весьма скромной.
Зденек расспрашивал о положении в Союзе, в крае, о нашей жизни. Многое он поведал нам о процессах, происходящих в Чехословакии, падении авторитета Новотного. Я почувствовал, что Чехословакия стоит на пороге крупных событий.
Прошло полгода, и из газет я узнал, что Млынарж перешел на работу в аппарат ЦК КПЧ, стал одним из авторов известной «Программы действий КПЧ», а затем активным деятелем «Пражской весны». Я написал ему письмо, но ответа не получил. По намекам начальника краевого управления КГБ, входившего в состав бюро крайкома партии, мне стало ясно, что письмо мое пошло совсем по другому адресу.
О событиях 1968 года в Праге информация шла крайне односторонняя. Контроль за всякой информацией был жестким и тотальным, а уж за подобной — подавно. Чехословацкие события — я имею в виду акцию по вводу войск — начались 21 августа, а в начале этого трагического месяца, как я уже говорил, меня избрали вторым секретарем. В связи с отъездом Ефремова заседания бюро крайкома проходили под моим председательством. Перед заседанием, обсуждавшим сообщение Политбюро ЦК о вводе войск в ЧССР, позвонил Леонид Николаевич и, ссылаясь на беседы в ЦК КПСС, передал свои предложения. Бюро приняло резолюцию, одобрявшую «решительные и своевременные меры по защите завоеваний социализма в ЧССР».
Крайком поддержал ЦК, хотя, что же кривить душой, вопрос все-таки постоянно возникал: в чем смысл этой акции, насколько она соразмерна?
Подобные размышления питали мое стремление добраться до корней многих явлений внутренней и внешней политики, которые вызывали тревогу. По всему чувствовалось наступление реакции. После 21 августа началось «закручивание гаек» в идеологической сфере, жесткое подавление малейшего проявления инакомыслия. ЦК КПСС требовал от местных органов решительных действий в идеологии. Борьба с диссидентством приняла массированный повсеместный характер.
В начале 1969 года исполняющий обязанности заведующего кафедрой философии Ставропольского сельхозинститута Ф.Б.Садыков выпустил в краевом издательстве книгу «Единство народа и противоречия социализма». Написана она была раньше, на волне тех самых надежд и ожиданий, которые породили хрущевские, а отчасти и «косыгинские реформы». Рукопись книги за год до ее выхода обсуждали на кафедре, возил он ее в Москву, показывал даже кому-то из аппарата ЦК, напечатал статью в «Вопросах философии».
По существу, Садыков сформулировал ряд идей, которые стали находить свое решение лишь с началом перестройки. Но до перестройки надо было еще прожить более пятнадцати лет. А тогда… Даже то, что с грехом пополам могли принять в 1964–1967 годах, в 1969-м уже квалифицировалось как «крамола».
Из Москвы поступил сигнал — «проработать». И вот 13 мая состоялось бюро крайкома, рассмотревшее вопрос «О серьезных ошибках в книге доцента кафедры философии Ставропольского сельскохозяйственного института Садыкова Ф.Б.». Разделали мы его на бюро, что называется, под орех. Да, это был «долбеж». Главный наш «идеолог» Лихота требовал исключения из партии. Ефремов не поддержал. Остро критичным было мое выступление. Садыкову объявили строгий выговор, освободили от заведования кафедрой. Вскоре он уехал из Ставрополя, если память не изменяет, в Уфу.
Для меня то, что произошло с И.Бараковым, Ф.Садыковым, которых я знал лично, людьми, нестандартно мыслящими, стало не только причиной переживаний, но и началом поисков ответа на вопрос: «Что происходит с нами?» Мучила совесть, что мы, по сути, учинили над ними расправу, что-то неладное творилось в нашем обществе.
Дух реформаторства угасал на глазах. Дельные и разумные решения по экономическим вопросам, которые принимались на пленумах ЦК в 1965–1967 годах, все более блокировались. Был свернут курс мартовского Пленума ЦК, «косыгинская реформа» выдыхалась. Письма специалистов и ученых аккуратно складывались в мешки и спускались в подвалы архивов. Чехословацкие события фактически поставили точку на всех дальнейших поисках по преобразованию системы управления народным хозяйством.
Начинался «застой»…
Глава 6. Испытание властью
Весной 1970 года желание Ефремова наконец-таки осуществилось — его перевели в Москву.
Передо мной протокол заседания пленума Ставропольского крайкома от 10 апреля. Ефремов утвержден первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технике СССР и поэтому освобождается от поста первого секретаря крайкома. Предложение избрать на пост первого секретаря Ставропольского крайкома партии Горбачева встречается аплодисментами.
Избрание единогласное. Члены крайкома, естественно, знали меня хорошо и, помимо прочего, были довольны тем, что впервые за все годы этот пост занимает не «приезжий», а свой, ставрополец.
С моим избранием первым секретарем создалась уникальная ситуация. Дело в том, что все остальные секретари и члены бюро крайкома были значительно старше меня.
Феномен особого рода
Мне кажется, чтобы осмыслить внутреннюю структуру и механизмы существовавшей в стране системы, очень важно понять особую роль первых секретарей республиканских ЦК, обкомов и крайкомов партии. Они являлись одной из главных опор режима. Через них, при всей отраслевой и административной раздробленности аппарата, связывались в единую систему все государственные и общественные структуры. Они составляли большинство в Центральном Комитете КПСС, фактически их голосами избирался Генеральный секретарь, и уже это как бы ставило их в особое положение.
Стоит еще раз напомнить, что именно они обеспечили победу Хрущева в борьбе с группой Молотова и Маленкова. И они же свалили его в октябре 1964 года.
Сегодня кое-кто удивляется тому, что при всех поворотах, перипетиях нашей истории последних лет многие первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК республик сумели органично вписаться в новые структуры — как государственные, так и коммерческие. Между тем удивляться здесь нечему. Система тщательно отбирала наиболее активных, энергичных руководителей повсюду — на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в научных и учебных институтах, в самых различных социальных группах и слоях общества. Она действительно старалась снять сливки. Но если ты попадал в номенклатуру, то кто бы ты ни был — директор завода или талантливый инженер, выдающийся ученый или многоопытный практик, каждому отводилось определенное место в этой системе, он должен был следовать определенным правилам игры. И в конечном счете, пропуская кадры через этот «партийный сепаратор», система перерабатывала «сливки» в свое «масло».
На самый верх, как правило, поднимались руководители, я бы сказал, более толстокожие, особенно не переживавшие за моральные аспекты своих действий, те, у кого совесть запрятана глубоко-глубоко. Ибо качества руководителя оценивались главным образом с точки зрения способности достигать поставленной цели. О таком говорили: «рукастый», то есть ему можно поручить дело. О голове, тем более о совести претендента частенько забывали.
При выдвижении на пост первого секретаря обкома или крайкома действовали свои неписаные законы. Как правило, им становился второй секретарь, реже — председатель исполкома Совета, отраслевой секретарь того же обкома или же первый секретарь крупного горкома типа Свердловска, Харькова, Ташкента и т. п. По-иному бывало редко.
Опыт партийной работы считался обязательным. Исключения делались лишь для секретарей-идеологов, на должности которых приходили с заведования кафедрой, с поста ректора института, редактора газеты и т. п. Но крайне редко кто-либо из них избирался затем первым секретарем обкома или крайкома.
Считалось, что, поскольку партия отвечает за экономику, за жизнь страны в целом, руководителем крупного региона должен быть человек, специальность которого связана с народным хозяйством. Примечательно, что многие из первых секретарей — и по опыту работы, и по образованию — являлись аграрниками. И это была не только дань традиции (до недавнего времени с землей связывалась жизнь основной массы населения), в большинстве регионов аграрный сектор занимал преобладающее или очень важное положение. Были, впрочем, и гуманитарии, люди с педагогическим образованием.
Что касается роли первых секретарей, то ее можно сравнить разве что с положением прежних царских губернаторов. Вся полнота власти на местах практически была в их руках. Весь аппарат управления регионом, даже выборные органы они подгоняли под себя. Ни одно назначение не могло пройти мимо них, любые мало-мальски руководящие должности входили в номенклатуру обкома или крайкома. Даже в тех случаях, когда предприятие или институт подчинялись союзному министерству, министр не мог обойти первого секретаря и назначить кого-либо без его ведома. Исключение составляли разве что предприятия оборонного комплекса — этого «государства в государстве». Но и там все-таки старались учесть мнение местного руководства.
В общем, первый секретарь — это своего рода феномен, ключевая фигура в системе власти. Свою должность и огромную власть он получал не от народа, не в результате альтернативных выборов, а из рук Москвы — Политбюро, Секретариата, лично Генерального секретаря ЦК КПСС. В этом была уязвимость, двойственность положения первого секретаря. Каждый прекрасно знал, что он тут же лишится и должности, и власти, как только о нем изменится мнение в указанных инстанциях, будет потеряно доверие генсека.
Окончательное решение по кандидатурам первых секретарей принадлежало именно генсеку. Брежнев сам занимался формированием их корпуса и отбирал их тщательно. Перед этим Капитонов, Черненко скрупулезно изучали досье претендента. Думаю, получали они информацию из разных источников. На этой основе формировалось предварительное мнение. Затем происходили встречи кандидата с секретарями ЦК и лишь после них — с «самим». Всю эту процедуру от начала до конца прошел и я. Как только встал вопрос об отъезде Ефремова, меня вызвали в Москву. Беседы имел поочередно с Капитоновым, Кулаковым, Кириленко, Сусловым. Это был обязательный круг, через который проходили перед утверждением все первые секретари обкомов, крайкомов и республик.
Странный, если не сказать нелепый, характер носили эти встречи. Сидим, улыбаемся друг другу, ведем неспешный разговор. При этом я отлично знаю, зачем меня вызвали, но об этом никто не говорит, ибо произнести решающие слова — «мы вас рекомендуем» — мог только Брежнев.
Совсем по-другому происходила заключительная беседа с Генеральным секретарем ЦК КПСС. Брежнев, в этом я убедился и на той, и на последующих встречах, умел расположить к себе собеседника, создать обстановку непринужденности. В самом начале разговора он сказал, что ЦК рекомендует меня на пост первого секретаря крайкома.
— Ну что ж, — сказал он, — до сих пор работали чужаки, а теперь будет свой.
Потом Брежнев каким-то особо доверительным тоном стал рассказывать, как отступал в годы войны, двигаясь через Дон и Кубань к Новороссийску.
— Жара, пыль, безводье. Попить воды, утолить жажду — проблема. Тогда я обратил внимание, что люди собирают во время дождя воду с крыш в специальные емкости, — сказал он, вспоминая июль — август 1942-го.
Подтвердив правильность его наблюдений, я рассказал о Ставрополье, где все эти беды преследуют людей еще больше, нежели в донских и кубанских степях. И разговор наш вполне естественно переместился на ставропольские проблемы… Мне ясен был его нехитрый замысел — побольше слушать и через это составить мнение о собеседнике, его способностях анализировать местные и общесоюзные проблемы. Тут я рискнул использовать момент, чтобы решить один практический вопрос, о котором собирался говорить с Кулаковым. Дело в том, что 1969 год оказался на Ставрополье крайне тяжелым: сильные морозы, засуха, пыльные бури — все вместе. Погибли миллион гектаров озимых из двух миллионов посеянных, посевы многолетних трав. Зиму продержались, но надо дожить до нового урожая, а сейчас еще апрель, без помощи государства не обойтись.
— Помогите, иначе все пойдет насмарку, — взмолился я.
Он слушал внимательно, потом рассмеялся, снял трубку внутренней селекторной связи и соединился с Кулаковым.
— Слушай, Федор, — сказал он с нарочитой серьезностью, — кого же мы собираемся выдвигать на первого секретаря? Его еще не избрали, а он уже просьбы забивает, комбикорма требует.
Подобные номера, видимо, были у них уже отрепетированы, и я услышал, как в тон ему Кулаков ответил:
— Ну, так еще не поздно, Леонид Ильич, снять кандидатуру. Но независимо от этого Горбачев прав, край поддержать надо.
Далее разговор пошел на общие темы: об экономике — восьмая пятилетка сулила хорошие результаты; о внешней политике — уже вызревали идеи разрядки; о том, что с упрочением стабильности в стране уверенней и энергичней стали работать кадры. Обо всем этом Брежнев говорил подчеркнуто доверительно, будто именно со мной хотел поделиться своими сокровенными мыслями… Несколько часов мы беседовали в его кабинете на Старой площади. Мог ли я тогда подумать, что через 18 лет этот кабинет станет моим рабочим местом?
Хочу заметить, что Брежнев конца 60 — начала 70-х годов ничуть не был похож на карикатуры, которые рисуют на него ныне.
Планы развития края
На первом месте стояли на Ставрополье, конечно же, проблемы сельского хозяйства. На одном из первых заседаний бюро крайкома партии я поставил вопрос о разработке перспективного курса, который привел бы к росту специализации, внедрению промышленных технологий, радикальным изменениям в размещении сельскохозяйственного производства и в конечном счете к улучшению жизни ставропольчан.
Первым выступил заведующий сельскохозяйственным отделом крайкома Будыка.
Реакция этого толкового человека и моего друга была неожиданной. После заседания Александр упрекнул меня: надо ли было этот разговор сразу начинать с бюро крайкома.
Не поддержал меня на заседании бюро и второй секретарь Николай Жезлов, явно обидевшийся, что я с ним не посоветовался предварительно. Разумный выход предложил председатель исполкома Босенко:
— Знаете что, товарищи, такие вопросы требуют серьезного размышления. Я считаю, всем нам надо подумать над ними и продолжить разговор на эту тему.
Меня случившееся не обескуражило, я лучше увидел своих коллег, понял и свои тактические промахи. Потом было еще одно заседание бюро, к нему я уже изложил свои соображения в письменном виде. И развернувшаяся дискуссия закончилась согласованными решениями.
С этого эпизода и завязался процесс коллективных размышлений, совещаний и встреч с учеными, специалистами, практиками. Созданная таким путем долговременная программа развития сельского хозяйства края была осенью одобрена пленумом крайкома. Важнейшими ее элементами стали рациональное размещение сельскохозяйственных предприятий, их специализация, внедрение промышленных технологий, развитие обводнения и орошения земель, подготовка кадров, научные исследования. Почти десять лет я отдал работе по воплощению в жизнь этой программы, но и, покидая Ставрополье, видел, как много еще предстоит сделать.
Главная задача — придать устойчивость сельскому хозяйству. Ставропольский зональный научно-исследовательский сельскохозяйственный институт подсчитал, что за 100 лет — с 1870-го по 1970 год — в крае 75 лет были малоурожайными, из них 52 — засушливыми. Зона рискованного земледелия. Почти 50 процентов территории — засушливые и крайне засушливые степи. Настоящая беда нависает над югом страны, когда с востока от Астрахани начинают дуть мощные суховеи. Пройдя по всему Ставрополью, они идут далеко на запад.
Степень риска при ведении сельскохозяйственных работ была такова, что до тех пор, пока зерно не оказывалось в хранилищах, ничего предугадать было невозможно. В 1974 году ожидался большой урожай. Как раз в это время в Ставрополь приехал Кулаков для встреч с избирателями. Повезли его по степным районам, где рос главный наш хлеб. И тут же был его избирательный округ.
Ездили день, два, три. Хлеба вокруг… невиданные. Реакция Кулакова была неожиданной:
— Ну и друзья, ну и жулье! Я-то думал, вы мои воспитанники, а вы скрываете от меня хлеб!
— Почему же скрываем? — отвечал я. — Вот, показываем.
— Знаю, знаю, раздали бы тут все, — говорит Кулаков. Уехал он в Москву, а вскоре звонит Карлов:
— Что же ты молчал? «Главный» говорит, что десять тысяч машин даст тебе на уборку. Надо с вас как следует качнуть хлеб в этом году.
Вскоре, с 29 июня по 2 июля, в Ставрополье прошли дожди, а потом установилась жара, задули суховеи. И собрали мы всего-навсего по 15 центнеров с гектара. Четыре дня свели на нет усилия года.
Проекты обводнения края появлялись и в конце прошлого — начале нынешнего века, но первые реальные шаги были предприняты лишь в 30-е годы, когда построили Терско-Кумскую систему и начали сооружение Кубань-Егорлыкского и Кубань-Калаусского оросительных каналов. В конце 1969 года оба они были переименованы в Большой Ставропольский канал (БСК), и по проекту Пятигорского филиала института «Южгипроводхоз» началось строительство его второй очереди.
Размышляя над перспективами развития края, мы подсчитали, что при существующих темпах сооружения БСК ни мы, ни наши дети не увидят зримых результатов. А ведь на майском Пленуме ЦК КПСС 1966 года, затем на июльском Пленуме 1970 года говорилось об ускорении водохозяйственных работ на Северном Кавказе. Я решил этим воспользоваться. Была подготовлена записка в ЦК КПСС, в ней обосновывалась возможность строительства канала длиною в 480 километров от Прикубанья до Калмыцких степей.
Осенью 1970-го, находясь на отдыхе в Кисловодске, познакомился с министром мелиорации и водного хозяйства СССР. Попросил его прочитать подготовленную записку и выкроить 2–3 дня для поездки по краю.
Евгений Евгеньевич Алексеевский записку прочитал, а затем пригласил спецов, задал им кучу вопросов. Но итог был таков — обещает поддержку. Посоветовал: в записке ставить вопрос не о программе на 15 лет, а на ближайшую пятилетку. В шутку сказал: «Я понимаю, вы — секретарь молодой, для вас это не срок, но для других уже недостижимый рубеж».
Теперь надо было добиваться приема у генсека. Помог случай. В Баку отмечалось 50-летие Советской власти, были приглашены гости из республик, в составе делегации РСФСР попал и я на торжества. Туда приехал и Брежнев.
На трибуне в какой-то момент у нас с Леонидом Ильичом состоялся короткий разговор, и я обратился к нему с просьбой о приеме. Назвал тему, получил согласие. Встреча состоялась в декабре, Брежнев опять слушал меня внимательно. Просмотрел все расчеты и схемы, задал много вопросов и попросил оставить материалы, в том числе таблицу о засухах за последние 100 лет. Вскоре состоялось заседание Политбюро, на которое меня даже не стали приглашать, ибо сам Брежнев сделал информацию о планах строительства канала, заметив при этом, как мне передали, что «надо поддерживать новых, молодых руководителей, которые ставят вопрос крупно, по-государственному».
7 января 1971 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление об ускорении строительства Большого Ставропольского канала и оросительно-обводнительных систем. Были отпущены большие средства, стройку объявили Всесоюзной ударной комсомольской, в край двинулись десятки тысяч молодых людей, направлена необходимая техника. Особую задачу — строительство трех тоннелей — решали строители Метростроя. Темпы работ были высокими, уже в 1974 году мы праздновали первые успехи: в апреле — сбойку тоннеля под Крымгиреевскими высотами, в ноябре — пуск второй очереди БСК.
До завершения строительства канала — всех его шести очередей — было еще далеко. Но уже надо было думать и о других элементах перспективной программы, в частности о выборе оптимальной для наших мест системы земледелия. Разговор об этом на пленуме крайкома мы начали еще в ноябре 1970 года. И тогда казалось, что все обстоит достаточно ясно: используем поливные земли под пшеницу. Но было и другое предложение: разместить на поливе кормовые культуры, в частности люцерну, которая могла дать здесь за сезон до пяти урожаев. А для производства пшеницы перейти на так называемое «сухое земледелие», предполагавшее комплекс агротехнических мероприятий, основой которого было введение и грамотное использование паров. Эту позицию поддерживали и продвигали ученые Ставропольского научно-исследовательского института, который тогда возглавлял Александр Александрович Никонов, впоследствии ставший президентом Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В.И.Ленина.
Такого рода эксперимент проделал без всякого шума в своем колхозе Николай Терещенко. Как только орошение подошло к полям колхоза, он переместил на полив люцерну и кукурузу, а освободившуюся землю превратил в пары, доведя их до 15 процентов пахотных угодий. Результаты сказались довольно скоро. В засушливые годы, когда хлеб у всех горел, колхоз Терещенко собирал пшеницы примерно по 20 центнеров с гектара. А в более удачливые годы, когда хозяйства получали 20–25 центнеров, в колхозе Терещенко — минимум 35.
Казалось бы, все ясно, именно по такому пути мы и должны двигаться. Но стоило лишь завести разговор на этот счет, как тут же нам напомнили: это противоречит линии Центрального Комитета, в его решениях Северный Кавказ назван зоной выращивания пшеницы на орошаемых землях. Возник непреодолимый по тем временам барьер, никакие аргументы в расчет не принимались. Но, как у нас говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
В 1975 и 1976 годах на Ставрополье вновь обрушились жесточайшие засухи. Редко случалось, чтобы засухи повторялись два года подряд, ну а чтобы оба года сопровождались еще сильными морозами и весенними пыльными бурями — такое на Ставрополье за 100 лет наблюдалось всего лишь три раза. 1975 и 1976 годы как раз вошли в это число. Особенно тяжким был 1976 год. На половине площадей посевы выгорели полностью: зерновые, кукуруза, бобовые, травы — сгорело все. В предчувствии беды крестьяне начали бросать дома, землю, переселяться в пригородные районы, в соседние республики. Встал вопрос о прекращении деятельности 127 колхозов, а это в крае — каждый третий.
29 мая я вылетал из Ставрополя в Арзгирский район — в зону засухи. Там я должен был встретиться с руководителями колхозов и совхозов. Летел с Тарановым на «кукурузнике» (АНТ-12) совсем низко над землей, и на протяжении почти всех трехсот километров под нами расстилались выгоревшие поля. Лишь там, где были какие-то локальные источники влаги, ярко зеленели небольшие оазисы, а вокруг и дальше до горизонта — сплошная чернота.
Тяжелые мысли не покидали меня. Что сказать людям? Степняки — народ особый, закаленный и прямой в суждениях. Не случайно из этих мест выходило много крепких руководителей: уж если здесь человек добивался успеха, ему можно было поручать любую работу. После приземления отправились на встречу в Дом культуры. Вошли в зал. Люди испытующе смотрели на нас.
Незадолго до этого состоялся тяжелый разговор с заместителем министра сельского хозяйства РСФСР Калининым. Был он из наших, ставропольских, до министерского кресла возглавлял краевое сельскохозяйственное управление. Не знаю, чем он руководствовался, возможно, желанием снять с себя ответственность, но после поездки в районы засухи явно запаниковал, твердил одно и то же — надо срочно сбрасывать поголовье скота.
Сидевший в кабинете мой друг — заместитель председателя крайисполкома Георгий Старшиков, малоразговорчивый, но весьма содержательный и решительный человек, моряк-фронтовик, вскипел:
— Юрий Петрович, ты что паникуешь? Приехал помогать или пугать? Нам и без тебя здесь тошно. Мы отвечаем за все и все берем на себя.
Калинин обиделся, уехал и соответственно доложил в ЦК. На следующий день звонит мне Карлов. Человек он был выдержанный, панике не поддавался, но и у него волнение в голосе:
— Слушай, Михаил Сергеевич, Калинин в растерянности. Считает, что вы недооцениваете ситуацию. По-моему, и Кулакова завел. Так что жди звонка.
Действительно, вскоре позвонил Федор Давидович:
— О чем вы там думаете, Михаил?.. — раздраженно начал он.
В эти дни, когда работать приходилось буквально круглые сутки, нервы были напряжены до предела. Поэтому, чтобы не сорваться, никак не реагируя на тон разговора, я ответил подчеркнуто спокойно:
— Все, что мы делаем, обдумано, и обдумано серьезно. Пока еще июнь, лето впереди. Запас времени, хоть и небольшой, есть. Если сейчас перебить скот и овец, придется закрывать около одной трети колхозов и совхозов. Те, кто уходит, бросают все, покупают дома в пригородных зонах. Потребуются десятки лет, чтобы восстановить брошенные хозяйства. Я намерен действовать, чтобы это не произошло.
Кулаков долго молчал, потом сказал:
— Если ты уверен, бери всю ответственность на себя. Но смотри…
Федор Давыдович повесил трубку. Не знаю, почему так остро и болезненно реагировал на мои доводы Кулаков. Грешным делом я подумал, его недовольство объясняется тем, что в аналогичной ситуации в 1975 году он действовал в стране так, как предлагал Калинин, — пошел на сброс нескольких миллионов свиней.
Словом, внутренне я принял решение, его разделили мои ближайшие соратники. Это и определило содержание моего выступления в Арзгире.
— Вы сами знаете, — сказал я, — беда тяжелейшая. Но мы родились, выросли на этой земле, знаем ее капризы-сюрпризы, и хватит об этом, тут нам с вами все ясно. На одной половине территории края посевы выгорели, но на остальной — обстановка нормальная. Вот и давайте думать, как сохранить хозяйство, спасти скот.
В зале одобрительно зашумели…
— Часть скота, особенно мясного, перегоним на горные пастбища. Там откормим и забьем. А на заготовку кормов немедленно поднимем население края — всех без исключения. Выделим для степняков площади кормовых в благополучной зоне. Поступим иначе — все погубим. В общем, за нами край. Уверен, и страна поможет…
Корм собирали в оврагах и лесополосах, в придорожных канавах и городских газонах, в соседних регионах. В эту всеобщую кампанию включались даже отдыхающие, прибывшие в санатории. Заготовленные корма отправляли в зону засухи. Я срочно вылетел в Москву, рассказал все Кулакову, потом пошел к Брежневу. Еще до нового урожая центр оказал ставропольцам срочную помощь, выделив 60 тысяч тонн концентрированных кормов. Не меньшей бедой стал недостаток воды, прежде всего для населения, но также и для животных. Оставалось одно — завозить из другой части края. И это было сделано: на два месяца в городах исчезли водовозы, поливомоечные машины.
А вскоре дожди пошли. Быстро посеяли поздние травы, кукурузу на «зеленку». Проблема грубых и сочных кормов была решена. В конце года хозяйствам, попавшим в засуху, из государственных ресурсов выделили 700 тысяч тонн зернофуража. Край был спасен.
Летом 1976 года я окончательно утвердился в мнении, что без паров проблему устойчивых урожаев не решить. Убедил опять-таки опыт Терещенко и его последователей: у них пшеница и в это лето, хоть и частично, но выстояла. В августе я подготовил записку в Политбюро с обоснованием перехода в специфических условиях Ставропольского края к системе «сухого земледелия». Поехал с ней к Кулакову, хотя знал его как ярого противника паров: он ведь родился и большую часть своей жизни прожил в Курской, Пензенской областях. Но мы поставили вопрос так — пусть планы заготовок зерна остаются теми же, дайте право самим работникам сельского хозяйства решать, как работать на земле. Кулакова особенно смущало сокращение площадей под зерновыми.
— Показатели по площадям, — убеждал я его, — ни о чем не говорят. Вот посмотрите: мы сеем озимую пшеницу почти на двух миллионах гектаров, в том числе на 250 тысячах после уборки кукурузы и подсолнечника, — поздно. Всходы слабые, при первых же морозах погибают. То, что мы предлагаем, уже опробовано многими колхозами края. Скажу больше: некоторые колхозы и совхозы отчитываются, что посеяли озимые, но на самом деле это неправда: не хотят расходовать ресурсы, труд людей.
— Если сам хочешь рисковать, — сказал он в заключение, — выходи на Леонида Ильича. Даст он «добро», я возражать не буду.
Брежнев в этот момент отдыхал в Крыму. Туда я и направил ему свою записку.
Проходит день, два… На третьи сутки ночью звонок из крайкома:
— Михаил Сергеевич, очень важная шифротелеграмма. Поехал. Оказалось совсем не то, даже наоборот: всем секретарям обкомов и крайкомов направлялась записка группы академиков ВАСХНИЛ, которые считали, что сложились благоприятные условия для расширения посевов озимых. А я послал Брежневу записку о сокращении! Конечно, рождение записки академиков не обошлось без участия Кулакова.
Проходит еще день, два. Наконец звонок от Брежнева:
— Прочитал я твою записку, Михаил Сергеевич. Думал над ней, советовался. И знаешь, вспомнил опять Казахстан. Мне Терентий Мальцев говорил тогда, что без паров не обойтись. Так что делай, я тебя поддержу.
Я понимал, что эти несколько фраз дались Леониду Ильичу после больших сомнений — слишком сильны были предубеждения против паров. Позднее узнал: как раз в это время в Крыму отдыхал Сергей Манякин, секретарь Омского обкома партии. Он родом из Арзгирского района нашего края, чуть ли не каждый день гулял с помощниками генсека и, когда его спросили о парах, ответил: прав Горбачев. Вот так иной раз решались жизненные вопросы.
Полетел я снова в Москву. Вместе с Кулаковым составили проект решения Политбюро и правительства о введении системы сухого земледелия в Ставропольском крае. Вскоре оно было принято. Впрочем, как не раз бывало и с другими постановлениями по сельскому хозяйству, его сразу же попытались блокировать. Первыми «бдительность» проявили аппаратчики Российского Совета Министров. А скоро, чем я был удивлен до крайности, последовало постановление Политбюро… о дальнейшем расширении посевов зерновых во всех регионах страны. Но тогда я решил не отступать ни перед каким давлением. И устояли.
На следующий, 1977 год урожай был хороший и получили мы его не в последнюю очередь благодаря положительному воздействию паров и «ипатовскому методу», позволившему проводить уборку в сжатые сроки. А в 1978 году вообще небывалый урожай — по две тонны на каждого жителя Ставрополья. Зарубцовывались раны, нанесенные засухой, восстанавливалось утраченное. Даже те, кто уехал поближе к городам, стали возвращаться в родные места. И было это уже не результатом аврала или стечения обстоятельств, а естественным итогом наших нововведений.
Ставрополье — край тонкорунного овцеводства. Овцы содержались практически во всех хозяйствах. Два с половиной миллиона из них размещались на «черных землях» Калмыкии — зимних пастбищах. И речь шла не только о производстве шерсти и мяса, в крае занимались выведением новых пород. Время перемен и здесь пришло. Возможности экстенсивного развития овцеводства оказались исчерпаны. Современный крестьянин предпочитает иметь дело с новыми технологиями. В повестку дня встала интенсификация отрасли.
Став первым секретарем крайкома, я занялся и этой проблемой. Снова должен был со своими коллегами убеждать центр в необходимости инвестиций в овцеводство края. Пришлось прошагать немало километров по московским коридорам власти, доказывая очевидное. Конечным результатом стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии и укреплении материально-технической базы племенного тонкорунного овцеводства в Ставропольском крае». А за постановлением последовала трудная и необычная работа. Ведь на овцеводство смотрели как на отрасль, где все решается само собой: выпустил овец на пастбища, и вся забота. Обманчивое представление! Кто-то правильно сказал: занятие овцеводством требует профессорской эрудиции. И в этом нам пришлось еще раз убедиться.
Кажется, действовали осторожно, много лет экспериментировали, искали технологические решения, которые учитывали бы особенности отрасли, районов края и, конечно, специфику труда овцеводов. Но как только мы начали переводить маточные отары с пастбищ в механизированные овцекомплексы, а молодняк — на большие механизированные откормочные площади, почувствовали неладное. Оказалось, концентрация овец имеет свои пределы, без пастбищ не обойтись, и уж как минимум овцы большую часть времени должны находиться на воздухе и в движении. Не только это. Овцы, когда они на пастбищах, сами находят для себя лечебные травы. А на стойле — где их взять?! Пошли болезни, увеличился падеж. В общем, старая отрасль преподнесла нам суровый урок, результаты ухудшились. Нам стало ясно, что ошиблись. Хорошо еще, что опомнились, поняли свои ошибки в начале пути. Надо было быстро скорректировать планы. Удалось найти оптимальные типы овцеводческих комплексов, занялись организацией культурных пастбищ, выращиванием люцерны на орошаемых землях, производством качественного сена. Но, пожалуй, решающее значение имело налаживание племенной работы.
К концу 70-х годов удалось изменить ситуацию по развитию овцеводства к лучшему. За пределы края уже продавалось несколько сот тысяч голов племенных овец. Элитные животные продавались в Индию, страны социалистического содружества, арабские и азиатские страны. Это приносило хорошие доходы. Больше стали настригать шерсти, да и качество ее значительно повысилось, овцеводство стало прибыльным.
Продвигалось строительство Большого Ставропольского канала. В августе 1978 года тоннельный отряд московского Метростроя, возглавляемый Владимиром Николаевичем Осидаком, завершив проходку семикилометрового тоннеля у села Александровского, открыл путь водам Кубани в восточноставропольские степи. Вода пришла в села, на поля, фермы. И так уж получилось, что, пойдя против решений центра об использовании поливных земель исключительно для посевов пшеницы, мы создали свою достаточно эффективную систему. Благодаря парам урожай зерна в крае даже в засушливые годы стал более или менее стабильным — сначала около 5 миллионов тонн, потом и больше. Устойчивыми стали урожаи кормовых культур на орошении — до 80 центнеров кормовых единиц с гектара — самый высокий показатель в России[6].
Что нас еще донимало, так это мясное дело. Ставрополье было основательно нагружено планами поставок мясопродуктов в другие регионы. А в те годы ситуация на рынке продуктов животноводства обострилась до крайности, причем бедствовали не только индустриальные центры, но и такие районы, как Кубань, Дон, Ставрополье, сами крупные производители и поставщики товарного зерна, мяса, молока, овощей, фруктов. Наш край в те годы отправлял за свои пределы 75 процентов заготовленного мяса, краснодарцы — 80, ростовчане — 56. Планы были таковы, что для их выполнения использовался и скот, купленный в личных подсобных хозяйствах. Все шло подчистую — контроль был жестким и постоянным. Снабжение же мясными продуктами в крае становилось хуже и хуже. Все чаще в поездках по городам и селам приходилось объясняться с людьми на этот счет. На Невинномысском химическом комбинате рабочие обвинили меня в том, что я, выслуживаясь перед ЦК, все отправляю в другие районы страны, забывая о своей ответственности перед жителями Ставрополья.
Недовольство жителей края начало приобретать острые формы. Обдумав ситуацию, я решил написать записку в ЦК КПСС — поставил вопрос об упорядочении распределения продовольственных ресурсов. То же сделали кубанцы. Секретариат ЦК под председательством Суслова обсудил обе записки, призвал Совмин РСФСР рассмотреть сложившуюся ситуацию. В беседе с М.С.Соломенцевым мне было сказано: «Ваши просьбы обоснованны, но правительство России ничем помочь не может». Круг замкнулся.
Надо было что-то делать самим. Родилась идея — создать за 1,5–2 года новые мощности в птицепроме, сконцентрировав все птицеводство в 28 крупных хозяйствах. Переложить часть плановых заготовок на птицепром. А то, что заготавливается в личных подсобных хозяйствах, направить через кооперацию на снабжение населения края. Тогда я решил встретиться с Н.Ф.Васильевым — заместителем Председателя СМ РСФСР. Он ведал аграрными делами и был на всю страну известен как яростный приверженец строительства животноводческих комплексов. Мой расчет был такой — получить одобрение программы развития птицеводства, а корма придут вслед, поскольку птицепром — прерогатива России. Что это, хитрый маневр? Возможно. Но я не входил в конфликт со своей совестью, поскольку Ставрополье поставляло государству в больших количествах зерно.
Васильев горячо поддержал эту инициативу, и за два года на Ставрополье программа была осуществлена. Своими решениями крайком приостановил практически все производственное строительство в колхозах и совхозах, мощности строительных организаций были использованы на сооружении птицеводческих комплексов. Города края также были привлечены. К моему отъезду в Москву производство мяса птицы увеличилось с 11 до 44 тысяч тонн. Одновременно начала осуществляться программа поддержки личных подсобных хозяйств, создания садово-огороднических кооперативов вокруг городов. Производимая ими продукция пошла населению края. И обстановка разрядилась, причем на много лет.
В те годы пришлось основательно заниматься индустриализацией края, развитием городов и райцентров. Ставрополье становилось регионом электронной, электротехнической, химической, цементной промышленности и машиностроения. Строительство новых электростанций и реконструкция старых избавили край от постоянного дефицита энергии, а позже она потекла в соседние области. И еще — газификация населенных пунктов, строительство дорог, соединивших не только города, райцентры, но и большинство сел между собой. Была завершена программа модернизации легкой и пищевой промышленности.
Производственное строительство обострило социальную сферу, хотя и создало новые возможности. Если на начальном этапе развития промышленности эти проблемы отодвигались на второй план, то со временем им стал отдаваться приоритет. На Ставрополье потянулись просители из министерств и ведомств о строительстве новых предприятий, расширении действующих, а мы со своей стороны ужесточили требования с акцентом на социальные вопросы. В решение социальных проблем села втягивались колхозы. Появилась необходимость в целевых программах, к разработке которых были подключены научные силы Ставрополья. Правда, их оказалось недостаточно. И тогда мы наладили сотрудничество с научными центрами столицы. Это поднимало весь уровень работы, делало нашу региональную политику более обоснованной, избавляло от просчетов в работе.
На Ставрополье расположены уникальные курорты Кавказских Минеральных Вод — старейшие в стране, пользующиеся заслуженной славой. К этому надо добавить туристические базы Карачаево-Черкесии, куда зимой и летом приезжают сотни тысяч людей. Это то, чем всегда гордились ставропольчане, но с этим всегда было и много хлопот: принять, обслужить два с половиной миллиона человек, приезжающих по путевкам, и в два раза больше — самостоятельно, как у нас говорили, «диким образом», дело непростое. Курорты лихорадило. Мало того, что они не удовлетворяли огромный спрос на услуги и курортная база нуждалась в расширении. При поддержке Косыгина, Мазурова, ВЦСПС стало возможным принятие крупных решений по реконструкции курортов Кавказских Минеральных Вод. Их выполнение значительно изменило облик городов, уровень благоустройства, а за этим последовала настоящая «курортная лихорадка». Как грибы стали расти новые санатории, кемпинги, туристические базы, начала формироваться современная инфраструктура. Была осуществлена дорогостоящая реконструкция Минераловодского аэропорта, ставшего одним из крупных аэропортов страны.
Пишу я все это, а сам думаю — не надоел ли читателю производственными подробностями: урожаи, засухи, орошение, дороги, курорты и так далее. Бесконечные планы, разработки, пленумы, записки в ЦК, «обхаживание» высокого начальства, схватки с ретроградами…
Были, наверное, и на «губернаторских постах» люди, ухитрявшиеся жить по-барски, передоверяя все подчиненным. Но, насколько я знаю, большинство «первых» трудились каторжно и быстро изнашивались на этой ответственной работе, требовавшей огромного напряжения и нервоотдачи.
Уже тогда меня все чаще посещали мысли: разумно ли такое устройство, если чуть ли не все зависит от «хозяина», его пробивной силы, изворотливости? Почему всякое начинание, вроде бы всецело отвечающее общественным интересам, встречается с подозрительностью, а то и принимается сразу в штыки? Чем объяснить, что система так мало восприимчива к обновлению, отторгает новаторов?
Бродили в голове и другие «бунтарские мысли». Но серьезно размышлять над всем этим было недосуг. Денно и нощно трудился я над тем, чтобы реализовать свои замыслы, задать другую динамику развитию края. Главное — создать предпосылки на будущее. От моих действий многое зависело, но замыслы остались бы благими пожеланиями, действуй я в одиночку.
Дать шанс
Мой подход в работе с кадрами — дать всем шанс проявить себя — оправдался. Одни действительно смогли реализовать свои способности, другие, почувствовав, что новые задачи им не по плечу, попросили о переходе на другую работу или ушли на пенсию. Не ручаюсь за каждый случай — обновление кадров захватило все сферы жизни края, но, мне кажется, произошло оно быстро и без особого драматизма.
С секретарями крайкома мои взаимоотношения строились на правиле: согласование по принципиальным вопросам, в остальном — полная самостоятельность. Контроль — за мной. Может показаться, настоящая вольница. Но только на первый взгляд. А на деле сразу проясняется, кто чего стоит.
Секретари это поняли, каждый из них скоро почувствовал свою роль и ответственность. Только Жезлов принял этот принцип за возможность использовать свое положение как заблагорассудится, действовал по-старому. До меня стал доходить ропот со всех концов. Пришлось объясниться. Мои беседы он воспринимал болезненно, продолжал катиться по наклонной: пьянки, охота, рыбалка. Пришлось его освободить и отправить на пенсию. На смену пришел 40-летний Виктор Казначеев.
В новой обстановке трудно было и Ивану Лихоте: обхаживания Кулакова и Ефремова, дававшие ему какие-то дивиденды, по отношению ко мне результатов не имели. Да и молодые кадры подпирали. Он это понимал, сам попросился на пенсию. Его заменил выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС Коробейников Анатолий, на 15 лет моложе своего предшественника.
По традиции, которой следовали во всех областях, я входил в состав краевого исполнительного комитета, избираемого на сессии крайсовета открытым голосованием. Отнюдь не этим, однако, определялось влияние первого секретаря по отношению к Советам, а тем, что все назначения в Советах осуществлялись с согласия крайкома партии. Простой и всеохватывающий механизм той системы.
Первые месяцы работы показали, что не обойтись без серьезного обновления первых секретарей горкомов и райкомов партии. Я не стал ждать новых выборов в краевой парторганизации. Не скажу, что это проходило просто, поначалу сказывалось на делах, но потом с лихвой окупилось. Секретари партийных комитетов разделили со мной трудности поисков, многие стали для меня не только опорой в делах, но и по-человечески близкими людьми.
Во всей партийной иерархии должность первого секретаря горкома и райкома наиболее трудная и ответственная. Она требует от человека быть политиком и практиком, духовным наставником и организатором, компетентным хозяйственником и тактиком, если хотите — стратегом, хотя и районного масштаба. Самое удивительное, что главному — психологии общения, умению работать с людьми — вообще нигде никого не учили. Приходилось рассчитывать лишь на природные человеческие качества руководителя, на понимание того, что люди гораздо больше и лучше сделают не по приказу и принуждению, а, во-первых, по интересу и, во-вторых, если с ними обращаются по-человечески. Секретарь райкома должен был обладать целой гаммой достоинств. Найти таких людей достаточно трудно. Вот почему подходящих кандидатов я продвинул на должность первых секретарей райкомов, прибегая к кооптации. Получал замечания от ЦК КПСС, но это не останавливало меня. Ведь речь шла о людях, позарез нужных делу.
На должность первого секретаря райкома Виктор Владимирович Калягин, кандидат ветеринарных наук, пришел с поста директора овцеводческого совхоза, а Яков Иванович Чумачев — председателя крупного колхоза. Георгий Савельевич Хуртаев и Иван Петрович Кошель были до этого начальниками районных сельхозуправлений, а Иван Антонович Толстой — председателем райисполкома. Каждый из них являл собой ярко выраженную индивидуальность, со своим характером, стилем и методами работы.
Калягин, руководивший Ипатовским райкомом, был человеком знающим, интересным, с большим организаторским талантом. Он умел не только воодушевить людей, но и крепко нажать. В нем часто прорывался администратор, и ему пришлось немало поработать над собой, чтобы избавиться от «директорского стиля». А вот сила Якова Чумачева была в том, что он давал возможность людям проявить самостоятельность. Дела вел мягко, без нажима. Иным талантом руководства людьми обладал Иван Кошель. Я знал его по работе в крайкоме комсомола и до сих пор помню его спокойный, тихий голос, наши беседы.
Он встал во главе трудного Апанасенковского района, граничащего с Калмыкией и Ипатовским районом, и было интересно наблюдать, как по-разному Калягин и Кошель добивались высоких результатов. Виктор — за счет темперамента, размаха, напористости. У Ивана все выглядело спокойней, он двигался к цели шаг за шагом, действуя основательно, без внешних эффектов. Что самое важное — с приходом этих образованных и уже опытных людей утверждался и новый стиль руководящей, управленческой работы, новые приоритеты. С их именами связана реализация обширных программ социального развития степных районов.
Это были новые, молодые секретари. Но и среди старых встречались прекрасные организаторы, преданные делу без каких-либо карьерных замашек. Пожалуй, наиболее интересным среди них с чисто человеческой точки зрения был Григорий Кириллович Горлов. Участник войны, политрук, попал в окружение, был тяжело ранен. Лежал под танком, отстреливался, приберегая для себя последний патрон, чтобы не попасть в плен. Потерял сознание и уже не помнил, как подобрали свои, как в госпитале отрезали ногу.
Исключительно порядочный, мужественный человек и неутомимый труженик. Избрали его первым секретарем Изобильненского райкома — это неподалеку от Ставрополя. Район запущенный, тяжелый. Пыльные бури и эрозия почв доконали местные колхозы и совхозы. Горлов буквально поставил район на ноги. Вы только представьте: на протезе, с палочкой по бескрайним полям и оврагам! В 1973 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Калягин, Чумачев, Горлов — секретари сельских районных организаций. Одновременно с ними новые люди приходили в городские комитеты партии, в аппарат крайкома. По общему стилю поведения, культуре, крепкому базовому образованию и даже внешнему облику они как бы представляли новое поколение, улавливавшее импульсы времени.
Одним из первых моих «выдвиженцев» стал Всеволод Серафимович Мураховский. Сначала мы с ним работали в комсомоле, потом стали осваивать партийную работу. Мураховский возглавлял Кисловодский и Ставропольский горкомы, Карачаево-Черкесский обком партии, где более всего проявились его способности. У меня были все основания рекомендовать его секретарем крайкома в связи с моим избранием секретарем ЦК.
После отъезда Мураховского в Москву его сменил на посту первого секретаря крайкома Иван Сергеевич Болдырев. Родом он из кубанских казаков. Познакомился я с ним еще в 1956 году во время командировки в Новоалександровский район после XX съезда КПСС. Было ему тогда 19 лет, и работал он вторым секретарем райкома комсомола. Ну а после окончания финансово-экономического института и партшколы Болдырев вернулся в краевую парторганизацию, в 1978 году по моему предложению был избран секретарем крайкома. Человек больших способностей и сильного характера, он трудно пережил распад Союза. Политику российского руководства не принял, не пошел на сделку с совестью, как это сделали некоторые из моих земляков, ушел на пенсию. Ему и сейчас не дают покоя — как же, «остался на стороне Горбачева». Недавно узнал, что Иван Сергеевич тяжело болен, мы с Раисой Максимовной предприняли что могли. Кажется, беда отступила.
А вот с другим моим «выдвиженцем» Вениамином Георгиевичем Афониным пути наши на определенном этапе разошлись. На должность секретаря горкома он пришел с химкомбината. Трудным было вхождение Афонина в новую роль, действовал на новом месте как слон в посудной лавке. Но со временем Афонин нашел себя, много хорошего сделал для города и жителей. Когда его взяли в аппарат ЦК заведующим отделом, а потом избрали первым секретарем Куйбышевского обкома партии, я воспринимал это как признание его способностей. Жаль, что с разворотом перестройки стал он одним из ярых защитников старой системы.
В моих реформаторских делах на Ставрополье неоценимую помощь я получил от Владимира Ильича Калашникова. Это человек разносторонних знаний и интересов. Я выдвинул его секретарем крайкома по сельскому хозяйству. Затем он стал министром мелиорации и водного хозяйства РСФСР, а в 1984 году — первым секретарем Волгоградского обкома КПСС. Дела у него шли неплохо, потом возникли осложнения, и ему пришлось уйти с этого поста. Калашников имел свой взгляд на реформы, но я не считал это уж такой бедой. А как-то смотрю телевизор — сидит среди фундаменталистской коммунистической братии.
В секретарском корпусе
Моя работа в крае была тесно связана не только с центром, но и с другими регионами страны. Налаживание контактов я начал со своих ближайших соседей, в первую очередь — секретаря Краснодарского крайкома Григория Сергеевича Золотухина. Познакомились мы в 1969 году, когда он вместе с госкомиссией приехал на Ставрополье для оценки ситуации, сложившейся после заморозков, засухи и пыльных бурь. На первый взгляд Золотухин производил впечатление не слишком симпатичное: невысокий рост, квадратное, будто рубленное топором, лицо, подчеркнутая резкость в суждениях и выражениях.
Но уже с первого знакомства за всем этим почувствовал я крупную, самостоятельную, в определенном смысле цельную личность. Это был прежде всего человек действия, причем действия, основанного не на тупой исполнительности, а на твердом убеждении, что все, что он делает, действительно необходимо партии и людям. Более десяти лет Золотухин работал первым секретарем Тамбовского обкома КПСС, а в 1966 году был переведен в Краснодарский край. Вскоре стала доходить до нас информация, что взялся он за дело круто. Надо сказать, кадры на Кубани, во всяком случае, немалая их часть, были не то что избалованны, а просто распущенны. Своей строгостью, высокой требовательностью, личным аскетизмом и скромностью Золотухин сумел быстро навести порядок в этом огромном крае.
После своего избрания я позвонил ему и напросился в гости, посмотреть своими глазами, как он решает схожие задачи. Золотухин встретил меня сердечно, отложил все дела и колесил со мной по краю несколько дней. Постепенно наши отношения из партнерских переросли в дружеские. Был он на 20 лет старше, но никогда не становился в позу ментора, поучающего «мальчишку».
— Ну, что молодая голова думает? Как ты это понимаешь и что делать будем? — часто спрашивал меня Золотухин.
Установил я тесные связи с другим моим соседом — Иваном Афанасьевичем Бондаренко, который после Соломенцева с 1966 года возглавлял Ростовский обком КПСС. Особенно близких отношений у нас с Бондаренко не сложилось, но нам удалось наладить плодотворные контакты в Северо-Кавказском треугольнике: Ставрополь — Ростов — Краснодар. А этот треугольник занимал важное место в стране и в промышленном производстве, и в прямых поставках Москве, Ленинграду, другим крупным городам хлеба, мяса, молока, фруктов, овощей. Если к этому добавить и крупнейшие всесоюзные курорты Северного Кавказа, легко понять, почему наш треугольник был всегда на виду.
Что такое хороший сосед и сколь многое зависит от того, кто возглавлял соседний край, я особенно понял позднее, когда в 1973 году Золотухина перевели в Москву министром заготовок СССР, а вместо него первым секретарем Краснодарского обкома избрали Сергея Федоровича Медунова.
Наш «равносторонний треугольник» стал разваливаться буквально на глазах. Регулярные телефонные звонки продолжались, но теперь, когда звонил Медунов, он не жалел самых резких слов в адрес ростовчан, а когда раздавался звонок от Бондаренко, наоборот, вдоволь доставалось краснодарцам. Иными словами, сотрудничество постепенно замещалось соперничеством, а затем и завистливой ревностью, дипломатическим прикрытием которой служили казенные слова о соревновании и состязательности.
Сразу же хочу сказать, что подобные отношения порождались отнюдь не заботой о людях своего региона, были замешены лишь на амбициях и самых низменных чувствах. В этой связи вспоминается, может быть, и грубое, но довольно точное и откровенное изложение подобной «философии» одним председателем колхоза, который однажды сказал мне:
— Знаете, Михаил Сергеевич, мы все, конечно, ленинцы, но все-таки приятно, когда у соседа дела идут хоть немного хуже.
При Медунове стали реанимироваться и особые, я бы назвал их кубанско-местнические, настроения, с которыми Золотухин боролся довольно успешно. Любовь к своему краю — святое чувство. Иное дело — игра на нем, культивирование мысли о том, что кубанцы — люди особого склада, имеющие не только особые заслуги, но и особые права и преимущества по сравнению с другими. И хотя честным, способным, умеющим работать кубанцам все это не прививалось, в среде тамошних руководящих кадров вирус местничества, а у части и зазнайства находил благодатную почву.
Пройдут годы, и, когда придут трудные времена, станет очевидным, что подобного рода настроения не столь уж безобидны. Местничество, стремление любыми средствами сохранить свою власть, которые проявят и старые и новые региональные лидеры, переплетаясь с национализмом и сепаратизмом, явятся одним из факторов распада страны.
Но все это было еще впереди. А тогда, в 1970 году, Золотухин взял на себя инициативу моего «представления» наиболее влиятельным, или, как их иногда называли, ведущим руководителям районов, которое должно было означать неформальный процесс моего вхождения в «корпус первых секретарей». Делал он это, очевидно, с добрыми намерениями. А может быть, и по их просьбе. Не знаю. В середине июля состоялась сессия Верховного Совета СССР. При размещении секретарей, как я уже говорил, действовали неписаные, но четко соблюдаемые правила. Селились они в гостинице «Москва». Обычно первому секретарю полагался одноместный номер, а за «ведущими» закрепляли люксы. В один из таких люксов мы и пришли с Золотухиным. Не знаю, так было спланировано или мы просто опоздали, но по всему было видно, что присутствовавшие там оренбургский секретарь Александр Власович Коваленко, саратовский — Алексей Иванович Шибаев, алтайский — Александр Васильевич Георгиев, кажется, ростовский — Иван Афанасьевич Бондаренко и сахалинский — Павел Артемович Леонов провели за столом изрядное время. Все они находились в достаточно разгоряченном состоянии, говорили громко и одновременно, как обычно, не очень слушая друг друга.
В КПСС были «особые» каналы информации, и все прекрасно знали о существовании замкнутых влиятельных групп. Была и своего рода «группа быстрого реагирования», пользовавшаяся особым доверием генсека. В нее входили волгоградский секретарь Куличенко, саратовский — Шибаев, тульский — Юнак, краснодарский — Медунов, куста-найский — Бородин, алтайский — Георгиев, оренбургский — Коваленко, сахалинский — Леонов. В большинстве своем все эти люди были тесно связаны с Кулаковым. Всякий раз, когда Брежнев нуждался в поддержке или затевалась какая-то интрига, «группа быстрого реагирования» немедленно включалась в дело. Ей отдавалось явное преимущество в прениях на пленумах и съездах партии. И если из их уст раздавалась критика правительства или вносилось какое-либо предложение, все понимали, откуда они исходят и в чьих интересах это делается.
Как только мы с Золотухиным вошли в люкс, я сразу понял, к кому и куда попал. Знакомство, как во времена Петра Первого, началось с того, что мне дали большой фужер, до краев наполненный водкой, и таким образом предложили присоединиться к общему застолью. Я немного отпил и поставил фужер на стол, чем вызвал всеобщую настороженность.
— Это что ж такое? — не скрывая неудовольствия, спросил Коваленко.
— А у меня своя система, — ответил я. — Постепенно, но неуклонно.
Все рассмеялись шутке и как-то сразу успокоились. А между тем вся моя «система» как раз была очень проста — я не испытывал к зелью особого влечения. Хотя под настроение иной раз и мог выпить не меньше других.
Разговор за столом возобновился, и первый вопрос, который был задан мне буквально в лоб: «Как у тебя складывается с Леонидом Ильичом?» Для присутствовавших это, видимо, было главным критерием доверия. Я рассказал о звонке Брежнева 1 мая, о содержании разговора с ним, и последние следы настороженности у собеседников исчезли.
Поднятыми бокалами приветствовали меня в своем кругу как самого молодого первого секретаря обкома в стране. Ну а дальше пошел разговор о правительстве, вернее — о Косыгине, и о Верховном Совете, то есть о Подгорном. Тем самым, наверное, возобновился прерванный моим появлением разговор. Это было время, я бы сказал, «похорон» «косыгинской реформы», и в окружении Брежнева критика правительства всячески поощрялась.
В секретарском полку были люди и другого плана. Заметно выделялись П.М.Машеров, В.И.Воротников и Е.К.Лигачев. Их отличал энергичный, живой стиль руководства, да и не слишком распространенное в те времена стремление искать новые, нетрадиционные формы партийной работы. Ну а что произошло с ними, со всеми нами позднее — речь пойдет в последующих главах.
Периодически Брежнев проводил в своем кабинете встречи с первыми секретарями обкомов. Иногда они затягивались на несколько часов. Но со временем эти встречи становились все реже и реже, да и содержание их становилось другим — Брежнев угасал на глазах.
В условиях командной экономики
В те годы пришлось лицом к лицу столкнуться с системой принятия решений в условиях командной экономики и бюрократически централизованного государства. Едва ли не по любому вопросу надо было идти в Госплан, заручаться согласием десятков министерств и ведомств, сотен должностных лиц. Бесконечные командировки в столицу, уговоры, брань с управленцами, когда обращение чиновников принимало хамские формы и нервы просто сдавали. Мало ли что приходилось делать, чтобы ублажить московских чинуш. Страна ходоков и толкачей, хотя, казалось бы, в рамках плановой системы все должно было делаться разумно.
Да можно ли назвать ее плановой системой? Сложившаяся сверхцентрализованная система, пытавшаяся распоряжаться всем из центра в огромном государстве, сковывала жизненную энергию общества, а малейшие отклонения и попытки выйти за ее рамки решительно пресекались.
После войны начали развиваться промышленные кооперативы, особенно полезные там, где государственные предприятия мало что делали, — в мелком производстве, услугах населению, коммунальном хозяйстве. Многие изделия промкооперации пошли и на экспорт. Но именно эту подвижность, гибкость, относительную (!) хозяйственную и финансовую самостоятельность не захотела принять система, промкооперация была ликвидирована решением союзного центра.
На памяти у многих людей печально закончившийся эксперимент с применением аккордно-премиальной оплаты труда в целинных областях Казахстана в начале 60-х годов. Как ни старались журналисты «Комсомольской правды», общественные круги поддержать новшество и защитить пионеров (громкое «дело Худякова»), часть из них угодила в места заключения. Долго потом никто не осмеливался повторить этот опыт. Та же судьба постигла эксперимент на Щекинском химическом комбинате. Министерство не потерпело попытки расширить права предприятия и задушило эту инициативу в зародыше.
Подобные факты отторжения системой всяких новаций я расценивал как симптом затяжной болезни нашей экономики, требующей безотлагательного лечения. А наверху? В высших эшелонах власти и управления многие думали так же, но не хотели рисковать. С размышлений над «проклятыми» вопросами начинается второй период в моей работе первым секретарем крайкома партии. Поначалу я был склонен считать, что огромные затраты не приносят ожидаемого эффекта из-за нерадивости и некомпетентности кадров, несовершенства каких-то управленческих структур, пробелов в законодательстве. И свидетельств в пользу этого было предостаточно. Но постепенно у меня вызревало убеждение, что дело не сводится к этим факторам, причины низкой эффективности лежат глубже.
К тому времени в стране сложилась своеобразная ситуация: реальное положение все более ухудшается, а верхи декларируют о достижениях. Центр ожидал с мест соответствующей информации, быстрых, ошеломляющих результатов. Ну а раз есть спрос — будет и предложение. В начале каждого года обкомы партии проталкивали в центральную прессу обязательства трудовых коллективов своего региона. Обязательства декларировались, и о них забывали — ив центре, и те, кто их принимал. В героях ходили бойкие люди. На тех, кто корпит, посматривали с жалостью: отстаешь, брат, недотягиваешь…
Я уже говорил о Большом Ставропольском канале. Первые двести его километров проходили по благоприятной зоне, не нуждавшейся в орошении. Кубанскую воду ждали обширные засушливые степи Ставрополья. И пока строились эти километры, ставропольчан постоянно упрекали — деньги, мол, вкладываются, а ощутимых результатов не видно, да и затраты слишком велики. Приводили в пример Шибаева, развернувшего в Саратовской области масштабные оросительные работы при затратах на гектар 500, максимум 1000 рублей, а не 5000, как на Ставрополье. Уже тогда саратовские цифры казались мне сомнительными, и время это подтвердило. Спустя годы, когда я стал секретарем ЦК КПСС, министр мелиорации вдруг начал настойчиво просить моего согласия списать орошаемые земли в Саратовской области.
— Позвольте, — удивился я, рассмотрев принесенные бумаги, — что значит списать 120 тысяч гектаров? Это ведь сотни миллионов рублей…
Тут-то и выяснилось, что «шибаевское орошение» оказалось чистейшим надувательством: воду Волги по временным трубам подавали на поля — вот и все. Не полив, а обман, только землю, и хорошую землю, загубили. А ведь в том же Саратовском левобережье, где орошение строилось не по-шибаевски, а на основе грамотных проектов, люди подняли к жизни тысячи гектаров засушливых земель. Но все это выяснилось потом, а в 70-х годах липовое новаторство ставилось в пример.
Нечто подобное происходило и со строительством животноводческих комплексов, которое свели практически к возведению дорогостоящих зданий и сооружений. Неужели на местах были одни глупцы? Нет, конечно. Но центр жестко контролировал использование кредитов, отпущенных на строительство зданий, а остальное оставалось вне поля зрения. То есть и в данном случае поощрялись очковтирательство, показуха. Даже неискушенному человеку было ясно, что без решения проблемы кадров, кормов, отбора животных, создания инфраструктуры строительство зданий обернется бессмысленной тратой средств.
Такие вот безобразия сходили с рук, если «идея» рождалась наверху. Если же сам задумал что-то — будь готов ко всему. При полном соблюдении всех исходивших сверху постановлений и инструкций сделать что-либо путное было практически невозможно. Не случайно была популярна присказка: «Инициатива наказуема».
Один из знатных председателей долго возил меня по колхозным полям.
— Нравится орошение? — как бы между прочим спросил он, когда я собрался уезжать.
— Да, конечно. Но ведь водоем-то далеко. Откуда трубы? Председатель замолчал, задумчиво стал разглядывать какое-то облачко на небе, нехотя сказал:
— Да вот, купил на «свободном рынке».
— Может, они краденые? — дожимал я.
— Может, и так, — почесывая затылок, отвечал председатель. — Я родословную этих труб не выяснял…
А бывало, действуя такими способами, руководители попадали в переплет, просили защитить. Единственное, что в этом случае секретарь обкома мог сделать, — сказать прокурору:
— Ты уж не будь формалистом, разберись по существу.
Эти слова тогда много значили. Но нередко толковые, честные руководители оказывались в положении людей, попирающих законы, а то и попадали на скамью подсудимых. Система, при которой все, вплоть до мелочей, определялось планом, фондами, не давала простора людям инициативным и предприимчивым. В то же время «верхи», недовольные низкой отдачей, пытались поправить дело перестановкой кадров или созданием новых управленческих структур. И без того громоздкая структура управления становилась еще более неповоротливой.
Жизнь, чем больше и глубже я соприкасался с ней, все больше побуждала меня к размышлениям, поискам ответа на эти и другие вопросы. Наши публикации на эти темы мало что содержали нового на этот счет. Творческая мысль не только не поощрялась, наоборот, всячески подавлялась. Как член ЦК КПСС, я имел доступ к книгам западных политиков, политологов, теоретиков, выпускавшимся московским издательством «Прогресс». По сей день стоят на полке в моей библиотеке двухтомник Л.Арагона «Параллельная история СССР», Р.Гароди «За французскую модель социализма», Дж. Боффы «История Советского Союза», вышедшие позже тома фундаментальной «Истории марксизма», книги о Тольятти, известные тетради Грамши и т. д. Их чтение давало возможность познакомиться с другими взглядами и на историю, и на современные процессы, происходящие в странах по обе стороны от линии идеологического раскола.
Поездки по стране
Мои интересы за годы работы секретарем крайкома сильно изменились. На первых порах они были связаны в основном с местными проблемами, а позже — с делами общегосударственными, внутренними и внешними. Все больше я испытывал потребность в получении более широкой и достоверной информации, в обмене мнениями с коллегами, деятелями науки и культуры.
Стремясь увидеть, что происходит в других регионах, я использовал в этих целях любые возможности: поездки на совещания, семинары, конференции, иногда торжества, а то и отпускное время. Кстати, из края я мог уехать только с разрешения ЦК КПСС. В разное время побывал в Ленинграде, Баку, Ташкенте, Алма-Ате, Ростове, Донецке, Ярославле, других городах и районах страны.
В 1975 году во время своего отпуска я отправился с Раисой Максимовной в Узбекистан, имея приглашение Шарафа Рашидова. Встретили нас в Ташкенте тепло, с подчеркнутым вниманием, по-моему, даже придали нашей туристической поездке полуофициальный характер. В день приезда Шараф Рашидович устроил ужин с участием всего состава бюро и секретарей ЦК Компартии республики, для меня это было неожиданным.
На ужине все вращалось вокруг Рашидова, а поскольку он усадил меня и Раису Максимовну рядом с собой и своей супругой, мы купались в лучах гостеприимства. Впервые пробовали удивительно вкусные узбекские лепешки, свежие и вяленые фрукты, поджаренные соленые орешки, узбекский плов.
С этого началось мое узнавание Узбекистана.
Весь следующий день был посвящен знакомству с Ташкентом — огромным, красивым, современным городом, поднятым к новой жизни после страшного землетрясения. Великолепные современные ансамбли, фонтаны, цветы… «Сияй, Ташкент, звезда Востока, — надежда мира и труда». Но тогда я узнал, что есть и другой Ташкент. Старые, убогие дома. Теснота, отсутствие удобств, запущенность, антисанитария.
Наше путешествие по республике началось с посещения Бухары и Самарканда. Друзья, а среди них мой старый товарищ по комсомолу Каюм Муртазаев, бывший в то время первым секретарем Бухарского обкома, с гордостью знакомили нас с шедеврами древнего зодчества: минаретами, мечетями, медресе. Не преминули напомнить о существовании самостоятельного Бухарского государства, пользовавшегося особым статусом при царе. В Самарканде впервые воочию мы увидели восточный базар: горы арбузов и дынь, винограда, крупных помидоров, урюк, изюм, много других фруктов, овощей, зелени.
Муртазаев был рад встрече, но опасливо поглядывал на секретаря ЦК, сопровождавшего нас по поручению Рашидова. В какой-то момент Каюм улучил минуту и с большой тревогой заговорил об обстановке в Узбекистане: Рашидов — опасный, двуличный человек, которого надо остерегаться, он и его подручные чинят расправу над способными, проявляющими самостоятельность кадрами… Вскоре и сам Муртазаев, в котором узбекский лидер усмотрел соперника, пал жертвой. Его перевели в Ташкент, назначили председателем Комитета по трудовым резервам, убрав таким образом из политической сферы. Потом и вовсе Каюм оказался в изоляции, все это подорвало его силы, и он ушел из жизни.
После Бухары и Самарканда мы побывали в Зарафшане и Навои — новых городах, где расположены оборонные и особо важные предприятия. Жизнь Навои, отстроенному в пустыне, дал золотодобывающий комбинат. Нас провели по технологической линии, показали руду, из которой добывается «желтый металл». Мы летели над пустыней, а потом ехали по пустыне Кызылкум (красные пески). Местами — небольшие зеленые оазисы; около ручья или колодца — отара овец, примитивное жилище.
В ту поездку мне довелось побывать в узбекских домах. Скромно живут узбеки, большими семьями. Как правило, рядом строят две хаты, часто саманные, с крышей из шифера, рубероида или глинобитной. Дома соединяются переходом, своеобразной верандой, в одном — старики, в другом — молодые. Многие дома приподняты, стоят как бы на сваях, чтобы не застаивался воздух при дневном зное и ночной духоте. Запомнились из первой поездки разговоры с простыми людьми, которые никак не могли понять, почему они хлопком снабжают всю страну, а им с перебоями поставляют продовольствие. «Мы всю землю отдаем под хлопок. Значит, и о нас не должны забывать».
Ставрополье, как и Кубань, тесно связано с Донбассом, а вот контактов по линии местных властей не было. И этим я занялся, когда стал первым секретарем крайкома. Тем более что с Владимиром Ивановичем Дегтяревым, секретарем тамошнего обкома, мои отношения установились давно. Дегтярев — заметная фигура на политическом поприще того времени, по деловым качествам и кругозору не уступал Щербицкому, на протяжении многих лет был членом Политбюро КП Украины. Но, как я понял, он был близок к Шелесту, и с падением последнего карьера его пошла к закату. Сначала перевели на хозяйственную работу, затем отправили на пенсию.
Каждая наша встреча выливалась в долгий разговор «по душам», запретных тем не было. Его, как и меня, беспокоили те же проблемы. Мы почти физически ощущали, как общество теряет энергию. Надо действовать, но повязан по рукам замшелыми догмами и инструкциями.
— Знаешь, — говорил мне Дегтярев, — я сознательно иду на нарушение некоторых дурацких указаний, иначе погибель.
Его можно было понять. Донецкая область — это, по сути дела, государство: 5 миллионов жителей, 23 миллиона тонн стали, 100 с лишним миллионов тонн угля, крупное машиностроение, развитое сельское хозяйство, пароходство. Проблем невпроворот — жилье, продовольствие, экология, судьба старых неблагоустроенных шахтерских поселков, где теперь живут в основном пенсионеры. И нет возможности воспользоваться хоть частью того, что производит этот мощный район, для их решения.
Однажды в перерыве Пленума ЦК Дегтярев пригласил меня погулять по территории Кремля. Разговорились, вдруг он спрашивает:
— Слушай, Михаил, а зачем это все — Советы, исполкомы, бесчисленные союзные, республиканские ведомства? Ведь все решается в ЦК, республиканских и областных комитетах партии. Надо полностью передать им власть, все остальные структуры ликвидировать.
Я разделял пафос возмущения громоздкостью системы управления: новые структуры растут, как грибы-поганки, решение самой простой проблемы превращается в хождение по мукам. Но соображения Дегтярева показались неубедительными.
— Как же быть с тем, — возразил я, — что власть эту и ЦК, и обкомы не получают от народа? Выходит, они ее узурпировали. Если ликвидировать Советы, встанет вопрос об избрании партийных органов народом. А то ведь никакой управы не найдешь на людей типа Юнака (Тула), Куличенко (Волгоград), да мало ли их.
Названные мною секретари обкомов получили на партконференциях огромное количество голосов «против», но продолжали править как ни в чем не бывало. Диктатура партии.
Андропов, Косыгин, Кулаков
Весьма важными были для меня контакты с Андроповым и Косыгиным.
С Андроповым я познакомился, будучи вторым секретарем крайкома. Августовские события 1968 года, видимо, не позволили ему воспользоваться отпуском в обычное время, и он неожиданно приехал в Железноводск в апреле 1969-го.
А поскольку Андропов деликатно отклонил визит вежливости Ефремова, последний с этой миссией послал меня.
Расположился председатель КГБ в санатории «Дубовая роща» в трехкомнатном люксе. Я прибыл в назначенное время, но меня попросили подождать. Прошло сорок минут. Наконец он вышел, тепло поздоровался, извинился за задержку, ибо «был важный разговор с Москвой».
— Могу сообщить вам хорошую новость: на завершившемся Пленуме ЦК КПЧ первым секретарем избран Густав Гусак.
Это, по мнению Андропова, свидетельствовало, что дело в Чехословакии идет к стабилизации.
Потом мы еще не раз встречались. Раза два отдыхали в одно и то же время: он — в особняке санатория «Красные камни», а я — в самом санатории. Вместе с семьями совершали прогулки в окрестностях Кисловодска, выезжали в горы. Иногда задерживались допоздна, сидели у костра, жарили шашлыки. Андропов, как и я, не был склонен к шумным застольям «по-кулаковски». Прекрасная южная ночь, тишина, костер и разговор по душам.
Офицеры охраны привозили магнитофон. Уже позднее я узнал, что музыку Юрий Владимирович чувствовал очень тонко. Но на отдыхе слушал исключительно бардов-шестидесятников. Особо выделял Владимира Высоцкого и Юрия Визбора. Любил их песни и сам неплохо пел, как и жена его Татьяна Филипповна. Однажды предложил мне соревноваться — кто больше знает казачьих песен. Я легкомысленно согласился и потерпел полное поражение. Отец Андропова был из донских казаков, а детство Юрия Владимировича прошло среди терских.
Были ли мы достаточно близки? Наверное, да. Говорю это с долей сомнения, потому что позже убедился: в верхах на простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному. Но при всей сдержанности Андропова я ощущал его доброе отношение, даже когда, сердясь, он высказывал в мой адрес замечания.
Вместе с тем Андропов никогда не раскрывался до конца, его доверительность и откровенность не выходили за раз и навсегда установленные рамки. Он лучше других знал обстановку в стране и чем она грозит обществу. Но, по-моему, считал, как и многие: стоит взяться за кадры, наведение дисциплины, и все придет в норму. Насколько остро Юрий Владимирович реагировал на явления идеологического характера, настолько равнодушен был к обсуждению причин того, что тормозит прогресс в экономике, почему глохнут одна за другой реформы.
С Косыгиным наши отношения складывались несколько по-иному. Несомненно, это был крупный политик и интересный человек. Меня поражала его память — он свободно оперировал обилием цифр, фактов, относящихся к реальной ситуации в стране и мире. Правда, в сельском хозяйстве не очень хорошо разбирался. Тем не менее, приезжая на Ставрополье, встречался с руководителями колхозов и совхозов, проявлял интерес к жизни села. У меня было ощущение, что он стремился понять, в чем дело, почему аграрный сектор хронически отстает.
Терпеть не мог, когда в поездках по краю ему докучало местное начальство, не любил ритуальные встречи. Не было у него склонности к трапезам, к пустопорожней болтовне за столом. Встречи с людьми, работа над документами, чтение, прогулки…
Держался Алексей Николаевич всегда подчеркнуто скромно, я бы даже сказал — жестко, напоминал своим аскетизмом Суслова. Приезжая на отдых, он всегда останавливался не на даче, а в общем корпусе санатория «Красные камни». Это тоже вроде бы свидетельствовало о скромности, хотя несколько своеобразной, ибо в таких случаях он сам и его службы занимали целый этаж. Контактов и общения с другими отдыхающими Косыгин никогда не избегал, вел себя непринужденно.
И все-таки даже тогда, когда мы оставались с Косыгиным вдвоем, он в еще большей мере, чем Андропов, оставался как бы в собственной скорлупе, между ним и собеседником даже при самом откровенном разговоре сохранялась дистанция. Эту его осторожность и сдержанность можно понять: слишком долго он был «наверху», в свое время работал с Вознесенским и Кузнецовым, расстрелянными по «ленинградскому делу». Косыгину, пожалуй, единственному из этой группы видных деятелей, удалось уцелеть. О сталинских временах говорить не любил. Но один разговор на эту тему мне запомнился.
— В общем, скажу вам, жизнь была тяжелой. Прежде всего морально, вернее — психологически. Ведь, по сути дела, осуществлялся сплошной надзор, и прежде всего за нами. Где бы я ни был, — с горечью заключил Алексей Николаевич, — нигде и никогда не мог остаться один.
Это говорил человек, входивший в состав высшего политического руководства страны, в окружение Сталина.
С первых встреч между нами завязалась дискуссия, которая продолжалась все последующие годы. Касалась она уже много раз упоминавшейся мною темы — функционирования экономики, механизмов, стимулирующих деятельность человека.
— Вот я, член ЦК, депутат Верховного Совета, на моих плечах огромная ответственность. А ведь я не имею ни прав, ни финансовых возможностей для решения самых простых проблем. Все налоги от предприятий и населения, за малым исключением, идут в центр. Я не могу даже изменить, скажем, штаты или структуру крайкома и крайисполкома, взять несколько толковых работников на хорошую зарплату, вместо них держу пятнадцать низкооплачиваемых, из которых невозможно создать хорошую команду. И так повсеместно для всех Москва установила жесткие рамки. В конечном счете это приводит к тому, что аппарат управления становится все более некомпетентным, — довольно эмоционально как-то высказался я.
Алексей Николаевич молча выслушивал, иногда улыбался моему задору, но особой готовности разрешить данный вопрос не проявлял. Косыгин вообще умел молчать как-то по-особому. Я видел, что он разделяет мое мнение, и, не услышав в ответ ни слова, был благодарен ему хотя бы за понимание.
Когда мы стали обзаводиться орошаемыми землями, к нам пожаловали корейцы, предложили на условиях подряда выращивать лук. По договору 45 тонн лука с гектара получал колхоз или совхоз, а остальной урожай — бригаде. Формировали эти бригады сами корейцы из людей приезжих. Весь сезон они жили в палатках прямо в поле, работали день и ночь, в любую погоду. Заработки у них были очень высокие. Соблазнившись ими, некоторые из наших ставропольцев пытались подрядиться в эти бригады, но больше недели не выдерживали, уходили. Однако скоро в дело вмешались Прокуратура СССР и Комиссия партийного контроля ЦК КПСС: нарушение принципов социализма, рвачество. Некоторых наших хозяйственников основательно потрепали, наказали. В общем, корейцев выставили, все связи порвали, стали лук выращивать сами.
И как раз после всего этого приезжает отдыхать Алексей Николаевич. Прилетел он утром, часам к двенадцати приехали в Кисловодск. Я предложил позавтракать. Сели за стол, подали овощи, в том числе свеженарезанный лук.
— Как у вас «луковое дело» завершилось? — спросил вдруг Алексей Николаевич.
— Завершилось успешно, — нарочито бодро ответил я. — Теперь у нас полный порядок.
— А что значит порядок?
— А то, что, когда были корейцы, Ставрополье не только обеспечивало свои потребности в луке, но еще 15–20 тысяч тонн отправляло в другие области. Теперь от корейцев освободились, навели порядок. Правда, теперь лук завозим из Узбекистана.
Косыгин долго с аппетитом жевал лук и вопросов больше не задавал. Они и не нужны были. Он знал, что запретами проблемы экономики не решают. Понимал, что не о диком «корейском способе производства» сожалею я, а думаю 6 том, как найти столь же действенные, но более цивилизованные стимулы для труда.
Иногда беседы наши приводили и к кое-каким практическим последствиям. Он хотел познакомиться с Невинномысским химическим комплексом, приехали на комбинат, походили, потом собрались в узком кругу специалистов. И здесь на председателя союзного правительства невинномысцы основательно поднажали — особенно за негативное отношение министра химической промышленности к внедрению опыта «щекинцев». Когда мы возвращались, я продолжил тему применительно к другим сферам народного хозяйства.
— Вы посмотрите на здравоохранение. При такой мизерной оплате, которую узаконили сверху, в поликлиниках и больницах не хватает врачей, медсестер, санитарок. Некому ухаживать за больными. Дайте право руководителям больниц в рамках установленного фонда заработной платы самим решить вопрос о зарплате медицинских работников, и они снимут эту проблему.
Спустя несколько месяцев, во время приезда в Москву, я зашел к Косыгину по какому-то делу.
— А знаете, — улыбаясь, сказал он, — вот здесь, у меня в кабинете, недавно сидели два московских врача, мужчина и женщина, оба — руководители крупных больниц. Я спросил их: ваш министр ставит вопрос о повышении зарплаты среднему медперсоналу на 10–20 рублей, но есть и другое мнение: дать возможность главным врачам самим решать вопрос о штатном расписании и окладах в пределах фонда заработной платы. Какой вариант вы бы предпочли? Женщина-врач сразу же высказалась за второй, да и мужчина, поразмыслив, присоединился к ней. Оказывается, ежегодный недокомплект персонала у них составляет 25 процентов и фонд зарплаты они никогда не использовали полностью. Я уже разговаривал с секретарем горкома Гришиным, и мы попытаемся реализовать такого рода подход в Москве.
Я видел, что он искренне радовался этой маленькой победе хотя бы в рамках столицы. Общее постановление на сей счет так и не вышло. И это в здравоохранении! Что уж тут говорить о химической промышленности, тесно связанной с всемогущим военно-промышленным комплексом. Но в чем корни беспомощности союзного правительства? Очевидно — в боязни вызвать цепную реакцию. А этого система не допускала.
И еще один разговор запомнился. Речь зашла о производительности труда. Я рассказал о том, что наблюдал во-Франции при посещении предприятия: в аналогичном нашему подразделении работает вдесятеро меньше специалистов.
— Мы проигрываем не у станка, — сказал Косыгин. — У меня есть данные, что наш станочник мало уступает зарубежному на сопоставимых предприятиях. Но теряем из-за плохой организации внутризаводского транспорта, складского хозяйства, общей культуры производства. Главное — механизация вспомогательного и инженерного труда. А это требует больших перемен. Вот в чем дело.
Тут у меня сорвался «роковой» вопрос:
— Так почему же вы уступили, дали похоронить реформу? Алексей Николаевич помолчал, а потом ответил встречным вопросом:
— А почему вы, как член ЦК, не выступили на Пленуме в защиту реформы?
— ??
На том разговор и кончился. К этой теме я потом возвращался не раз, она все больше и больше забирала меня. Вот почему, когда осенью 1977 года после пятичасовой дискуссии Кулаков предложил написать для Политбюро записку о проблемах аграрной политики, я согласился и выбрал главную проблему — экономические взаимоотношения сельского хозяйства с другими секторами экономики.
Даже человеку, далекому от экономики, ясно, что, если между производителями не установить паритета цен, ущемленной стороне грозит разорение. Это и происходило с сельским хозяйством. Закупочные цены были таковы, что чем больше продукции производили колхозы и совхозы, тем большие они несли убытки.
На моей памяти ситуацию пытались выправить дважды — в 1953 году после смерти Сталина и в 1965 году вскоре после смещения Хрущева. Как только колхозы и совхозы получали большую самостоятельность, а закупочные цены приближались к реальным издержкам, производство сельскохозяйственной продукции шло в гору. Но и в том и в другом случае импульсы оказались кратковременными. Проходили год-два, от силы три-четыре, эквивалентный обмен нарушался, крестьяне за бесценок продавали продовольствие и втридорога платили за промышленные изделия. Экономика колхозов и совхозов катилась вниз, хирела.
Я привел в записке подробные расчеты, из которых было видно, что за десять лет (1968–1977 гг.) цены на горючее повысились на 84 процента, трактора, сеялки стали стоить в 1,5–2, а то в 4 раза больше, закупочные же цены на продукцию сельского хозяйства остались прежними. В результате, несмотря на повышение урожайности, сокращение трудовых затрат и расхода горючего в натуре, себестоимость зерна, животноводческих продуктов резко повысилась, большинство хозяйств превратилось в низкорентабельные и убыточные.
Но даже в такой ситуации не пошли на кардинальные меры, а чтобы удержать людей от бегства из деревни, ввели гарантированную денежную оплату. Это окончательно разрушило остатки экономических, хозрасчетных отношений на селе и подорвало стимулы к труду.
Пафос записки состоял в необходимости изменить укоренившийся взгляд на село как на «внутреннюю колонию», иначе не избежать катастрофических последствий для страны. Реакция Косыгина на мою записку была многозначительной: «Это же бомба!»
В процессе работы над запиской многие доброхоты советовали мне «не связываться», «не лезть на рожон». Я не послушал их. Считал: разговор на Пленуме нужен серьезный, по существу. Ожидания не оправдались, первоначальный замысел был выхолощен до предела. Решения свелись к очередным заданиям по выпуску сельхозтехники, а экономическая сторона осталась без внимания. Гора родила мышь.
Пленум закончился 4 июля, а 17-го — Федор Давыдович Кулаков умер.
Как раз сразу после Пленума, 5 июля, семья Кулаковых на загородной даче отмечала 40-летие свадьбы. Мы с Раисой Максимовной были приглашены на это торжество. Было в тот вечер все как обычно. Строго выдерживая субординацию, каждый из присутствовавших произносил тост в честь хозяйки и хозяина, который, как правило, заканчивался категорическим требованием «пить до дна». Здоровье Федора Давыдовича уже не выдерживало его образа жизни и связанных с ним нагрузок (в 1968 году ему удалили часть желудка).
Он умер неожиданно: остановилось сердце. Мне рассказывали, что в последний день в семье произошел крупный скандал. Ночью рядом с ним никого не было. Факт смерти обнаружили утром.
Кулаков ушел из жизни, когда ему исполнилось 60 лет. Это была большая утрата. Тем удивительнее решение Брежнева и других членов Политбюро не прерывать отпуск для прощания с коллегой. Тогда я, может быть, впервые понял, как невероятно далеки друг от друга эти люди, которых судьба свела на вершине власти.
Я счел своим человеческим долгом быть на похоронах Кулакова, сказать у гроба слова прощания. На мой запрос последовало согласие, но при этом секретарь ЦК Михаил Зимянин попросил подготовить заранее текст моего выступления, «дабы избежать повторений и расхождений в оценках с другими, кто будет говорить на митинге». Смысл был предельно ясен — текст своего выступления я передал через стенографистку ЦК. Похороны Кулакова состоялись 19 июля у Кремлевской стены. Впервые я поднялся на Мавзолей и, волнуясь, сказал прощальные слова человеку, к которому питал теплые чувства, выразил искреннее соболезнование его родным и близким.
Острая схватка
За годы моей деятельности на посту секретаря крайкома круг моих знакомств невероятно расширился. Уже в те годы я испытал удовлетворение от того, что многие замыслы мои воплотились и принесли пользу. Самое большое приобретение тех лет — взаимопонимание, дружеские отношения со многими людьми.
Но было и так, что установившиеся контакты обрывались — партнеры оказывались делягами, а в некоторых случаях разрывы происходили по принципиальным мотивам, как в случае с Н.А.Щелоковым.
В 1973 году на Ставрополье сложилась серьезная криминогенная ситуация: преступления, волна за волной, прокатывались по городам и поселкам. После нескольких жестоких убийств и изнасилований обстановка накалилась до предела. Люди были встревожены, напуганы и обоснованно ставили вопрос: есть в крае власть или нет? Всякие «накачки» и критика руководителей правоохранительных органов ничего не давали. Надо было срочно что-то делать. Десятки комиссий ничего вразумительного не дали, и тогда я собрал старых отставников-юристов — надежных, независимых ни от кого людей, попросил разобраться. Кстати, статистика по правонарушениям в крае была без особых отклонений. Комиссия, которую я создал, вскрыла грубейшие нарушения законности в самих органах внутренних дел края. Все вывернулось наружу — очковтирательство, сокрытие преступлений, должностные злоупотребления.
Тут надо иметь в виду следующее. Щелоковым при прямой поддержке Брежнева была осуществлена крупная реорганизация системы внутренних дел, ее службы укреплены кадрами, улучшено материальное обеспечение. Честолюбивый министр спешил поскорее продемонстрировать результаты своей работы, но не бывает так, чтобы общество вдруг разом «очистилось» — нет ни спекулянтов, ни ворюг, ни мафиози, ни хулиганов. И тогда Щелоков решил внести «коррективы» в статистику преступлений и пошел на явное послабление в применении законов. Причем последнее проводил продуманно, чтобы выглядеть в общественном мнении демократом, политическим деятелем с широким кругозором. Любил повторять: тюрьма никого не исправляет. В принципе, конечно, верно, но с его стороны это была демагогия. Щелоков добился принятия решений, по которым лишение свободы по многим статьям было заменено другими мерами. Это обернулось общим ослаблением борьбы с преступностью.
По итогам работы комиссии в крае мы приняли крутые меры: сняли всех генералов в управлении МВД с занимаемых постов, перешерстили уголовный розыск, отдел борьбы с хищениями собственности, следственный отдел, другие службы, подтянули партийную организацию. Все стало выходить наружу. Пытался застрелиться начальник следственного отдела, на совести которого были тяжкие должностные нарушения. Заменили руководителей милиции в одной трети городов и районов. Это была жесткая операция по утверждению законности, прежде всего в самих правоохранительных органах. К охране порядка были подключены рабочие коллективы, комсомол, и за один месяц в населенных пунктах стало спокойней. Зато по числу зарегистрированных преступлений край с 11-го места опустился на 67-е в России.
Ставропольцы наступили на хвост Щелокову, в аппарате ЦК его недолюбливали, он ведь ни с кем не считался. Прокуратура СССР, Верховный суд тоже мало что для него значили. Министр заволновался, начал лихорадочно действовать. Сначала звонил, затем послал в край бригаду МВД во главе со своим замом Б.Т.Шумилиным. Я его знал, причем с хорошей стороны. Тем неожиданнее для меня были его суждения, по сути, шантаж: «Как же так? Вокруг порядок, а у вас такое творится. Спросят ведь — где был крайком?» Мой ответ был резким: «Имей в виду, я от своей позиции не отступлю. Передай это и Щелокову». Неуютно было Шумилину, но все-таки он продолжал уговаривать меня. В этой встрече участвовал зам. прокурора России Александр Найденов, он поддержал меня. Когда развернулась борьба с преступными элементами на Кубани и Найденов возглавил ее, под давлением высоких покровителей его из прокуратуры убрали. Став генсеком, я предложил ему возглавить Арбитраж СССР. Он дал согласие, но внезапно скончался, так и не приступив к работе.
Небезынтересно, что, когда Прокуратура России (не союзная!) по нашему опыту учинила проверку в Свердловске, там были вскрыты еще более тяжелые преступления, в том числе сокрытие убийств. Как мне сказали, начальник городского отдела внутренних дел Свердловска застрелился. И пошло… Кончилась эпоха дутых цифр, рушилась «система Щелокова». Но тяжба с ним продолжалась до его снятия с поста министра. Позднее, когда я уже был Председателем Верховного Совета СССР и депутатская комиссия вела расследование по заявлениям следователей Гдляна и Иванова, попутно выяснилось, что в кругу своих присных Щелоков (во времена Черненко) заявил в мой адрес: этот человек должен быть уничтожен.
Не успел.
Как живут в других странах
Мои первые поездки за рубеж состоялись еще до избрания первым секретарем крайкома партии. В 1966 году — в Германскую Демократическую Республику, в сентябре 1969 года — в Болгарию, в ноябре — в Чехословакию.
В ГДР партийных работников послали знакомиться с опытом работы по осуществлению реформы. В Восточной Германии тогда испытывали новые методы планирования и управления экономикой, отлаживали систему стимулирования, дали большую хозяйственную самостоятельность предприятиям. Два дня нам читали доклады, а в промежутках, давая передохнуть, знакомили с Берлином.
Даже спустя 20 лет после войны, оказавшись в этом городе, я испытывал внутреннее волнение. Знакомство с Берлином будоражило душу, приводило в движение память. Разрушенные дома и памятники, груды обломков на пустыре, где когда-то стояло здание рейхсканцелярии. Бранденбургские ворота, а за ними воздвигнутая четыре года назад Берлинская стена — символ разделенного- послевоенного мира. Справа от ворот, за стеной, мрачное здание поверженного рейхстага. Да и весь город, как я увидел его тогда, показался мне мрачным, холодным. Совсем другое впечатление осталось от Котбуса, Дрездена, особенно тех мест, которые прилегают к Эльбе, на границе с Чехословакией, — Саксонская Швейцария. Но где бы мы ни были — в городах, на предприятиях, в сельской местности, — встречи с людьми проходили в хорошей атмосфере, хотя теплоты им не хватало.
Многое уже стерлось из памяти, но несколько ярких впечатлений осталось. В Дрездене нам показали свидетельства драмы этого города, подвергшегося массированным бомбардировкам в самом конце войны авиацией союзников. И на фоне этой трагедии — «Сикстинская Мадонна» в Дрезденской галерее — чистый, светлый образ женщины, как бы взывающий к нам: люди, будьте людьми!
В округе Котбус в воскресный день мы побывали в гостях у сор-бов — славян, давно проживающих в Южной Саксонии. И там попали в переплет. Как и всех туристов, нас усадили в прогулочные лодки, а в качестве гребцов на них оказались женщины-сорбки, одетые в национальные костюмы. Все очень красиво, но получилась глупая ситуация: здоровенные, весьма упитанные мужики в качестве отдыхающих, а за веслами — женщины. Поскольку это был воскресный день и каналы заполнены прогулочными лодками, мы оказались предметом иронических восклицаний, насмешек. Настояли поскорее высадить нас на берег.
Программой была предусмотрена поездка в Потсдам. Посетили дворец Сан-Суси, побывали на месте встречи глав правительств стран-победительниц. Нам показали, кто где сидел, не забыли рассказать, что один из журналистов отколол от кресла Сталина кусочек дерева на память. И, конечно, о поведении Трумэна на этой встрече, в особенности когда он получил телеграмму о создании атомной бомбы: «ребенок родился здоровым».
Мы были в ГДР за пять лет до смены Ульбрихта Хонеккером. Последний уже тогда демонстрировал большую уверенность. С делегацией в конце пребывания беседовал Хонеккер, проявивший к нам в высшей степени дружеское расположение.
О нашей поездке мы написали записку в ЦК с выводом о том, что опыт проведения реформы в ГДР заслуживает самого пристального внимания. Да мало ли подобных записок было написано в те времена.
В Болгарию я ездил в рамках региональных связей — между Ставропольем и Пазарджикским округом. Мы приехали для участия в празднествах по случаю 25-летия социалистической Болгарии. Было много встреч, митингов, выступлений. Море теплых чувств и взаимных заверений в дружбе на вечные времена. Не забывали и о делах: обсудили возможности сотрудничества. Выявилось, что болгары на уровне округа имеют больше прав, а мы должны по всем, даже самым незначительным вопросам просить согласия Москвы. Особенно этого не понимал пришедший вскоре на должность секретаря окружкома БКП Димитр Жулев, приехавший к нам на Ставрополье с визитом. Потом он стал послом Болгарии в СССР, и у меня с ним установились близкие отношения.
В 1974 году я снова побывал в Болгарии — в Софии, на Шипке, в Пловдиве, многих других городах и поселках. Заметно изменился облик страны, много новых жилых кварталов, особенно индивидуальных домов, предприятий, теплиц, дорог. Виноградники, плантации овощей, возделываемых по новой технологии, целое царство садов и цветов. Страна менялась на глазах. Мы подумали: болгары взяли верное направление. Еще не было известно, что появились тревожные моменты, страна жила не по средствам, и наступало время расплаты.
Пожалуй, самой трудной была поездка в Чехословакию в ноябре 1969 года. В делегацию вошли, в частности, Лигачев, бывший тогда первым секретарем Томского обкома, и секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов. Предстоял обмен мнениями о перспективах молодежного движения в Чехословакии. В момент нашего приезда там действовали 17 молодежных организаций, и ни одна не признавала руководство КПЧ.
У нас было множество встреч и горячих дискуссий в Праге, Брно, Братиславе о том, как властям завоевать доверие молодежи. Но разве можно было вырвать эту проблему из общего контекста сложившейся в стране ситуации в результате акции 21 августа 1968 года? Сказать, что мы себя чувствовали неуютно, скверно, — почти ничего не сказать. Мы ощутили всем нутром, что эта акция осуждена и отвергнута с негодованием народом. Конечно, в годы «холодной войны» противоборствующие стороны на многое происходящее смотрели через призму блоковых интересов и действовали адекватно, не останавливаясь перед использованием крайних мер. Целые страны оказывались разменной монетой в этой смертельной схватке. Все так. Но люди не мирились с подобным обращением, и в этом мы убедились тогда в ЧССР.
Сама Прага находилась в состоянии полупаралича, оцепенения, что ли. Коллеги не считали возможным вести нас в трудовые коллективы, да и сами не решались. Мы спрашивали: почему они не идут «в народ»? И слышали в ответ: «Сделаем анализ, пойдем». Они не только не знали, с чем идти к людям, но просто боялись их.
В канун Дня студентов мы оказались в Брно, там решились организовать нам посещение крупного завода. Когда пришли в цех, с нами никто не захотел разговаривать, рабочие на приветствия не отвечали, демонстративно отворачивались — ощущение неприятное. Большая часть членов парткома завода резко негативно оценивала действия советского руководства. Оказывается, заводчане в августе 68-го выступили в поддержку правительства Дубчека, и для их нейтрализации на территорию завода были введены войска. В августе 69-го в Брно повторились массовые выступления против действующего режима и советского вмешательства. В общем, обстановка была накалена до предела, делегация круглосуточно находилась под охраной.
В Братиславе нас поразил общий вид города — практически все дома в центре сохранили следы обстрелов, стены — сплошь в антисоветских надписях. Делегацию принял первый секретарь ЦК КП Словакии Славик. Все началось мирно, но, когда кто-то с нашей стороны напомнил, что Ленин, выступавший за федерализм в государстве, с порога отвергал такой подход в строительстве партии, первый секретарь поднялся и ушел. Наутро никто из руководства не явился, выручил знакомый в аппарате ЦК. Пополудни поднялись на гору Девин, где покоится прах воинов Советской Армии, погибших при освобождении Словакии, поклонились, помолчали. Был солнечный теплый день. Внизу поблескивал Дунай, вдали золотились контуры Вены. Покинули Братиславу в раздумьях и тревоге.
К вечеру оказались — уже и не помню названия — в сельском населенном пункте. Жители встретили хлебом и солью, вином, музыкой. От всего этого с души камень свалился. Просидели там до глубокой ночи, выговорились и мы, и хозяева. Я вспомнил: где-то в этих краях, под Кошицами, был тяжело ранен мой отец.
Крестьяне, оказывается, приняли либеральные новшества, связанные с курсом на «социализм с человеческим лицом», с известной настороженностью и опаской за свое дело. А год спустя, когда я оказался в Чехословакии, между сельскими жителями и нашими воинами установились добрые отношения. Крестьяне тепло отзывались о помощи, которую получают от Советской Армии, во всяком случае, хотя тема обиды на Советский Союз и сохранялась, она была отодвинута на второй план.
К чему, собственно, сводилась аргументация советского руководства в оправдание акции 21 августа 1968 года? Во-первых, ее обосновывали внешней угрозой для стран Варшавского Договора и, во-вторых, утверждением, что внутренняя контрреволюция, используя поддержку Запада, намерена растоптать социалистические завоевания трудящихся. Получалось, однако, что сами трудящиеся не хотят такой защиты их интересов. А была ли в действительности угроза извне? То, что к середине 1968 года в прессе ЧССР стали появляться публикации о возможном выходе страны из ОВД, было отражением позиций определенных политических сил, иначе говоря, результатом внутреннего развития.
В поездке я узнал, что советское руководство приветствовало замену Новотного Дубчеком. На просьбу Новотного поддержать его последовал ответ — это внутреннее дело КПЧ. Новое же руководство восприняло ответ как признак намерения КПСС продолжить свернутые в свое время реформы. Вдобавок декларации октябрьского, ноябрьского Пленумов ЦК КПСС 1964 года, а в следующем году мартовского Пленума по аграрным делам, наконец, «косыгинская реформа» в промышленности вселяли надежду на серьезные перемены.
Но то, как развернулись процессы в ЧССР, какую они приобрели направленность и динамику, настолько напугало наших руководителей, что они сразу же отказались от своих скромных реформаторских намерений в экономике, а в политике и идеологии того больше — поторопились закрутить гайки.
Вернулся я домой во власти тяжких дум, осознавая прямую связь происходящего у нас с августом 68-го. После поездки был у меня разговор с Ефремовым. Он выслушал внимательно, но отреагировал сухо, формально:
— Ну что ж, новое руководство КПЧ во главе с Гусаком уже сформировалось, и с нашей помощью, будем надеяться, ему удастся страну вывести из кризиса.
В 70-е годы я также посетил Италию, Францию, Бельгию, Федеративную Республику Германии. В одном случае — в составе делегаций, в другом — на отдыхе по приглашению компартий этих стран.
Поездки на отдых были более продолжительны, давали широкие возможности для знакомства со страной и жизнью ее граждан. Первой была Италия в 1971 году.
У меня остались романтические впечатления еще от изучения истории Древнего Рима в школьные годы. В университете два года штудировал латынь, читал речи Цицерона, хотя и с трудом! Но особенно был увлечен римским правом. Поразительно, в те далекие времена люди смогли выработать правовые нормы, которые оказали неоценимую услугу последующим устроителям европейской цивилизации, послужили первоосновой регулирования рынка и гражданского общества. А мы в годы перестройки, в конце XX века, вынуждены доказывать необходимость того и другого.
Я встречался с итальянцами до поездки в страну, но это были мимолетные встречи. Однажды оказался участником встречи рабочих крупного машиностроительного предприятия с Луиджи Лонго.
На XXII съезде КПСС участвовал в короткой беседе делегатов с Пальмиро Тольятти. На Всемирном форуме молодежи в Москве в 1961 году я был прикреплен к итальянской делегации. Тогда, кстати, познакомился с Акилле Оккетто, представлявшим студенческое движение Неаполя. Меня приводило в изумление нежелание итальянцев подчиняться организационным правилам — за все дни форума не было случая, чтобы они пришли к началу работы. Но при этом много сделали для его успеха. Я говорил Лучане Кастеллино:
— Помогай, не могу управиться с твоими соотечественниками. Успокаиваются они лишь к утру, а к началу дискуссии каждого надо краном поднимать.
Улыбаясь, она возразила: «Микеле, ну что ты сделаешь, ведь это же итальянцы. Ты понимаешь — итальянцы».
Вот весь ответ. Не обошлось без курьезов. В комиссии по культуре разгорелась дискуссия о свободе творчества. Столкнулись разные точки зрения, самую острокритическую занял редактор журнала «Техника молодежи» Василий Захарченко. Он рассказал, что недавно был в Париже в гостях у своего французского друга-художника и обратил внимание на портрет женщины, написанный в абстракционистском стиле. Спросил художника, хотел бы он с этой женщиной лечь в постель, на что тот ответил: а зачем, у меня прекрасная жена. Этот эпизод Захарченко и попытался использовать как самый убедительный аргумент против абстракционизма. Со стороны моих подопечных последовал ответ — советский товарищ выступил в духе нацизма, именно нацисты так относились к представителям абстрактного искусства, многие из которых были активными участниками борьбы с фашизмом. Решив, как говорится, забить последний гвоздь в этой дискуссии, итальянцы заявили, что рассматривают выступление Захарченко как свидетельство отсутствия в Советском Союзе свободы творчества, их делегация отказалась подписывать коммюнике комиссии. Надо было искать выход, и его нашел Лен Карпинский, в то время секретарь ЦК ВЛКСМ. Он предложил провести встречу итальянцев с художником Глазуновым.
Илья Сергеевич, наш ровесник, жил в то время с женой Ниной, представительницей рода Бенуа, в районе Лужников в маленькой двухкомнатной квартире.
Так вот, в июльскую ночь 1961 года мы оказались на квартире Глазуновых. Она была заполнена, вернее, переполнена картинами, даже не знаю, как они ухитрялись там жить. Теперь Глазунов живет в другой квартире, имеет большую дачу и мастерскую. Но начало творческого пути было непростым, не все его поняли и приняли. Тем более не пользовался он особым вниманием со стороны официальных инстанций, я бы даже сказал, наоборот. Может быть, поэтому итальянцы, которые всегда были привержены свободе творчества, выпустили несколько открыток с репродукциями произведений Ильи Глазунова.
Встреча началась с показа. Сильное впечатление произвели блокадная серия картин и рисунков, иллюстрации к произведениям русских классиков, картины по мотивам русской истории. Показал он и портреты Лоллобриджиды, Кардинале, Мазины, Феллини, Гуттузо. Разговор продолжался за столом — про запас мы прихватили с собой две или три бутылки грузинского вина. Встреча закончилась к утру, а днем итальянская делегация подписала коммюнике. В общем, инцидент был исчерпан. Мы попрощались, обменявшись небольшими сувенирами. От Лучаны я получил пластинку с записью песен Мильвы. А в 1971 году, спустя десять лет, мы с Раисой Максимовной слушали Мильву на фестивале в Турине.
Итак, в составе большой группы мы отправились в Италию. Запаслись всем необходимым, Раиса Максимовна блокнотиками — вести записи. В Риме нас встретили руководители ИКП Макалузо, Микини, Коссутта. Расположились в отеле «Палантин». Гостиница — частная, обычно сдается для размещения делегаций. Первое, что мы сделали, войдя в номер и закрыв за собой дверь, подошли к окнам и долго смотрели на Рим. Из окна виднелся большой массив 4-, 5-, максимум 7-этажных домов, очень старых, с обшарпанными стенами. Между окнами веревки с бельем, каскад крыш, приспособленных под площадки для отдыха, «для переговоров на разных уровнях». Спустя много лет, вновь оказавшись в Италии, я спросил, вспоминая первые впечатления от увиденного из окон гостиницы: что же произошло теперь с этими домами? Мне ответили, что эта часть города модернизирована, дома обустроены, в них созданы нормальные условия для жизни людей.
Наша первая экскурсия по Риму: Форум, Пантеон, Колизей, Капитолий, площади Республики, Испании, Венеции. Улицы узкие. Магазины — из автобуса подать рукой. Самая красивая улица — Венето, ее часто снимал Феллини. Огромное количество машин, много маленьких «букашек» — «фиатов» с открытым верхом. Останавливаясь, водители, высунувшись по пояс, обмениваются репликами. Среди автомобилей пробираются мотоциклы и мотороллеры. Воздух — надевай противогаз. Многолюдие, все — в движении, кафе на тротуарах, площадях. Расхристанность в одежде. Полная раскованность, простота.
Улица, где были распяты Спартак и его соратники. Могила, где захоронен Рафаэль. Надпись на саркофаге: «Когда ты жил, природа ревновала. Когда ты умер, природа боится умереть сама» (в нашем переводе). Впечатление: ты идешь по улицам истории, шагая через века. Ужинали в ресторане в старом городе, за Тибром, с участием Коссут-ты, Макалузо, Феррари и тех, кто постоянно будет работать с делегацией. Прохожие останавливались, слушали наши беседы, иногда приветствовали и уходили. Простота общения, открытость, дружелюбие…
На следующий день экскурсия в Ватикан. Собор и площадь Святого Петра. Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле.
Программа привела нас в собор Святого Петра-узника. Здесь — вторая скульптурная группа Микеланджело в Риме — «Моисей». Вот мы у Священной лестницы. Ощущение такое, словно ты стал нескромным свидетелем некоего таинства. Какова степень грехопадения людей, поднимающихся по ступенькам крутой лестницы на коленях в надежде на прощение? Люди все не без грехов, кое для кого из нас тоже пришла уже пора их замаливать. Но мы протопали ногами быстро и легко. Не было времени. А главное — мы не католики.
Где-то к вечеру оказались на возвышенной части города, у памятника Гарибальди и его жене Аннете. Потрясающий вид открылся на Рим. Город на холмах. Оранжево-желтые краски. И как-то вызывающе выглядело на этом фоне белое здание — памятник королю Виктору Эммануилу. Пишу эти строки, а ощущение такое, как будто снова стою там и вижу Рим в лучах заходящего солнца.
Нас интересовали, конечно, памятники, но было большое желание понять и сегодняшнюю жизнь Италии: как люди одеты, как питаются, живут, лечатся, обучаются, проводят свободное время. Вполне понятное любопытство, сопровождаемое сравнением с собственной страной. «Социологические» наблюдения. Лучшие вина в Италии — красные. Пара обуви стоила от 2,5 до 9,5 тысячи лир при 100 тысячах среднемесячного заработка. За двухкомнатную квартиру надо было тогда платить в месяц 60, за трехкомнатную — 90, самая дешевая — 30 тысяч лир. Диковинка для нас — во многих районах столицы стоят незаселенные дома, в то время как нуждающихся в жилье — тысячи. Частник держит цену, и квартиры остаются пустыми.
Потом мы отправились на Сицилию. До сих пор итальянские друзья не рисковали везти в эти места гостей, поскольку там хозяйничает мафия. Перелет короткий — всего час. В Палермо аэропорт прямо у моря, вокруг крутые скалы. Самое незабываемое впечатление — палящий, сухой ветер из Сахары — знаменитый сирокко.
Пока ожидали чемоданы, хозяева рассказали кратко о Сицилии. Автономный район, имеющий свой парламент. Население — 4 миллиона человек. Основное занятие — сельское хозяйство и все, что с ним связано. Острейшая проблема — 600 тысяч безработных. С острова идет большая миграция в Западную Германию, Аргентину, вообще в Латинскую Америку.
Мы провели четыре дня в приморском городке Читта дель Маре — в доме отдыха, построенном на средства Международного альянса кооператоров. Днем на Сицилии ехать на экскурсию — по сути, отправляться в пекло. Поэтому в Палермо отправились в десять часов вечера. Город основан в VIII веке до новой эры. Поразили нас контрасты: модерн и лачуги, благоустроенные районы богатых особняков и грязные улицы. Много бродяг. «Изюминка» ночного путешествия — поездка на гору паломников. Дорога в гору — движение по крутой спирали. Иногда было ощущение, как будто мы зависали над пропастью. Друзья, думаю, специально устроили нам такой сюрприз. И вот мы на вершине. Далеко внизу город и его огни, как россыпь сверкающих звезд. Море, отдающее лунными отблесками. Знаменитый, вида подковы, залив у поселка рыбаков. Долго мы стояли, зачарованные этим зрелищем, боясь спугнуть прекрасный неповторимый миг.
Спустились с другой стороны в курортное местечко и столкнулись там с целыми «стаями» хиппи. Их вид нас буквально ошарашил. Долго бродили по улицам. Много бедного народа. Особенно поразили торгующие всякой всячиной дети — ведь была уже глубокая ночь.
Затем отправились автобусом через всю Сицилию в Таормино на берегу Ионического моря. Впечатления незабываемые: выжженные солнцем склоны гор, рощи оливкового, миндального дерева, кактусы, лимонные, мандариновые, апельсиновые плантации. Ехали целый день, пели песни. Под небом Сицилии и я спел свою любимую — «Россия»:
На французской «Каравелле» покинули Сицилию и взяли курс на Рим. Из аэропорта автобусом —: во Флоренцию. Здесь жили и творили Микеланджело, Леонардо, Данте, Петрарка, Макиавелли. Не перечесть флорентийцев, прославивших свой город. Пребывание во Флоренции — это праздник. Картинная галерея Уффици, усыпальница Медичи, церковь Иоанна Крестителя, где захоронены Макиавелли, Галилей, Россини, Микеланджело. Побывали у здания, в котором Чайковский писал «Пиковую даму», в доме, в котором Достоевский заканчивал «Идиота».
10 сентября отправились в Турин, где состоялась встреча с членом руководства ИКП Минуччи и его коллегами. Нам рассказали, что бурный рост промышленности в области, прежде всего развитие ФИАТа, сопровождался обострением противоречий. Из приехавших на север 700 тысяч работников 500 тысяч с юга. И в самом Пьемонте значительная часть сельского населения ушла на ФИАТ. В Турине нехватка жилья, квартплата отбирает треть, даже половину месячной заработной платы.
Кто-то в нашем кругу заметил, что, собственно, то же происходит у нас в центре России, да и не только там. Гонка в строительстве промышленных предприятий сопровождается разорением деревни, города все больше оказываются перегруженными, люди бедствуют.
Приняли участие в празднике газеты «Унита». Это крупная политическая манифестация — выставки, дискуссии, митинги, концерты. Вечером на концерте слушали песни протеста, выступление фольклорных коллективов и Мильвы — той самой Мильвы! В ее исполнении прозвучали песни Брехта, знаменитая «Белля-чао». Мильва — в красном, развевающемся, как знамя, платье.
На прощание в Риме нам вручили памятные золотые медали, выпущенные к 50-летию ИКП с весьма значительной надписью: «Мы идем издалека и пойдем далеко». Вечером в пригороде города состоялся ужин с участием группы руководителей. В их числе Джан Карло Пай-етта, с которым мы тогда познакомились. Было много разговоров и за столом, и по завершении трапезы. В общем, это было еще время, когда на небосклоне отношений ИКП и КПСС изредка пробегали тучки, но не было сплошных облаков, тем более грозовых разрядов. Все это еще было впереди.
В 1972 году я возглавил делегацию КПСС в Бельгию. БКП выходила из кризиса, вызванного расколом на две противоборствующие группы после нашего XX съезда. Мировое коммунистическое движение вступало в новый этап развития, но освобождение от груза прошлого шло болезненно. В первую очередь, думаю, потому, что в КПСС процесс перемен был прерван самим Хрущевым и окончательно остановлен во времена Брежнева. У нас не только постарались избавиться от «ереси» Хрущева, но и реанимировать сталинизм, адаптировав его к новым реальностям.
Мы приехали в Бельгию после смерти председателя Компартии Дрюмо, коммунистам предстояло решить вопрос о лидере. Им стал Луи Ван Гейт. Бельгийцы критически оценивали положение в СССР и в КПСС, особенно перспективы развития у нас демократии. А нам нелегко было рассеять сомнения собеседников. Мы говорили, что Советский Союз несет основное бремя борьбы с империализмом, это сказывается и на условиях жизни людей, и на характере общества. Приходится жертвовать многим, нельзя допустить расслабления. Нам надо быть бдительными, мобилизованными, дисциплинированными. Все это в интересах социализма и мира. Словом, обычный набор идеологических предрассудков, усердно вбивавшихся в наши головы агитпропом. Тогда еще над нашим сознанием довлел синдром капиталистического окружения, служивший безотказным аргументом против всяческого «гнилого либерализма».
В этой поездке я столкнулся со многими явлениями, которые помогли осознать общность проблем, стоящих перед разными странами. В Бельгии в тот момент остро обсуждались вопросы языка, социально-экономического развития, структуры и полномочий органов власти Валлонии и Фландрии. Тогда же мы увидели, к чему ведет пренебрежение к экологии. Реки Бельгии сплошь оказались загрязненными отходами промышленности и городов, стали источником болезней. Через несколько лет мне рассказали, что большинство рек возрождено к жизни, в них снова появилась рыба. Значит, человек может остановить надвигающуюся экологическую угрозу.
Кроме Брюсселя делегация побывала в Льеже, Арденнах, Шарле-руа, Антверпене, Генте, Брюгге. В один из дней нам предложили съездить в Голландию. Ехали ранним утром и наблюдали интересную картину. На протяжении многих километров люди мыли фасады домов, тянувшихся вдоль дороги, расчищали асфальтовые подъезды, копались в садах. Я подумал, что нам ой как далеко до этого, если вообще достижимо.
Вот и граница; я достал паспорта, но никто не стал нас проверять, да и вообще никого не видно. Есть обменный пункт, где можно обменять франки на гульдены, — вот и все. Нашу реакцию угадать нетрудно: «Проклятый загнивающий капитализм. Даже границ у него нет». И еще один повод подумать, что мы искаженно представляем себе зарубежный мир.
Амстердам — это Северная Венеция с уникальной архитектурой, каналами, гаванью, заполненной десятками судов под всеми флагами. Прошлись по набережной, побывали на знаменитой площади, где обосновались хиппи — этот своеобразный сигнал надвигающегося на Запад кризиса 1973–1974 годов. Яркое впечатление произвел переезд Амстердам — Гаага, словно проходишь по выставочной галерее фламандской живописи: зеленые равнины, раскидистые деревья, ветряные мельницы.
Очень важной была для меня поездка во главе делегации в ФРГ в связи с 30-й годовщиной разгрома фашизма. Партийно-государственную делегацию в ГДР в то же время возглавил Кулаков. Мы прилетели во Франкфурт-на-Майне и затем отправились на автомобилях в Нюрнберг, где в двухтысячном зале состоялось заседание, посвященное этой дате. От делегации выступили я и генерал-майор Селезнев, участник штурма рейхстага. Как нам сказали, это было первое за послевоенные годы появление советского военного в мундире на территории Западной Германии. Для этого потребовалось согласие правительства ФРГ. Место, где проходило заседание, находилось под двойной охраной коммунистов и полиции.
Запомнилась встреча со студентами университета. Говорили об уроках истории, о будущем. Мы не почувствовали у юношей и девушек, профессоров недружелюбия — наоборот, они многое хотели узнать об СССР. В Штутгарте мы уже тогда соприкоснулись с проблемой, которая приобрела сегодня в Германии острый характер. Я имею в виду положение иммигрантов (заработная плата, жилье, гражданские права и т. д.). Они оказались людьми второго сорта, в этой среде зреет недовольство, а с другой стороны, чем больше иностранных рабочих, тем больше неприязни коренного населения. Когда я был в Германии в последние годы, расистские проявления взбудоражили всю страну. Но меня порадовало, как решительно предприниматели, интеллигенция, политические партии выступили в защиту демократических сил и гуманистических ценностей.
И еще в той поездке нас поразила мощная антифашистская манифестация во Франкфурте-на-Майне. Шли коммунисты, социал-демократы, представители христианских демократов, солдаты бундесвера, делегаты профсоюзных, молодежных, ветеранских организаций — 250 тысяч человек.
Не могу не вспомнить о беседе у бензозаправочной станции под Мангеймом. Пока машины заправлялись, я решил приобрести сувенир для дочки. Владелец станции, услышав русскую речь, завязал с нами разговор.
— Вот видите, вы празднуете победу, а у нас это день траура.
Я сказал ему, что ведь войну развязали фашисты, люди дорого заплатили за победу над фашизмом.
Мой собеседник с горечью продолжал:
— Вы живете в одной стране — это хорошо, а немцы оказались разделенными. И это очень тяжело.
— Но кто виноват? — спросил я его. — Все это последствия войны. И тут уж ничего не поделаешь.
— Сталин говорил, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ, немецкое государство остается. А теперь вот разделили наше государство на две части.
Я спросил:
— Когда вы родились?
— В 1926 году.
— Вы, наверное, в той или иной мере участвовали в войне, в ее заключительной фазе?
— Да.
— Ну так вот, вы были человеком уже сознательным, видели, как развивались послевоенные процессы в Германии. Советский Союз выступал за единую Германию, за ее денацификацию, демилитаризацию и демократизацию.
А чтобы до конца восстановить историческую справедливость, я напомнил ему о планах расчленения Германии, которые разрабатывались не в Москве.
— Я знаю, что предполагалось расчленить Германию на несколько государств, — отметил мой собеседник.
— Но Советский Союз был против такого плана, — сказал я.
— Знаю, — последовал ответ.
В общем, это был откровенный разговор, расстались же мы по-хорошему, с надеждой, что отношения между нашими странами и ситуация в мире будут меняться к лучшему.
Встречи в Германии дали возможность почувствовать, как на самом деле немцы относятся к нам, Советскому Союзу. Я и мои коллеги сходились во мнении — в их сознании происходят глубокие перемены.
В 1976 году я впервые ездил во Францию. Возглавил делегацию в рамках партийного обмена на уровне городов и районов. Была середина ноября, тепло, мягкая осень.
В Тулузе встретились с семьей фермера. Сели за длинный крестьянский стол, проговорили часа три. Хозяева были польщены интересом, который мы проявили к их жизни и делу, а нам хотелось получше узнать все особенности фермерского труда. Больше всего меня заинтересовало, как фермер интегрирован в сложнейшую систему кооперационных связей — техническое обслуживание, переработка, сбыт и т. д.
Побывали на оптовом рынке. Имея право продать скот сами, крестьяне, как правило, предпочитают заключить договора с перерабатывающим предприятием. Это более надежный и выгодный канал сбыта, опять-таки соединяет личный интерес с возможностью использовать высокие технологии и получать более качественную продукцию.
В той же поездке довелось познакомиться с организацией пастбищного животноводства. Я прекрасно понимал исторически сложившуюся разницу в условиях хозяйствования, различие в климате. И все-таки главным было иное — за всеми деталями производственного процесса просматривался личный интерес работника.
Второй раз я побывал во Франции в 1977 году. В отпуске мы с Раисой Максимовной совершили туристическую поездку в составе небольшой группы. За 21 день проехали на автомобилях 5 тысяч километров. Это было великолепное путешествие, которое накрепко привязало меня к этой великой стране и ее жизнелюбивому народу. Неповторимый Париж — Нотр-Дам, Лувр, Дом инвалидов, Эйфелева башня, Монмартр, Церковь-на-Крови, Музей Родена, Пантеон, церковь, где захоронены Гюго, Золя, Вольтер, Руссо, Ланжевен… Все соприкасается с вечностью.
Была у нас традиционная вечерняя прогулка по Сене на катере, угощение экзотическими блюдами, вроде лукового супа и лягушачьих лапок, превосходными французскими винами.
В празднике «Юманите» миллион участников. Трудно описать это зрелище. Долго ехали в потоке машин, потом пешком добирались до центрального места, где выступали Марше, другие ораторы.
Едем по автостраде Париж — Лион. Переводчик рассказывает, что Францию называют дачей Бога. Когда-то Всевышний распределял землю, закончив, сказал: «Ну, кажется, все, обиженных не будет». Вдруг послышалось всхлипывание. «Кто там?» Ангелы докладывают: «Да это француз жалуется, что о нем забыли». «А что-нибудь у нас осталось?» — «Ничего не осталось, одна ваша дача». — «Так отдайте ее».
Столько я читал и слышал о Лионе — родине Сент-Экзюпери, что, кажется, знаю этот город давно. Любуемся его центром, фотографируемся у знаменитого фонтана со скульптурной группой лошадей. Утром продолжаем автопробег до Канн, а там, расположившись в гостиничном домике на берегу моря, совершаем выезды в Ниццу, в Монако, на границу с Италией. Великолепные архитектурные ансамбли, Лазурный берег, тысячи яхт в заливе, солнце и царство цветов.
Наконец, Марсель — древний и, если можно так сказать, космополитический город, кого только тут нет помимо самих французов — арабы, итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч армян. Главная улица упирается в старый порт, здесь и наша гостиница «Софитель».
В море недалеко от берега живописные острова, на одном из них угрюмый замок, где томился будущий граф Монте-Кристо. Поездка туда на катере доставила большое удовольствие, но на обратном пути усилился ветер, волны, качка, крики: «Тонем!». Капитан в духе французского юмора приговаривает: «Может быть, может быть». Обедали в районе боен, где нас угощали знаменитой марсельской ухой. Еще одна достопримечательность Марселя — ветер мистраль. У многих он вызывает головную боль.
Новые впечатления: присутствие на корриде в городе Ниме, поездка в город Арль, где самые древние памятники Франции эпохи Юлия Цезаря, выставка картин сюрреалиста Миро, знакомство с экспериментальной школой, крестьянским хозяйством, посещение музеев Леже и Пикассо, парфюмерной фабрики, швейного производства. Встречи, встречи и беседы обо всем — об истории и сегодняшней жизни, культуре, насущных нуждах наших стран и простых людей.
Покидаем Канны и через Арль, Авиньон, Бон, Дижон — с ночевкой в кемпинге — на исходе дня 25 сентября прибываем в Париж. Встречаемся с послом Червоненко. Делимся своими впечатлениями, обмениваемся мнениями о ситуации во Франции. Главная тема — каковы шансы на сотрудничество между социалистами и коммунистами.
Последний день в Париже. Встречи и беседы с депутатами Национального собрания. Прогулки по городу. Мы прощаемся с гостеприимной Францией.
Переживания, раздумья
Эти, поездки, независимо от повода, были для меня поучительными прежде всего потому, что информацию из-за рубежа мы получали крайне скудную и к тому же подвергнутую тщательной обработке. Поступление газет, журналов, книг, кинофильмов жестко контролировалось, радиопередачи глушились. Туризм в те годы расширился только в восточноевропейские страны, для поездки на Запад надо было пройти жесткую проверку на предмет идеологической надежности. Так что «железный занавес» — не только литературная метафора, хотя его опустили и с «той стороны». Все это имело следствием превратное представление и у нас, и на Западе друг о друге, питало взаимные страхи и недоверие.
Но вот что интересно — ни в одной стране не почувствовал я враждебности по отношению к советским людям. Да, вопросов было к нам много, но и мы ведь задавали их не меньше. Словом, ни стены, ни занавесы окончательно не развели людей. А главное — с обеих сторон было желание в прямых разговорах разобраться что к чему. Нас поражала открытость, раскованность собеседников, их свободные суждения обо всем, в том числе о деятельности своих правительств, тех или иных политиков национального или регионального масштаба. Часто они расходились в оценках и на этот счет, а вот мы как дома (кроме, конечно, дискуссий на кухне), так и за рубежом демонстрировали постоянную сплоченность и единство взглядов по всем вопросам. И говорили с оглядкой, как бы соотечественники не подумали Бог весть что.
В то же время многое, о чем мы узнали, вызвало у меня неприятие. Например, сравнивая, я укрепился во мнении (и сейчас его придерживаюсь), что народное образование и медицинское обслуживание были организованы у нас на более справедливых принципах. И наша ставка на общественный транспорт казалась предпочтительней перед другими способами решения транспортной проблемы в городах. Но вот что касается функционирования гражданского общества, политической системы, то априорная вера в преимущества социалистической демократии перед буржуазной была поколеблена. И пожалуй, самое важное, вынесенное мной из поездок за рубеж, — вывод о том, что люди живут там в лучших условиях, более обеспечены. Почему мы живем хуже других развитых стран? Этот вопрос неотступно стоял передо мной.
Явно обозначившееся отставание в уровне и качестве жизни, в области передовых технологий, казалось, не очень беспокоило наших руководящих старцев. Вместо того чтобы искать способы преодоления этого отставания, не допустить вползания страны и системы во все более глубокий кризис, в руководстве были озабочены сочинением новых искусственных идеологических концепций, которые должны были освятить существующие реальности и выдать их за достижения исторического масштаба. Так мы узнали, что живем в обществе «развитого социализма». Как не вспомнить о гегелевской абсолютной идее, нашедшей наиболее полное воплощение в прусской монархии.
Я понимал, что начать перемены у нас в стране можно лишь сверху. Это в значительной мере определило мое отношение к предложению перейти на работу в ЦК КПСС.
Прощай, Ставрополье
Мой приезд в Ставрополь для «сдачи дел» был кратким, как и решение, принятое 4 декабря пленумом крайкома: «Освободить т. Горбачева М.С. от обязанностей первого секретаря и члена бюро Ставропольского крайкома КПСС в связи с избранием секретарем ЦК КПСС».
Я почувствовал беспокойство секретарей райкомов, горкомов, партийного актива. Смена «первого» сопровождалась обычно крутыми переменами в расстановке кадров. Поэтому мы договорились с Мураховским сделать в своих выступлениях упор на преемственность, на развитие тех позитивных начинаний, которые стали осуществлять в крае. Ну а я, чтобы снять напряженность, прямо сказал членам пленума, что в главных кадровых вопросах у нас с Всеволодом Серафимовичем полное взаимопонимание, если же в дальнейшем и возникнут какие-то проблемы, он будет советоваться со мной.
Забегая вперед, скажу, что Мураховский так и поступал. Однако сам я избегал «опекунства»: люди, берущие на себя ответственность, должны располагать свободой действий.
Расставание с членами пленума крайкома, с работниками аппарата было сердечным. Прощальной поездки по краю я решил не делать, полагая это нескромным. Потом не раз думал, что зря я так поступил, все-таки надо было побывать у людей, с которыми столько связано и пережито, сказать им доброе слово, пожать руку.
47 лет — возраст зрелый, и я понимал, что с отъездом из Ставрополя завершается целая полоса моей жизни. Грустное чувство предстоящей разлуки овладело мною. Я не только здесь родился и вырос, все сознательные годы, все, что я до сих пор делал, было связано со Ставропольем.
И для Раисы Максимовны край стал родным и близким. После нескольких лет поисков работы по специальности она начала преподавать на экономическом факультете Ставропольского сельхозинститута. Читала лекции студентам и аспирантам по философии, эстетике, проблемам религии. Включившись в научную работу коллектива кафедры, всерьез занялась социологическими исследованиями жизни, быта, настроений людей. Сотни километров, исхоженных по станицам и селам, долгие откровенные беседы с жителями, стремление понять их заботы и дела — все оставляло свой след в душе, рождало ощущение причастности к народной жизни. По времени это совпадало с возрождением и становлением новой советской социологической школы. Результатами исследования социально-психологических проблем современного крестьянства заинтересовались в Москве. Раиса Максимовна успешно защитила диссертацию. Кстати, и для меня ее исследования представляли интерес, подсказывали необходимость принятия тех или иных решений.
После защиты диссертации и нескольких лет работы в должности доцента Раисе Максимовне делались предложения возглавить кафедру, но на семейном совете было решено отказаться. Людская молва, с которой нельзя не считаться в провинциальном (и не только!) городе, связала бы данное назначение прежде всего с моим положением. Честно говоря, и сама она не рвалась в «начальники». Самостоятельная научная и преподавательская работа занимала ее время полностью и приносила моральное удовлетворение.
Моя работа, профессия Раисы Максимовны заставляли нас много трудиться над собой. И это осталось правилом навсегда. Использовали любые возможности. Особым «пунктиком» стало пристрастие к книгам, собственная библиотека, которую собирали всю жизнь. Одна из привилегий, которыми пользовались первые секретари — через книжную экспедицию ЦК заказывать по спискам литературу, — давала благоприятные возможности. Каждый заказ обсуждали, чтобы учесть общие потребности семьи и специфические интересы каждого.
Когда мне дают рефераты по некоторым книгам о Горбачеве, вышедшим в последние годы, читаю и поражаюсь: сколько легковесных суждений! Дело не только в незнании фактов моей жизни, но прежде всего — в вольной интерпретации мотивов тех или иных поступков и решений. Штампы в описании образа жизни в бывшем Советском Союзе переносятся и на описание жизненного пути Горбачева.
Особенно много невероятного придумано в попытках объяснить, как удалось человеку из народа возглавить государство, пройти все ступени иерархии. Тут фантазия некоторых авторов не знает удержу. Разрабатывая тему «покровителей», утверждают, якобы наша семья по линии Раисы Максимовны связана родственными узами с Громыко, Сусловым, знатными учеными и т. д. Все это досужие выдумки. Мы сами сотворили свою судьбу, стали теми, кем стали, сполна воспользовавшись возможностями, открытыми страной перед гражданами.
Домашний наш быт строился на активном участии всех, но с годами все меньше и меньше — на моем. Нелегко давалось Раисе Максимовне совмещение профессиональной деятельности, требовавшей большой самоотдачи, с ведением домашнего хозяйства, заботой о ребенке.
Наверное, наш пример для Ирины был решающим. Ирина — наша единственная дочь, хорошо училась все годы, среднюю школу окончила с золотой медалью, занималась музыкой. Не помню, чтобы мы применяли какую-то специальную методику воспитания. Нет, просто вели активную, интересную трудовую жизнь. Мы доверяли дочери, и она пользовалась своей самостоятельностью во благо. К 16 годам прочитала всю отечественную и зарубежную классику в нашей библиотеке. Потом, уже будучи взрослой, призналась, что читала в основном по ночам.
В последний год нашей жизни на Ставрополье в семье произошло большое событие: Ирина вышла замуж. 15 апреля 1978 года сыграли свадьбу.
А свадебное путешествие молодожены провели в поездке на теплоходе по Волге. Вернулись, полные впечатлений и счастливые, за день до нашего юбилея — серебряной свадьбы.
Ирина и Анатолий, как мне показалось, легче, чем мы, расставались со Ставрополем. Москва их манила; по перешептываниям, нетерпеливым взглядам было видно, что мысленно они уже там, в столице.
В день отъезда мы с Раисой Максимовной решили попрощаться с городом, сели в машину и проехали от исторического центра до новых кварталов, где Ставрополь выплескивался за пределы старых границ к лесу. А дальше — поехали к Русскому лесу, где все было исхожено нами вдоль и поперек. В трудные моменты жизни природа была для меня спасительным пристанищем. Когда нервное перенапряжение на работе достигало опасного предела, я уезжал в лес или степь. Бежал к природе со своими бедами, как когда-то в детстве к ласковой материнской руке, способной защитить, успокоить. И всегда чувствовал, как постепенно гаснут тревоги, проходит раздражение, усталость, возвращается душевное равновесие.
Даже в черные, трагические для самой природы годы, когда беспощадный зной поражал все живое и красавица-степь выгорала буквально дотла, превращаясь в огромное, саднящее душу пепелище, даже тогда природа учила мужеству и самообладанию. Стоило на это пепелище пролиться первым благодатным дождям, как происходило чудо. Еще день-два назад казалось, что степь умерла, ничто не может вернуть ее к жизни. И вдруг она начинала дышать, оживать, возрождаться. Откуда только брались у нее силы? Глядя на это буйное цветение, человек невольно заражался надеждой.
Говорят, грандиозны и живописны Тянь-Шань и Гималаи, красив Горный Алтай. Согласен, видел это в кино и на полотнах живописцев. Я в восторге от природы Сибири — она навсегда покорила меня своей неповторимой суровой красотой. И все-таки, на мой взгляд, не могут они по красоте конкурировать с Кавказом. Пройдите через перевал к Сухуми или, наоборот, от моря к Красной поляне, к озеру Рица и в Ар-хыз. Потрясающей красоты картины открываются одна за другой.
Кавказ — это вечные ледники, царственно величавые, безмолвные, мудрые горы, столько повидавшие на своем веку, такие далекие от сиюминутной людской суеты. Это и веселые, зеленые склоны, сплошь покрытые пышной, многоцветной растительностью. Голые скалы и мрачные ущелья — это тоже Кавказ.
Пожалуй, никто не нашел лучших слов о Кавказе, чем Лермонтов:
Раиса Максимовна разделяла мою страсть к природе. Сколько километров мы с ней прошагали! Ходили летом и зимой, в любую погоду, даже в снежные метели. В такую метель и мы попали, думали уж, что и не выберемся. Слава Богу, вышли к линии электропередачи и по ней сориентировались.
И еще запомнилось, как однажды, в конце апреля — начале мая, пригласил нас с Босенко секретарь Калмыцкого обкома партии Басан Бадьминович Городовиков в Манычский заповедник. Раиса Максимовна до сих пор часто вспоминает эти удивительно красивые острова с пеликанами, множеством других птиц и бескрайние, на десятки километров, поля тюльпанов — красных, желтых. Есть примета: найдешь черный тюльпан — к счастью. И представьте — нашли.
Но пеликаны и тюльпаны — это все-таки экзотика. А мы больше всего любили нашу ставропольскую степь, особенно в конце июня. Уедем вдвоем подальше от города. До самого горизонта мягкие переливающиеся волны хлебов. Можно было заехать в глухую лесополосу и раствориться в этом безмолвии и красоте. К вечеру жара спадала, а ночью в созревающих пшеничных полях начинались перепелиные песни. Тогда-то и наступало ни с чем не сравнимое состояние счастья от того, что все это есть — степь, хлеба, запахи трав, пение птиц, звезды в высоком небе. Просто от того, что ты есть.
Единение с природой достигало такой ноты, что начинало казаться, будто мы уже в каком-то ином мире. Это невозможно передать словами. Наверное, именно такое ощущение испытывает истинно верующий человек в храме во время богослужения. Что ж, природа — тот же храм, никогда не была она для меня «окружающей средой» или «зоной отдыха», где горожанин собирает цветочки. Я всегда ощущал столь сильную органическую связь с природой, что могу с уверенностью утверждать: формировали меня не только люди, общество, но и она. Многое во мне — в характере и, если хотите, в мироощущении — от нее, от того, что существую не только я в ней, но и она во мне.
Откуда это? Наверное, от тех самых истоков, с которых все начиналось. В давние довоенные годы, о которых я уже рассказывал, когда деда Пантелея из Привольного направили председательствовать в другой колхоз — «Красная звезда», он оставил моим родителям огород и большой сад, занимавший, наверное, площадь более гектара. Это и был мой мир.
При закладке сада, очевидно, имелся план. Строго посередине возвышались пять или шесть огромных абрикосовых деревьев. Им было лет по тридцать — сорок, не меньше, и мне они казались гигантскими. Помню еще, что все абрикосы на них были со сладкими косточками, между деревьями росла низкостелющаяся алыча, а под ней — мягкая трава.
Справа от абрикосов красовался молодой вишневый сад. «Шпанка» — так называли вишневые деревья, что означало — испанские. Ягоды у них были либо крупные с кислинкой, либо средние, но очень сладкие. И не только вкус их запомнился, разве мыслимо забыть эти вишни, эту белоснежную пену в пору цветения!
Росли там яблони и груши, тоже разных сортов. Каких именно, меня тогда не интересовало. Помню лишь, очень вкусные, а главное — созревали в разное время, так что хватало их на все лето и осень. За яблонями и грушами сливы, черные и белые. Сад постепенно переходил в заросли карагача. Сначала шли большие деревья, потом сплошной кустарник. Настоящие джунгли, занимавшие чуть ли не треть территории сада. Были у меня там свои потаенные места, и, когда однажды попалась мне книжка «Всадник без головы», именно там исчез я почти на трое суток. Мать с ума сходила: не знала, что и думать. Но пока не дочитал до конца, не объявился. Ох уж и «воспитывала» она меня потом!
Глубокий когда-то ров, окружавший весь участок, со временем зарос и скорее напоминал широкую, плоскодонную канаву. По всему периметру сада росла алыча, дававшая самые разные по размеру, цвету, вкусу и сочности плоды. Их хватало и для нас, и для домашней живности. Рядом располагались посадки акации, но не той, колючей, которая может служить забором, а нежной, с белыми цветами, что вдохновляла поэтов. Помните? «Белой акации гроздья душистые…» Пять самых крупных и уже изрядно постаревших акаций окружали мое первое жилье на самой окраине Привольного.
Я вижу этот сад и поныне, но, увы, нет его больше. В снежную зиму 1941 года, когда из-под сугробов торчали лишь верхушки деревьев, я ползал в валенках по насту и рубил их — ведь надо было жить, значит, как-то обогреваться. Много садов за несколько дней пребывания в Привольном в 1942 году уничтожили немцы.
Все-таки что-то осталось, и этими остатками мы пользовались в первые послевоенные годы. Но то, что не погибло в войну, дорубил «зверевский налог» (так назван по имени министра финансов Зверева), по которому крестьяне за каждое деревце на усадьбе, неважно, давало оно урожай или нет, должны были платить государству мзду. Вот тогда пришел конец нашим садам.
В годы моей учебы в МГУ родители построили новую хату — в центре села, ближе к месту работы отца. Туда я приезжал на каникулы, там состоялась первая встреча Раисы Максимовны с моими отцом и матерью. Старую хату продали. Новые хозяева в ней жили недолго. Привольное строилось, дома ставились по новому плану, окраина опустела.
Однажды, когда я вновь оказался в Привольном, поехал на край села. Теперь тут все распахано, растут хлеба и травы. Нет ни нашей старой хаты, ни волшебного сада моего детства. Так что живут они теперь только в моей памяти…
Проехав через весь город и вырвавшись за его пределы, машина остановилась у края леса. Это было 5 декабря. Зима. Мы с Раисой Максимовной вышли из автомобиля и пошли пешком. Лес не был таким нарядным, как осенью. Сгущавшиеся сумерки придавали ему печальный вид, словно и он прощался с нами. Защемило сердце.
На следующий день, оторвав шасси от ставропольской земли, самолет взял курс на Москву.
Глава 7. На Старой площади
Новый, непривычный мир
Квартиру в столице мы получили не сразу. Нас временно поселили на даче в Горках-Х.
Ирина с Анатолием оставались в Ставрополе.
С первого дня возникло чувство одиночества — будто выбросило нас на необитаемый остров, и никак не сообразишь, где мы, что с нами и что вокруг. Одновременно ощущение душевного дискомфорта, оттого что мы «под колпаком». Дачка небольшая, подсобных помещений нет. Тут же обслуживающий персонал, офицер охраны. Обменяться мнениями, обсудить свои впечатления мы с Раисой Максимовной могли только на территории дачи, ночью на прогулке после возвращения с работы.
Вскоре нам предложили другую дачу — в Сосновке, неподалеку от Крылатского. Напротив, через Москву-реку, Серебряный бор. В 30-е годы на этой даче жил Орджоникидзе, а до нас — Черненко. Строение не отличалось особой архитектурной мыслью. Старый деревянный дом, изрядно износившийся, но уютный. Заботились о нем мало, поскольку на его месте хотели построить новый. Дача была своего рода перевалочным пунктом для вновь избранных. Раиса Максимовна съездила в Ставрополь, вернулась с ребятами и пожитками и начала обустраивать новое местожительство. В кругу семьи встретили мы новый, 1979 год. Под звон курантов подняли бокалы, поздравили друг друга, в душе надеясь, что все образуется.
По мере того как менялось мое положение в партийной иерархии, менялись и дачные дома. По установленному порядку член Политбюро жил на даче побогаче той, в которой размещались кандидат в члены Политбюро или секретарь ЦК. Но при всех различиях на тех и других лежал отпечаток угнетающей казарменности. В первое время мы никак не могли отделаться от ощущения, что живем в гостинице. Лишь постепенно усилиями Раисы Максимовны складывался близкий нам по духу микромир.
Квартиру получили позднее на улице Щусева в доме, который москвичи называли «дворянским гнездом». Там же поселились Ирина и Анатолий. Но жить продолжали на даче, так как обустройство нового жилья потребовало много времени.
В Москву я приехал, хорошо понимая, какие обязанности принял на себя. С первых дней весь ушел в работу и работал как каторжник, по 12–16 часов в сутки.
Почти девять лет проработал я первым секретарем в Ставрополе. На самом острие политики. И если в первые годы моей партийной карьеры нет-нет да и возникала мысль, не прибиться ли к другому берегу, то работа секретаря крайкома партии окончательно убедила в правильности сделанного выбора. Политика взяла верх. Ей были отданы лучшие годы жизни, я почувствовал ее вкус, и теперь уже этот мир захватил меня полностью.
Как члену ЦК и секретарю крайкома мне приходилось постоянно быть в контакте с «верхами». Казалось, порядки «царского двора» мне известны. Но лишь в столице я убедился, что все обстоит гораздо сложнее, чем я представлял. Только со временем удалось уловить тонкости и нюансы отношений «наверху».
На первых порах мое энергичное включение в работу Секретариата ЦК, обсуждение вопросов на его заседаниях вызвало у моих коллег не очень-то позитивную реакцию. Некоторые смотрели на меня как на «выскочку». Я всячески сопротивлялся тому, чтобы стать очередной жертвой этой машины, увязнуть в рутине субординации. Легко сказать, но выдержать такую линию поведения совсем не просто. В Ставрополе, будучи секретарем крайкома, я имел куда больше свободы, нежели здесь, оказавшись на самых верхних этажах власти в Москве.
Политбюро и Генеральный секретарь
Мой рассказ о работе в Секретариате ЦК и Политбюро будет более понятным и убедительным, если я хоть кратко коснусь истории возникновения этих институтов. Сам термин «Политбюро» появился, как известно, в октябре 1917 года, когда понадобилось создать орган для политического руководства восстанием. Но как постоянную руководящую структуру Политбюро избрали лишь в марте 1919 года. До этого все, в том числе мелкие текущие вопросы, решал ЦК, заседания которого даже в разгар революционных событий проходили чуть ли не еженедельно.
Пока численность ЦК не превышала 10–20 человек, это было вполне возможно. Но по мере того как росла партия и расширялся ее Центральный Комитет, куда стали избираться работники не только центральных учреждений, но и провинции, функционировать по-прежнему он уже не мог. Тогда-то создали Политбюро и Оргбюро, руководившие партией в промежутках между пленумами ЦК. В этих органах постепенно сосредоточилась вся полнота власти.
Первое Политбюро представляло собой ядро прежнего состава ЦК. Это были политические фигуры, известные всей партии и стране. Председателя формально не существовало, авторитет каждого члена зависел не от должности и занимаемого места, а, наоборот, — место зависело от реального авторитета. Председательствовал на заседании обычно Ленин — его лидерство было непререкаемым. Но заседание могли вести и другие, например Каменев.
На Политбюро старались выносить наиболее существенные политические вопросы, а на Оргбюро перекладывали «текучку», или, как говорили тогда, «вермишель». По отношению к Совнаркому и другим органам государственной власти и учреждениям постоянно проявлялись две противоположные тенденции. С одной стороны, Ленин не раз заявлял, что недопустимо наступать правительству на пятки, а с другой — как только возникала конфликтная ситуация, сразу же грозил наркомам «вытащить на Политбюро». Позднее, когда лидер партии перестал одновременно быть и руководителем правительства, эта тенденция приняла доминирующий характер.
Что касается Секретариата ЦК, то с годами менялись его функции, персональный состав. И между прочим, именно в этом четко проявилась зависимость места и роли учреждения от того, в чьих руках оно находится. С августа 1917 года возглавлял Секретариат Я.М.Свердлов, одновременно являвшийся председателем ВЦИК. При нем вся организационно-техническая, так называемая «аппаратная», работа носила сугубо вспомогательный характер и направлялась исключительно на обеспечение деятельности ЦК.
Но после того как Свердлова не стало, а объемы организационной работы продолжали нарастать, Секретариат расширили, ив 1919 году в него вошли Н.Н.Крестинский, Е.А.Преображенский, Л.П.Серебряков, являвшиеся членами ЦК и Оргбюро ЦК. Членом Политбюро из них был лишь Крестинский. Его даже называли иногда «первым секретарем», но, мне кажется, Крестинского гораздо больше интересовал Наркомат финансов, которым он продолжал руководить в эти годы. Вообще, у старых революционеров отношение к «секретарской» должности было несколько пренебрежительным. «Народный комиссар» — звучало куда весомее.
В 1921 году все трое секретарей очутились в рядах оппозиции, да и «аппаратчиками» оказались они никудышными. Поэтому после X съезда РКП(б) в Секретариат избрали функционеров менее известных, но более склонных к аппаратной работе — В.М.Молотова, В.М.Михайлова и Е.М.Ярославского. Они также являлись членами ЦК и Оргбюро ЦК, но в состав Политбюро не входил никто.
Очень скоро стало ясно, что надо как-то поднимать авторитет Секретариата и вообще наводить порядок в партийном аппарате. Вот тогда-то и родилась идея направить в Секретариат члена Политбюро Сталина. До того был он единственным «дважды наркомом» — по делам национальностей и рабоче-крестьянской инспекции. Поэтому, чтобы не было ему обидно, новую должность назвали не просто «секретарь ЦК» или «первый секретарь». 3 апреля 1922 года Пленум ЦК избрал Сталина «Генеральным секретарем ЦК РКП(б)».
Не прошло и девяти месяцев, как Ленин 25 декабря 1922 года написал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».
Сталин показал, что значит держать в своих руках аппарат, а главное — кадры, назначения на все более или менее видные посты в центре и на местах. Он стал влиять даже на формирование повестки дня и решения Политбюро, ибо проекты постановлений готовились в недрах Секретариата. Иными словами, из органа вспомогательного, оказывавшего организационно-техническую помощь Политбюро, Секретариат постепенно превращался в исполнительный орган политического руководства.
Влияние на властные структуры со стороны Политбюро, где председательствовал мягкотелый Каменев, а также Совнаркома, который возглавил Рыков, ослабевало. И наоборот, значение Секретариата, тесно связанного с региональными партийными лидерами, усиливалось. Сталину удалось наладить отношения с местными кадрами, продвинуть на ключевые посты своих людей и с их помощью нанести поражение соперникам.
Со временем Советы все более становились носителями местных интересов, а народные комиссариаты — выразителями отраслевых, ведомственных позиций. Партия стала выступать как интегрирующая сила, отстаивающая «общегосударственный интерес». Постепенно в центре и на местах партийные комитеты начинают подминать государственные органы. На заседаниях бюро и пленумов не только в Москве, но и в регионах решаются теперь уже не только политические, но и сугубо хозяйственные вопросы.
Менялась не только власть, приобретавшая тоталитарный характер, менялась сама партия и ее функции. Она становилась не обычной общественно-политической организацией, а механизмом управления обществом, несущей конструкцией формировавшейся командно-бюрократической системы. И любое покушение на изменение этой роли воспринималось как «подрыв устоев».
Косыгин не принадлежал к числу наивных людей. Когда при Брежневе в аппарате ЦК стали создавать мощные отделы по всем народнохозяйственным вопросам, Алексей Николаевич попытался воспротивиться. Но без успеха. Их все-таки сформировали, и дело дошло до того, что в ЦК функционировал даже «сектор кремнийорганических производств». Отделы и сектора не отвечали непосредственно за результаты работы, но плотно контролировали министерства и предприятия, влезая во все дела и создавая нередко дополнительные помехи. В ответ на это в рамках управления делами Совмина насоздавали отделов по крупным отраслям. Возникали все новые и новые министерства.
Вот так и шла все время конкуренция со взаимным подсиживанием и подножками, эдакий «вечный бой» между партийным и правительственным аппаратом. Ее результатом явилось создание громоздкой, малоэффективной и насквозь забюрократизированной партийно-государственной системы управления.
По логике существовавших Конституций партия должна была вырабатывать политику, Верховный Совет — принимать законы, а правительство — проводить эту политику в жизнь и исполнять законы. Схема вроде бы демократичная. Но поскольку партия вторгалась в функции и законодательной, и исполнительной власти, вся схема разваливалась на глазах. Получалась сплошная мешанина. С одной стороны, полное отсутствие разделения властей и какого бы то ни было контроля, с другой — концентрация власти без предела.
Брежнев извлек уроки из опыта Хрущева. Он восстановил сельские райкомы и прежнюю роль региональных партийных комитетов. На XXIII съезде возродил и занял пост Генерального секретаря. Главной его опорой опять стали первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК республик. Испытанная сталинская схема. Но если при Сталине она поддерживалась репрессиями, то при Брежневе это был своего рода «общественный договор» между основными носителями власти.
«Договор» этот никто не формулировал, его никогда не записывали и тем более не упоминали. Но он реально существовал. Смысл его состоял в том, что первым секретарям в их регионах давалась почти неограниченная власть, а они, со своей стороны, должны были поддерживать Генерального, славить его как лидера и вождя. В этом была суть «джентльменского» соглашения, и оно тщательно соблюдалось. Характерно, что Леонид Ильич лично держал связь с первыми секретарями даже тогда, когда был тяжело болен и ему трудно было вести разговор.
Аналогичное «соглашение» существовало и с правительством. За ним признавалось право на оперативное управление экономикой, социальной сферой. Но любой мало-мальски крупный вопрос должен был предварительно получить одобрение в партийной инстанции. Ну а ряд ведущих министерств, таких, как МИД, Министерство обороны, госбезопасность, МВД, практически полностью находились в руках Политбюро и Секретариата, оставаясь при этом на бюджете и в структуре Совета Министров.
На протяжении десятилетий руководящая и всепроникающая роль высших партийных структур не имела четкого легитимного оформления. В сталинской Конституции содержалось упоминание о партии как руководящем ядре всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Но оно в тексте Конституции было где-то на отшибе, в главе X — об основных правах и обязанностях граждан, — воспринималось как некая общая декларация, а не конституционно-правовая норма. И только в брежневской Конституции появилась шестая статья, закрепившая положение КПСС как «ядра политической системы». Так пытались придать видимость легитимности, освятить конституционными нормами реальность, которая сложилась в стране.
Брежневские времена
К моменту моего переезда в Москву перегруппировка сил внутри высших партийных структур в основном завершилась. Я уже говорил, что приход Брежнева к власти в октябре 1964 года стал результатом компромисса между группировками, свергнувшими Хрущева. Брежнев казался фигурой не очень значительной, полагали, что им легко можно будет манипулировать. Но расчеты эти не оправдались. С помощью нехитрых приемов политической игры он сумел упрочить свое положение, стать практически недосягаемым.
Пожалуй, главным из этих приемов являлось умение разъединять соперников, подогревать взаимную подозрительность претендентов на власть, оставляя за собой роль главного арбитра и миротворца. Со временем для меня стало очевидным и другое его качество — злопамятность. Нелояльного к себе отношения он не прощал, но при этом обладал способностью дождаться удобного момента для замены неугодного лица. Никогда не прибегал к методам лобовой атаки, вел постепенно, шаг за шагом к развязке, вышибанию неугодных из состава руководства.
Отстранением Подгорного в 1977 году и Косыгина в конце 1980 года завершилось утверждение единоличной власти Брежнева. Ирония судьбы состояла в том, что это произошло уже после того, как Брежнев начал утрачивать работоспособность; власть его приобрела эфемерный характер.
Судя по воспоминаниям академика Чазова, болезнь генсека стала прогрессировать в начале 70-х годов. Роковую роль сыграли склероз мозговых сосудов и злоупотребление успокаивающими препаратами, вызывавшими депрессию и вялость. Он менялся на глазах. Раньше был не только более энергичным, но и более демократичным, не чуждался нормальных человеческих отношений. Поощрял обсуждения, случались даже дискуссии на заседаниях Политбюро и Секретариата. Теперь ситуация изменилась коренным образом. О дискуссиях, уж тем более о какой-либо самокритичности с его стороны не могло быть и речи.
Казалось бы, общее состояние здоровья и интеллекта Брежнева требовало поставить вопрос о его уходе в отставку. Это было бы гуманно и целесообразно с точки зрения человеческой и интересов государства. Но Брежнев и его ближайшее окружение и думать не хотели о расставании с властью. И себя, и других убеждали, что-де уход Брежнева нарушит установившееся равновесие, подорвет стабильность. Словом, опять «незаменимый», хотя и полуживой.
Помню, как на одном из заседаний Политбюро председательствовавший «вырубился», потерял смысловую нить обсуждения. Все сделали вид, что ничего не произошло. Хотя все это оставляло тяжкое впечатление. После заседания я поделился своими переживаниями с Андроповым.
— Знаешь, Михаил, — повторил он почти дословно то, что и раньше мне говорил, — надо делать все, чтобы и в этом положении поддержать Леонида Ильича. Это вопрос стабильности в партии, государстве, да и вопрос международной стабильности.
Не только он, думаю, большинство членов Политбюро не хотели ухода Брежнева. Слабеющий генсек вполне устраивал первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик, устраивал он и премьер-министра, министров, ибо они становились полными хозяевами в своих епархиях. Иными словами, тут, как и при обретении Леонидом Ильичом власти, действовал упоминавшийся «общественный договор».
Удержанию шаткого равновесия должна была, по их мнению, способствовать и тщательно оберегаемая субординация, каждый должен был знать свое место, свой «шесток» и не претендовать на большее. Эта субординация доводилась порой до полного абсурда и предусматривала буквально все, даже рассадку в зале заседаний Политбюро. Я не шучу!
Казалось бы, собираются коллеги, соратники. Чего уж чиниться? Но нет, каждому надлежало занять за столом строго определенное место. Справа от Брежнева садился Суслов, слева — предсовмина Косыгин, а после его ухода — Тихонов. Рядом с Сусловым — Кириленко, затем Пельше, Соломенцев, Пономарев, Демичев. С другой стороны, рядом с Косыгиным, — Гришин, потом Громыко, Андропов, Устинов, Черненко и, наконец, Горбачев. Стол большой, и когда Леонид Ильич начинал советоваться с одной половиной, скажем, Сусловым, то при его дикции нам, сидевшим в конце стола на другой половине, услышать и понять было просто трудно.
Соседство с Константином Устиновичем также создавало определенные неудобства. Он постоянно вскакивал с места, подбегал к Леониду Ильичу и начинал быстро перебирать бумаги:
— Это мы уже решили… Это вам надо зачитать сейчас… А это мы сняли с обсуждения…
В общем, картина тягостная. Делалось все это открыто, без всякого стеснения. Мне было стыдно в такие минуты, и я иногда думал, что и другие переживают аналогичные чувства. Так или не так, но все сидели, как говорится, не моргнув глазом.
Наблюдая эти «дворцовые игры», я понимал, что единственным спасением от того, чтобы не увязнуть в них по уши и не опуститься до подобных интриг, является дело, которому я посвятил себя и за которое нес персональную ответственность. Поэтому время свое старался тратить прежде всего на углубленный анализ и осмысление аграрной политики.
Вопросы, вопросы…
В 1978 году объявили о небывалом урожае — 237 миллионов тонн. Первые же оценки государственных ресурсов, однако, опрокинули эти цифры. У нас учет зерна ведется по бункерному весу, а во многих регионах уборка шла в условиях повышенной влажности. Когда его подсушили и довели до нормы, зерна оказывалось много меньше, как минимум на 20–25 миллионов тонн.
Но это никого не смущало. Наоборот, протрубили, что, мол, близится достижение заветной цели — тонна зерна на душу населения.
Почему не полторы тонны, как у венгров? На протяжении ряда лет, по официальным данным, мы производили на душу населения около 750 кг зерна. Примерно столько же, сколько Франция. По моей просьбе подсчитали, что в странах всего Европейского Экономического Сообщества, где проживает приблизительно столько же людей, сколько у нас, валовой урожай зерна был меньше. На производство концентрированных кормов там использовали 74 миллиона тонн, в то время как нам уже не хватало 100–110 миллионов тонн. А производство и потребление всех животноводческих продуктов в странах ЕЭС было значительно выше, чем у нас.
В чем же дело? На первый взгляд парадокс — при меньших затратах зерна больше продукции. Но все дело в том, что в западных странах кроме зерна на выработку комбикормов затрачивается более 30 миллионов тонн белковых добавок, и это сразу меняет дело, получается сбалансированный по питательным элементам корм, дающий высокий эффект. Далее, пастбищные корма там составляют от 35 до 47 процентов, а у нас — примерно 17–20. В целом в расчете на одно животное в западных странах кормов расходуется в 1,5–2 раза больше. Наконец, селекция. У нас борьба «за хвосты», там — за высокопродуктивные породы. Скольких руководителей сельского хозяйства освободили за невьшолнение плана по поголовью! Это делал и я на Ставрополье.
Первые дни моей работы в ЦК совпали с началом зимовки в животноводстве. Республики и области завалили просьбами выделить из госресурсов концентрированные корма. Урожай удалось получить не во всех регионах.
Что такое государственные заготовки, я и до того знал хорошо. Но теперь, когда поле зрения расширилось до пределов страны, увидел картину, которая наводила на самые грустные размышления. Заготовка зерна никогда не была у нас обычным, хозяйственным, что ли, делом. Нет, это всегда была массовая политическая кампания, завершающий этап «всенародной битвы за хлеб». Она стояла в центре внимания партии, от Политбюро до райкомов и первичных парторганизаций. Больше всего партработники теряли головы на заготовках. Тут уж пощады ждать не приходилось.
В ход шла жесткая машина выжимания, выгребания, вытряхивания зерна из каждого совхоза и колхоза. Любой, кто пытался смягчить эту кампанию или просто придать ей здравый смысл, квалифицировался как руководитель «с кулацким душком и настроениями». И надо было обладать очень большим искусством аргументации, чтобы объясняться с ЦК в тех случаях, когда установленные государством задания не удавалось выполнить.
О здравом смысле я упомянул не случайно. По традиции, идущей чуть ли не с времен Гражданской войны, считалось, что нужно заготавливать максимально возможное количество зерна. Если оно в руках у государства, то, во-первых, его не растащат, а во-вторых, им можно по-хозяйски распорядиться, поддержав тех, у кого есть нужда, и не давая возможности «разбазаривать» тем, кому в этом году повезло с урожаем. То есть даже колхозы и совхозы, полностью выполнившие план заготовок, не могли распорядиться оставшимся зерном — оно «выбиралось» для покрытия недостачи в других хозяйствах. Ясно, что тем самым заинтересованность в наращивании производства снижалась, фактически сводилась на нет.
Порой дело доходило до глупости. Планы заготовок пшеницы доводились, к примеру, до хозяйств Ленинградской, Ярославской, Калининской и других областей Нечерноземья, где зерно этой культуры было такого низкого качества, что не всегда годилось даже на кормовые цели. Сдавая государству десятки тысяч тонн такого зерна, эти области получали от государства сотни тысяч тонн зернофуража для животноводства, не говоря уж о продовольственном зерне. При этом для стимулирования посевов зерновых здесь платили за тонну 24 рубля, а в Ставропольском и Краснодарском краях, где выращивалась высокосортная пшеница, за нее платили лишь 7-10 рублей.
Или возьмите Прибалтику и Белоруссию. Они являлись крупными потребителями зерна из государственных ресурсов: около двух миллионов тонн ежегодно направлялось в Белоруссию, от 700 тысяч до миллиона тонн — в каждую из Прибалтийских республик. Тем не менее все они имели план заготовок зерна. Считалось — каждый регион должен участвовать в наращивании его производства. Во всех республиках необходимость обеспечения общегосударственных заготовок доминировала над удовлетворением потребностей своих хозяйств и населения. И психология у многих руководителей республик, краев, областей складывалась соответствующая. Выгребали хлеб, рапортовали в надежде отличиться, опередить, быть замеченным, наконец, получить очередной орден. И тут же не моргнув глазом садились писать прошение в центр о выделении зерна и кормов из государственных ресурсов.
Таков был заготовительный ажиотаж, в котором я сам участвовал на протяжении многих лет — ив Ставрополе, и уже работая в Москве. Но и зерно, которое собирали, плохо хранилось и еще хуже использовалось, особенно та его часть, которая шла на выработку комбикормов. Не хватало заводов, техники, хранилищ, транспорта, белковых добавок. Создание всей этой инфраструктуры требовало огромных капитальных вложений и откладывалось до «лучших времен». А управленческие и партийные структуры наваливались на заготовки — забрать побольше и подешевле.
В заготовительном деле сложно переплетались государственные нужды и притязания бюрократов, реальная политика и элементарная бесхозяйственность, идеология и почти языческое обожествление хлеба, воспитанное годами голода и недоедания.
Взаимоотношения города и деревни, судьба крестьянства, земля и люди на земле, сохранение природы — эти извечные вопросы не давали мне покоя. Чем больше вникал я в них, тем больше одолевала тревога за положение в стране, тем больше возникало сомнений в разумности проводимой экономической политики.
Единая плановая система, опирающаяся на единую государственную собственность, вроде бы открывала гигантские возможности для учета реальных процессов в их взаимосвязи, рационального решения узловых проблем народного хозяйства. Теоретически так, но эта доктрина на практике давила инициативу. Сверхцентрализованная плановая система в огромной стране создавала сложнейшую многоступенчатую иерархию чиновников, каждый из которых — по законам функционирования всех бюрократических систем — стремился извлечь какую-то выгоду из своего положения.
В руках центра в значительной мере концентрировалось все, что производилось в стране. Здесь же все распределялось. С первых дней, когда на меня обрушился поток просьб и ходатаев о «выделении фондов», «оказании помощи», я увидел, что на самых различных уровнях государственного и партийного аппарата чиновники различных рангов используют решение этих вопросов для укрепления своего влияния и власти. Дать или не дать корма, удобрения, технику, стройматериалы зависело от тех, кто был у власти или просто причастен к принятию решений. И тут личные интересы, связи, кумовство нередко значили куда больше, чем справедливость или деловой расчет.
Почва для коррумпированности создавалась самая благодатная. Формы ее были весьма многообразны: чтобы ухватить кусок от общего пирога, в ход шли все средства. Помимо вульгарной взятки, подношений и подарков существовали и более «тонкие» — взаимная поддержка и мелкие личные услуги различного свойства, совместные пьянки под видом охоты или рыбалки.
Идея, возникшая у меня в этой связи, могла показаться парадоксальной. В качестве чрезвычайной меры я предложил направлять все просьбы исключительно Генеральному секретарю ЦК КПСС. Сель-хозотдел сводил заявки, поступавшие от ЦК республик и обкомов, собирал объективные данные о реальном положении в этих регионах с продовольствием и фуражом. Такого рода сводная записка докладывалась самому Брежневу. Готовились проекты решений. Генсек принимал окончательное решение — помощь исходила как бы непосредственно от него, ему это импонировало. Но достигался хоть какой-то порядок в распределении зерновых ресурсов.
Стычки с Косыгиным
В 1979 году хлеба собрали намного меньше, чем в предыдущем. Я пришел к печальному выводу, что план заготовок становится нереальным, разницу придется покрывать за счет закупок зерна за рубежом.
Предваряя окончательное решение, я подготовил предложение-прогноз и после возвращения из отпуска основного состава руководства разослал записку членам Политбюро. Однако произошло событие, опередившее ее официальное обсуждение.
7 сентября 1979 года в Кремле должно было состояться вручение наград космонавтам В.А.Ляхову и В.В.Рюмину за самый продолжительный по тем временам 175-суточный полет. Все члены руководства, находившиеся в Москве, пришли для участия в этой торжественной акции. Мы стояли у входа в Екатерининский зал, переговариваясь друг с другом. Леонид Ильич, как обычно, поинтересовался урожаем. Я ответил, что надо срочно добавить автомашин Казахстану для перевозки хлеба и центральным областям на уборку свеклы. В разговор вмешался Алексей Николаевич Косыгин, довольно резко стал выговаривать мне: хватит, мол, попрошайничать, надо обходиться своими силами.
— Послушай, — прервал его довольно миролюбиво Брежнев, — ты же не представляешь себе, что такое уборка. Надо этот вопрос решать.
Но Алексей Николаевич не остановился, продолжил еще более раздраженно:
— Вот тут нам, членам Политбюро, разослали записку сельхозотдела. Горбачев подписал. Он и его отдел пошли на поводу у местнических настроений, а у нас нет больше валюты закупать зерно. Надо не либеральничать, а предъявить более жесткий спрос и выполнить план заготовок.
Я понимал, что аппарат Совмина будет настраивать Косыгина негативно, но подобного рода реакции все-таки не ожидал. А поскольку обвинения были достаточно серьезны, то и сам не сдержался, заявил, что если предсовмина считает, что мною и отделом проявлена слабость, пусть поручает вытрясти зерно своему аппарату и доводит эту продразверстку до конца.
Воцарилась мертвая тишина… Как-то надо было выходить из разразившегося скандала. Выручил кто-то из распорядителей:
— Леонид Ильич, — громко сказал он. — Все готово, пора идти. В затылок друг другу потянулись мы за Брежневым в Екатерининский зал.
Вручили награды космонавтам, и я вернулся в свой кабинет. Настроение было подавленное. Не только потому, что конфликт произошел именно с Косыгиным, которого я глубоко уважал. В такие моменты я всегда старался проявить хладнокровие и трезво оценить — не допустил ли какую-то ошибку? В политике заготовок проводилась жесткая линия, но существовал предел, через который, как я считал, просто нельзя переступить. Вытряхнуть все до последнего, конечно, можно, для подобного рода акций партия обладала опытом более чем достаточным. Но это было бы бесчестным по отношению к крестьянам, да и противогосударственным. Надо было не давить, а искать разумный выход.
Минут через пятнадцать раздался телефонный звонок Брежнева.
— Переживаешь? — спросил он, видимо, желая подбодрить и успокоить меня.
— Да, — ответил я. — Но дело не в этом. Не могу согласиться с тем, что я занял негосударственную позицию.
— Ты правильно поступил, не переживай. Надо действительно добиваться, чтобы правительство больше занималось сельским хозяйством. — На этом разговор закончился.
Часа через два еще звонок. На прямом проводе Косыгин. И как ни в чем не бывало:
— Я хочу продолжить разговор, который мы начали.
— Алексей Николаевич, — ответил я уже без всякого раздражения и обиды, — может быть, вы в самом деле возьмете на этом заключительном этапе инициативу в свои руки. Для меня это первая такая кампания, да еще в такой тяжелый год.
Косыгин помолчал, потом ответил:
— Я еще раз перечитал вашу записку. Вносите свои предложения в Политбюро.
Он сказал это тоже без всякого раздражения, не отчитывая, но и не извиняясь. Ну что ж…
Кстати, забегая вперед, скажу, что задание по заготовкам, которое оспаривал Косыгин, тоже не было выполнено.
Инцидент с Алексеем Николаевичем имел для меня совершенно неожиданные последствия. Определенная часть руководства, видимо, восприняла его однозначно — как мою жесткую позицию по отношению к Косыгину лично. Об этом я подумал, когда однажды поздней осенью Суслов сказал:
— Тут у нас разговор был. Предстоит Пленум. Есть намерение укрепить ваши позиции. Было предложение ввести вас в состав членов Политбюро. Но я выступил против и хочу, чтобы вы знали об этом. Будем рекомендовать вас кандидатом в члены Политбюро. Так будет лучше. Рядом с вами работают секретари по пять, десять, пятнадцать лет. Зачем вам создавать вокруг себя лишнее напряжение?
Он был прав.
Жизнь в столице
Работа в ЦК оставляла мало времени для семьи, отдыха. Но надо было вживаться в столичную жизнь, налаживать новые отношения. Нам, естественно, хотелось понять атмосферу, в которой живут семьи моих новых коллег, да просто познакомиться с ними. Увы, все оказалось не так, как я предполагал.
Встречи и хождение в гости не поощрялось — мало ли что… Сам Брежнев звал к себе строго ограниченный круг — Громыко, Устинова, реже Андропова, Кириленко. Были, правда, исключения. Ранним летом 1979 года нашу семью пригласил провести вместе выходной день Суслов. Договорились поехать погулять по территории одной из дальних пустующих сталинских дач. Он взял с собой дочь, зятя, внуков. Провели там почти целый день — гуляли, разговаривали. Никакого обеда устраивать не стали, но чай все-таки был. Это была встреча ставропольцев: старожил Москвы как бы проявлял внимание к молодому, прибывшему из тех мест коллеге.
Даже с Андроповым, несмотря на добрые отношения, так и не пришлось нам ни разу пообщаться в домашней обстановке. Однажды я попытался было проявить инициативу, но что из этого вышло — вспоминаю, до сих пор испытывая чувство неловкости. Когда в конце 1980 года я стал членом Политбюро, наши дачи оказались рядом. И вот как-то уже летом следующего года я позвонил Юрию Владимировичу:
— Сегодня у нас ставропольский стол. И как в старое доброе время приглашаю вас с Татьяной Филипповной на обед.
— Да, хорошее было время, — ровным, спокойным голосом ответил Андропов. — Но сейчас, Михаил, я должен отказаться от приглашения.
— Почему? — удивился я.
— Потому что завтра же начнутся пересуды: кто? где? зачем? что обсуждали?
— Ну что вы, Юрий Владимирович! — совершенно искренне попытался возразить я.
— Именно так. Мы с Татьяной Филипповной еще будем идти к тебе, а Леониду Ильичу уже начнут докладывать. Говорю это, Михаил, прежде всего для тебя.
С тех пор желания приглашать к себе или быть приглашенным к кому-либо у нас не возникало. Мы продолжали встречаться со старыми знакомыми, заводили новых, приглашали к себе, ездили в гости к другим. Но не к коллегам по Политбюро и Секретариату.
С трудом вписывалась в новую систему отношений и Раиса Максимовна, которая так и не смогла найти себя в весьма специфичной жизни, как их теперь называют, «кремлевских жен». Близкие знакомства ни с кем не состоялись. Побывав на некоторых женских встречах, Раиса Максимовна была поражена атмосферой, пропитанной высокомерием, подозрительностью, подхалимством, бестактностью одних по отношению к другим.
Мир жен — это зеркальное отражение иерархии руководящих мужей, вдобавок с некоторыми женскими нюансами. Дело доходило до курьезов. 8 марта 1979 года по традиции устроили очередной правительственный прием. Все жены руководителей выстроились при входе в зал, чтобы приветствовать иностранных гостей и соотечественниц. Раиса Максимовна встала там, где было свободное место, нисколько не подозревая, что тут действует самая строгая субординация.
Одна из «главных» дам — жена Кириленко, рядом с которой оказалась Раиса Максимовна, обратившись к ней, без стеснения указала пальцем:
— Ваше место — вот там… В конце.
Раиса Максимовна все время повторяла: что же это за люди?
За пределами «избранного круга» все было проще. Ирина и Анатолий быстро вошли в новую студенческую среду, обзавелись друзьями. Возобновила свои научные связи и Раиса Максимовна. Она установила контакты со старыми знакомыми и коллегами в МГУ, Институте философии. Сразу же включилась в знакомый ей мир научных дискуссий, симпозиумов, конференций, просто дружеских встреч. Занялась английским языком.
Как только выдавалось свободное время, мы брали машину и ехали смотреть Москву. Первые маршруты пролегли по старым, близким сердцу местам. Моховая, Красные ворота, Красносельская, Сокольники с памятной пожарной каланчой, Клуб имени Русакова, Стромынка… Долго стояли. Подошли к Яузе. Проехав через мост, оказались на Преображенской площади. И не узнали ее — старой площади нет! Грустно до боли.
То же чувство испытал я и на Красной Пресне, где в 1951 году, будучи студентом и заместителем руководителя агитколлектива, проводил избирательную кампанию. Забросив учебу, я целый месяц метался по стареньким, полуразвалившимся домишкам на Большой Грузинской и Малой Грузинской улицах, ублажая избирателей и хлопоча о ремонте лестниц и крыш, кранов и выключателей, замков и дверей, ибо накануне выборов любая тишайшая старушонка могла твердо заявить:
— Сделай, милок, а то не пойду голосовать!
Но то была Москва пятидесятых годов. А теперь на месте стареньких домишек возвышались многоэтажные здания. Изменился пейзаж и на Ленинских горах, где в наше время и сам университет, и лыжный трамплин у Москвы-реки выглядели на фоне окружающих пустырей и мелких строений как-то одиноко и сиротливо. На месте бывшей деревни Черемушки, где тогда жили строители и куда мы ездили получать посылки от родных, создан современный благоустроенный район.
После увиденного я испытывал двойственное чувство. В тех стареньких, ветхих домах жить, конечно, было нельзя. Но в них была своя душевная теплота, близость к природе, особый уклад жизни, с которым нелегко расстаться. Именно тогда впервые я подумал, какой же человеческой драмой для тысяч москвичей было прощание со Старым Арбатом. Когда создавался ансамбль высотных зданий на Калининском проспекте, москвичи этот комплекс назвали по-своему — «вставная челюсть Москвы». И сейчас, когда слышу песню о Старом Арбате в исполнении Иосифа Кобзона, испытываю тоску по городу юности, старой Москве:
Сначала мы выбирали маршруты поездок по Москве спонтанно. Сели, поехали, где-то остановились, вышли погулять. И все окружающее вливалось в наши души, извлекая из дальних уголков памяти какие-то воспоминания. Но мы хотели узнать и Москву сегодняшнюю, в которой теперь суждено жить. Со временем родилась идея: выбирать маршруты поездок так, чтобы познакомиться с Москвой по векам ее становления. Сначала Москва XIV–XVI веков, потом XVII–XVIII и далее. Сопровождали нас обычно историки старой Москвы, с которыми успела познакомиться Раиса Максимовна.
Потом стали выезжать в Подмосковье. Побывали в Архангельском. Самое большое впечатление — пейзажи по берегам Москвы-реки. О Коломенском мы слышали и раньше, но то, что увидели, буквально поразило и заворожило. Храм Вознесения — устремленный ввысь, в небо, к Богу!
Мы воспользовались новыми возможностями и для того, чтобы удовлетворить свою давнишнюю страсть к театру. И раньше во время кратковременных наездов в Москву старались посетить наиболее интересные спектакли. По старой памяти стремились побывать во МХАТе и в Малом. Полюбили Театр им. Вахтангова, Театр сатиры, «Современник». Запомнились «Десять дней, которые потрясли мир» и «Антимиры» на Таганке. Однажды в Большом, совершенно потрясенные, смотрели «Спартак» с Васильевым, Максимовой, Лиепой.
Укоренясь в Москве, по мере возможности стали ходить в театры, как бы проверяя впечатления, оставшиеся от прежних лет. Опять на первом месте — театр Вахтангова; очень сблизились с МХАТом, «Современником», театрами Моссовета, Маяковского. Чаще стали бывать в Большом. Ну и, конечно, Третьяковка, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Большой зал консерватории.
Перечитал я эти строки и удивился: странная штука память, о времени, событиях, людях хранит прежде всего хорошее, даже если его было совсем немного.
Афганская война и Продовольственная программа
После ввода наших войск в Афганистан США и другие государства предприняли против СССР ряд мер. В частности, американцы прекратили даже те поставки продовольственного зерна, по которым имелись подписанные соглашения. Это эмбарго лишило нас возможности получить примерно 17 миллионов тонн.
В январе 1980 года Брежнев пригласил к себе Громыко, Устинова и меня. Впервые я оказался в столь узком кругу, где фактически принимались важнейшие решения, определявшие судьбы страны. Вначале Громыко и Устинов подробно и весьма оптимистично изложили свои оценки положения в Афганистане. Мне же пришлось докладывать о весьма тревожной продовольственной ситуации.
Сообщение обеспокоило всех присутствовавших. Мне дали поручение подготовить конкретные предложения о том, какой минимум необходимо иметь для нормального жизнеобеспечения и какие директивы в этой связи должны быть даны МИДу и Внешторгу. Тогда же впервые я поставил вопрос о необходимости разработки программы, которая освободила бы нас от импорта зерна. Я еще не называл ее «продовольственной», но речь шла именно о ней.
После этой беседы вместе с помощником Брежнева Г.Э.Цукановым написали текст выступления генсека на Политбюро. Предложения были одобрены, принято решение подключить к подготовке программы Госплан, министерства, научные учреждения.
Идея разработки Продовольственной программы, конечно, появилась не по наитию или под воздействием момента. Уже больше года, занимаясь оперативными делами, я пытался докопаться до корней продовольственной проблемы.
И что же?
Жуткая открылась картина. Земля, наша кормилица, как мы ее зовем, предстала истерзанной, неухоженной, а то и попросту покинутой. И я все более и более убеждался в том, что это варварство есть следствие проводившейся десятилетиями политики. Технократизм просто свирепствовал, подавляя всяческое нравственное начало. О земле долгие годы даже не задумывались, решая проблему сырьевых отраслей — угольной, горнорудной, нефтегазовой. Миллионы гектаров уходили в бесхозные «полосы отчуждения» железных, шоссейных дорог. 14 миллионов гектаров плодородных пойменных земель, способных давать высокосортные овощи, корма для животноводства, затоплены искусственными морями при строительстве гидростанций. Десятки миллионов гектаров отведены под полигоны армии |и Государственную границу.
Конечно, выделять землю на все эти нужды было необходимо. Но не так, как это делалось, — сверх всяких норм и потребностей, бесконтрольно, исходя из того, что она «ничего не стоит».
А как использовали землю в сельскохозяйственном производстве? Фигурально выражаясь, тащили плуг по всей стране — от чернозема до песков. Изуродовали миллионы гектаров, с которых наиболее ценный слой почвы сдут ветрами. Миллионы гектаров «съедены» оврагами и пустыней. А ведь для восстановления всего этого нужны многие десятилетия, если не столетия.
С этой проблемой я столкнулся в Ставрополье и знал, что каждой климатической, почвенной зоне нужны свои способы обработки земли. Да мало ли какие премудрости надо знать, чтобы поддерживать плодородие земли.
Оказалось, миллионы гектаров вышли из строя только потому, что мелиоративные системы строились без дренажа, по удешевленным проектам. Нет дренажа — соли выносятся в пахотный слой и начинается самое зловредное, так называемое вторичное, засоление почвы.
Стали повсеместно применять гербициды. Нужны они? Конечно, иначе сорняки одолеют. До 30 процентов урожая недобирают по этой причине земледельцы. Но машин для взвешенного внесения в почву гербицидов не создали, а в результате потравили на огромных территориях и самое землю, и реки, озера, нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне.
Анализируя все эти явления, я попытался понять, почему мы не можем получить хороших урожаев сои в районе Благовещенска Амурской области — ведь она нам крайне необходима. Оказалось, не хватало только одного — не раскисляли почву, то есть опять-таки все упиралось в невнимание к земле.
В то же время в республиках Прибалтики и Белоруссии в результате двух-, трех- и четырехкратного известкования почв удалось снизить их кислотность, поднять урожайность. При Машерове в Белоруссии и Снечкусе в Литве села поднялись, обустроились. Изменилось и настроение крестьян. А рядом, в Латвии, где все было сконцентрировано вокруг проблем индустриализации, деревню обескровили.
Судьба некоторых районов страны поистине трагична. Варварские методы нефте- и газодобычи на Севере принесли чудовищный вред уникальной зоне тундры, где природа особенно чувствительна и баланс ее формировался миллионы лет. А Каспий, район Арала! А Средняя Азия, где бездумное расширение посевов хлопка, нарушение севооборотов привели к развитию болезней как самой земли, так и людей!
Следующей темой моего исследования стало положение людей на земле. Укоренившееся представление о крестьянине как человеке второго сорта убивало в сельском жителе, кормившем страну, сознание того, что он является полноправным членом общества и оно действительно в нем нуждается. Посмотришь на таблицы роста производства электроэнергии — душа радуется. А село, где проживали в те годы около 100 миллионов человек, получало лишь 10 процентов этой энергии. Сколько встреч и разговоров у нас состоялось с министром П.С.Непорожним — старым моим знакомым еще по строительству электростанций на Ставрополье. Он принял мои доводы, но жаловался на Госплан, просил воздействовать на него.
А уголь? При огромном росте его добычи деревня доставала топливо одному Богу известными путями, так как через официальные каналы удовлетворялась лишь треть потребностей. Передо мной положили карту: газопроводы в самых разных направлениях пересекают страну. Города худо-бедно, но газифицировались, крестьянин же сидел без газа, и никакими планами пользование им не предусматривалось на ближайшую перспективу.
Сельские районы хуже обеспечены дорогами, школами, учреждениями медицины, бытовыми услугами, газетами и журналами, кинотеатрами и учреждениями культуры. Среди районов, где эти проблемы обострились до крайности, — Нечерноземье, 30 областей России. В результате ошибок, допущенных при размещении производительных сил, эти области оказались перегруженными промышленностью, а село предано забвению. И что же? Люди стали бросать деревни, уходить в манящие яркими огнями города, где и рабочее время нормировано, и платят побольше, и улицы асфальтированы, да и весь быт более благоустроен. Нечто подобное происходило и в других районах страны. Крестьянин покидал землю, а на смену ему пришли временщики. Временщики на посеве и уходе за сельскохозяйственными культурами. Временщики на уборке и перевозке урожая. Временщики на фермах. Временщики на ремонте техники и машин. Одни под видом «шефской помощи», другие по нарядам из близлежащих городов. Уму непостижимо, чтобы привести отношения между человеком и землей в такое состояние. Произошло раскрестьянивание села.
Степень запустения земли приобрела в Нечерноземье такой характер, что многие считали бессмысленным вкладывать сюда средства. И я, грешным делом, глядя со ставропольской колокольни, тоже считал, что лучше направлять инвестиции туда, где можно быстро получить отдачу. Только потом, размышляя над проблемой, убедился, что чисто экономический или сиюминутный расчет в этом случае неуместен. Речь идет о глубинных корнях России, государства, русской нации.
Кстати, когда стало ясно, что без обустройства села людей не удержать, часть ученых и практиков выдвинули идею укрупнить села и хозяйства, чтобы обеспечить их электричеством, топливом, школами, амбулаториями, дорогами и транспортом, поскольку для каждой деревушки сделать это невозможно. Но когда укрупнение началось, стало понятным, что оно чревато другой бедой — еще более разрывались незримые узы, веками связывавшие крестьянина с землей. Ведь земля — это не только место, где ты выращиваешь, скажем, рожь или картошку. Нет, это твой дом, твой неповторимый мир, твоя Родина.
Прежде всего захотелось выяснить, каковы наши потенциальные возможности. Анализ работы 500 опытных хозяйств зональных научно-исследовательских институтов, разбросанных по всей стране и как бы в миниатюре отражающих ее географию и природно-климатические зоны, показал, что, если бы колхозы и совхозы достигли их уровня производства, мы просто не знали бы, куда девать молоко и мясо, а сбор зерна составил бы не менее 260 миллионов тонн.
После этого взяли в расчет энерговооруженность в этих хозяйствах, количество удобрений, вносимых на гектар пашни, размер земельного участка на одного работника. Сопоставили с обычными колхозами и совхозами, и получилось то, чего следовало ожидать: продуктивность земли прямо пропорциональна вложениям, которые в нее делаются. Отсюда напрашивается самый банальный вывод: данная система может работать хорошо, дайте нам технику, удобрения, обустройте деревню — и будет результат.
Между тем было совершенно ясно, что переносить показатели опытных хозяйств на всю массу колхозов и совхозов не вполне корректно. Там селекция, новые технологии, высококвалифицированные кадры. Они выращивают и продают элитные семена, племенной скот, а это двойная, тройная цена. Наконец, опытные хозяйства пользуются большой самостоятельностью в производстве и сбыте продукции. Всего этого недостает колхозам и совхозам. Тут-то и вставал главный вопрос: поддержать их за счет государственных субсидий или дать возможность самим лучше работать и больше зарабатывать? Ведь основная масса хозяйств страны страдала прежде всего из-за отсутствия экономических условий, которые побуждали бы к более эффективной хозяйственной деятельности, делали ее выгодной для людей.
Все, что дал мартовский Пленум 1965 года для решения проблемы закупочных цен, было давно исчерпано. Более того, «ножницы» цен продолжали раздвигаться в связи с нарастанием поставок на село техники, которая, мало отличаясь по производительности от предшествующей, была в 2–3 раза дороже. Долги колхозов и совхозов непрерывно нарастали, приближаясь к 200 миллиардам. Но вместо того чтобы менять экономические отношения на селе, прибегали к самой простой операции: сначала пролонгировали, а потом вообще списывали задолженность со всех хозяйств. Если положение с той или иной сельхозкультурой становилось критическим, на нее устанавливали повышенные закупочные цены. Так увеличили цены на хлопок, в другой раз на виноград, потом на табак.
На какое-то время подобные меры облегчали положение, но уже через 2–3 года все опять съедалось дальнейшим повышением стоимости машин, горючего, удобрений, стройматериалов. В конечном продукте сельского хозяйства около 60 процентов затрат стали связываться теперь с поставками промышленности на село.
К тому моменту прошло всего два года после июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, где удалось зафиксировать удельный вес капиталовложений для села. Но после смерти Кулакова в правительственных кругах и особенно в Министерстве финансов начались разговоры, что решение это носило якобы «волюнтаристский» характер, его «навязали» правительству.
Я уже упоминал, что для усечения расходов на нужды села существовала своя «теория»: сельское хозяйство потребляет больше национального дохода, чем производит. Иными словами, это безнадежно убыточная отрасль экономики, своего рода бездонная прорва, поглощающая несметные ресурсы и ничего не дающая взамен.
Достоверность этой точки зрения не была никем доказана, но ее придерживались, и вполне официально, не только промышленники, плановики, финансисты, но и секретари ЦК. Отсюда следовал логический вывод: не широкомасштабная Продовольственная программа нужна стране, а наведение элементарного порядка в сельскохозяйственном производстве. Особенно активен был в подобных утверждениях Владимир Иванович Долгих. «Наведение порядка» — как часто и тогда и потом произносились эти слова, когда не существовало продуманной программы действий.
Так или иначе, но разработку реалистической Продовольственной программы надо было начинать с опровержения подобных «теоретических» предрассудков. Я углубился в изучение методологии исчисления национального дохода, полагая, что именно здесь зарыта собака. Как всегда, помогли ученые, особенно Владимир Александрович Тихонов. И когда первые расчеты, сделанные ими, я показал специалистам из аппарата ЦСУ и Госплана, их отвергли с такой яростью, что стало ясно — я нахожусь на верном пути.
Удалось настоять на создании комплексной группы под руководством председателя Госплана СССР Н.К.Байбакова, куда вошли представители Академии наук, В АСХНИЛ, ЦСУ и Госплана. Сколько словесных баталий произошло там, какие сражения велись буквально из-за каждой цифры — рассказывать не стану. Окончательные результаты я тут же опубликовал в официальном органе ЦК КПС журнале «Коммунист» (№ 11 за 1980 год.). «В сельском хозяйстве, — говорилось в статье, — сейчас создается значительная часть национального дохода — около 28 процентов его общей суммы (с учетом налога с оборота как части чистого дохода, реализуемого в ценах промышленной продукции). Более 2/3 розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли составляют продукты сельского хозяйства и товары, производимые из сельскохозяйственного сырья».
Фантастическими, но отнюдь не из области научной фантастики, а, скорее, из сферы чистой политики оказались и утверждения о «нерентабельности» сельского хозяйства. Все полученные данные свидетельствовали, что выкачивали из него гораздо больше, чем вкладывали, не говоря уж о всех прошлых успехах развития экономики страны, достигавшихся в значительной мере за счет деревни.
После публикации всех этих данных никто из моих оппонентов не сравнивал уже аграрный сектор с «бездонной прорвой». Появилась возможность вновь поставить вопрос о введении справедливых закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Оставалось решить — за счет чего?
Открытое повышение розничных цен на продукты питания отвергалось в ту пору начисто. Вопрос этот из сферы экономической изымался полностью и рассматривался как сугубо политический. Оставался второй путь — увеличение дотаций из госбюджета. Но к началу 80-х годов они уже составляли около 40 миллиардов и проявляли устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.
Поэтому и шли так тяжело наши совещания, в которых принимали участие Байбаков, министр финансов В.Ф.Гарбузов, министр сельского хозяйства В.К.Месяц. Все соглашались, что нельзя больше держать колхозы и совхозы на голодном пайке, не имеющими порой условий даже для простого воспроизводства. В то же время Министерство финансов наотрез отказывалось идти на новые инвестиции.
— Денег у государства нет, — упрямо твердил Гарбузов в ответ на все мои доводы. — Бюджет на пределе. Откуда их брать, не знаю. Если знаете вы — подскажите. А до этого никакого согласия на повышение закупочных цен не даю. Только через мой труп.
— Дорогой Василий Федорович, — отвечал я ему, — наша задача дать анализ и предложения. А решать будут Политбюро и правительство.
— Нет, — упирался Гарбузов, — это моя работа. Политбюро и правительство меня поставили стоять на страже…
— На страже чего? — спрашивал я, и, как ни странно, этот простой вопрос ставил министра финансов в тупик.
— Я тебе все сказал, — раздражался он. — И больше в дискуссии вступать не желаю. Только через мой труп…
— Такая постановка вопроса для нас неприемлема, — напирал я. — К тому же, Василий Федорович, трудно нам будет через твой труп перешагнуть, — последние слова потонули в хохоте присутствующих, уж очень объемистым был Гарбузов.
Василий Федорович не был плохим человеком или противником села. Но он знал реальное состояние бюджета. Все держалось на таких источниках дохода, как скрытое повышение цен, наращивание производства водки и, наконец, нефтедоллары. Но Гарбузову уже не удавалось, как прежде, латать дыры и сводить концы с концами. Для покрытия дефицита Минфин прибегал к кредитам Госбанка за счет сбережений граждан.
К обсуждению подключился Байбаков:
— Ты хочешь добиться обеспечения каждого сельского работника мощностями на уровне шестидесяти лошадиных сил. Для сельхозмашиностроения это означает реализацию программы минимум на 12 миллиардов, а оптимально — на все 18. Между тем максимум, который мы смогли бы при очень большом нажиме наскрести для тебя, — 7 миллиардов и ни рубля больше.
— У нас не туда разговор пошел, — ответил я. — Речь не о том, кто кого загонит в угол, а о том, чтобы искать и находить решение. Продовольственный вопрос приобретает острейший характер.
— Ну а представьте себе, что будет, в том числе с продовольствием, если начнутся перебои с электроэнергией, горючим, металлом, — парирует Байбаков и рассказывает, как обстоят дела с добычей нефти в Сибири, на Севере. Новые, неосвоенные районы, труднейшие условия, колоссальные затраты.
С Николаем Константиновичем отношения у нас сложились самые добрые. Хотя по складу ума и принадлежал он к технократам высокого класса, но человеческую сторону любого вопроса чувствовал хорошо. Это давало возможность вести с ним самые откровенные разговоры. Кстати, он первым дал мне понять, что многие проблемы страны, в том числе финансирования сельского хозяйства, имели бы решение, если б не «заповедные зоны», доступ в которые запрещен.
Такой заповедной зоной являлся прежде всего оборонный комплекс. Вот уж где действительно можно было поджимать, урезать и выскребать, ибо темпы увеличения военных расходов намного опережали общий рост национального дохода. Но никто и никогда даже не пытался разумно проанализировать бюджет с целью оптимального перераспределения средств и ресурсов.
— Ты мог бы поставить этот вопрос? — спросил меня напрямую Байбаков после одного из заседаний, когда мы остались вдвоем. Не трудно было догадаться, что говорил он о сокровенной своей мечте.
— Нет, не поставлю, — ответил я.
— Ну вот видишь, и я не поставлю, — с сожалением заметил Николай Константинович. Мы оба прекрасно знали, что стоило кому-то лишь заикнуться о чем-то подобном, как уже на другой день его не оказалось бы на своем месте. Это была «закрытая зона» генсека.
В конце концов мы с Гарбузовым и Байбаковым постепенно продвигались к взаимопониманию, и я понял, что нужен какой-то встречный шаг, иначе все повиснет в воздухе. Пришла идея часть капиталовложений, направляемых в сельское хозяйство, использовать на развитие сельхозмашиностроения. Как бы сменить приоритеты.
На февраль 1981 года намечался созыв XXVI съезда КПСС. Работу над отчетным докладом Брежнева начали заблаговременно, и мне хотелось, чтобы в докладе было заявлено о необходимости общенациональной комплексной Продовольственной программы, обеспечивающей устойчивое снабжение населения продуктами питания. Если такое заявление Генеральный секретарь сделает на съезде, то чиновникам любого ранга «тянуть резину» и ставить палки в колеса будет уже куда труднее.
Я связался с группой Н.Н.Иноземцева, работавшей над докладом в Волынском-2, рядом с бывшей дачей Сталина. Этот удобный комплекс зданий постоянно использовался для подготовки разного рода материалов, прежде всего, конечно, для нужд Генерального секретаря.
В его группе, которую курировал помощник Брежнева Цуканов, работали Арбатов и Бовин. Оказалось, впрочем, что аграрные проблемы и их допекли настолько, что к разговору были готовы буквально все.
Реализовал я, в частности, свое намерение сказать в докладе о разработке общенациональной комплексной Продовольственной программы. У меня это получилось на нескольких страницах, Арбатов сделал из них одну, и в таком виде она вошла в первоначальный текст.
Однако когда я получил уже смонтированный целиком проект доклада Брежнева, он весьма удивил меня. Бесконечные обкатки и согласования, которые приходилось делать его авторам, привели к тому, что текст стал безликим, выхолощенным, обтекаемым. Можно было лишь поражаться полному несоответствию затрат умственной энергии и масштаба авторских дарований со столь скудным «конечным продуктом».
Я сделал некоторые замечания по тексту доклада, а аграрный раздел изложил заново. Все то, к чему мы пришли в ходе дискуссий в группе Иноземцева, было восстановлено и использовано. Брежневу написал личную записку, в которой аргументировал необходимость такой структуры, объяснил мотивы переработки текста и просил поддержать данный вариант. В таком виде раздел и был принят.
Итак, в феврале — марте 1981 года XXVI съезд КПСС признал необходимым разработку специальной Продовольственной программы. Особо обращалось внимание на тесную увязку сельскохозяйственного производства с промышленными отраслями, прежде всего перерабатывающей промышленностью.
Чувство удовлетворения я, конечно, испытал, но как человек достаточно опытный прекрасно понимал, что главные трудности впереди. И тут не надо было быть пророком. Несмотря на решение съезда, многие крупные чиновники все еще не верили, что из этой директивы может родиться серьезная, широкомасштабная программа. Основания у них для этого были: сколько раз важнейшие постановления, касавшиеся экономики страны, оставались на бумаге!
Агропромышленный комплекс был искусственно разодран по трем епархиям: собственно сельскохозяйственное производство на полях и фермах; промышленное производство, поставляющее в деревню материально-технические ресурсы; и, наконец, перерабатывающая промышленность, превращающая «дары природы» в продукты питания. В рыночной экономике это не имеет значения, так как отношения между партнерами строятся по определенным правилам игры, складываются под воздействием самого рынка и регулирующей роли государства: налоги, кредиты и т. д. В условиях же плановой экономики, при том, что «три епархии» входили в разные министерства и ведомства, курировались разными отделами в ЦК партии, правительстве, Госплане, не были связаны между собой ни экономически, ни организационно, управление было просто мукой мученической. Каждый «куратор» отстаивал сугубо ведомственные позиции, добиваясь капиталовложений в свою отрасль. Получались колоссальный разнобой, несогласованность, пустая трата средств, и все это — в «плановом» хозяйстве!
Когда я влез в эти дела, впервые уже не в рамках края, а всей страны, увидел истинные масштабы неразберихи, перекосов и диспропорций, честно говоря, в какой-то момент дрогнул. Распределение ресурсов шло по принципу — кто сколько урвет, у кого побольше пробивная сила, связи. В результате межотраслевые дисбалансы накладывались на внутриотраслевые, и все они обрушивались на село. Можно было лишь удивляться тому, что система еще не развалилась.
«Удастся ли мне что-либо изменить?» — думал я. Но отступать было поздно. С помощью ученых и специалистов начал разрабатывать проблему органической связи отраслей, взаимодействующих с сельскохозяйственным производством. Родилась идея объединить их в единый агропромышленный комплекс. Мы не предполагали включить в АПК все и вся. Речь шла лишь о предприятиях, целиком работающих на сельское хозяйство, где иная продукция составляла несколько процентов.
После долгих обсуждений сошлись на том, что в АПК необходимо включить помимо предприятий сельхозмашиностроения и переработки Сельхозтехнику, Агрохимслужбу, министерства заготовок, мелиорации и водного хозяйства. Получался мощный комплекс, в котором сосредоточивалось, если не ошибаюсь, 38 процентов основных производственных фондов страны. По примерным прикидкам он мог давать до 40 процентов национального дохода.
Во главе АПК должен был стоять общесоюзный Агропромышленный комитет, но ключевая роль должна была принадлежать областным и районным объединениям, призванным собрать «под одной крышей» колхозы и совхозы, предприятия Сельхозтехники, молокозаводы, мясо- и птицекомбинаты, заводы по производству комбикормов и т. д. Предполагалось, что эти территориальные объединения получат достаточные полномочия, чтобы не испрашивать у Москвы разрешения на каждый свой шаг.
Естественно, что на решение и согласование всех вопросов, связанных с созданием агропромышленного комплекса, уходила уйма времени. Для подстраховки, дополнительной экспертизы и апробации намечаемой реорганизации я снова — уже по второму кругу — провел серию встреч с учеными, руководителями колхозов и совхозов, секретарями партийных комитетов разных уровней.
Встречи эти формировали «базу поддержки». Как только стало очевидным, что идея АПК становится реальной, все, кого волновали судьбы села, стали писать письма, звонить, проситься на прием. Основные позиции программы находили положительный отклик. Менялся взгляд и на личное подсобное хозяйство крестьянина. Оно рассматривалось уже не как зловредный, антагонистический «частный сектор», а как органическая составная часть нашего АПК, дополняющая колхозно-совхозное производство.
Особенно ценной была поддержка первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик. Раньше они приходили ко мне чаще всего для того, чтобы выбить дополнительные фонды на корма, мясо. Теперь — откровенно выкладывали свои идеи, делились планами. Их заинтересованность вселяла надежду, ибо решением Политбюро вопрос о Продовольственной программе выносился на обсуждение Пленума ЦК КПСС, намеченного на май 1982 года. Я прекрасно понимал, что для руководства партии голос первых секретарей будет иметь немаловажное значение.
Между тем обстановка в партийных сферах осложнилась.
Дворцовые игры
25 января 1982 года умер Суслов. Смерть Суслова обострила подспудную борьбу внутри политического руководства. Надо признать, что Михаил Андреевич, никогда не претендовавший на пост Генерального секретаря и абсолютно лояльный к Брежневу, в то же время был способен возразить ему. В составе руководства он играл стабилизирующую роль, в определенной мере нейтрализовывал противостояние различных сил и характеров.
И вот его не стало. Первый вопрос — кто заменит? По сути дела, речь шла о преемнике Брежнева, о «втором» секретаре, который по традиции со временем становился «первым», уже при жизни генсека постепенно овладевал рычагами власти, брал на себя руководство. Очевидно, кандидатом на данный пост мог стать лишь человек, приемлемый для самого Брежнева.
Между тем Леонид Ильич находился уже в таком состоянии, что восприятие им и людей, и идей было неадекватным. Оно во многом зависело тогда от Черненко, неотлучно находившегося при Брежневе с утра до ночи, разве что кроме часов дневного сна генсека. После каждого четверга, когда проходило заседание Политбюро, Леонид Ильич уезжал в Завидово — охотничье хозяйство под опекой военных, — а с ним и Черненко. Если же требовалось как-то завершить и оформить дела Политбюро, Константин Устинович задерживался на пятницу, но в субботу и воскресенье был уже в Завидове обязательно.
Причину его влияния, помимо многих лет совместной работы с Леонидом Ильичом, я вижу в том, что именно Черненко сделал больше всех для создания имиджа Брежнева, его образа как выдающегося незаменимого политика. Вокруг Константина Устиновича сложилась группа людей, которая ориентировала соответствующим образом средства массовой информации, идеологические структуры партии, партийные комитеты.
Вот и стали звучать такие клише, как «общепризнанный лидер», «крупнейший теоретик», «непререкаемый авторитет», «выдающийся борец за мир и прогресс». Если учесть, что в последнее время Леонид Ильич мог работать, а вернее — присутствовать на работе всего несколько часов в день, то создавать видимость активной его деятельности было нелегко. Тщательно продумывалось каждое появление генсека на публике, каждая поездка, за него писали статьи, мемуары, выпускались тома сочинений. И Брежневу это нравилось.
Став доверенным лицом генсека, чуть ли не его душеприказчиком, Черненко явно рассчитывал на пост «второго лица». С этим связывали свои непомерные амбиции члены его «группы», чистые аппаратчики, не имевшие политического авторитета. Сам он в какой-то мере становился объектом их умелого манипулирования.
Анализируя расстановку сил после смерти Суслова, нельзя было сбрасывать со счетов и некоторых членов Политбюро — прежде всего руководителей крупнейших республиканских организаций, таких, как Кунаев или Щербицкий. Один из работников, помогавших Брежневу, поведал мне однажды следующий эпизод. Приехал в очередной раз к Леониду Ильичу Щербицкий. Долго рассказывал об успехах Украины, а когда стали расставаться, довольный услышанной информацией Брежнев расчувствовался и, указав на свое кресло, сказал:
— Володя, вот место, которое ты займешь после меня.
Шел тогда 1978 год, Щербицкому исполнилось 60 лет. Это была не шутка или минутная слабость. Леонид Ильич действительно питал к нему давнюю привязанность и, как только пришел к власти, сразу вытащил Щербицкого из Днепропетровска, куда его отправил Хрущев, добился назначения Председателем Совмина Украины, а потом и избрания членом Политбюро— в пику Шелесту и для уже предрешенной его замены. Хотя параметры личности Щербицкого были не столь уж масштабны, он был по тем временам крупным политиком, уверенно «вел» республику и, главное, твердо стоял, как он сам выражался, «на позициях Богдана Хмельницкого». Это ценилось высоко.
Думаю, смерть Суслова пробудила кое-какие мыслишки и у других. Так, неожиданным для Андропова оказался звонок давнего его друга Громыко, который довольно откровенно стал зондировать почву для своего перемещения на место «второго». Он прекрасно понимал, что значило оказаться на этом посту теперь и кто будет принимать полномочия от Брежнева. Человек был опытный, способный просчитывать свои шаги весьма далеко. Не зря же 27 лет, при всех режимах, неизменно оставался министром иностранных дел.
Об этом звонке с удивлением и даже какой-то растерянностью поведал мне Андропов. Ответ Юрия Владимировича был сдержанным:
— Андрей, это дело генсека.
Между прочим, реакция Андропова на этот звонок выдала его собственные расчеты. Юрий Владимирович тоже метил на освободившееся место, и я был абсолютно убежден, что именно он должен его занять. Так же думал и Устинов, с которым у Андропова были самые близкие дружеские отношения.
Вопрос о возвращении Юрия Владимировича в аппарат ЦК КПСС обсуждался в наших с ним беседах неоднократно. Еще в Кисловодске, во время его отдыха, я как-то сказал ему:
— Вы уже достаточно долго поработали в госбезопасности, пора возвращаться в дом, из которого ушли.
Он сделал вид, что воспринимает это как шутку, лишь улыбнулся в ответ.
Юрий Владимирович рассказал мне, что вскоре после смерти Суслова генсек вел с ним разговор о переходе на должность секретаря ЦК, ведущего Секретариат и курирующего международный отдел. И добавил:
— Я, однако, не знаю, каким будет окончательное мнение.
Он все еще не был уверен, что контршаги Черненко не блокируют данное решение. Но при всем влиянии последнего, особенно усиливавшемся в моменты обострения болезни генсека, когда Брежнев начинал чувствовать себя лучше, он проявлял способность занимать и отстаивать свою позицию. В конечном счете 24 мая 1982 года Пленум ЦК избрал Андропова секретарем ЦК КПСС.
Мне кажется, выбор был сделан Брежневым где-то в середине марта. Тогда Андропов рассказал мне, что ему поручено выступить с докладом на торжественном заседании по поводу 112-й годовщины со дня рождения Ленина. По критериям «кремленологии» это означало, что Брежнев определился окончательно.
Доклад получился. Впервые за много лет, казалось бы, рутинное выступление давало толчок для серьезных размышлений о важнейших вопросах реальной жизни. Именно тогда Андропов сказал, что мы плохо знаем общество, в котором живем.
Вполне возможно, что при выборе Андропова существовал еще один момент, о котором никто не упоминал. Переводя Юрия Владимировича на партийную работу, Брежнев вместо него поставил на госбезопасность Федорчука — человека, абсолютно себе преданного. Андропов к Федорчуку относился отрицательно и предполагал поставить на данный пост Чебрикова. Но когда Леонид Ильич спросил его напрямую, кого он видит в качестве преемника, от ответа ушел.
— Это вопрос Генерального секретаря, — сказал он.
Когда же Брежнев спросил о Федорчуке, Юрий Владимирович возражать не стал и поддержал данную кандидатуру.
Для меня важным было другое: концентрация внимания на «дворцовых играх» как бы оттеснила на второй план подготовку Продовольственной программы, которая к этому времени вступила в решающую фазу.
Уязвимым местом программы оставался вопрос об источниках ее финансирования. Если проблему модернизации сельхозмашиностроения мне удалось снять, то вопрос о повышении закупочных цен явно зависал, становился безнадежным. Это была моя головная боль. Тогда я занялся определением минимального объема средств, без чего нельзя было идти на Пленум ЦК КПСС. Министерство финансов и Госплан уклонялись от разговора на эту тему. Более того, мне рассказали, что состоялась встреча Тихонова, Байбакова и Гарбузова, на которой Председатель Совета Министров довольно жестким тоном заявил:
— Никаких обещаний по финансированию и ресурсам под Продовольственную программу Горбачеву не давать.
Дело дошло до того, что Гарбузов, который и ранее под разными предлогами уходил от прямого разговора, на собранное мною совещание просто не явился. Пришлось попросить помощника разыскать его и соединить по телефону со мной.
— Василий Федорович, — сказал я ему, — мы уже собрались, сидим, ждем вас.
— Михаил Сергеевич, — взмолился министр, — не пойду я к вам.
— Почему?
— Умру я у вас, — это было сказано с тяжелым вздохом и совершенно серьезно.
— Подождите, — удивился я, — неужели то, что происходит в моем кабинете, носит столь тягостный характер?
— Не в этом дело, Михаил Сергевич, — говорит Гарбузов, — ведь вы опять начнете нажимать: давай деньги, давай деньги. А их нет и изыскать негде. А у меня сердце больное, один приступ в вашей приемной уже был. Ваши помощники меня и отхаживали.
Где взять средства? — эта мысль постоянно преследовала меня. Поиски вывели на такой феномен, как безвозвратный кредит. О неэквивалентных экономических отношениях между городом и селом я уже говорил. Но разорительный порядок, при котором машины, стройматериалы, топливо стоили дорого, а зерно и другие сельхозпродукты — дешево, неизбежно должен был породить какие-то компенсирующие механизмы. Иначе все сельское хозяйство вылетело бы в трубу. Одним из таких механизмов как раз и являлись государственные кредиты.
Ежегодно хозяйства аккуратно получали их, но отдавать полностью никто не собирался. Рассуждали так: «Коль скоро вы держите низкие закупочные цены, которые не дают нам нормально жить и работать, будете и впредь кредитовать нас, а потом списывать долги. Никуда от этого не денетесь, кормить страну все равно надо». Естественно, что в таких условиях не было смысла думать об экономии, реальных затратах, о том, нужна тебе новая машина или нет. Есть возможность урвать — хватай не глядя. Платить все равно из безвозвратного кредита.
Я посмотрел цифры по стране: даже по первой прикидке речь шла о 15–17 миллиардах рублей. Итак, безвозвратный кредит есть не что иное, как прямое финансирование колхозов и совхозов. Так почему же мы не можем выделить такие суммы для повышения закупочных цен? Если эти цены будут справедливыми, крестьянин начнет думать и об увеличении производства, и о реальных затратах, и о том, где и как сэкономить. Мне казалось, что решение найдено, но говорить об этом пока не стал, поручил детально проработать данный вопрос.
Существенный элемент Продовольственной программы — план социального развития села. В согласии с правительством мы в конечном счете его подготовили. Имелось в виду направить на эти цели, используя все источники, 140 миллиардов рублей.
В конце концов страсти улеглись, дискуссии в комиссиях закончились, главные элементы Продовольственной программы были сформулированы, отработаны и согласованы. Я зашел к Черненко и сказал, что, поскольку Пленум ЦК намечен на май, а на дворе уже апрель, пора организовать встречу с Леонидом Ильичом, представлять-то программу придется ему.
Кстати, вопрос о докладчике, который решался задолго до этого, не обошелся без дискуссий. Поначалу само собой считалось, что докладывать стану я. Горбачев готовит вопрос, ему и выступать. Но потом я почувствовал со стороны ряда членов Политбюро, особенно Тихонова, нечто похожее на ревность, что грозило новыми затяжками и проволочками в принятии программы.
Тогда я встретился с Брежневым и сказал ему, что, конечно, мог бы выступить с докладом, но, поскольку такая масштабная программа принимается в стране впервые, предлагать ее должен не Горбачев и даже не Председатель Совета Министров, а Генеральный секретарь.
Брежнев колебался. Я чувствовал, что в душе его происходит сложная борьба. Ведь уже на съезде он делал доклад с огромным трудом. Но соблазн оказался слишком велик, и на следующем заседании Политбюро Леонид Ильич дал согласие. И вот теперь пришла пора вводить его в курс дела.
Двум вопросам Леонид Ильич уделял всегда приоритетное внимание — аграрному сектору и военным делам. Причем мне казалось, что именно в таком порядке. Помню, как-то в Ореховой комнате перед началом заседания Политбюро зашла речь об очередном выделении армейских автомашин на уборку урожая. Устинов посетовал на то, что каждая полевая страда выводит из строя значительную часть техники. Тем самым он заранее нацеливался на то, чтобы выжать из Госплана новое пополнение автопарка вооруженных сил.
Толкуя об этом, Дмитрий Федорович как бы между прочим заявил, что понимает значение жатвы, ибо «оборона и хлеб — это главное и это неразделимо». Я счел нужным внести свои коррективы и заметил, что больше склоняюсь к формуле: «хлеб и оборона». Брежнев поддержал меня и улыбаясь сказал:
— Наверное, тут Горбачев прав.
Но Устинов стал говорить:
— Леонид Ильич, уж вы-то знаете, что оборона — это жизнь.
— А хлеб? — посмеиваясь, ответил Брежнев. — Разве это не жизнь?
И в Днепропетровске, и в Молдавии, и особенно в Казахстане Брежневу приходилось заниматься проблемами села. Был у него интерес к ним.
Интерес к военным делам Брежнев проявлял особенно активно в первый период своей деятельности. Он поддерживал тесную связь с командованием Вооруженных Сил, посещал войсковые части, испытательные полигоны, хорошо знал ученых и конструкторов, работавших на оборону. Лишь в последние годы, уже по причине физической немощи, Леонид Ильич меньше занимался военными вопросами, и даже заседания Совета Обороны стали проводиться все реже и реже, а потом и вовсе прекратились.
Так что вроде бы действительно получалось — «хлеб и оборона». Увы, это была лишь видимость. Из года в год военно-промышленный комплекс усиливал позиции и наращивал свою мощь. И дело тут было не только в личных пристрастиях Брежнева, Устинова или других членов Политбюро. Железная логика развития биполярного, расколотого надвое мира, смертельно опасная для человечества гонка дорогостоящих вооружений делали свое дело. Чтобы выдержать соперничество, необходимы были все большие средства и материальные ресурсы. Буквально из всех отраслей народного хозяйства оборонные расходы высасывали жизненные соки.
Когда я попадал на заводы, выпускавшие «оборонку», а параллельно и продукцию для села, меня всегда поражала одна и та же картина. Достаточно было заглянуть в цех, оснащенный новейшим оборудованием и выпускавший, скажем, самые современные танки, а затем зайти в другой, где на стародавних конвейерах собирали устаревшие модели тракторов, чтобы понять, что сельхозмашиностроение находилось в военно-промышленном комплексе на задворках, на положении падчерицы. Я уж не говорю о состоянии допотопных фабричек, перерабатывавших сельхозсырье. Многие из них давно побили все мировые рекорды долголетия.
Вот тебе — «хлеб и оборона»!
Видимо, был какой-то момент, когда Генеральный секретарь должен был задуматься и взвесить, куда ведет логика наращивания оборонного потенциала и соперничество с Соединенными Штатами Америки в гонке вооружений. Ведь в последние пятилетки военные расходы росли в полтора-два и более раз быстрее, нежели национальный доход. Этот молох пожирал все, что давалось ценой тяжкого труда и нещадной эксплуатации производственного аппарата, который старел, нуждался в модернизации, особенно в машиностроении и добывающих отраслях. Даже человек, не сведущий в экономике, понимает, что значит отставание в данной сфере.
Дело усугублялось тем, что не было никакой возможности проанализировать проблему. Все цифры, относящиеся к ВПК, хранились в строжайшем секрете даже от членов Политбюро. Стоило заикнуться о том, что какое-то оборонное предприятие работает неудовлетворительно, как Устинов коршуном набрасывался на «незрелого критикана», и никто в Политбюро не отваживался противостоять ему.
Кризис стучался в двери. Выход могли дать лишь новые решения в области внешней политики и диалог с американцами. Этого не случилось. Короче, руководство страны не имело стратегии, которая учитывала бы новые условия, все шло в русле старой политики, а она все чаще давала сбои. Мы действовали, как пожарная машина, мчавшаяся туда, где валил дым. А дымком уже попахивало от многих регионов и сфер жизни общества.
Сделать выбор в пользу реформ это руководство было не способно. Не трогать систему — вот главное, за чем тщательно следил аппарат власти. Вот почему все ухватились за модные в то время «целевые программы». Они стали своего рода спасательным кругом, помогая «вытащить» тот или иной конкретный вопрос.
Страна теряла динамику развития, общество — социальную энергию, политика заходила в тупик. Могу с абсолютной убежденностью утверждать, что ни я, ни мои коллеги не оценивали тогда общую ситуацию как кризис системы. Но ощущение назревания кризиса, предчувствие его в обществе нарастали.
Идеологическая машина работала на полную мощь, но ей все труднее было справляться с проблемами, нарастанием недовольства в обществе, отбивать атаки оппонентов. В эти годы в театрах ставятся пьесы «Так победим» М.Ф.Шатрова, «Тринадцатый председатель» А.Абдулина, «Гнездо глухаря» В.С.Розова, в которых поднимаются большие вопросы нашего бытия. В обществе гуляет бесчисленное количество самиздатовской литературы, проводятся неформальные выставки художников, главный пафос которых заключается в протесте против существующего режима.
Как раз в это время Брежнев проходил очередную профилактику в больнице на улице Грановского. В его палате помимо лечебно-медицинского отсека был кабинет для приема посетителей. Там можно было удобно расположиться, побеседовать, выпить чаю. Туда мы и пришли — Черненко, Тихонов, Андропов и я.
Леонид Ильич встретил нас радушно, как бы в приподнятом настроении, словно желая продемонстрировать, что находится в полном порядке. Он и в самом деле не производил впечатления тяжелобольного. Даже одет был не по-больничному: модные брюки, коричневая спортивная куртка на молнии. И только тем, кто знал его, помнил его динамичность, бросалась в глаза какая-то заторможенность в поведении.
Мы поздоровались, устроились вокруг стола, поговорили на общие темы — о здоровье, о текущих делах. Потом Леонид Ильич спросил:
— Ну, что там у нас с Пленумом?
Все повернулись в мою сторону.
— Готовимся, выходим на завершающую стадию. Разработан пакет постановлений к программе. Что касается намечаемых показателей, они реалистичны. Осталось согласовать позиции по источникам финансирования.
Брежнев отреагировал сразу:
— Пленум проводить надо. Только вот одно — вы все меня уговаривали, утвердили докладчиком, а сами по финансированию не договорились. Что же, я пойду на трибуну с пустым карманом?
— Что вы, что вы, Леонид Ильич, — вскочил с места Черненко.
— Все будет в полном порядке, договоримся, — поддакнул и Тихонов, хотя прозвучало это у него не очень искренне.
Эта встреча почему-то вдруг напомнила мне 1978 год, перрон вокзала Минеральных Вод. Те же лица — Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев, — но на этот раз еще и Тихонов. И та же тревожная атмосфера ожидания предстоящих передвижек.
Андропов сидит спокойно, не говоря ни слова, только внимательно наблюдает за происходящим. Он уже знает, что на предстоящем Пленуме будет избран секретарем ЦК, станет второй фигурой в партии и государстве. Знает об этом и Тихонов, поэтому по ходу разговора все время суетливо поглядывает в сторону Юрия Владимировича. Черненко еще не знает, кто станет секретарем, но догадывается, что не он, ибо Леонид Ильич никаких намеков на этот счет ему так и не сделал. И Константин Устинович страшно переживает, нервничает…
А беседа тем временем идет дальше. Чтобы облегчить Брежневу выступление на Пленуме, договариваемся, что текст Продовольственной программы и весь пакет правительственных постановлений заранее раздадим членам ЦК и приглашенным. За генсеком останется лишь краткий доклад и представление этих документов. На том и расходимся.
От улицы Грановского до Старой площади едем с Черненко в одной машине.
— Спасибо за поддержку, — говорю я ему.
Константин Устинович погружен в свои мысли, но отвечает:
— Ладно, главное теперь — действуй и ни на кого не оглядывайся.
Я знал, что он недолюбливает Тихонова и намекает на него.
— Раз есть определенная позиция генсека, — откликаюсь я, — вряд ли кто будет мешать. Но и вы приготовьтесь: думаю, сейчас и у вас начнут звонить телефоны.
Настал момент решающего разговора с Тихоновым. Удовольствия это не сулило, но без его участия проект мог все-таки оказаться под угрозой.
Подошло время встречи. Она состоялась в Кремле и продолжалась часа четыре. Я подобрал обстоятельные справки по всему кругу вопросов, аргументы казались «непробиваемыми», но как только речь заходила о 16 миллиардах, Тихонов переставал слушать.
— Николай Александрович, вы же хозяйственник, человек от жизни. Вы прекрасно понимаете, что без этой суммы вся программа превращается в пустую бумагу.
— Нет, Михаил Сергеевич, — упирался Тихонов, — нет у меня таких денег.
И тут я ввел тему безвозвратного кредита.
— Посмотрите справку: за последние пять лет колхозы, совхозы берут и не возвращают кредиты до 17 миллиардов ежегодно, — положил перед Тихоновым справочные материалы.
— При чем тут это?
— А при том, что безвозвратный кредит — это тоже финансирование, но в его наихудшем виде. Хозяйства не зарабатывают, а просто берут и не отдают. Так формируется на селе рваческая психология, о которой вы сами говорили. И пока так будет продолжаться — никакого порядка в деревне не ждите.
Принесли чай. Лицо Тихонова остается непроницаемым, и трудно догадаться, что у него на уме. Беседа возобновляется. Все мои экономические доводы отлетают, как от стенки мячик, и постепенно исчерпываются. Тихонов неколебим, а главное — молчит. Попробуй поспорь с ним! Тогда, памятуя о совместном визите к генсеку, я перехожу от уговоров к более жесткой постановке вопроса:
— Вот записка в Политбюро, которую я подготовил после беседы с Леонидом Ильичом. Хочу, чтобы мы с вами подписали ее вместе: вы — как председатель правительства, я — как человек, которому поручили это дело. И вместе представили записку Политбюро.
Тихонов молчит.
— Но если вы не подписываете, подпишу один и сам внесу в Политбюро. Пусть оно решает. У Леонида Ильича я предупреждал — не решены вопросы финансирования, но Черненко и вы заверили Генерального, что все будет согласовано.
Тихонов слушает молча, что-то обдумывает. Опять приносят чай, опять пауза.
— Уверен, — нажимаю я, — Политбюро поддержит мои соображения. Судя по совещаниям, которые я провел, это — мнение, сформировавшееся в партии, в стране. Давайте вместе. Я не хочу, чтобы мы с вами вот так разошлись.
И наконец слышу:
— Давайте бумаги.
Он забирает записку, справки, расчеты, молча листает их и, видимо, решается:
— Я все это возьму, посмотрю еще раз, но давайте сразу исключим из документов создание Государственного агропромышленного комитета. В районах пусть будут, а в центре — нет. Что же, это у нас второе правительство будет?
«Надо же, — подумал я, — сидеть четыре часа и молчать о главном, что, оказывается, точило душу. А я-то напирал на экономический анализ, искал научные доводы, аргументы…»
Незадолго до этого Карлов как-то сказал мне, что с чьей-то «легкой руки» по аппаратам ЦК и Совмина пущен слушок, будто Агропромышленный комитет Горбачев создает «под себя», чтобы забрать под свое кураторство половину народного хозяйства страны. А главное — за этим стоят якобы далеко идущие претензии Горбачева на пост Председателя Совета Министров.
Тогда этому слуху я значения не придал — обычные аппаратные сплетни, не более. А оказывается, кого-то они волновали всерьез. И как бы в противовес стали срочно создавать комиссию Совета Министров по аграрным делам.
— Не возражаю, — ответил я Тихонову без колебаний, — и тут же вычеркнул из записки в Политбюро упоминание о комитете.
Николай Александрович вздохнул с облегчением, явно повеселел. Вот такой торг произошел, как сказали бы сейчас — «бартер».
Все были в шоке: «Горбачев сломал Тихонова». Никто не верил, что он уступит. Мои «доброхоты» были просто убеждены, что «с Тихоновым у Горбачева не пройдет». Но на всю эту болтовню я уже никакого внимания не обращал. Долгий и изнурительный марафон был для меня закончен.
24 мая 1982 года Пленум ЦК КПСС заслушал доклад Брежнева «О Продовольственной программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации». Были утверждены и сама программа, и «пакет» из шести постановлений по отдельным вопросам функционирования АПК. Теперь эти решения предстояло довести до сознания крестьянства, управленческого аппарата и всего общества. В «Коммунисте» (№ 10 за 1982 г.) была опубликована моя статья «Продовольственная программа и задачи ее реализации», а осенью в журнале «Проблемы мира и социализма» другая — об аграрной политике партии.
В августе того же года на Всесоюзном совещании в Харькове, где собрались специалисты-аграрники со всей страны, я поставил вопрос о решительном отказе от экстенсивных методов ведения хозяйства. Погоня за численным ростом поголовья скота вела к содержанию малопродуктивных животных: кормить их надо, а отдача мизерная. Селекционная работа, введение научного рациона кормления и другие приемы интенсивной технологии обеспечивали увеличение производства мяса и молока при меньшем поголовье.
Казалось, какая тут крамола? Но когда об этом доложили Щербицкому, он возмутился:
— Это что еще за путаные рассуждения? Генеральный секретарь требует сохранения и наращивания поголовья, а тут прямо противоположный призыв. Так ведь можно всех дезориентировать…
Подобным образом мыслили многие партийные и хозяйственные руководители. Их критерии успехов сельского хозяйства были предельно просты: размеры посевных площадей, численность голов и хвостов в стаде. Эти показатели и находились под их строжайшим контролем и неусыпным оком. Так что уже на первых порах стало ясно, сколь трудной будет реализация Продовольственной программы.
Читатель, особенно наш, российский, скажет: «Ну, и что дала эта программа? Какой была ситуация с продовольствием, такой и осталась, даже хуже стала. И зачем автор так подробно описывает все хитросплетения борьбы сторонников и противников программы? Не правильнее ли сказать, положа руку на сердце, что была очередная утопия, новые обещания, о которых тут же забыли».
На этот счет у меня своя позиция. Во-первых, я хотел обрисовать процесс принятия решений в тех условиях, в которых оказался, приняв обязанности секретаря ЦК КПСС. Во-вторых, разработка программы такого масштаба — это своего рода еще одна отчаянная попытка заставить работать систему на таком жизненно важном направлении, как продовольствие. И что-то ведь удалось сделать. В двенадцатой пятилетке по сравнению с предыдущей среднегодовое производство зерна увеличилось на 26,6 миллиона тонн, мяса скота — на 2,5 миллиона, молока — более 10 миллионов; количество убыточных хозяйств сократилось с 25 до 4 тысяч и составило менее 10 процентов.
В-третьих, работа по осуществлению программы показала, что стабилизация продовольственного рынка — это не только вопрос сельского хозяйства, но результат общей финансовой ситуации в стране, прежде всего соотношения темпов роста доходов и расходов населения. Вспоминаю, что в бытность вторым секретарем Ставропольского крайкома (1968–1969 гг.) мне приходилось решать проблему… куда девать мясо и масло: люди «отказываются» брать. А душевое потребление тогда составляло всего 42 кг мяса, молока — почти на 100 кг меньше уровня 1990 года.
Зачем возвращаться в прошлое — сейчас, в 1993-м, все продукты или почти все лежат, а их потребление только за 1992 год уменьшилось на 28 процентов в сравнении с предыдущим годом. Так что же это за фокус? Никакого фокуса: доходы съедает инфляция, люди не могут купить то, что хотят. Посмотреть могут. А власти утверждают, что решили продовольственную проблему, как будто все определяется тем, что лежит на прилавке, а не реальным потреблением продуктов питания.
Конечно, возникает еще один вопрос к автору: если так ему все ясно, так почему же он не использовал свое положение генсека и президента для решения этой проблемы уже в первые годы перестройки? Закономерный вопрос, и я на него постараюсь дать ответ в следующей главе.
Андропов — Черненко: перетягивание каната
Перетягивание каната между Черненко и Андроповым, их конкурентная борьба за влияние на генсека продолжались. Черненко пытался изолировать Брежнева от прямых контактов, говорил, что только он может чисто по-человечески понять Леонида Ильича, то есть не брезговал ничем, чтобы укрепить личные позиции.
Хотя Юрия Владимировича после Пленума посадили в сусловский кабинет, поручение ему вести Секретариат ЦК так и не было зафиксировано. Преднамеренно это сделали или нет, не знаю, но, воспользовавшись данным обстоятельством, Черненко, а иногда и Кириленко по-прежнему вели заседания Секретариата.
Так продолжалось примерно до июля 1982 года, когда произошел эпизод, поставивший все на свои места. Обычно перед началом заседания секретари собирались в комнате, которую мы именовали «предбанником». Так было и на сей раз. Когда я вошел в нее, Андропов был уже там. Выждав несколько минут, он внезапно поднялся с кресла и сказал:
— Ну что, собрались? Пора начинать.
Юрий Владимирович первым вошел в зал заседаний и сразу же сел на председательское место. Что касается Черненко, то, увидев это, он как-то сразу сник и рухнул в кресло, стоявшее через стол напротив меня, буквально провалился в него. Так у нас на глазах произошел «внутренний переворот», чем-то напоминавший сцену из «Ревизора».
Этот Секретариат Андропов провел решительно и уверенно — в своем стиле, весьма отличном от занудной манеры, которая была свойственна Черненко и превращала все заседания в некое подобие киселя.
Вечером я позвонил Андропову:
— Поздравляю, кажется, произошло важное событие. То-то, я гляжу, вы перед Секретариатом были напряжены и замкнуты наглухо.
— Спасибо, Михаил, — ответил Андропов. — Было от чего волноваться. Звонил Леонид Ильич и спрашивал: «Для чего я тебя брал из КГБ и переводил в аппарат ЦК? Чтобы ты присутствовал при сем? Я брал тебя для того, чтобы ты руководил Секретариатом и курировал кадры. Почему ты этого не делаешь?..» Вот после этого я и решился.
Зная состояние генсека в тот момент, особенно его волевые качества и нежелание ссориться с Черненко, я уверен, что сам он на такой звонок был неспособен. Видимо, как это бывало не раз, кто-то стоял рядом и, как говорится, «нажимал». Таким человеком мог быть только Устинов. Если учесть его влияние на Брежнева, его способность действовать напрямую, без всякой дипломатии, а также его давнюю дружбу с Андроповым, то можно утверждать это с достаточной уверенностью. Замечу, что ни Юрий Владимирович, ни Дмитрий Федорович в беседах со мной этого эпизода не упоминали.
Вот так и сложилась новая «стабильность». Теперь уже довольно часто обсуждения носили не формальный, а сугубо деловой характер. Появились замечания в адрес отделов по качеству подготовки тех или иных вопросов. Принимавшиеся постановления приобретали более конкретное содержание. Главное — утверждалась требовательность и жесткость. Ну а по части персональной ответственности Юрий Владимирович нагонял порой такого страха, что при всей вине тех, на кого обрушивался его гнев, их нередко становилось по-человечески просто жалко.
У меня родилось ощущение, что в нем произошли перемены, которых я не замечал прежде. Возможно, тут сыграло свою роль то обстоятельство, что с обострением болезни Брежнева и усилением интриг в его окружении создалась ситуация, которая угрожала полным безвластием. Видимо, Андропов решил предпринять некоторые шаги, которые повысили бы авторитет центральной власти, показали всем, что, несмотря на немощь генсека, рычаги управления находятся в твердых руках и никаких случайностей не произойдет. И прежде всего это надо было показать самим членам Политбюро.
В том же контексте я рассматриваю неожиданное поручение Андропова в летний период 1982 года, когда «на хозяйстве» в ЦК остались он и я, а в Министерстве обороны Устинов, разобраться, почему в разгар сезона в Москве нет фруктов и овощей. Была создана «пожарная команда» по снабжению столицы, но она столкнулась с решительным отказом торговых организаций Москвы брать продукцию под предлогом отсутствия торговой сети для ее реализации. Тут уж я сам надавил на столичные власти, чтобы понудить их заняться практическими делами.
Вечером того же дня последовала реакция Гришина:
— Нельзя же до такой степени не доверять городскому комитету партии, чтобы вопрос об огурцах решался в Политбюро, да еще через мою голову. Я решительно заявляю, что мне это не нравится!
Я прервал его:
— Послушайте, Виктор Васильевич, мне кажется, вы не ту тональность взяли. Чисто практический вопрос ставите в плоскость политического доверия. А речь идет о том, что лето в разгаре, в Москве — ни овощей, ни фруктов. Между тем продукция есть. Поэтому давайте говорить о том, как решить этот вопрос. А мне поручено держать его под контролем.
К слову, о Гришине. Будучи ординарной личностью, он имел весьма завышенные представления о себе и своих возможностях. К тому же, как многие люди такого рода, при общении с «нижестоящими» напускал на себя столь значительный, «вождистский» вид, что решение с ним каких-то вопросов превращалось в сущую муку. Никаких критических суждений и замечаний не принимал, единственное исключение — генсек. Но и тогда ворчал, что кто-то неправильно информирует Генерального, чьи-то козни.
В «огуречной истории» он перечить не стал, сориентировался быстро. В городе вскоре появилось несколько тысяч овощных палаток, лотков, и вопрос был решен. По московским коридорам пошел шепоток: Андропов берется всерьез за наведение порядка.
Однако эта история имеет и другой подтекст. В сложной, закулисной борьбе между членами руководства Гришин котировался некоторыми как вероятный претендент на «престол». Подобного рода информация прошла через зарубежную прессу, и Андропов, естественно, знал об этом. Поэтому в его просьбе вмешаться в овощные дела столицы свою роль играло и желание показать неспособность московского руководителя справиться даже с проблемами городского масштаба.
Примерно в то же время в одном из разговоров Юрий Владимирович как бы мимоходом сказал:
— Леонид Ильич просит плотнее заняться кадрами. Думаю, надо бы нам посмотреть на некоторые фигуры, которые стали уж очень одиозными.
Он внимательно взглянул на меня.
— Что ты думаешь о Медунове?
— То же, что говорил вам год и два назад, — ответил я.
Действительно, разговор о бывшем моем соседе не раз возникал у нас и раньше. До центра доходили вести о явном неблагополучии в Краснодарском крае, в частности о том, что в курортной зоне сложились мощные мафиозные структуры, имевшие якобы прямой выход на партаппарат.
Я напомнил Юрию Владимировичу о своей беседе с Медуновым и высказанных ему советах: во-первых, отмежеваться от нечистоплотных людей, во-вторых, внимательно присмотреться к кадрам и взять их под жесткий контроль. Медунов тогда слушал меня, как говорится, вполуха. Он готов был прислушаться к словам Леонида Ильича, на худой конец — Суслова или Кириленко, не более. Считал, что я вмешиваюсь не в свои дела, плету против него какие-то интриги.
Докладывая Андропову о результатах того разговора, я сказал:
— Надеюсь, вы понимаете, что о наших выводах вам придется докладывать Леониду Ильичу. Надо заранее предусмотреть реальный контекст всего разговора.
— Понимаю, — ответил Юрий Владимирович. — Но это дело партийное, государственное, значит, надо. А ты подумай, какой вариант можно предложить для перевода Медунова.
Я предложил должность заместителя министра заготовок по плодоовощной продукции. Краснодарский край был одним из главных поставщиков овощей и фруктов.
На аппарат ЦК, на всех секретарей обкомов освобождение Медунова произвело сильное впечатление. Знали, что его опекал сам Генеральный секретарь, считали «непотопляемым», и вдруг… Авторитет Андропова стал расти буквально на глазах.
Если присмотреться к этим шагам Юрия Владимировича по- серьезному, станет очевидным, что носили они разовый, в большей мере демонстративный характер. Спертая атмосфера застоя сгустилась к тому времени настолько, что даже эти действия, словно чуть приоткрытая форточка, рождали иллюзию освежающего дуновения. К сожалению, противоречия, накопившиеся за годы правления Брежнева, были столь глубоки, что разрешить их только такими разрозненными мерами было невозможно.
Поскольку генсек не мог проявлять инициативы, не поощрялась она и у других членов Политбюро, дабы на этом фоне не бросались в глаза его ограниченные возможности. В частности, ему было не под силу совершать, как прежде, поездки по стране. Значит, и остальным, даже если того требовало дело, приходилось тщательно дозировать свои командировки на места.
Окружению Брежнева постоянно приходилось решать и другую задачу: имитировать бурную творческую и организационную деятельность генсека. А поскольку сам он генерировать новые идеи, писать или выступать уже не мог, от его имени и выступали доверенные лица, помощники, консультанты. Они постоянно и умело сочиняли какие-то доклады и записки, направляли письма и телеграммы. Каждое такое (естественно, «историческое») выступление должно было получить широчайший отклик. Все отделы ЦК сидели над изобретением подобного рода «откликов», демонстрировавших всенародный и всемирный «резонанс».
Кстати, знание этого механизма функционирования власти иногда позволяло провести разумные решения. Своих идей у брежневского окружения явно не хватало, и если туда поступала «памятная записка», предлагавшая постановку и решение того или иного крупного вопроса от имени Генерального секретаря, за такую возможность немедленно ухватывались.
Я уже говорил, что «стабильность» при больном генсеке устраивала многих членов руководства, они практически бесконтрольно властвовали в своих регионах и ведомствах. Заинтересованы были в подобной стабильности и ближайшее окружение Брежнева, часть аппарата ЦК, ибо с ней связывалось и их благополучие. Все знали, что при смене генсека неизбежны кадровые перемены, вот и старались.
Естественно, при таком положении все нити власти и управления все более перемещались в бюрократический аппарат, и этот переход имел пагубные последствия. Он не только свел к нулю остатки внутрипартийной демократии, но и открыл простор для чиновничьего интриганства, которое зачастую стало играть решающую роль в принятии политических решений и особенно при кадровых назначениях.
В этот период то, что считалось мнением или позицией генсека, зачастую уже не являлось его личной точкой зрения, родившейся в результате самостоятельного анализа и сопоставления различных оценок. Это была всего лишь позиция той или иной группировки, которая в данный момент сумела оказать на него решающее влияние.
В последние годы пребывания Брежнева на посту генсека Политбюро пришло в немыслимое состояние. Некоторые заседания, дабы не утруждать Леонида Ильича, вообще продолжались 15–20 минут. То есть больше времени собирались, нежели работали. Черненко заранее договаривался о том, чтобы сразу после постановки того или иного вопроса звучала реплика: «Все ясно!» Приглашенные, едва переступив порог, должны были разворачиваться вспять, а считалось, что вопрос рассматривался в Политбюро.
Если на обсуждение ставилась действительно крупная проблема жизни страны, вся надежда была на ее проработку правительством. И в этом случае крайне редко начинался разговор по существу. Использовалась другая дежурная фраза: «Товарищи работали, предварительный обмен мнениями был, специалистов привлекали, есть ли замечания?» Какие уж тут замечания! Тот, кто решался «вклиниться», задать вопрос, удостаивался косого взгляда Черненко.
Даже когда Брежнев чувствовал себя получше, ему трудно было следить за ходом дискуссии и подводить ее итоги. Поэтому при постановке крупных проблем он обычно брал слово первым и зачитывал подготовленный текст. После этого обсуждать что-либо считалось неприличным, и опять раздавалась реплика: «Согласимся с мнением Леонида Ильича… Надо принимать…» Брежнев сам иной раз добавлял, что в проекте упущены такие-то моменты, надо, мол, усилить тот или иной акцент. Все дружно и радостно соглашались, обсуждение на том заканчивалось.
Исключение по продолжительности и активности дебатов составляли заседания Политбюро, на которых утверждали проекты годовых планов и бюджета, ибо тут затрагивались интересы всех, кто курировал ту или иную отрасль либо регион. И в этих случаях заседание обычно начиналось с выступления генсека. Он довольно сбивчиво зачитывал текст представления, затем открывал прения.
Говорили всегда одно и то же. Щербицкий — о необходимости реконструкции основных фондов Донбасса, «иначе металлургия и шахты этого региона поставят на колени энергетику не только республики, но и всей страны». Кунаев беспокоился о состоянии целины, развитии Экибастузского энергетического узла, просил увеличить ассигнования. Гришин, как всегда, вещал нечто расплывчатое, обтекаемое и тоже просил дать больше денег столице. Столь же постоянной была тема Рашидова: однобокое развитие Среднеазиатского региона, проблемы занятости, расширения числа рабочих мест и, конечно, орошение.
Хотя все эти вопросы являлись важными и сложными, никаких дискуссий, обмена мнениями, споров не возникало. Я уж не говорю, что не было ни одного случая, когда проект плана и бюджета завернули бы, отправив на доработку. Честно говоря, все это смахивало на профанацию и самообман.
В конце концов для проработки решений по отдельным вопросам было создано более двух десятков постоянных и временных комиссий, которые готовили заключения, а Политбюро просто утверждало их. Комиссия по Китаю, комиссия по Польше, комиссия по Афганистану, комиссии по другим внутренним и внешним проблемам. Все они обязательно заседали в ЦК, никогда не собирались за его пределами, дабы Черненко мог осуществлять надзор за их деятельностью. По существу, комиссии эти стали подменять и Политбюро, и Секретариат. Со временем заседания Политбюро становились все менее продуктивными.
А ведь это было время, когда многие негативные процессы в жизни страны можно было остановить и начать реформирование общества. Увы! Время уходило безвозвратно. Во всем мире под воздействием достижений научно-технической революции происходили грандиозные перемены в сфере производства, коммуникаций, быта, вносившие коренные изменения в жизнь общества. Получалось так, что другие страны через болезненные поиски шли по пути адаптации к вызовам времени, а наша система, опиравшаяся, казалось бы, на научную теорию, плановый, системный подход и научные методы управления, отторгала новые веяния, противопоставляя себя общему потоку цивилизации.
Смерть Брежнева
Умер Леонид Ильич неожиданно. Может быть, это звучит странно — о его физическом состоянии благодаря телевидению знала вся страна, мы наблюдали всю клиническую картину здоровья генсека воочию. Но тянулось это настолько долго, что стало привычным, о возможности близкого конца никто не думал.
7 ноября 1982 года — в день Октябрьской годовщины — Брежнев, как Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Главнокомандующий и Председатель Совета Обороны, принимал военный парад. Потом — торжественный прием, где он зачитал приветственную речь. В общем — все как обычно.
10 ноября я принимал делегацию из Словакии. Шла оживленная беседа, когда неожиданно из секретариата мне передали записку: «Вас срочно вызывает Андропов. Он знает, что вы принимаете делегацию, но просит извиниться, объявить перерыв и сразу же зайти к нему».
Когда я вошел в кабинет Андропова, Юрий Владимирович внешне выглядел достаточно спокойным. И вместе с тем за этим скрывалось огромное внутреннее напряжение. Ровным голосом он рассказал, что Виктория Петровна — жена Брежнева — попросила срочно сообщить ему о смерти Леонида Ильича и передать, что его ждут на даче в Заречье. Никого другого видеть она не захотела. Андропов уже побывал там, беседовал с Чазовым, сотрудниками охраны. Смерть наступила за несколько часов до приезда бригады «скорой помощи».
Мы помолчали. Потом я сказал:
— Что ж, для Старой площади наступил ответственный момент. Необходимо принимать решение, и думаю, оно будет касаться лично вас.
Андропов, видимо, погруженный в свои мысли, не ответил. Наши отношения позволяли мне не ходить вокруг да около, а вести с ним открытый разговор, и я спросил:
— Вы встречались в «узком кругу»?
Он кивнул головой. Да, они встречались и сошлись на кандидатуре Андропова. В его рассказе фигурировали Устинов, Громыко, Тихонов. Черненко не упоминался, так что не могу сказать, принимал ли он участие в этой беседе.
— Что бы ни случилось, — сказал я, — уклоняться вы не можете. Со своей стороны всеми силами буду вашу кандидатуру поддерживать.
В тот же день состоялось заседание Политбюро. Создали комиссию по организации похорон во главе с Андроповым. Приняли решения, связанные с проводами в последний путь лидера государства и партии. Постановили срочно созвать внеочередной Пленум ЦК КПСС и по предложению Тихонова единодушно одобрили кандидатуру Юрия Владимировича на пост Генерального секретаря. Выступить с этим на Пленуме от имени Политбюро должен был Черненко.
Откровенно говоря, кончина Брежнева, хотя и произошла внезапно, никого из нас не потрясла, не вывела из равновесия. Не была она воспринята как тяжкая потеря и в обществе, несмотря на все усилия пропаганды, а может, именно из-за нее. В те дни все мы, конечно, так или иначе размышляли о будущем, о том, в каком состоянии находится страна, что может ожидать нас впереди. Могу со всей определенностью сказать: уже тогда преобладало ожидание больших перемен.
О 18-летнем периоде правления Брежнева, как эпохе застоя, сказано и написано немало. Я думаю, эта характеристика нуждается в конкретизации и углублении. Тем более что в последнее время со стороны консервативно-фундаменталистских сил предпринимаются попытки реабилитировать брежневизм. Цель ясна — попытаться доказать, что надобности в перестройке не было, а основную тяжесть вины за нынешний кризис общества свалить на ее инициаторов.
В политическом плане брежневщина не что иное, как консервативная реакция на предпринятую Хрущевым попытку реформирования существовавшей тогда в стране авторитарной модели. Строго говоря, такая реакция началась при самом Хрущеве, и это приводило к противоречивости его действий внутри страны и на международной арене. Уступая давлению партийно-государственного аппарата, Хрущев не хотел полностью сдавать реформаторские позиции. Как я уже писал, даже в предпринятых им в последние годы сумбурных перестройках партии и хозяйственного управления угадывалось стремление ослабить всевластие партийной и государственной бюрократии. Такой лидер стал ей неугоден, и он был убран.
Брежнев хорошо знал настроения партийно-государственной элиты, военно-промышленного комплекса, опирался на них и пользовался их неограниченной поддержкой, проводя, по существу, жесткую неосталинистскую линию.
Очень много при Брежневе говорилось о демократии, с огромной помпой была принята новая Конституция. И в то же время развернута беспрецедентная борьба против инакомыслящих — одних посадили в тюрьмы, других запрятали в психушки, третьих выдворили за кордон.
Не меньше заклинаний произносилось о необходимости «экономной экономики», интенсификации производства, ускорения научно-технического прогресса, расширения самостоятельности предприятий. Но даже очень скромная и робкая «косыгинская реформа» 1965 года встретила яростное сопротивление и была пущена под откос. Так и не смогли провести Пленум по научно-техническому прогрессу, перенося его из года в год. Экономику несло дальше и дальше по экстенсивному, затратному пути, ведущему к банкротству.
Под прикрытием мощной пропагандистской кампании за разрядку международной напряженности даже после того, как ценой огромных затрат был достигнут военно-стратегический паритет с США, продолжала наращиваться гонка вооружений. Не колеблясь раздавили «Пражскую весну». Впервые после Второй мировой войны вооруженные силы страны были втянуты в заведомо проигрышную военную авантюру в Афганистане.
Но главное, что определяет оценку брежневизма в политической истории страны, — брежневское руководство оказалось несостоятельным перед лицом вызовов своего времени. Слепо придерживаясь старых догм и представлений, оно проглядело наступление глубоких перемен в науке и технике, условиях жизни и деятельности людей, стран и регионов, всего мирового сообщества, знаменующих зарождение новой цивилизации. Переменам в стране был поставлен прочный шлагбаум, она оказалась загнанной в тупик, обреченной на длительное отставание и глубокий общественный кризис.
Со смертью Брежнева встал вопрос: останется ли все как есть, будет ли наше общество катиться дальше под уклон, или произойдут глубокие перемены, прежде всего — обновление политического руководства. Поскольку страна наша являлась одним из устоев всей мировой конструкции, этот вопрос волновал не только наших граждан, но и мировое сообщество.
Обращаясь к своим впечатлениям тех дней, должен сказать, что тогда у основных действующих лиц наметились две тенденции. Одна — превратить Брежнева в очередного «классика», величайший «авторитет», с помощью которого можно было бы сохранить его прежнее окружение, а новое руководство сразу же поставить в жесткие рамки. Другая — проявить сдержанность в оценке брежневского периода, чтобы открыть хоть какую-то возможность для радикальных перемен.
Как и до этого, подобные тенденции проявились не в публичных дискуссиях и не в открытых схватках, а в тончайших нюансах, уловимых лишь опытным слухом и глазом.
Сами похороны, их пышное и грандиозное оформление, организованное службами, которые курировал Черненко, были проведены, что называется, «по максимуму». Под стать была и речь Черненко на Пленуме 12 ноября. Он старательно зачитывал написанные ему помощниками патетические слова о «самом последовательном продолжателе дела Ленина», выдающемся теоретике, наделенном всеми мыслимыми дарованиями и добродетелями.
Кадровый застой, ставшее притчей во языцех старение руководства выдавались за величайшее достижение Леонида Ильича, создавшего столь мудрый, в высшей степени компетентный и сплоченный коллектив политических лидеров. Что касается заявления, будто именно Андропов лучше всех освоил брежневский стиль руководства и брежневское бережное отношение к кадрам, то для Юрия Владимировича этот комплимент являлся более чем сомнительным. А выражение уверенности в том, что брежневская коллегиальность будет Андроповым лишь упрочена, звучала вполне определенно: будем, мол, командовать вместе.
Общество чувствовало, что страна не только нуждается, но и находится накануне перемен. На этом фоне подобное славословие было явным перехлестом. Я находился в те дни рядом с Андроповым и видел, что он отдает себе отчет в необходимости и неизбежности отмежеваться от многих черт «брежневской эпохи». И в этом смысле беспокоится о том, как будут восприняты его первые шаги.
Речь Андропова на Пленуме 12 ноября, где его избрали Генеральным секретарем, оказалась достаточно сдержанной. В ней не было открытого вызова, все подобающие слова по случаю смерти Брежнева были сказаны, но не более того. После этого выступления Черненко впал в полное уныние, хотя надо отметить, что в человеческом плане Юрий Владимирович относился к нему вполне терпимо.
По решению, принятому задолго до этих дней, 15 ноября должен был состояться очередной Пленум ЦК КПСС, на котором предстояло рассмотреть проекты государственного плана и бюджета на следующий год. Андропов понимал, что уже здесь он вынужден будет выйти за рамки намеченной повестки дня, обозначить хотя бы «курсивом» свой будущий курс. Договорились отложить Пленум на неделю.
Глава 8. Андропов: новый Генеральный секретарь действует
Это были крайне напряженные дни. Андропов созванивался и встречался с людьми. Надо было решить в первую очередь, как поступить с докладом, подготовленным для Брежнева. Конечно, его следовало использовать лишь в качестве отправного пункта для идей и замыслов нового генсека. Но его тревожило, не будет ли это выглядеть претенциозно: вот, мол, недели не прошло, а ему все сразу стало ясно.
Я высказал мнение:
— Разработать за неделю какую-то цельную программу вам, конечно, не удастся. А вот расставить необходимые акценты, правильно вычленить главные вопросы, сказать так, чтобы всем стало ясно, какие решения созвучны вашим мыслям и имеют перспективу, вот это — вполне возможно.
Пленум состоялся 22 ноября. Выступление Андропова прошло удачно. При всех штампах и стереотипах, характерных для того времени, оно содержало новые подходы. Юрий Владимирович сказал о серьезных недостатках в экономике, о недовыполнении двух пятилетних планов, о необходимости совершенствования хозяйственного механизма, управления и планирования, о самостоятельности предприятий, стимулировании производительности труда, инициативы и предприимчивости. Для того времени все это было в меру свежо и встречено аплодисментами. Еще громче прозвучали они, когда Андропов поставил вопрос об усилении требовательности, укреплении дисциплины и контроля за принимаемыми решениями. Всеобщая расхлябанность порядком надоела.
Конечно, многие важнейшие темы в выступлении были лишь заявлены, но и это производило впечатление. При его подготовке все были согласны, что нужна принципиально иная концепция руководства экономикой. Какая именно — ответа на этот вопрос у нас еще не было. И тогда Андропов своей рукой вписал в текст фразу о том, что готовых рецептов на все случаи жизни у него нет. Это как бы приглашало партию и общество к совместному поиску необходимых решений.
Юрий Владимирович заявил нам, что не пойдет на Пленум до тех пор, пока в его выступлении не будет говориться об ответственности конкретных руководителей тех министерств, где дела идут особенно плохо. Поэтому в текст и были вписаны резкие критические пассажи о работе транспорта, о состоянии металлургии и строительства, которые из года в год не обеспечивали нужд народного хозяйства. А в скором времени руководителей этих министерств — Павловского, Казанца и Новикова — вообще отстранили от работы.
Над внешнеполитическим разделом выступления Андропов основательно поработал с Арбатовым, Бовиным и Александровым. Мне он передал эту часть, когда основной текст уже сложился.
Отметив беспокойство западной прессы, высказывавшей опасения, что со смертью Брежнева изменится к худшему наша внешняя политика, Андропов с сарказмом заметил, что совсем недавно именно эту политику они подвергли нещадной критике. Надо сказать, что все предшествовавшие годы Юрий Владимирович сам принимал участие в разработке внешнеполитического курса, был привержен «разрядке» и теперь прямо заявлял, что это не случайный эпизод в истории человечества, а путь, который еще предстоит пройти. Ибо мир без оружия, как писал еще Ленин, — это идеал социализма, и спор идей не должен превращаться в конфронтацию между государствами и народами.
Разъясняя позицию СССР по переговорам о разоружении, Андропов сказал, что видит задачу не в том, чтобы фиксировать имеющиеся разногласия, как это нередко делают наши партнеры на Западе. Для нас переговоры — способ соединения усилий различных государств для достижения результатов, полезных всем сторонам. Говорилось о необходимости обуздания гонки вооружений, замораживании арсеналов, но отнюдь не в одностороннем порядке. Высказался он и за изменение отношений с Китаем, для чего надо преодолеть «инерцию предрассудка».
Эти слова в его речи были встречены аплодисментами.
В первые дни и недели все внимательно присматривались к тому, какие практические шаги предпримет генсек. Андропов решил уже на этом Пленуме начать с кадровых изменений.
Еще летом, когда Брежнев находился в отпуске, мною была подготовлена записка по вопросам экономической политики. Я предложил создать комиссию Политбюро по вопросам экономической политики. Прежде чем отсылать в Крым, дал Юрию Владимировичу прочесть записку. Он внес кое-какие поправки и сказал, что поддержит предложение. После этого я переговорил с Черненко, с помощниками Брежнева. Они взяли мою записку, но дальше дело не шло. Вскоре до меня дошел слух, что кое-кто опять усмотрел в моем предложении претензии Горбачева через комиссию прибрать к рукам правительство.
От подобного рода домыслов и подозрений можно было сойти с ума. Никто не хотел думать о деле, вернее, за любым делом усматривали прежде всего какую-то личную корысть. Но надо было пробивать решение, и я переделал свое обращение в проект записки от имени Генерального секретаря. Только после этого ее передали Леониду Ильичу. Он позвонил мне из Крыма:
— Здесь вот записка твоя. Все правильно пишешь, но конец не тот — опять комиссия. Я их терпеть не могу, болтовня одна. Их уже черт знает сколько, и ты туда же. Так вот, у меня такое предложение: давай создавать в ЦК экономический отдел, и подумай, кого поставить. Надо, чтобы возглавлял толковый человек, который только этим бы и занимался. — О большем результате своей инициативы я и не мечтал.
Теперь, когда мы с Юрием Владимировичем стали обсуждать кандидатуру заведующего отделом, я настаивал на том, чтобы это был совершенно новый человек. Выбор пал на Николая Ивановича Рыжкова, работавшего тогда первым зампредом Госплана. Мне казалось, что при определенной склонности к технократическим решениям он способен заглядывать за горизонт, восприимчив к новым идеям. На Пленуме 22 ноября 1982 года Рыжкова избрали секретарем ЦК.
У Рыжкова с Андроповым сложились хорошие отношения. Николай Иванович боготворил Юрия Владимировича и каждый разговор с ним переживал очень эмоционально. С приходом Рыжкова в ЦК наше с ним сотрудничество стало тесным и постоянным. И за этим, кстати, внимательно смотрел Андропов, ему хотелось того, чтобы его окружение состояло не только из единомышленников, но и из людей, связанных товарищескими отношениями.
Тогда же Андропов решил осуществить перемены в идеологических структурах ЦК. По существу, вся их деятельность была приспособлена к решению одной задачи — апологетике Брежнева, его личности, стиля, политики. Секретарем ЦК по идеологии с 1976 года являлся Михаил Васильевич Зимянин, к продвижению которого на данный пост приложил руку Черненко. Они вполне «спелись».
Вначале я полагал, что Андропов намеревается осуществить довольно радикальные перемены в этой сфере партийной деятельности. Он не раз и прежде говорил, что нужен серьезный разговор по проблемам идеологии, упоминал о записке, которую сам подавал Леониду Ильичу по данному поводу.
Позднее Андропов прислал мне эту записку, и, скажу честно, она глубоко меня разочаровала. Никакой особой новизны в ней не содержалось. Указывалось на желательность изменения общего стиля пропаганды, отказа от устаревших стереотипов. Но о необходимости теоретического осмысления новой реальности не было и речи. Мало того, будучи подготовленной в недрах аппарата КГБ, она в какой-то мере отразила и дух этого аппарата. Акцент делался прежде всего на «наведение порядка», усиление «наступательной позиции» в идеологии.
Может быть, поэтому я не удивился, что происшедшие в этой сфере перемены оказались незначительными. Зимянин остался на своем месте, а заведующего отделом пропаганды Е.М.Тяжельникова в декабре 1982 года заменили на Бориса Ивановича Стукалина. Он, конечно, был более основательным человеком, но и более осторожным, не игравшим самостоятельной роли. Иными словами, Юрий Владимирович хотел овладеть идеологическим аппаратом, не меняя механизма и сути его функционирования.
С.П.Трапезникова, заведовавшего другим важным отделом (его также курировал Зимянин) — науки и учебных заведений, заменили летом 1983 года. Пост этот в 1965 году он занял только благодаря Брежневу, с которым работал в Молдавии. И продержался в этой должности столько лет лишь при поддержке Леонида Ильича и Черненко, ибо умудрился до предела осложнить отношения между ЦК и Академией наук.
Дважды общее собрание академии проваливало его кандидатуру при баллотировании в члены-корреспонденты. Лишь в третий раз, в 1976 году, при сильнейшем нажиме со стороны ЦК, он добился избрания, но на следующих выборах, баллотируясь уже в академики, опять потерпел фиаско. Конечно, провалы на выборах были лишь следствием его крайнего догматизма и идеологической нетерпимости. Прочитав его книгу «На крутых поворотах истории», я убедился: такого фундаменталиста могли держать на руководстве наукой только те, кто никогда не помышлял даже о частичных преобразованиях и реформах.
Я предложил Вадима Андреевича Медведева, которого знал с начала 70-х годов. Он пользовался авторитетом среди коллег-экономистов как человек независимых прогрессивных взглядов. Андропов попросил меня встретиться с ним. Медведев, бывший в то время ректором Академии общественных наук, встретил предложение перейти на работу в ЦК без энтузиазма. Научная работа привлекала его куда больше аппаратной, амбиций у него не было. Зная о присущем Вадиму Андреевичу чувстве ответственности, я сказал, что нужен руководитель отдела науки, сознающий необходимость перемен в жизни страны. Аргумент подействовал, Медведев заявил, что готов поработать с новым руководством.
После этой беседы состоялась встреча у Андропова. Вадим Андреевич, видимо, и на него произвел благоприятное впечатление. Юрий Владимирович подтвердил согласие на его назначение и, вспомнив Трапезникова, пошутил:
— Я вам очень советую: не старайтесь сразу же попасть в академики.
Впрочем, это была не только шутка. Стремление работников партийного аппарата, включая сотрудников ЦК КПСС, защитить диссертации принимало повальный характер. Среди них было немало людей, заслуживших научные степени, но больше тех, кто «пробивался» в науку благодаря своему служебному положению. Защищая диссертации, иные бюрократы «страховали себя» и при осложнениях уходили на руководящие должности в научные институты или учебные заведения.
Встал вопрос и о замене заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Ивана Васильевича Капитонова. Он был чем-то вроде бледной тени Брежнева, вся политика кадрового застоя осуществлялась его руками. Помню, не раз заходил ко мне и, растерянно разводя руками, говорил:
— Ну вот, сколько уж ношу материалы на пятерых, надо менять их, да не знаю, поддержит ли Леонид Ильич.
Трудно было найти человека более нерешительного. Посещая заседания Политбюро и Секретариата, Капитонов пытался уловить малейшие оттенки настроений, сориентироваться, куда дует ветер, и по возможности ублажить всех членов руководства.
Когда речь зашла о возможных кандидатурах, я сказал, что на этот пост нужен человек типа Лигачева. Мне нравились его энергия, напористость.
Работая в ЦК, я поддерживал с Лигачевым как секретарем Томского обкома постоянный контакт, видел его искреннее стремление больше сделать для своей области, особенно ее снабжения продуктами питания. Лигачев выделялся среди секретарей обкомов не только деловитостью, но и кругозором, общей культурой.
Свое мнение о Лигачеве я высказал. Громыко поддержал, сказав, что знает Егора Кузьмича по зарубежным поездкам, у него сложилось мнение о нем как о человеке развитом, цельном, принципиальном.
— Так зачем же нам искать человека «типа Лигачева», — рассмеялся Андропов, — если есть Лигачев?
На том и сошлись. Я вызвал Егора Кузьмича. Он воспринял предложение с энтузиазмом, и буквально в несколько дней вопрос был решен. Летом 1983 года он был назначен заведующим отделом, а 26 декабря на Пленуме избран секретарем ЦК.
Тогда же произошла еще одна замена — сняли управляющего делами ЦК КПСС Павлова, занимавшего этот пост с 1965 года. Кто хоть немного знаком с внутренней жизнью партийного аппарата, знает, что управляющий делами — одна из самых влиятельных фигур, ибо в руках его сосредоточивались все материальные блага. Проведенные Андроповым проверки обнаружили в Управлении делами различные злоупотребления и махинации. Особенно много их было выявлено при строительстве таких дорогостоящих объектов, как гостиница «Октябрьская» на улице Димитрова в Москве и санаторий «Южный» рядом с Форосом. Много беспорядков и бесхозяйственности выявилось и в издательстве «Правда», работавшем под плотной опекой Управления делами ЦК.
Вопрос о преемнике Павлова решался трудно. Черненко хотел поставить верного ему человека. Я настоял на назначении Кручины, которого знал много лет. Это был порядочный, очень неглупый, инициативный и в то же время осторожный человек. На него можно было положиться, и я доверял ему.
Огромный резонанс имели перемещения, проведенные на министерском уровне. Я уже упоминал, что сразу после своего избрания Андропов добился снятия трех министров. При той «стабильности кадров», которая существовала два десятилетия, снять бездельника или человека, развалившего работу, считалось невозможным. Тем более если речь шла о таких людях, как Игнатий Трофимович Новиков, который при любом серьезном разговоре, стоило упомянуть о недостатках в строительстве, вроде бы ненавязчиво и доверительно сообщал собеседнику:
— А ты знаешь, что я с Леонидом Ильичом еще в школе за одной партой сидел?!
Вопрос о Новикове был поставлен в связи с тем, что в Волгодонске на недавно выстроенном «Атоммаше» вдруг началась просадка зданий и сооружений, которая показала, что при предварительных расчетах и самом строительстве проявили вопиющую безответственность. На заседании Политбюро, где обсуждалось это дело, поначалу повели разговор в обычном стиле: надо создать комиссию, провести анализ, а уж после этого оценить и решать.
Андропов резко прервал дискуссию, заявив, что все это чистейшая болтовня, все тот же безответственный разговор, который невозможно слушать. И предложил немедленно снять Новикова с работы. Потом это решение, правда, подкорректировали — Новиков подал заявление и ушел на пенсию. Но «взрыв» со стороны Юрия Владимировича, человека деликатного в обращении, все запомнили.
Еще более широкий резонанс, я бы даже сказал, почти шокового характера, имело смещение в декабре 1982 года Щелокова с поста министра внутренних дел. Юрий Владимирович и до этого не раз говорил о том, что система МВД коррумпирована, есть признаки ее срастания с мафиозными структурами и что в таком виде министерство не способно противостоять нарастающей преступности. Но тронуть Щелокова, которого всячески опекал сам Брежнев, Андропов тогда не мог.
Недовольство вызывала у него и деятельность нового председателя КГБ Федорчука. Когда я спрашивал Юрия Владимировича, как работает его преемник, он нехотя отвечал:
— Знаешь, я разговариваю с ним только тогда, когда он мне звонит. Но это бывает крайне редко. Говорят, поставил под сомнение кой-какие реорганизации, которые я провел в комитете. В общем, демонстрирует самостоятельность, хотя, как мне передают, очень сориентирован на руководство Украины. Но я не влезаю.
И это было понятно, потому что председатель КГБ выходил прямо на генсека, да и выбор Федорчука был сделан самим Брежневым. И вот теперь, одним ударом, Андропов решил две задачи: Щелокова сняли и отправили в отставку, а Федорчука, дабы не конфликтовать с Украиной и Щербицким, назначили новым министром внутренних дел. На пост председателя КГБ утвердили бывшего первого заместителя Андропова Виктора Михайловича Чебрикова, через год избрали кандидатом в члены Политбюро.
Перемены, как видим, стали происходить и на самом высоком уровне.
22 ноября 1982 года завершилась затянувшаяся история с освобождением от обязанностей члена Политбюро, секретаря ЦК Кириленко. Его здоровье, а проще говоря, маразм достиг такой степени, что скрывать стало невозможно. Вследствие глубоких мозговых изменений процесс его личностного распада резко ускорился. Когда в марте 1981 года, на XXVI съезде ему поручили внести предложения о новом составе ЦК, он умудрился исказить фамилии многих кандидатов, хотя они были отпечатаны специально для него самыми крупными буквами. Зал на это реагировал, мягко говоря, с недоумением. Подобные эпизоды не забываются и производят гораздо большее впечатление, чем любые политические характеристики.
Тем не менее, даже после такого эпизода, памятуя о старой дружбе, Брежнев включил Кириленко в состав нового Политбюро. Но болезнь прогрессировала. На глазах у всех он стал терять нить разговора, не узнавал знакомых. И наконец, Брежнев поручил Андропову переговорить с Кириленко и получить от него заявление об уходе на пенсию.
Об этой беседе мне потом рассказал Юрий Владимирович. Пришел он в кабинет к Кириленко и, стараясь не обидеть, но вместе с тем достаточно твердо начал:
— Андрей, ты понимаешь, все мы — старые товарищи. Я говорю от всех, кто питал и питает к тебе уважение. У нас сложилось общее мнение, что состояние твоего здоровья стало заметно влиять на дела. Ты серьезно болен, должен лечиться, и надо этот вопрос решать.
Кириленко разволновался, плакал. Говорить с ним было очень трудно, но Андропов продолжил:
— Ты пойми, Андрей, надо сейчас решить в принципе. Ты поедешь отдыхать — месяц, два, сколько надо. Все за тобой сохранится — машина, дача, медицинское обслуживание, все. Разговор наш товарищеский, но надо все-таки, чтобы инициатива исходила от тебя. Вспомни, Косыгин чувствовал себя куда лучше, а написал…
— Ну хорошо, Юрий, — проговорил наконец Кириленко, — раз так, раз надо… Но ты мне помоги написать заявление, сам я не напишу.
Андропов быстро набросал короткое заявление. Андрей Павлович с большим трудом переписал его своей рукой. Дело было сделано. А 22 ноября, уже после смерти Брежнева, решили этот вопрос на Пленуме ЦК.
На том же Пленуме членом Политбюро избрали Гейдара Алиева. Когда потом я спрашивал Андропова, почему он остановил свой выбор на этой кандидатуре, Юрий Владимирович нехотя и уклончиво отвечал, что вопрос был предрешен Брежневым и он не захотел менять этого решения.
Алиев — несомненно, крупный политик. Умный, волевой, расчетливый. Поначалу, наблюдая за его деятельностью в Азербайджане, я не сомневался, что он является убежденным противником коррупции, теневой экономики. Он энергично взялся за решение многих вопросов развития республики, особенно касавшихся сельского хозяйства, реализовал ряд программ, и все это склоняло в его пользу.
Но постепенно, глубже вникая в азербайджанские дела, я понял, что в основе происходивших перемен лежали весьма неоднозначные мотивы. Иногда приходится слышать, что при оценке политической деятельности внутренние побуждения не имеют значения, важен, мол, лишь объективный результат. Ничего подобного. Весь мой опыт говорит о том, что мотивы, особенно если они не очень благовидные, всегда скажутся на результате. На смену прежнему клану руководителей, пронизавшему «подобно метастазам» все структуры управления республикой, изгнанному Алиевым за коррупцию и развал работы, стал внедряться другой клан, так называемая «нахичеванская группа». По-прежнему доминировали родственные связи чуть ли не до десятого колена. Создав таким образом мощную опору, основанную на клановом принципе, Алиев не возглавлял, не руководил, а правил республикой с помощью методов силового нажима. А разного рода советы, собрания, манифестации, встречи с прессой, с народом и прочие демократические атрибуты были лишь декорацией, нисколько не менявшей сути и способов правления.
Этого-то человека и вводили теперь в Политбюро. И дело было совсем не в обещании, данном Брежневу. Алиев долго работал в КГБ. Андропов был для него не только бывшим «шефом», но и непререкаемым авторитетом. Поэтому появление Алиева в составе Политбюро усиливало позиции Юрия Владимировича. Вот и все.
Точно так же Юрий Владимирович прекрасно знал личные качества Романова, знал, что это ограниченный и коварный человек с вождистскими замашками, видел, что на заседаниях Политбюро от него редко можно было дождаться дельной мысли или предложения. И тем не менее в июне 1983 года перевел его в Москву, рекомендовав Пленуму избрать Романова секретарем ЦК.
Дело в том, что к тому времени оборонные дела страны и по государственной и по партийной линии оказались сосредоточенными в руках Устинова. Юрий Владимирович считал, что подобная концентрация власти в столь важной сфере опасна, в интересах дела и самого Дмитрия Федоровича ее необходимо ослабить. Но решить вопрос нужно так, чтобы это было понято и принято самим Устиновым.
— Я не хочу, — говорил мне Андропов, — чтобы Дмитрий обиделся, поскольку он не только моя опора, но и мой товарищ.
Выбирать секретаря ЦК по вопросам оборонной промышленности предстояло из наличного состава руководства. И Андропов предположил, что Устинов ничего не будет иметь против Романова. Так оно и случилось.
Произошли и другие перемены в Политбюро. В 1983 году из Краснодара в Москву перешел Виталий Иванович Воротников, сменив Соломенцева на посту Председателя Совмина РСФСР. В июне на Пленуме ЦК его избрали кандидатом, а в декабре — членом Политбюро. В свою очередь Соломенцев после назначения председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС также был переведен из кандидатов в члены Политбюро.
Вся эта перегруппировка в высшем эшелоне власти воспринималась прежним руководством по-разному. Одни радовались, видя в новых назначениях и перемещениях залог предстоящих перемен в стране. Другие выглядели подавленными и расстроенными, опасаясь прежде всего за свою карьеру.
Что плохое настроение было у Черненко — понятно, он этого не скрывал. Формально он занимал пост «второго секретаря», но фактически многие важнейшие вопросы явно решались без него. Нервничали Тихонов, Щербицкий, Долгих.
Долгих являлся наиболее ярким представителем нашего «директорского корпуса» — серьезный, работоспособный, знающий специалист. Дело свое делал с большим рвением. Став секретарем ЦК, с 1972 года курировал тяжелую промышленность и любил показать, что его сфера — наиважнейшая. Вы, мол, конечно, тоже что-то там делаете, но без тяжелой промышленности не будет ничего.
Он спорил со всеми, курировавшими другие отрасли, напористо отстаивал свою позицию — и это вызывало уважение. Но нередко случался и «перебор». Какой документ ни пришлешь ему, тут же все перечеркнет, переделает. А потом смотришь: по существу, то же самое, что и было, но уже «при непосредственном участии Владимира Ивановича Долгих».
Видимо, пружина тщеславия оказалась у него закрученной достаточно сильно. Готов был браться за любое дело, лишь бы оно сулило политическое признание и повышение. Когда в мае 1982 года его избрали кандидатом в члены Политбюро, стал носить это звание с величайшей гордостью, не забывая о своем ранге даже в обыденном общении.
Начались разговоры о формировании экономического отдела ЦК, и Владимир Иванович не сомневался, что станет его руководителем. Кому же еще! Он стал развивать бурную активность, к каждому Пленуму готовил либо выступление, либо обширную записку. И вдруг — осечка, назначили Рыжкова. Долгих воспринял это как удар по себе лично, тем более что ранее они с Николаем Ивановичем достаточно тесно сотрудничали.
Очень трудно складывались у Андропова отношения со Щербицким, пользовавшимся на Украине, особенно в партийных кругах, большим авторитетом. В моральном плане Щербицкий являлся одним из порядочных людей. Технократ по складу ума, последовательно проводил в республике линию, которую считал верной: уделял много внимания экономике, особенно угледобыче и металлургии, не забывал и о селе. А главное — в определенной мере сумел утвердить на Украине дух высокой требовательности.
Для Владимира Васильевича была характерна нетерпимость к национализму. Как и другие республиканские лидеры, он мог бурчать и сетовать на то, что центр не дает прав и полномочий, «даже для того, чтобы послать телеграмму Живкову, надо получить разрешение Политбюро в Москве». Но, заняв с самого начала позицию осуждения «националистических шатаний и заигрываний Шелеста», от нее не отступал. Его интернационализм можно было бы только приветствовать, если бы не впадал он при этом в крайности. Достаточно вспомнить, как втянулся Щербицкий в дискуссию с писателем Олесем Гончаром по роману «Собор», которая только разожгла страсти и нарушила нормальные контакты с частью украинской интеллигенции.
Трудно решались со Щербицким и кадровые вопросы. Являясь, как я уже сказал, фигурой действительно крупной, он как бы подавлял людей вокруг себя. При нем так и не выросли на Украине сколько-нибудь заметные политические лидеры. Даже внешне выглядел он эдакой глыбой, которую трудно сдвинуть с места. Хотя это как раз и вызывало к нему уважительное отношение.
Все-таки помянутая мною фраза Брежнева о том, что во Владимире Васильевиче видит он своего преемника, по-видимому, «смутила дух» Щербицкого. Накануне смерти Леонида Ильича он развил большую активность, старался держать в поле зрения все события, происходившие в верхах, регулярно перезванивался и встречался с Федорчуком, который раньше работал председателем КГБ Украины.
После того как Генеральным секретарем избрали Андропова, их отношения внешне выглядели вполне нормальными. Но между ними происходило как бы некое соперничество, существовали невысказанные взаимные претензии. И ни один не хотел идти навстречу другому. Иначе чем объяснить, что за все время пребывания Юрия Владимировича на посту генсека Щербицкий так и не переступил порог его кабинета. Ни разу. Но я видел, каким мучением для той и другой стороны являлось" даже редкое общение по телефону.
Что касается Тихонова, то он без всяких на то оснований почему-то решил, что именно ему более всех обязан Андропов своим избранием, и рассчитывал на полную и неограниченную поддержку. При этом вел себя несколько развязно, если не сказать — нахально.
— Давай так, — сказал он в те дни Юрию Владимировичу, — ты хорошо знаешь административные органы, идеологию, внешнюю политику. А уж экономику я тебе обеспечу.
Но когда Андропов поручил мне, Рыжкову и Долгих составить перечень неотложных проблем, связанных с совершенствованием управления экономикой, планирования и расширения самостоятельности предприятий, Тихонов забеспокоился не на шутку.
Поскольку наша «тройка» выходила на контакты с зампредами Совета Министров и специалистами Госплана, это сразу же создало обстановку нервозности. Дабы разрядить ее, Юрий Владимирович заявил, что доверяет Тихонову и поддерживает его. Но спустя некоторое время он сказал мне:
— Михаил, я тебя прошу, сделай как-то так, чтобы не портить отношения с Тихоновым. Ты же понимаешь, как мне это сейчас важно.
Я понял, что Юрий Владимирович опасался, как бы Тихонов не сблокировался с Черненко.
Андропову надо было взять ситуацию под контроль, и главным для него в тот момент являлось соотношение сил, их расклад. Подтянув к руководству Алиева, Воротникова, Чебрикова, Рыжкова, Лигачева, он серьезно укрепил свои позиции. Но одновременно Юрий Владимирович старался избегать обострения отношений и недовольства со стороны Черненко, Тихонова, Гришина, Щербицкого, добиться того, чтобы у всех членов руководства было ощущение сопричастности, соучастия в проводимом политическом курсе.
«Поживешь с мое, поймешь»
Первые месяцы работы Андропова генсеком еще более сблизили нас. Я чувствовал его доверие и поддержку. В самом конце 1982 года в одном из наших с ним разговоров Андропов многозначительно сказал:
— Знаешь что, Михаил, не ограничивай круг своих обязанностей аграрным сектором. Старайся вникать во все дела. — Потом помолчал и добавил: — Вообще, действуй так, как если бы тебе пришлось в какой-то момент взять всю ответственность на себя. Это серьезно.
Первый вопрос, который нам пришлось решать сразу же после избрания Андропова, носил чрезвычайный характер. Дело в том, что еще при Брежневе Политбюро, учитывая плачевное состояние бюджета, приняло решение о повышении цен на хлеб и хлопчатобумажные ткани. Вместе с сопроводительными письмами оно было разослано на места и лежало в сейфах, в запечатанных пакетах у первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК республик, которые должны были вскрыть их накануне 1 декабря 1982 года.
Андропов попросил нас с Рыжковым еще раз все взвесить и свои выводы доложить ему. Пытаясь понять существо дела, мы попросили дать нам возможность разобраться с состоянием бюджета. Но Андропов лишь рассмеялся:
— Ишь, чего захотели. В бюджет я вас не пущу.
Забегая вперед, скажу, что многие «тайны» бюджета оберегались настолько строго, что некоторые из них я узнал лишь накануне ухода с поста президента. Главную же «тайну» — о том, что бюджет наш «дырявый», — я знал. Его постоянно дотировали за счет Сбербанка, то есть сбережений граждан и увеличения внутреннего долга. Официально сообщалось при этом, что доходы всегда превышают расходы и все сбалансировано в наилучшем виде.
Наш с Рыжковым вывод был таков — повышение цен на хлеб и хлопчатку, взятое само по себе, мало что даст. Андропов поначалу и слушать об этом не хотел. Он считал, по-видимому, что подобного рода шаг может свидетельствовать о решимости и мужестве, «народ поймет и поддержит».
Мы тем не менее настаивали на своем: повышение цен в таком виде нецелесообразно ни по экономическим, ни по политическим соображениям. Политбюро, еще раз выслушав все доводы «за» и «против», отменило ранее принятое решение.
Следующим срочным вопросом, который нам пришлось решать, были закупки зерна за рубежом. Как всегда, мы натолкнулись на сопротивление правительства. Понять его было можно — средств не хватало, но и другого выхода никто предложить не мог. Генсеку пришлось занять позицию, и Андропов сам внес предложение о закупке, предварительно заслушав представителей сторон. Да, это были трудные вопросы.
Сталкиваясь с делами подобного рода, Андропов иногда начинал реагировать на них очень остро:
— Ох уж эта твоя Продовольственная программа, — говорил он в таких случаях.
— Наша, наша, Юрий Владимирович. Мы же вместе ее пробивали, — отвечал я, переживая не меньше Андропова. — Меры, заложенные в ней, еще не заработали, рано!
— Да, я помню, — соглашался он. — Но пока вы модернизируете заводы, добавите удобрений, техники — столько времени пройдет…
— А вы думаете, мне не хочется быстрее увидеть результаты? — заключил я. — Четвертый год занимаюсь этим делом, а обстановка никак не улучшается…
Отсутствие «скорых» результатов стало подталкивать Юрия Владимировича на шаги, которые, по моему мнению, носили более чем спорный характер. Я имею в виду те формы, которые стала принимать борьба за повышение дисциплины и порядка, когда в рабочее время людей стали отлавливать в метро, магазинах, парикмахерских и банях. Причем характерно, что в проведении этой кампании Андропов опирался не на общественные организации, а прежде всего на органы безопасности и внутренних дел. Для него путь к ним был короче.
Пользуясь информацией, поставляемой Федорчуком, Юрий Владимирович искренне верил, что подобные меры привлекают на его сторону простой народ. Отмахиваясь от меня, от говорил:
— Погоди, поживешь с мое, поймешь.
Минуло время, сколько всего забыто или вспоминается с большим трудом, а этот эпизод «борьбы за дисциплину» до сих пор остается у многих в памяти.
Доклад о Ленине
В марте 1983 года Андропов позвонил мне и сказал, что хочет предложить Политбюро утвердить меня в качестве докладчика на торжественном заседании, посвященном 113-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина.
На протяжении своей жизни я многократно обращался к ленинским работам. И мне казалось, что подготовка доклада не составит большого труда. Между тем с первого захода сформулировать концепцию выступления не удалось. Тогда я стал заново просматривать ленинские тома, особенно относящиеся к послеоктябрьскому периоду. Одни перечитывал, другие лишь перелистывал. В конце концов настолько втянулся в логику событий послереволюционных лет, что в какие-то мгновения стал ощущать себя их участником, думать о том, как поступил бы я, решая проблемы, которые вставали перед Лениным. В общем, как говорится, «дочитался»…
Но польза была. Мое внимание привлекли последние работы Ленина, особенно статьи, выступления, в которых, оценивая целый этап истории Советской власти, он открыто заявляет, что большевики «совершили ошибку»… Ее публичное признание, считал он, имеет важное практическое значение, ибо прошлые ошибки должны исправляться новой политикой. Без анализа ошибочности старого курса новой политики выработать невозможно.
Ко многим идеям, возникшим у меня при чтении Ленина, я возвращался в 1985 году и позднее. А произнесенный в 1983 году доклад оставался в политических и идеологических рамках своего времени: вопрос о критическом переосмыслении «старого курса» в нем не ставился. И тем не менее, если судить по нашей и зарубежной прессе и радио, некоторые акценты доклада вызвали оживленную реакцию.
Владевшие политическим языком тех лет обращали внимание на рассуждения о формировании в стране такой структуры общественного производства, которая была бы способна обеспечить не только прогресс тяжелой индустрии, но и создание комплекса высокоразвитых отраслей, ориентированных непосредственно на потребности населения. При невнимании к отраслям, которые работали на человека, сама постановка проблемы структурной политики указывала на непомерно разросшийся военно-промышленный комплекс, который и деформировал всю экономику.
В этом докладе появляется тема, связанная с ролью человека в современном производстве. Я сказал, что сам характер труда предъявляет совершенно новые требования к культурному, профессиональному уровню, мастерству и дисциплинированности работника, к тому, что мы называем человеческим фактором в экономике. В научном докладе это прозвучало бы банальностью, но в политическом выступлении мысль воспринималась по-иному: слишком сильна была еще старая традиция, при которой не сам человек, а лишь тонны и километры продукции являлись мерой успеха общества.
Уровень ожиданий был таков, что за словами о ленинских предостережениях против скоропалительности в решении экономических и социальных задач, о хозяйственном расчете и роли материальных и моральных стимулов в труде, о более полном учете объективных экономических законов и использовании товарно-денежных отношений, даже за толкованием демократического централизма как принципа, обеспечивающего максимум инициативы, максимум смелости и максимум самостоятельности, выискивались и угадывались конкретные адреса.
Подобное восприятие, конечно, возникало у тех, кто интересовался смыслом происходящего. Большинство же обращало внимание на сам факт, что мне было поручено выступить с докладом. Вспоминали, что после аналогичного выступления год назад сам Андропов стал вторым лицом в партии и государстве.
Поездка в Канаду
На середину мая 1983 года планировалась моя поездка в Канаду. В октябре 1981 года к нам приезжал оттуда министр сельского хозяйства Ю.Уэлан и передал приглашение своего правительства. Договорились о сроке — десять дней. Однако, когда подошло время ехать, Юрий Владимирович стал решительно возражать:
— В Канаду? Ты с ума сошел. Сейчас не время по заграницам ездить. Можешь обойтись и без Канады.
— Не могу, — возражал я. — Во-первых, это правительственное приглашение. Во-вторых, мне необходимо посмотреть сельское хозяйство Канады — по посевным площадям и климатическим условиям она к нам ближе, чем другие. Наконец, в-третьих, мне просто надо хотя бы на десять дней вырваться из нашей сутолоки. Больше толку будет потом.
— Десять дней много, — упирался Андропов. — Максимум семь.
16 мая я уже был в Канаде. Наш посол Яковлев подготовил поездку весьма основательно. Да и канадская сторона, при тех ограниченных контактах, которые существовали тогда между нашими странами, придала визиту подчеркнутое значение. Я заметил с их стороны и элемент любопытства по отношению ко мне как молодому члену Политбюро.
Между тем поездка оказалась очень содержательной. Я встретился с премьер-министром Канады Пьером Трюдо. Как всегда, он был в темно-синем костюме с розой в карманчике, олицетворявшей его принадлежность к Либеральной партии. Держался он поначалу несколько отчужденно, но потом разговорились так, что не хватило времени, отведенного протоколом.
С тех пор у нас с Трюдо установились самые тесные контакты, которые сохраняются по сей день. И не только с ним. Не зря канадские газеты писали потом, что именно они «открыли Горбачева».
Но главный интерес всего семидневного пребывания в Канаде заключался для меня в поездке по стране.
В окрестностях Оттавы мы побывали в государственном исследовательском центре животноводства, в тепличных хозяйствах, на фермах, предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья и заводе большегрузных самосвалов в районе Уинсора. Затем поехали в Торонто, в провинцию Альберта — крупнейший животноводческий и зерновой регион Канады, посетили крупные ранчо под Калгари, где круглый год на пастбищах под открытым небом выращивают мясной скот.
Знакомясь с тем, как фермеры работают на земле, я все время пытался понять, где же скрыта та пружина, которая позволяет добиваться столь высоких результатов.
Посетили мы довольно крупную ферму в Альберте. Более двух тысяч гектаров угодий. Стадо коров с надоем по 4 700 кг от каждой. Набор разнообразной техники. Под навесом приспособления для ремонта. Зернохранилища из алюминия. Два дома, автомобили. По всему видно — весьма состоятельный фермер. Разговорились.
— Сколько у вас работников? — поинтересовался я.
— Постоянных два-три, а когда сезон — беру еще.
Ходили мы, ходили, все посмотрели. Пора уходить. Уже у порога задаю последний, главный вопрос:
— Скажите, вот недавно закончился год. Вы уже знаете, какие были расходы, какие доходы. И каков же общий итог?
Хозяин смотрит на министра, как бы спрашивая: сказать ему или нет? А Уэлан смеется:
— Говори правду.
— Если правду, — отвечает фермер, — то без субсидий и кредитов не прожил бы.
Мой вопрос о том, как он проводит отпуск, удивил его — какой такой отпуск? Бывают праздники фермеров, всякие соревнования — на лошадях, на быках. Выкроим на это день-два, съездим семьей — вот и весь отпуск. Ферму не на кого оставить. Эдакое «добровольное самозакабаление». И подумал я тогда, многие ли наши колхозники, механизаторы согласятся на нечто подобное.
Вот и пробуй найти решение, дающее возможность по-хорошему вернуть человека на землю и в то же время сохранить те преимущества, которые предоставляет ему крупное коллективное хозяйство.
— Как же так? — спросил я Уэлана. — При такой урожайности, при таких надоях — и вдруг субсидии?
— Михаил, — ответил министр, — аграрный сектор на современном уровне нигде без государственной поддержки существовать не может. Мы тратим на кредиты крестьянам десятки миллиардов, а в США — сотни миллиардов долларов. Именно поэтому, кстати, мы и стараемся компенсировать затраты с помощью экспорта зерна.
Итак, интерес собственника, но и поддержка государства.
Когда вернулся в Москву, мне предложили выступить 8 июня в Академии общественных наук перед представителями регионов с лекцией «Назревшие проблемы развития агропромышленного комплекса страны». Писать текст полностью было уже некогда, и на кафедру я вышел, имея в руках лишь тезисы. Но поездка в Канаду дала такой мощный импульс для размышлений, что прочел я эту лекцию с большим вдохновением. Говорил об ослаблении экономических стимулов к наращиванию производства и рациональному использованию ресурсов. Об отсутствии эффективного хозяйственного механизма и разобщенном, ведомственном характере управления. О неэквивалентности обмена между сельским хозяйством и промышленными отраслями, необходимости государственной помощи колхозам, совхозам и личным подсобным хозяйствам. Наконец, о том, что «без стабильного, высокоразвитого аграрного сектора не может быть стабильной экономики страны».
О Канаде в этой лекции я почти не упоминал, не хотелось дразнить людей. Да и каждый из них знал — слишком велика разница в истории, экономических условиях, самом характере сельскохозяйственного производства у них и у нас. И в этом я еще раз убедился, поехав в начале июля в Курск для вручения городу ордена Отечественной войны I степени в связи с 40-летием знаменитого сражения на Курской дуге.
Я ездил и ходил по полям, где происходила эта величайшая в истории человечества битва, в которой сошлись, стенка на стенку, миллионы людей, тысячи танков, самолетов, артиллерийских орудий.
Побывал и на самом изгибе Курской дуги, где в 1943 году на одном из участков сражался мой отец. Тогда немцам казалось, что русские солдаты «в мешке», и они разбрасывали листовки, призывавшие сдаваться в плен. А кончилось все нашей победой, повернувшей ход Второй мировой войны.
Проехав по местам боев, я как-то по-новому ощутил и цену Великой Победы. Не было в этих краях деревушки или городка, где бы ни стояли скромные обелиски с перечнем сотен и тысяч погибших, пропавших без вести. Особенно жуткое чувство возникало тогда, когда шли списки целых семей или однофамильцев разных возрастов, будто злой рок решил истребить людское племя до седьмого колена. Сколько же сыновей и дочерей положила эта разоренная земля на алтарь Отечества! И разве не заслужила она другой, более счастливой доли?!
Рождение внучки
Моя работа захватила не только меня самого, но и семью. Раиса Максимовна и ребята не были сторонними наблюдателями моих поисков и перипетий, которыми эти поиски сопровождались. Они видели, как трудно все идет, какое сопротивление приходится преодолевать, и всячески поддерживали меня, помогали, сохраняя в «нашей крепости» мир, согласие и взаимопонимание.
Конечно, не все сводилось к моим заботам. Семья жила и другими хлопотами, переживала каждое событие, приносившее и радости, и огорчения.
Самым радостным было рождение в 1980 году нашей первой внучки Ксении. Она, как Раиса Максимовна и Ирина, родилась в январе, 21-го дня. Началась новая жизнь. Прав поэт: «…Будут внуки потом, все опять повторится сначала».
Раиса Максимовна продолжала работу над докторской диссертацией. Ее приглашали провести новое исследование в тех селах и станицах Ставрополья, в которых она собирала материалы для кандидатской. Это была заманчивая идея, но наши московские заботы никак не позволяли заняться ее реализацией.
Нам нелегко вырваться из объятий Москвы, и мы настойчиво приглашаем мою мать и родителей Раисы Максимовны к нам в гости. Сначала они ездили часто и с интересом, но годы берут свое — им все труднее ездить. Болезни, недомогания. Стараемся помочь в лечении, снабжаем лекарствами, деньгами, одеждой, продуктами — всем, чем можем. Таков фронт забот: от внучек до родителей. А ко всему все хуже и хуже со здоровьем брата Раисы Максимовны Евгения — не смог справиться со своим старым недугом, пристрастием к алкоголю. Отверг все наши предложения о помощи, а теперь уже и поздно. Талантливый человек, сумевший за первые годы после Литературного института написать несколько рассказов, повестей, книжек для детей и юношества. Евгений — наша постоянная, не затихающая боль.
Ирина и Анатолий заканчивают мединститут, получив дипломы с отличием. Дочь решила продолжить учебу в аспирантуре, занялась исследованием причин смертности в больших городах (на примере Москвы). Оказалось, что все данные на этот счет засекречены, и поэтому диссертацию сделали закрытой. Причин для засекречивания у столичных властей было больше чем достаточно. Но все же Ирине удалось наладить сотрудничество с органами статистики и здравоохранения Москвы, поскольку в результатах такого исследования они тоже заинтересованы. Защита диссертации прошла весьма успешно, и скоро она получила диплом кандидата медицинских наук, стала преподавать на кафедре мединститута, который окончила. А затем решила целиком перейти на исследовательскую работу.
Анатолий после института был направлен в хирургическую клинику под началом академика В.С.Савельева, которая действует на базе 1-й Градской больницы столицы. Очень трудным оказался начальный период его деятельности, но постепенно он освоил дело и занялся в рамках кафедральных исследований научной работой. Продолжая работать в клинике, защитил кандидатскую диссертацию. Теперь это уже опытный хирург, доцент.
Словом, наша семья постепенно интегрировалась в столичную жизнь. Круг знакомых расширялся, мы все больше чувствовали себя москвичами. Хотя и поддерживали контакты с земляками.
Наконец состоялась встреча с выпускниками юрфака 1955 года. Я смог увидеть всех своих старых друзей и приятелей. На этой встрече для меня было важно все: как выглядят, где устроились, чем заняты сокурсники. Все-таки молодцы: десять человек уже стали докторами, около сорока — кандидатами наук. Да и остальные не потерялись, нашли свое дело. И горько, что многих уже нет: болезни, аварии и даже… самоубийства.
В общем, и радостно и грустно — такова жизнь. В памяти воскрешается изречение восточного мудреца: «Люди рождаются, страдают и умирают».
В отпуск, как и на Ставрополье, ездили после уборки урожая. Все годы — в Пицунду. В Грузии и Абхазии мы приобрели много знакомых. Пользуясь возможностью, лучше узнал эти края и людей, там живущих. Мы каждый раз о многом и подолгу говорили, как правило, по вечерам: с Эдуардом и Нанули Шеварднадзе в Пицунде и Тбилиси, в бывшем имении семьи Чавчавадзе, с жителями Абхазии и Кахетии в их домах.
Расставание с Андроповым
Летом 1983 года стало очевидным, что ожидания лучшего под угрозой: вдруг резко ухудшилось здоровье Андропова. Заболевание было связано с нарушением функции почек. Об этом какое-то время знали немногие. Но болезнь обострилась. И это сказывалось на его общем самочувствии, внешнем виде — лицо стало неестественно бледным, голос хрипловатым. Раньше, принимая кого-либо у себя в кабинете, Юрий Владимирович выходил навстречу, здоровался. Теперь, не вставая из-за стола, лишь протягивал руку, передвигаться было все труднее.
Сначала раз, затем два раза в неделю, а потом и чаще он должен был подвергаться мучительной процедуре гемодиализа, когда его подключали к специальному аппарату, очищающему кровь. Скрывать это стало невозможным — от процедуры до процедуры особые приспособления оставлялись у него на руках, и все видели, что выше кисти они забинтованы.
Тогда и пустил кто-то по аппарату роковую фразу: «Нежилец». Активизировались вновь все те, для кого болезнь Андропова стала просто подарком судьбы. Сначала они перешептывались по углам, потом вообще перестали скрывать свою радость. Ждали своего часа. Особенно наглядно проявилось это в период подготовки июньского Пленума ЦК КПСС 1983 года.
Мысль о проведении Пленума по идеологическим вопросам принадлежала Андропову. Его беспокоило политическое, идейное и нравственное состояние общества, и он надеялся, что Пленум ЦК сможет изменить подходы к идеологической работе, сделать ее более эффективной.
По существовавшему официальному раскладу за идеологию отвечал Черненко. Ему и было поручено готовить доклад. А поскольку сведения о состоянии здоровья генсека уже перестали быть тайной, «идеологическая братия» Зимянина, примыкавшая к Черненко, воспрянула духом, держалась сплоченней и уверенней и, видимо, стала рассматривать это выступление чуть ли не как официальное реанимирование «брежневизма».
Политбюро в подготовку доклада практически не вмешивалось. Когда он был разослан, я прочел его, пришел к Юрию Владимировичу и сказал:
— Этого просто нельзя допустить! Не проводили пленумов по идеологии четверть века. И выходим с подобным докладом?!
Самым нелепым было то, что весь текст — к случаю и без случая — обильно и демонстративно пересыпался цитатами и ссылками на Андропова. Тем самым его имя и его курс связывались с этим сводом застойных правил и запретов, сочиненных бригадой Зимянина. Открытый вызов — вот что, по моему мнению, означал данный доклад.
Я сказал, что, если он не возражает, мне надо попробовать переговорить с Черненко, но при любом исходе нашей встречи Юрий Владимирович должен выступить на Пленуме. Встретившись с Константином Устиновичем, соблюдая максимальную тактичность, я стал излагать ему свои соображения по докладу:
— В нем, безусловно, собран богатый материал. Но при чтении возникает такое чувство, что нет внутренней логики, связывающей текст с тем, что мы делаем в последние месяцы. Главное — пропадает глубокая и острая постановка вопросов. Мне думается, если сделать доклад на треть короче, сконцентрировать мысли на принципиальных положениях, он от этого только выиграет.
Уф! Тактичнее сказать было просто невозможно, и я надеялся, что Черненко предложит мне, как минимум, принять участие в окончательной доработке его выступления. Не тут-то было.
— Спасибо, что прочитал, — ответил он, глядя на меня абсолютно равнодушными глазами. — Вариантов доклада было много, но я остановился на этом. Над твоими замечаниями подумаю.
И все! Ничего не было изменено. Советы мои остались без внимания. А до меня дошла информация, что визит мой был вообще воспринят как нескромность, стремление учить и поучать. Я еще раз подтвердил Юрию Владимировичу, что в какой-то мере спасти дело сможет только его выступление.
От Пленума, состоявшегося 14–15 июня 1983 года, и прежде всего от доклада Черненко «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии», ощущение осталось тяжелое. Прения, подготовленные теми, кто составлял доклад, усугубили это впечатление. Выступления кроились по одному шаблону: сначала все отмечали важность вынесения на Пленум данной проблемы, затем следовали клятвенные заверения в верности новому руководству и поддержке Политбюро во главе с Андроповым, далее расшаркивались перед докладчиком, ну а потом — с некоторыми вариациями — следовали самоотчеты о проделанной работе.
Когда Черненко зачитывал текст доклада, я наблюдал за Андроповым. По мере того как Константин Устинович с большим трудом продирался сквозь зимянинскую схоластику, лицо Юрия Владимировича мрачнело. В какой-то момент он подозвал меня и сказал:
— После перерыва садись сюда, будешь председательствовать.
Надо знать, что это означало в те времена, чтобы понять, сколь тяжелым был удар для Черненко. Он сидел после перерыва в стороне, не слушая прений. Лишь на следующий день, когда вести заседание Пленума было поручено ему, начал приходить в себя.
Обменявшись мнениями с Юрием Владимировичем, мы пришли к общему выводу, что Пленум прошел в том ключе, как его подготовила черненковская команда. Иными словами, надежд не оправдал. И хотя в выступлении Андропова были в концентрированной форме поставлены действительно актуальные вопросы, ни о каком переломе в идеологической работе говорить уже не приходилось. Преодолеть рутину на этом архиважном участке партийной деятельности не удалось.
Оглядываясь назад, могу сказать, что июньский Пленум явился своего рода рубежом. После него мы вновь стали терять динамику.
В сентябре Андропов уехал в отпуск в Крым. Я регулярно перезванивался с ним по телефону, и по беседам мне показалось, что чувствует он себя гораздо лучше. Однажды, когда в очередной раз позвонил ему, мне ответили, что Юрий Владимирович уехал в горы, в «Дубраву».
Я нисколько не удивился, ибо еще по Кисловодску знал, что горы нравятся ему куда больше, чем море. Да и купаться врачи теперь Андропову не разрешали, считая, что физическая нагрузка слишком велика.
А часа через два Юрий Владимирович позвонил сам:
— Искал меня?
— Да, хотел проинформировать о делах.
— А я в «Дубраву» перебрался на пару дней. Хорошо здесь, и погода просто замечательная.
Почувствовал я по тону, что и настроение у него прекрасное, давно такого не было. Видимо, горный воздух, тамошняя природа подействовали благоприятно. И никак не мог я подумать, что такого настроения у него уже никогда больше не будет.
Через два-три дня стало известно, что со здоровьем Юрия Владимировича стало совсем плохо. Что там произошло, как он простудился — все эти медицинские детали описаны у Чазова. Сначала Андропова перевезли на крымскую дачу, потом срочно на самолете в Москву, прямо в ЦКБ. И начался мучительнейший, сложнейший во всех отношениях этап…
Прежде всего чисто по-человечески было жаль Юрия Владимировича. Страдал он ужасно. Мы с ним перезванивались по телефону, а когда пускали врачи, ездил в больницу. Практически все перебывали у него. Одни реже, другие чаще, одни — чтобы поддержать, другие — чтобы еще раз проверить, в каком он состоянии. Так прошли октябрь, ноябрь. К страданиям, связанным с болезнью, прибавлялось у Андропова и другое: он стал ощущать общее изменение атмосферы в верхах, какую-то возню и интриги.
В связи с болезнью генсека заседания Политбюро и Секретариата вел Черненко. Лишь изредка он поручал мне вести Секретариат. По-моему, Тихонов предпринял попытку взять на себя председательствование на Политбюро, но это не прошло. Прежде всего из-за Юрия Владимировича, который, хотя и находился в тяжелом состоянии, ясности ума не потерял.
Как-то, еще в дни пребывания Андропова в Крыму, он сказал мне в телефонном разговоре, чтобы я обязательно выступил в качестве заключающего прения на Пленуме ЦК, который намечался на ноябрь.
— Надо ли? — спросил я, зная, сколь ревниво относятся к такого рода вещам коллеги по Политбюро.
— Надо, — настаивал Андропов. — Давай, готовься, и именно как заключающий обсуждение. Вернусь, обсудим.
Я стал обдумывать выступление, анализировать политические и практические итоги прошедших девяти месяцев. Как раз в этот момент из отпуска вернулся Тихонов. Узнав о том, что я намерен выступить на Пленуме, он тут же позвонил Андропову и заявил, что, поскольку слово предоставят Горбачеву, обязан выступить и он.
— Что я ему мог ответить? — рассказывал по телефону Юрий Владимирович. — Сказал: хочешь выступать, на здоровье. Готовься и выступай.
— Так, может быть, он и будет заключать? А мне не выступать? — спросил я, не желая идти на обострение.
— Нет, тебе обязательно надо выступить.
Во всей этой возне вокруг предстоящего Пленума появился какой-то нехороший оттенок — чуть ли не дележа, власти. И разговоры, которые шли по этому поводу в Политбюро, вызывали неприятный осадок — будто хоронили человека заживо. Помощники Андропова Лаптев, Вольский, Шарапов, Владимиров, чье восприятие, безусловно, было еще более обостренным, давали ему соответствующую информацию, может быть, даже более «густую», чем на самом деле. Все это и привело к взрыву со стороны Андропова.
В один из дней декабря, едва я переступил порог своего кабинета, вбежал Рыжков:
— Только что позвонил Юрий Владимирович. Он в ужасном состоянии. Спрашивает: «Так вы на Политбюро приняли решение о замене Генерального секретаря?» Я ему: «Да вы что, Юрий Владимирович, об этом и речи никакой не было!» Но он не успокаивается.
Я немедленно созвонился с врачами, договорился, что на следующий день они пропустят меня к Андропову.
Когда я вошел в палату, он сидел в кресле и попытался как-то улыбнуться. Мы поздоровались, обнялись. Происшедшая с последней встречи перемена была разительной. Передо мной был совершенно другой человек. Осунувшееся, отечное лицо серовато-воскового цвета. Глаза поблекли, он почти не поднимал их, да и сидел, видимо, с большим трудом. Мне стоило огромных усилий не прятать глаза и хоть как-то скрыть испытанное потрясение. Это была моя последняя встреча с Юрием Владимировичем.
Помощники посещали Андропова почти ежедневно. Чаще всего, по-моему, бывали Лаптев и Вольский. Перед самым Пленумом он принял Лигачева, которого должны были избирать секретарем ЦК. Видимо, помощникам принадлежала идея подготовить выступление Андропова и текст его зачитать на Пленуме. Так и сделали.
История этого текста, по существу, стала мне известна лишь спустя годы, после публикации воспоминаний Вольского. До этого только ходили смутные слухи. А суть такова: в конце выступления содержался тезис о том, что в связи со своей тяжелой болезнью, исходя из государственных интересов и стремясь обеспечить бесперебойность руководства партией и страной, Генеральный секретарь предлагает поручить ведение Политбюро Горбачеву.
Когда накануне Пленума текст выступления Юрия Владимировича был роздан членам Политбюро, а затем — в красном переплете — членам ЦК, там этого тезиса и подобных слов не было. Сам я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию. Никакого разговора со мной со стороны ни Андропова, ни Черненко, да и того же Вольского не было. Да, слухи по аппарату поползли: мол, кое-что или исказили, или вычеркнули.
В преддверии 1984 года собрался Пленум ЦК. Заслушали доклады Байбакова и Гарбузова. Все делали вид, что ничего не происходит. Просто идет очередной Пленум. Утвердили план и бюджет. Избрали членами Политбюро Воротникова и Соломенцева, кандидатом в члены Политбюро Чебрикова, секретарем ЦК Лигачева. В прениях на Пленуме выступили Тихонов и я.
Это была скрытая драма. Ведь все знали, что мы на пороге нового выбора, что уже в ближайшее время опять придется решать вопрос о руководстве страны.
Смерть Юрия Владимировича я пережил тяжело. Не было в руководстве страны человека, с которым я был бы так тесно и так долго связан, которому был бы столь многим обязан. На протяжении многих лет делился с ним своими мыслями, сомнениями. Со стороны Юрия Владимировича я всегда чувствовал неизменно доброе отношение. Он никогда не допускал снисходительности опытного политического лидера, который давно уже привык вершить людские судьбы. Не могу сказать, что он полностью раскрывался передо мной, делился всем, что лежало на душе. В какие-то «уголки» своей жизни меня он не посвящал. Может быть, потому, что они и у него самого не вызывали особой радости. А может, и потому, что не хотел он этой информацией никого связывать.
Потрясенная увиденным в день похорон, вернулась из Колонного зала Раиса Максимовна: горе и слезы, дань уважения и скорбь одних и нескрываемая радость, даже торжество в глазах других. В хорошем настроении пребывали некоторые секретари ЦК и не скрывали этого при встрече с Раисой Максимовной. Словно спешили сказать: «Ваше время кончилось». Циники у гроба.
Если попытаться охарактеризовать деятельность Андропова, то необходимо прежде всего четко разграничить две сферы и два понятия: первое — Андропов как реальный политик, второе — «феномен Андропова». Без этого вряд ли можно избежать путаницы, преувеличений или искажений, причем серьезных.
Что такое «феномен Андропова»? Это всеобщая атмосфера ожиданий и надежд на то, что с приходом нового лидера начнутся благие перемены. Если хотите, неприятие, отторжение того негативного, что связывалось в сознании людей с «брежневизмом», вера в необходимость и неизбежность реформ.
Андропов не обманул этих ожиданий. Прежде всего как человек: он был личностью яркой и масштабной, щедро одарен природой, настоящий интеллектуал. Решительно выступил против всего того, что мы связываем с «брежневизмом»: протекционизма, закулисной борьбы и интриг, коррумпированности, моральной распущенности, бюрократизма, бесхозяйственности, расхлябанности. Все это стало объектом его борьбы, отвечая ожиданиям людей.
Если верно, что в нашем народе глубоко сидит неприятие чиновничества, критическое отношение ко всякому начальству, то процессы, происходившие в последние годы правления Брежнева, еще более обострили эти чувства. Поэтому жесткую, иногда даже с перехлестом, позицию Андропова в этих вопросах воспринимали с надеждой, что будет наконец положен предел всем безобразиям и те, кто оторвался от народа, ответят за все.
Иными словами, действия его расценивали как начало общих и более глубоких перемен. И вот тут встает главный вопрос — пошел бы Андропов дальше, встал бы на путь радикальных преобразований, сложись его судьба по-иному? Думаю, что нет.
Некоторые из тех, кто был достаточно далек от Юрия Владимировича, рассказывают, что якобы задолго до прихода на пост генсека он вынашивал идеи реформирования системы. Ради этого, мол, шаг за шагом шел наверх, вступая в драматические компромиссы с собственными убеждениями и совестью, дабы не придавили его на полпути к цели.
Я не думаю, что это так. То, что он осознавал необходимость перемен, — верно. Понимал и то, что их отсутствие гибельно для самой системы. Но Андропов всегда оставался человеком своего времени, принадлежал к числу людей, которые не могли вырваться за пределы старых идей и ценностей.
Я часто думаю: ведь он, как никто другой, знал о сталинских преступлениях. Но вопросов этих никогда не поднимал. Видел попытки Брежнева реанимировать и образ Сталина, и его модель организации общества. Но даже не пытался воспрепятствовать этому. А какова его роль в венгерских, чехословацких событиях, в афганской войне? В борьбе с «инакомыслием» и «диссидентством», когда сами попытки поставить вопрос о свободе и правах человека принимались за уголовщину?
Видимо, многолетняя работа в КГБ с ее «спецификой» наложила отпечаток на весь его облик, жизненные установки, сделала подозрительным и в определенной степени обреченным на служение системе.
Нет, не пошел бы Андропов на радикальные перемены, как не смог этого сделать Хрущев. И может быть, это его счастливая звезда так распорядилась, что умер он, не столкнувшись с проблемами, которые неизбежно встали бы на его пути и породили разочарования и у него, и в нем.
Хочу сказать, что все характеристики Андропова, в частности эта, пока еще весьма приблизительны и неполны. Они останутся такими, пока не будет изучен сложный и очень важный в его жизни 15-летний период пребывания на посту председателя КГБ. Многое осталось скрытым за толстыми стенами Лубянки, в том числе для меня, бывшего главой партии и государства. А без этого трудно утверждать, что было бы дальше.
Время пребывания Андропова на вершине власти — короткое, но оно дало людям надежду. Все, что связывало нас с Юрием Владимировичем, навсегда останется в моей памяти. Никогда не забуду ту южную ночь в окрестностях Кисловодска — небо, усыпанное звездами, ярко пылающий костер, Юрий Владимирович в каком-то мечтательно-просветленном настроении смотрит на огонь. А из магнитофона — озорная, особенно любимая Андроповым песенка Юрия Визбора:
Черненко: больной человек во главе державы
Наиболее подходящей кандидатурой на роль преемника Андропова я считал Д.Ф.Устинова, хотя ему в то время было уже 75 лет.
Почему? На мой взгляд, он был, пожалуй, единственным, кто мог продолжить политическую линию Андропова. Они были близкими друзьями, и он мог сохранить и развить изменения, начатые Юрием Владимировичем за 15 месяцев пребывания на высшем руководящем посту. К тому же Устинов пользовался большим авторитетом в партии и стране.
Я «нажимал» на Дмитрия Федоровича, поскольку других вариантов не видел. Одни уже не могли, другие еще не могли принять на себя ответственные функции Генерального секретаря ЦК. И Устинов мог с пользой поработать какое-то время, подготовить новую смену в политическом руководстве.
Позднее я узнал, что не исключалась возможность выдвижения и моей кандидатуры. Такая информация до меня дошла из двух источников.
На второй или третий день после похорон Юрия Владимировича Раиса Максимовна навестила на даче его жену, желая поддержать ее морально. Татьяна Филипповна, больная, возбужденная, поднявшись в кровати, громко запричитала:
— Почему избрали Черненко, почему они так сделали?! Юра хотел, чтобы был Михаил Сергеевич.
Раиса Максимовна успокоила ее и постаралась прекратить этот разговор.
В какой-то мере это перекликается с упоминавшимися аппаратными слухами по поводу поправок, внесенных общим отделом в речь Андропова на декабрьском Пленуме.
И еще. Один из моих сотрудников, с которым нас связывают долгие годы совместной работы, передал содержание своего разговора с Г.М. Корниенко, бывшим тогда первым заместителем министра иностранных дел. Ссылаясь на Андрея Андреевича, тот рассказал, что сразу же после смерти Андропова Громыко, Устинов, Тихонов и Черненко встретились в «узком кругу», но договориться о кандидатуре нового генсека якобы так и не смогли. Устинов при этом будто бы заявил, что Политбюро придется самому сделать выбор, а что касается его личного мнения, то он будет выдвигать Горбачева.
Так это было или нет — не знаю. Есть и другие свидетельства.
Разговор в «узком кругу» происходил в кабинете одного из заместителей заведующего общим отделом ЦК. После окончания беседы Черненко остался в кабинете, а Громыко, Устинов и Тихонов вышли в коридор. Здесь их ждали помощники и телохранители, у которых в такие дни буквально ноздри дрожали от любопытства. На их счастье, Тихонов был туговат на ухо и как все глуховатые люди имел обыкновение говорить громче обычного. Так вот, по словам очевидцев, Николай Александрович громко, так что все в коридоре оглянулись, вдруг сказал:
— Я думаю, мы все же правильно поступили. Михаил еще молодой. Да и неизвестно, как он поведет себя на этом месте. А Костя — это то, что надо.
Повторяю, какая из этих версий ближе к истине, договорились они в «узком кругу» о кандидатуре Черненко или нет, не знаю. Но о том, что Андропов и Устинов делали ставку на Горбачева, заявил мне спустя некоторое время сам Дмитрий Федорович. Почему получилось по-иному, он объяснять не стал. А я, естественно, никогда его об этом не спрашивал.
Так или иначе, но избрание нового генсека прошло предельно просто, я бы даже сказал, буднично. Все определила сверхактивность Тихонова. Едва только Черненко открыл заседание, Николай Александрович тут же, дабы предотвратить возможные неожиданности со стороны Устинова, попросил слово «по порядку ведения» и с ходу предложил избрать генсеком Константина Устиновича.
Возможно, Дмитрий Федорович ожидал отказа, самоотвода со стороны Черненко, который лучше других знал состояние собственного здоровья и должен был самокритично признать, что руководство страной вообще не для него, как говорится, «не по Сеньке шапка». Но ничего подобного не произошло. Выступления «против» в подобных случаях были не в традициях этого Политбюро. Все согласились с предложением Тихонова, проголосовали «за», в том числе и я. И оправдание было наготове: «главное, не допустить раскола».
«Костя — это то, что надо», — якобы сказал Тихонов. Понимать это можно так: появилась надежда, что следующим генсеком вполне сможет оказаться он. Но для общества, при всей его специфичности, появление в роли лидера великой державы именно Черненко было шоком. Ну хоть кто-нибудь другой, хоть чуть поживее, хоть чуть помоложе, так нет же…
После заседания Политбюро и в последующие дни Устинов, который всегда отличался хорошим настроением, таким жизнелюбием, что его трудно было выбить из колеи, выглядел подавленным, был молчалив и замкнут. А вот на Пленуме ЦК я увидел другие лица: те, кому уже пора было уходить, и те, кто ушел на пенсию, но оставались в составе ЦК, как будто оправились от испуга, от андроповских новшеств, воспрянули духом в надежде, что возвращается их время, спокойное, «стабильное», иными словами — «брежневское».
Кого же приобрели мы на посту Генерального секретаря? Во главе великой державы, ее лидером оказался не просто физически слабый, а тяжелобольной человек, фактически инвалид. Это не являлось секретом ни для кого, было видно невооруженным глазом. Его немощь, затрудненное дыхание, одышку (он страдал эмфиземой легких) невозможно было скрыть. Врач, сопровождавший Маргарет Тэтчер на похоронах Андропова, вскоре опубликовал прогноз о сроках жизни Черненко и ошибся всего лишь на несколько недель.
Черненко всегда был при Брежневе, угадывал его желания, стал доверенным лицом, можно сказать, тенью. Я уже рассказывал — сила его влияния была и в том, что он много сделал для создания имиджа Брежнева. Мощным орудием Черненко, несомненно, был аппарат, от которого зависело практически все. Трудно объяснить, откуда у него, тихого, замкнутого, типичного кабинетного чинуши, зародились такие амбициозные планы. Думаю, его подталкивали к этому участники упомянутого «тайного круга», которые таким способом хотели реализовать свои собственные претензии.
Говоря о причинах восхождения Черненко на пост генсека, нельзя забывать и то, что сработал укоренившийся в Политбюро стереотип: второй человек в руководстве становился первым почти автоматически. Тяжелым было впечатление от первого же его публичного выступления в новой роли на траурном митинге при похоронах Андропова 14 февраля 1984 года. Оно вызвало горечь у всех нас, в стране и у зарубежных гостей. Черненко был обречен на такое восприятие.
Очень скоро выяснилось, что общество не воспринимает его всерьез, хотя идеологическая служба ЦК предпринимала невероятные усилия для пропаганды «образа генсека». Масштаб его личности, отсутствие самостоятельного опыта политической и государственной деятельности, поверхностные знания реальной жизни страны, слабые волевые качества — все это было очевидно.
В апреле 1984 года Черненко, как бы повторяя и продолжая путь Андропова, посещает московский металлургический завод "Серп и молот", встречается с рабочими. Но контакт не получился, напротив, встреча лишь подлила масла в огонь. Ему было трудно среди людей. А нам глядеть на все это было просто невыносимо.
Смерть Андропова и избрание генсеком Черненко породили новые надежды у противников каких-либо перемен. Они, уже не маскируясь, усилили давление на Черненко, стремясь покончить с начинаниями Андропова, стилем его деятельности.
Раньше всех это почувствовали на себе сторонники Юрия Владимировича, в том числе и я. Для меня это не было неожиданностью. Еще в 1983 году, когда здоровье Андропова стало стремительно ухудшаться, мне сказали, что эти люди заняты поисками компрометирующих Горбачева данных. К «охоте» были подключены даже административные органы. И когда я стал генсеком, то узнал об этом со всеми подробностями.
Так что психологически я был подготовлен к подобным интригам, знал, что предпринимаются попытки реализовать давно вынашиваемый план устранения Горбачева. Это отражало настроения и «главных действующих лиц», проявилось сразу, на первом же заседании Политбюро, когда речь зашла о распределении обязанностей в Политбюро и Секретариате ЦК.
Как я и ожидал, в атаку бросился Тихонов:
— Мне непонятно, почему мы должны поручать ведение Секретариата Горбачеву, — заявил он в довольно резкой форме. — Михаил Сергеевич, как известно, занимается аграрными делами. Боюсь, Секретариат будет превращен в рассмотрение аграрных вопросов и использован им для. давления. Неизбежно возникнут перекосы.
Я сидел тут же. Слушал. И молчал.
Ему возразил Устинов, сказав, что Горбачев уже руководил работой Секретариата и никаких «перекосов» не замечено. С ходу отклонить не получилось. Тогда Гришин и Громыко пошли по пути затягивания решения вопроса, по сути, поддержав Тихонова. Но главное препятствие — Устинов — не было преодолено. Черненко пытался на чем-то настаивать, что-то говорить, но вяло, не энергично, нудно. У меня появилось ощущение, что роли в этом спектакле распределены заранее. Решение поручить мне ведение Секретариата так и не было принято.
Де-факто я продолжал руководить Секретариатом, при этом постоянно держал нового генсека в курсе дел. Заседания проводились регулярно, обсуждались разнообразные вопросы — партийные, хозяйственные, идеологические. И чем эффективнее функционировал Секретариат, чем больше повышался спрос с кадров за работу, тем больше это вызывало недовольство не только Тихонова, но и МИДа, особенно же генсековской челяди.
Тихонов последовательно, с завидной настойчивостью вел линию на ослабление Секретариата. Он пытался заигрывать с Лигачевым, хотя вряд ли имел здесь большие успехи. Что касается Долгих, то Тихонов перетянул его к себе проверенным приемом, назвав где-то в присутствии него самого своим будущим преемником. Теперь основное время Долгих проводил в епархии премьер-министра на бесконечных встречах и беседах.
Как бы то ни было, через неполных три месяца Секретариат «почувствовали» в партии и особенно в центре, в Москве. Одни стремились попасть на заседания, другие боялись туда попасть. Тихонов бесновался, высказывал недовольство, пытался бросить тень на нашу работу.
В это непростое для меня время я почувствовал поддержку Устинова. Наши отношения становились все более близкими. Не могу не отметить деловую и моральную поддержку, которую мне оказывал тогда Лигачев. Очень много и эффективно работали мы с Рыжковым. Даже с Зимяниным удавалось конструктивно решать вопросы, он часто бывал у меня.
Одним словом, я чувствовал себя уверенно, относился ко всему в какой-то мере философски и уже не поднимал больше вопроса о том, чтобы моя роль в Секретариате была документально оформлена решением Политбюро. Следовал своему давнишнему принципу — жизнь все расставит по местам.
Эффект Горбачева
И вдруг 30 апреля меня приглашает Черненко.
Вхожу в его кабинет, полагая, что разговор пойдет о предстоящем Первомае. Однако диалог сразу принял какой-то нервный характер. Начал он не очень связно, сбивчиво, сказал, что не может больше откладывать решение вопроса, на него давят, это вносит раскол, разлад в работу и т. д. Спрашиваю:
— Константин Устинович, о чем вы говорите, о каком вопросе?
— О руководстве Секретариатом.
— Напрасно вы так волнуетесь. Давайте этот вопрос решим на Политбюро, поскольку речь идет о доверии. И я хочу узнать от коллег, умудренных опытом, в чем мои слабости и промахи. Надеюсь, вопрос не стоит о моем пребывании в Политбюро?
— Нет, ну что ты, что ты, — растерянно забормотал Черненко. И тут мои эмоции выплеснулись бурным монологом:
— А раз так, то я вправе знать, что хотят мне пожелать мои оппоненты, какие у них критические замечания. Мы должны оценить работу Секретариата ЦК. Кого-то не очень устраивает то, что после известного периода он набрал силу. Как генсек вы должны все обдумать и определиться. Я вижу, как пытаются растащить власть, а это уже чревато опасными последствиями. Поэтому я — за решение вопроса, но на принципиальной основе. Ситуация в руководстве сложная, и нужен разговор. Раз он назрел — не надо уклоняться.
Черненко попросил меня еще раз, не спеша изложить мои соображения, а сам делал записи. Договорились провести заседание Политбюро 3 мая, поздравили друг друга с наступающим праздником и расстались. Я ушел с горечью на душе. Подумалось, что при такой нерешительной, аморфной позиции генсека можно ждать чего угодно.
В конце дня позвонил Устинов, поздравил с праздником, предложил пораньше отправиться домой. Дело в том, что несколько человек в руководстве — Устинов, Горбачев, Лигачев, Рыжков и некоторые другие — работали каждый день по 12–14 часов, до ночи. Я поблагодарил его и под настроение рассказал о только что состоявшейся беседе с Черненко.
Дмитрий Федорович встревожился, усмотрев в этом большую интригу, одобрил мою позицию, посоветовал твердо ее держаться и не переживать, так как, по его мнению, затея против меня обречена.
3 мая собрались на заседание Политбюро, обсудили всю намеченную повестку дня. Но вопрос, который стал предметом нашего разговора с генсеком, так и не был внесен на обсуждение. Оказалось, Устинов посоветовал Черненко не идти на поводу у Тихонова и его компании. Через два-три дня Константин Устинович сказал мне:
— Я подумал и решил не вносить. Работай, как работал.
Уже, кажется, в 1989 году Тихонов прислал мне письмо с покаянием. И с предложением своих услуг в реформировании экономики. Но в те годы давление на меня через Черненко не прекращалось. Все это выматывало нервы до крайности, и поэтому каждый раз, когда удавалось вырваться из Москвы в поездку по стране, я испытывал чувство глубочайшего удовлетворения.
На протяжении всего 1984 года интриги, подсиживание, сплетни определяли общую атмосферу на Старой площади. Болезнь Черненко прогрессировала, ситуация в Политбюро обострялась, распри исподволь нарастали. Не хочу описывать все перипетии того времени. Да оно и ни к чему — всем все было ясно. Но какие формы это приобретало, показывает история с Всесоюзной научно-практической конференцией по идеологическим проблемам.
Тема ее была задана самим Черненко: как выполняются решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Зимянин обратился ко мне с просьбой выступить с основным докладом, поскольку я принял от Черненко прежнее направление его работы — идеологию.
Материалы к докладу, представленные отделом, полностью меня разочаровали: «зимянинская жвачка», идеологическая рутина, набор прописных истин, пустословие. Такое впечатление, что меня просто хотели скомпрометировать. Но это лишь прибавило мне энергии.
Я сформировал группу, в которую вошли Медведев, Яковлев (он в то время руководил ИМЭМО), Биккенин и Болдин. Мне хотелось воспользоваться случаем, чтобы выйти за пределы июньского Пленума, который, на мой взгляд, оказался очень слабым. Во время подготовки к совещанию нас заинтересовали такие важные теоретические и практические проблемы, как собственность, характер производственных отношений в нашем обществе, роль интересов, социальная справедливость, товарно-денежные отношения и т. п. Поработали хорошо, материал получился содержательный и серьезный.
Однако это понравилось не всем. Зимянин был недоволен, капризничал. Я дал ему подготовленный доклад. Мне он особых замечаний не сделал, лишь попросил дать более выпукло тезис о руководящей роли партии на нынешнем этапе, а вот в беседе с Медведевым прямо сказал, что доклад не получился.
Участники конференции съехались в Москву, все было готово. И вдруг, буквально накануне ее открытия, в 16 часов предшествующего дня, — звонок от Черненко.
Оказывается, он не считает целесообразным проводить идеологическую конференцию сейчас, ибо впереди партийный съезд и надо его готовить, набирать идеи. Я понял по тону разговора, что в кабинете он не один, и, наверное, задача тех, кто там был, состояла в том, чтобы удержать слабого, колеблющегося шефа на жесткой позиции.
Столь неожиданный зигзаг меня просто возмутил, и я выразил протест в довольно резкой форме. Как мне потом сказал Яковлев, бывший в кабинете, чуть ли не отчитал генсека. Наверное, я проявил несдержанность, но происки своры, крутившейся вокруг Генерального секретаря, вывели из равновесия. Напомнил ему, что проведение конференции, на которую уже приехали люди со всей страны, это не моя, а его идея, я всего лишь выполнил поручение. Не знаю, кто сможет объяснить мотивы ее отмены. Такой шаг недопустим, ибо означает публичный скандал. И кончил вопросом:
— Кто сбивает вас с толку?
— Ну ладно, — сказал он, — проводите, но не делайте из конференции большого шума.
На том разговор и кончился… Конференция состоялась и прошла успешно. Новизной подходов, творческим характером обсуждения она резко контрастировала с обычными идеологическими накачками прошлых лет. Сам заголовок доклада «Живое творчество народа» уже наводил на размышления.
Участники конференции настаивали на том, чтобы доклад был опубликован. Я сказал, что это будет сделано. Но, увы, только «Правда» опубликовала его сокращенное изложение. Чтобы свести на нет «эффект Горбачева» и всей конференции, тут же была подготовлена и срочно напечатана в декабрьском номере «Коммуниста» статья Черненко с претензией на последнее слово марксистской мысли.
В том же, 1984 году «эффект Горбачева» впервые проявился и на внешнеполитической арене.
12 июня 1984 года, когда я в составе официальной делегации СССР участвовал в экономическом совещании стран — членов СЭВ, в Москву пришло печальное известие о кончине лидера итальянских коммунистов Энрико Берлингуэра. Он умер неожиданно, во время одного из обычных для Италии митингов.
Было принято решение направить для участия в похоронах делегацию КПСС, и Пономарев, как руководитель международного отдела, заявил, что поедет он. Однако вся предшествующая история взаимоотношений Бориса Николаевича с лидерами Итальянской компартии была такова, что его приезд мог привести к публичному скандалу. Об этом прямо написали в Политбюро А. Александров и В. Загладин. И тогда, после консультаций с итальянскими товарищами, последовало решение о направлении на похороны меня.
С Берлингуэром мы не были лично знакомы, но я хорошо помнил его выступления на наших партийных съездах. Говорил он ровным, спокойным голосом, без эмоций, столь характерных для итальянцев, но в выступлениях сразу брал быка за рога.
Наша аудитория с ходу не ухватывала, как реагировать на его выступления, ибо все что-то слышали о «еврокоммунизме», знали о сложных отношениях с ИКП и об обмене «любезностями» между нашими партиями, нередко прорывавшимися и в открытую печать. Впрочем, вопрос о том, как реагировать на Берлингуэра, для нашего зала особого труда не составлял: делегаты смотрели, как реагирует президиум, и следовали его примеру.
Обо всем этом я вспоминал, когда 13 июня вместе с Загладиным и секретарем Донецкого обкома В.П.Мироновым летел на самолете в Рим. Отъезд наш оказался столь скоропалительным, что никаких особых инструкций от Политбюро не давалось, хотя пожелание обсудить общий контекст отношений между нашими партиями и было высказано.
То, что мы увидели в Риме, оставило в наших душах глубокое, неизгладимое впечатление. Траур был общенациональным. На похороны пришли сотни тысяч людей. Мы стояли с Пайеттой на балконе здания ЦК ИКП, и из проходивших колонн доносились приветствия в адрес делегации КПСС. Меня спросили тогда:
— Что ощущаете и думаете вы, глядя на то, как провожают итальянцы Берлингуэра в последний путь?
Ответить было не просто. По крайней мере, тогда.
С Берлингуэром прощалась вся Италия, руководители всех политических организаций. Президент страны Пертини от имени нации склонился у гроба лидера оппозиционной партии. Все это было проявлением не свойственного нам образа мышления, иной политической культуры.
Задолго до этого я читал программные документы итальянских коммунистов, знаменитую «Записку Тольятти», появившуюся вскоре после XX съезда КПСС. Основательно проштудировал «Тюремные тетради» Грамши. И все-таки урок, который был получен во время похорон Берлингуэра, побуждал к раздумьям.
В тот же вечер, 13 июня, в особняке нашего посольства мы встретились с членами руководства ИКП. Присутствовали П.Буффалини, Дж. Кьяромонте, А.Коссутта, А.Минуччи, Дж. К.Пайетта, У.Пеккио-ли, А.Рубби, Дж. Черветти.
Разговор был откровенный, но все время он как бы вертелся по кругу. В конце концов я не выдержал и сказал:
— Ну, хорошо. Вы уже миллион раз сказали, что вы свободны, независимы, не признаете никаких команд и никакого центра. А мы два миллиона раз подтвердили, что вы свободны, независимы и никакого центра действительно нет. А дальше что?
Итальянские друзья смотрели на меня с недоумением.
— Может быть, начнем встречаться, — продолжил я. — Вместе анализировать новую ситуацию, сложившуюся в мире, вместе думать, обмениваться идеями.
Разговор продолжался всю ночь, и под утро, когда расходились, наметилось какое-то взаимопонимание.
На следующий день, 14 июня, меня принял Президент Итальянской республики А.Пертини. Он произвел на меня сильное впечатление прежде всего своей демократичностью, искренней расположенностью к нашему народу и уважением заслуг Советского Союза в победе над фашизмом. Сам Пертини участвовал в движении Сопротивления. Мне импонировала его раскованность, прямота суждений. Президент высказался за сотрудничество коммунистов и социалистов. Это была содержательная беседа, и, когда мы расставались, дружеские объятия были искренними.
В тот же день мы вылетели в Москву. Провожали нас в аэропорту Пайетта и Рубби. Видимо, за прошедший день ЦК ИКП уже выработал свою позицию, и тут, сидя за столиком, под рев самолетных турбин за огромными стеклянными окнами мы, как говорится, «ударили по рукам» — надо строить между нашими партиями товарищеские отношения, сотрудничать, взаимодействовать.
В таком же ключе прошел и мой отчет о поездке на заседании Политбюро.
Завершился этот год моим визитом в Великобританию, который состоялся вскоре после окончания идеологического совещания в Москве. 15 декабря я прибыл в Лондон во главе парламентской делегации, в состав которой входили Велихов, Замятин и Яковлев. В Англию такие делегации не выезжали до нас лет пятнадцать, хотя отношения между обеими странами развивались в эти годы достаточно сложно, и нужда в подобных визитах была.
К визитам парламентских групп у нас относились как к акциям сугубо протокольным и формальным. И на сей раз мидовские чиновники, видимо, не придавали поездке особого значения.
Однако случилось нечто иное…
Именно здесь все те наблюдения и мысли, которые возникали у меня на протяжении последних лет по проблемам внешней политики и миропорядка, впервые были высказаны перед британскими парламентариями.
Текст речи публиковали и у нас, и за рубежом, и я лишь хочу напомнить, что в ней было сказано: ядерный век диктует необходимость «нового политического мышления»; военная опасность сегодня — это реальность; «холодная война» — ненормальное состояние отношений, несущее в себе военную угрозу; в ядерной войне победить нельзя; невозможно строить свою безопасность, к кому бы это ни относилось, за счет нанесения ущерба безопасности других; мы готовы в ограничении и сокращении вооружений, прежде всего ядерных, пойти так далеко, как далеко пойдут западные партнеры по переговорам.
Эти заявления вызвали в мировой прессе самые оживленные отклики. Особенно часто цитировали фразу: «Что бы нас ни разделяло — планета у нас одна. Европа — наш общий дом. Дом, а не «театр военных действий».
Подробно освещалась наша встреча с М.Тэтчер, состоявшаяся на второй день пребывания делегации в Англии, в Чекерсе, где премьер-министр ждала нас вместе со своим супругом Дэнисом и министрами. У подъезда нас встретили корреспонденты, и фотография, где мы сняты вчетвером (госпожа Тэтчер вежливо показывает нам рукой, где и как встать), была сделана именно здесь. Забавно, что потом многие толковали этот снимок по-иному: якобы Маргарет Тэтчер внимательно разглядывает костюм Раисы Максимовны.
Встреча началась с ленча. Тэтчер и я сели по одну сторону стола, Дэнис и Раиса Максимовна — по другую. Все выглядело вполне респектабельно и чинно. Но разговор даже за ленчем принял довольно-таки острый характер.
Госпожа Тэтчер — человек уверенный, я бы даже сказал, самоуверенный, за внешним мягким обаянием и женственностью скрывается достаточно жесткий и прагматичный политик. Не зря же сами англичане назвали ее «железной леди».
Но потом разговор возобновился и я сказал:
— Я знаю вас как человека убежденного, приверженного определенным принципам и ценностям. Это вызывает уважение. Но вы должны иметь в виду, что рядом с вами сидит такой же человек. И должен сказать при этом, что я не имею поручения от Политбюро убедить вас вступить в коммунистическую партию.
После этой фразы она от души рассмеялась, и разговор из формально-вежливого и немного колкого как-то сам собой перешел в откровенно заинтересованный. Содержание его целиком определили те мысли, которые через день я изложил британским парламентариям.
После окончания ленча была продолжена официальная беседа. К нам присоединились Замятин и Яковлев, разговор пошел о проблемах разоружения. Поначалу мы пользовались заранее подготовленными записями, но затем я отложил свои в сторону, спрятала в сумочку свои листочки и госпожа Тэтчер. Я разложил перед премьер-министром Великобритании большую карту, на которую в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия. И каждой из таких вот клеточек, говорил я, вполне достаточно, чтобы уничтожить всю жизнь на Земле. Значит, накопленными ядерными запасами все живое можно уничтожить 1000 раз!
Ее реакция была очень выразительной и эмоциональной. Думаю, что и вполне искренней. Во всяком случае, с этой беседы начался какой-то поворот к крупному политическому диалогу между нашими странами.
Во время официальной беседы, в соответствии с протоколом, Раиса Максимовна не присутствовала. Ее оставили «на съедение» трем или четырем министрам правительства, и, к их полному удивлению, она повела с ними речь об английской литературе, философии, к которым всегда испытывала глубокий интерес. Продолжался этот разговор все три часа, пока шла встреча с Тэтчер, и на следующий день лондонская пресса, у которой, видимо, были свои предубеждения против «кремлевских жен», весьма пространно и сочувственно рассказала своим читателям об этом эпизоде.
Мое выступление в парламенте 18 декабря прошло успешно. Правда, и здесь поначалу была предпринята попытка повести диалог в конфронтационном духе. Но я сразу же пресек ее, сказав:
— Если вы хотите строить беседу таким образом, то я достану привезенные мною бумаги и документы и начну инвентаризировать все то, что делалось английской стороной против Советского Союза, против налаживания нормальных отношений. Кому от этого польза?
После этого заявления беседа вошла в конструктивное и вполне дружественное русло.
Потом были встречи с министрами, лидерами политических партий, представителями деловых кругов. Мы посетили автомобильный завод «Остин-Ровер», штаб-квартиру компании «Джон Браун», исследовательский комплекс «Джелоттс Хилл», торгово-промышленную палату, Британский музей, мемориальную библиотеку К. Маркса.
А вот на могилу Маркса, куда ходила часть нашей делегации, по стечению обстоятельств я не сходил. Сколько по этому случаю было потом спекуляций! Точно так же, как уже в годы перестройки наша «свободная пресса» запустила «новость» о «золотой карточке» — речь шла, видимо, о кредитной карточке, которой я как член Политбюро якобы располагал за рубежом! Стыдно было все это читать и стыдно было за тех «интеллигентов», которые писали весь этот вздор. И уж совсем стыдно, когда я увидел эту сплетню в мемуарах Ельцина. «У кого что болит, тот про то и говорит» — так, кажется, в пословице.
Тогда, в 1984 году, политическая борьба потребовала иного: всячески замолчать итоги поездки парламентской делегации в Великобританию.
Добрынин, наш посол в США с 1962 года, рассказывал мне, как широко откликнулись американская общественность и политические круги на лондонский визит. Он по этому поводу направил в МИД две телеграммы с подробной характеристикой выступлений солидной прессы по этому поводу. Обычно такая информация рассылалась членам руководства, но на сей раз такого не последовало. А когда сам Анатолий Федорович приехал в Москву, Громыко устроил ему нахлобучку:
— Вы же такой опытнейший политик, умудренный дипломат, зрелый человек… Шлете две телеграммы о визите парламентской делегации! Какое это вообще может иметь значение?
В Лондоне меня застала печальная весть — скончался Устинов. Я прервал визит и вернулся в Москву. Смерть Устинова была тяжелой утратой, особенно чувствительной в то смутное время, каким был конец 1984 года. Да и весь этот год — не что иное, как агония режима.
Словом, огромная потребность в энергичной, инициативной политике и… плачевная ситуация в руководстве страны. Черненко и по калибру личности, и по состоянию здоровья не соответствовал роли генсека. Возникла проблема даже с еженедельными заседаниями Политбюро. Нередко случалось так: заседание назначено, но Константин Устинович прибыть не в состоянии, и за 15–30 минут до начала — звонок мне с поручением председательствовать.
Реакция членов Политбюро на сей счет была неоднозначной. У одних — подчеркнуто спокойная, то есть воспринимали это как само собой разумеющееся. У других — недоумение, а то и плохо скрываемое раздражение. От Тихонова не раз следовали бестактные вопросы:
— А он поручал вам вести Политбюро?
Я отвечал:
— Николай Александрович, неужели вы думаете, что я могу вот так, по своей воле прийти и начать заседание? У вас превратное представление обо мне.
Эта проблема к концу года разрослась до драматических масштабов, ибо Черненко вышел из строя окончательно. Политбюро, главный политический орган руководства, должно было работать, а никаких решений с поручением кому-либо — Горбачеву ли, Тихонову ли, или еще кому — постоянно вести заседания не было.
Доподлинно знаю, что некоторые товарищи в беседах с Черненко давали ему советы на этот счет — поручить «временно» вести заседания Политбюро Горбачеву. В то же время ближайшее окружение генсека рекомендовало ему сохранить за собой эту позицию. И всякий раз я оказывался в сложном положении. Но дело не во мне — это сказывалось на работе Политбюро, аппарата ЦК. В такой ситуации всегда вольготно чувствуют себя всякого рода интриганы. А для дела, для работы — это просто беда.
Обдумав все, я решил следовать нескольким правилам. Первое: вести работу спокойно, ставить вопросы твердо, никаких уступок «челяди», даже облеченной высокими званиями. Второе: лояльность Генеральному секретарю, согласование с ним всех важных вопросов. Третье: в Политбюро вести линию на объединение, не допускать развала центральной власти. И четвертое: держать в курсе событий секретарей ЦК республик, обкомов, крайкомов партии. Они должны видеть всю серьезность ситуации и понимать, в какой обстановке приходится действовать.
Думаю, эта линия в целом себя оправдала. Если говорить о деловой стороне, то я стремился, взаимодействуя с коллегами, держать под контролем текущие дела, принимать оперативные и не только оперативные решения. Было продолжено, хотя это и давалось непросто, обновление кадров, проведены два крупных Пленума: весной — о школьной реформе, в октябре — о долговременной программе мелиорации с докладом Тихонова.
А тут еще свалилась необычайной суровости зима. С разных мест посыпались телеграммы в центр о помощи. В уральской горловине метели создали такие заносы, что остановилось движение. Не десятки, сотни поездов оказались брошенными со всеми грузами, со всем, что составляет основу производства и жизнеобеспечения населения. Возникла угроза паралича народного хозяйства.
Правительству пришлось поработать много. Оперативными вопросами в то время занимался первый заместитель Председателя Совета Министров Гейдар Алиев. Включился в дело Егор Лигачев. Это было мое поручение, но оно совпадало с его желанием и вообще отвечало стилю его работы. Егор Кузьмич был недоволен, как решаются проблемы в республиках, на местах, и хотел доказать, что может справляться с такими задачами. К тому же при той ситуации, которая сложилась с генсеком, важно было показать, что ЦК действует. Эту миссию Егор Кузьмич вместе с другими выполнил.
Еще труднее стало работать, когда Константин Устинович оказался в больнице. Каждый старался аргументировать свою позицию ссылкой на разговор с Черненко. Нередко случалось: по одному и тому же вопросу один говорил одно, другой — нечто противоположное, и оба ссылались на генсека. Шло размежевание в руководстве и аппарате. Одни пытались осложнить мою работу, сбить с толку. Другие — и их становилось все больше — открыто брали линию поддержки Горбачева.
Мне приходилось предпринимать тактические шаги. Так было, в частности, с многострадальным планом проведения Пленума ЦК по вопросам научно-технического прогресса, на котором я должен был делать доклад. Для его подготовки была создана специальная группа, и дело быстро продвигалось.
Мы познакомились с двумя вариантами доклада — Иноземцева и отдела машиностроения ЦК, с целым мешком всевозможных разработок десятилетней давности, извлеченных из архива. Тогда, после известного высказывания Брежнева о роли научно-технического прогресса, в партии велась подготовка Пленума ЦК. Я подумал: Боже мой, сколько времени потеряно, а в этот период многие страны проделали огромный путь, обеспечивший им динамичное развитие в последующие годы.
Но чем ближе мы были к Пленуму, тем острее я чувствовал стремление Черненко, Тихонова, Гришина, Громыко отложить его проведение — все они считали, что это будет усиливать мои позиции. Словом, были против Пленума и этого не скрывали. Что делать? Я решил поговорить с Черненко и сам внести предложение о нецелесообразности проведения Пленума. Поехал к нему в больницу с Лигачевым.
— Константин Устинович, мы работаем над документами к съезду, наверное, уже ушло время для Пленума по научно-техническому прогрессу?
Мнение его мне было известно, так что согласие генсека было получить нетрудно.
Назавтра — заседание Политбюро. Я в самом начале подчеркнуто спокойно сказал:
— Вчера мы с Егором Кузьмичом были у Константина Устиновича, чувствует он себя неплохо. Побеседовали, ввели его в курс дел.
Последовала немая сцена, во время которой многие, наверное, подумали: «Так, значит, Горбачев с Лигачевым были у Черненко! Когда тот и другой посещают его в отдельности, это уже само по себе что-то, а если еще и вместе? Что бы это значило.?» Все навострили уши.
— Знаете, я посоветовался с Константином Устиновичем, и мы пришли к. общему мнению снять с повестки дня Пленум по научно-техническому прогрессу.
Все дружно, я бы даже сказал, радостно, поддержали это предложение. Так второй раз была похоронена идея Пленума по самому актуальному вопросу. Забегая вперед, скажу, что своего рода компенсация все-таки состоялась. В июне 1985 года мы провели в ЦК КПСС крупное совещание по вопросам ускорения научно-технического прогресса с моим докладом «Коренной вопрос экономической политики партии».
Смерть Черненко
Развязка стремительно и неотвратимо приближалась. В этом уже никто не сомневался. Стоило больших усилий поддерживать хотя бы видимость присутствия Генерального секретаря ЦК, Председателя Президиума Верховного Совета СССР в политической жизни.
У меня при взгляде на Черненко, которому не то что работать, но и говорить, дышать было трудно, не раз возникали вопросы: что же помешало ему отойти от дел и заняться своим здоровьем? Что заставило взвалить на себя непосильный груз руководства страной?
Ответ вряд ли лежит на поверхности.
Да, конечно, человек, отстраняемый от власти, — а по собственному желанию у нас от нее никто не отказывался, — чувствовал себя, мягко говоря, некомфортно, как и всякий уволенный.
Но просто сказать «человек слаб» — недостаточно. Проблема лежала глубже. Общество не располагало необходимой информацией, чтобы сделать выбор. Вот если бы знало оно о действительном состоянии Брежнева и Черненко, знало, что почти десятилетие у руля страны стояли люди, физически не способные к работе! Впрочем, само по себе такое знание еще ничего не значило. Ведь у нас не было нормального демократического механизма сменяемости власти. Система этого не предусматривала, она жила по своим законам, согласно которым на вершине пирамиды мог находиться и безнадежно больной, даже умственно неполноценный человек. Никто не смел посягнуть на этот порядок, и вдруг стараниями некоторых членов политического руководства, прежде всего Гришина, эта порочная практика внезапно обнажилась и предстала перед обществом во всей своей неприглядности.
Я имею в виду то, что произошло во время кампании по выборам в Верховный Совет Российской Федерации в феврале 1985 года. В соответствии с многолетней традицией сложился своего рода ритуал встреч членов Политбюро с избирателями в своих округах накануне выборов. Никогда ранее я не наблюдал такой схватки за место в графике выступлений. Все хотели выступать в самом конце, непосредственно перед генсеком, ибо считалось, что чем позже ты встречаешься с избирателями, тем выше твое положение в партийной иерархии. А уж если твое место в этом графике предпоследнее, значит, ты вообще всего на шаг отстоишь от генсека, выступающего всегда последним.
Выборы были назначены на 24 февраля. Заканчивались встречи кандидатов с избирателями. Поскольку Черненко был не в состоянии прийти на встречу, а отменить ее было нельзя, мы в своем кругу обговаривали, как решить эту задачу с наименьшими политическими потерями. Я полагал, что надо помочь ему подготовить письменное обращение. Избирательная комиссия должна организовать встречу, на которой будет оглашено его обращение. А поскольку речь идет о генсеке, необходимо присутствие на ней представителей ЦК КПСС.
Неожиданно для меня в дело вмешался Гришин, сепаратно выйдя на разговор с Черненко. Это уже было за рамками принятой этики и, видимо, говорило кое о чем. Во всяком случае, он начал неприличную политическую возню, решив, что подходящий случай наступил и этот шанс упустить нельзя.
Действовал Гришин, безусловно, не в одиночку. Часть руководства относилась к нему весьма благосклонно, прежде всего те, кто считал: «надо остановить Горбачева». Особенно он рассчитывал на окружение Черненко, которое понимало необходимость безошибочного выбора, с тем чтобы и после кончины генсека остаться на плаву. Именно в тот момент определенная, пусть небольшая, часть интеллигенции начала «рисовать» привлекательный портрет Гришина.
Понимая, что меня обойти никак нельзя, ибо работа Политбюро и Секретариата фактически проходила под моим руководством, Гришин позвонил мне и сказал, что по поручению Константина Устиновича он будет организовывать встречу и зачитает текст обращения. Звонить Черненко я не стал, но поинтересовался этим у его помощников, которые подтвердили изложенную Гришиным позицию генсека.
22 февраля на правах первого секретаря Московского горкома партии Гришин взял в свои руки бразды правления на встрече с избирателями и зачитал текст выступления Черненко. Я сидел в президиуме вместе с Лигачевым, Громыко, Зимяниным, Кузнецовым и, честно говоря, очень переживал, что я участник этого фарса. А Гришин с присущей ему занудно-монотонной интонацией, пытаясь изобразить пафос, подъем и вдохновение, читал и читал текст. И было во всем этом что-то сюрреалистическое. Я не мог возразить, поскольку такова была воля самого Черненко, его последняя воля.
В конце концов, это еще можно было бы пережить. Но, по замыслу Гришина, закончился лишь первый акт трагикомедии. Впереди было еще два: голосование Черненко и вручение ему удостоверения об избрании депутатом Верховного Совета РСФСР.
24 февраля привезли урну в соседнюю с его спальней комнату больницы, подготовили ее так, чтобы было непонятно, где происходит голосование. Черненко встал, превозмогая немощь, оделся (или его одели) и проголосовал перед телекамерой. Главное, по мнению Гришина, состояло в том, чтобы показать, что генсек еще в состоянии голосовать.
Апофеозом цинизма и безнравственности людей, выдававших себя за близких людей Черненко, но озабоченных лишь соображениями собственной корысти, было вручение ему депутатского удостоверения в присутствии Гришина, помощника генсека В.В.Прибыткова и первого секретаря Куйбышевского райкома партии Москвы Ю.А.Прокофьева.
Мало того, ему подготовили текст, с которым он, смертельно больной человек, должен был выступить. До сих пор у меня перед глазами согбенная фигура, дрожащие руки, срывающийся голос, призывающий к дисциплине и самоотверженному труду, падающие из рук листки. А я знаю, что и сам он падал… и был подхвачен Чазовым, но этот эпизод, разумеется, не показали.
Все это стало возможным вопреки категорическим возражениям Чазова, но с согласия или по желанию самого Черненко, которого подталкивали к этому Гришин и его ближайшее окружение. Это происходило 28 февраля. А 10 марта Константина Устиновича не стало.
Я только вернулся домой с работы, и сразу звонок Чазова с известием о смерти Черненко. Сразу после звонка я связался с Громыко, Тихоновым, Боголюбовым и назначил заседание Политбюро на 11 часов вечера.
По предварительной договоренности с Громыко, мы встретились минут на двадцать раньше назначенного времени.
Привожу по памяти состоявшийся тогда диалог.
— Андрей Андреевич, надо объединять усилия: момент очень ответственный.
— Я думаю, все ясно.
— Я исхожу из того, что мы с вами сейчас должны взаимодействовать.
Начали подъезжать другие члены Политбюро и Секретариата ЦК.
Открыв заседание, я сообщил о случившемся. Встали, помолчали. Заслушали приглашенного на заседание Чазова. Он кратко доложил историю болезни и обстоятельства смерти Черненко. Я сказал, что надо готовить документы, собирать Пленум ЦК КПСС.
На том и порешили. Лигачеву, Боголюбову, Соколову дали поручение обеспечить своевременное прибытие членов ЦК в Москву, с привлечением МПС и воздушного флота.
Создали похоронную комиссию, включив в нее всех членов Политбюро. Когда встал вопрос о председателе комиссии, вышла небольшая заминка. Тут надо сказать, что председателем комиссии по организации похорон умершего генсека, как правило, назначался будущий генсек. И Гришин вдруг говорит:
— А почему медлим с председателем? Все ясно. Давайте Михаила Сергеевича.
Я предложил не торопиться, назначить Пленум на 17 часов следующего дня, а Политбюро — на 14. У всех будет время — ночь и полдня — все обдумать, взвесить. Определимся на Политбюро и пойдем с этим на Пленум.
Так к решили. Стали подъезжать срочно вызванные работники аппарата ЦК. Создали группы для подготовки документов. С Медведевым, Яковлевым и Болдиным договорились о концепции моего выступления на Пленуме. Подход был такой: сразу заявить обществу и всему миру наши позиции.
Так дальше жить нельзя
Было уже около четырех утра, когда я приехал домой. Раиса Максимовна меня ждала. Вышли мы с ней на территорию дачи: с самого начала проживания в Москве серьезные разговоры в квартире и на даче мы не вели — мало ли что. Долго ходили по тропинке в саду, обсуждая случившееся и возможные последствия.
Сейчас трудно в деталях восстановить тот наш разговор. Очень хорошо помню последние слова, сказанные мною в ту ночь:
— Понимаешь, ехал я сюда с надеждой и верой в то, что смогу что-то сделать, но пока мало что удалось. Поэтому, если я действительно хочу что-то изменить, надо принимать предложение, если, конечно, оно последует. Так дальше жить нельзя.
Уже подступало утро. Близился рассвет нового дня, поистине судьбоносного.
Утром позвонил Лигачев, сказал, что его буквально атакуют первые секретари, идут один за другим, допрашивают, каково мнение Политбюро по поводу будущего генсека. Я поехал в ЦК. Впереди — Политбюро и Пленум.
Много еще и сейчас гуляет всяких слухов по поводу заседаний Политбюро и Пленума. Суть их сводилась к тому, что якобы разразилась настоящая схватка, были предложены несколько кандидатур на пост генсека и Политбюро вышло на Пленум, так ни о чем и не договорившись. Все это просто байки, досужие домыслы. Ничего этого не было. И об этом известно участникам событий, многие из которых в полном здравии и сейчас.
Да, проблемы преемника в связи с резким ухудшением состояния здоровья Черненко обсуждались, кое-кто прицеливался, прояснял свой шанс. Партийный аппарат ЦК в те дни только этим и был занят.
То, что в самом составе руководства выкристаллизовались группировки, было фактом.
Были и те, кто не хотел Горбачева. Как-то незадолго до кончины генсека Чебриков, возглавлявший в то время КГБ, поделился со мной содержанием своей беседы с Тихоновым, пытавшимся убедить его в недопустимости моего избрания на пост Генерального секретаря. Чебрикова поразило, что Тихонов никого, кроме меня, не упоминал:
— Неужели сам претендовал на это место? — подумал он.
В то же время мои недоброжелатели не могли не знать о настроениях в обществе, о позиции первых секретарей, среди которых все больше созревала решимость не допустить, чтобы Политбюро вновь протащило на высший пост старого, больного или слабого человека.
Несколько групп первых секретарей обкомов посетили меня. Призывали занять твердую позицию и взять на себя обязанности генсека. Одна из таких групп заявила, что у них сложилось организационное ядро и они не намерены больше позволять Политбюро решать подобного рода вопросы без учета их мнения.
Не было Устинова, на поддержку которого можно было бы рассчитывать. Да и у Громыко по отношению ко мне появились какие-то новые, ревнивые нотки, особенно после моей поездки в Великобританию. Еще Андропов, как бы в качестве дани своему другу и партнеру, чтобы как-то его ублажить, сделал Андрея Андреевича первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Тогда Громыко занял кабинет в Кремле, сохраняя резиденцию на Смоленской площади. В окружении Андропова начали поговаривать о неуемном стремлении Андрея Андреевича к власти, его большом тщеславии.
Интересно отметить, что при формировании внешнеполитических документов, заявлений четко просматривались две линии. Одна шла к Черненко от международного отдела ЦК, через А.М.Александрова, другая — мидовская. Первая содержала приглашение к переговорам, поискам соглашений, к либерализации и улучшению отношений. Вторая была более жесткой, можно сказать, железобетонной. Громыко открыто оказывал давление на Черненко, на беседах с иностранными делегациями нередко перебивал или бесцеремонно поправлял его. Он явно монополизировал внешнеполитическую сферу. Кстати, потому-то и возникло недовольство после моего визита в Англию.
Оказавшись де-факто у руководства Политбюро и Секретариата, я не допускал бесконтрольности за деятельностью МИДа. Потом мне стало известно, что вдруг заработал механизм по налаживанию взаимопонимания между мною и Громыко. Включились в это дело сын Громыко, Анатолий, и Крючков. Обо всем мне рассказал Александр Яковлев, бывший с Крючковым в близких отношениях. Громыко, реагируя на их соображения, вроде бы задумался и кое-что переосмыслил.
Ну а тогда, 10 марта, интуиция мне подсказывала, что ночь и полдня будут работать в нужном направлении: об этом свидетельствовала информация, поступавшая в ЦК. На Лигачева выходили партийные кадры, на Рыжкова другой клан — министры.
Хочу особо отметить, что никому, даже Лигачеву и Рыжкову, я не сказал определенно ни «да», ни «нет». Почему? Мне надо было выяснить все до конца. Я ведь понимал, о чем идет речь, в каком положении находится страна, что надо делать с кадрами. И если я пройду, получив только, как говорят, 50 процентов плюс один голос или что-то в этом роде, если избрание не будет отражением общего настроения, мне будет не по силам решать вставшие проблемы. Прямо скажу: если бы в Политбюро и в ЦК возникла дискуссия по этому вопросу, я снял бы свою кандидатуру, потому что для меня уже было ясно, что мы должны, выражаясь словами наших итальянских друзей, «пойти далеко».
В 14 часов я занял место председательствующего — в последнее время это было моим обычным местом — и, открыв заседание, сказал, что от имени Политбюро мы должны внести на Пленум ЦК предложение о Генеральном секретаре: была возможность все обдумать и взвесить.
Сразу встал Громыко и предложил мою кандидатуру, кратко аргументируя свое предложение. Некоторые мысли перекликались с тем, что он потом сказал на Пленуме. Вслед за ним взял слово Тихонов. Поддержали все. Было сказано, что мы уже фактически так и работаем, надо с этим выходить на Пленум.
Лигачев, выступая на XIX партконференции, говорил: «Надо сказать всю правду: это были тревожные дни. Могли быть абсолютно другие решения. Была такая реальная опасность.
Хочу вам сказать, что благодаря твердо занятой позиции членов Политбюро товарищей Чебрикова, Соломенцева, Громыко и большой группы первых секретарей обкомов на мартовском Пленуме ЦК было принято единственно правильное решение».
Не знаю, что хотел он этим сказать. То ли, что именно ему и названным им лицам обязан я своим избранием и что они предотвратили некую опасность, нависшую над страной? Ради прояснения истины приведу без комментариев выдержки из рабочей записи того заседания Политбюро.
«ГРОМЫКО. Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Когда заглядываем в будущее, а я не скрою, что многим из нас уже трудно туда заглядывать, мы должны ясно ощущать перспективу. А она состоит в том, что мы не имеем права допустить никакого нарушения нашего единства. Мы не имеем права дать миру заметить хоть какую-либо щель в наших отношениях. Хочу еще раз подчеркнуть, что Горбачев обладает большими знаниями, значительным опытом, но этот опыт должен быть помножен на наш опыт. И мы обещаем оказывать новому Генеральному секретарю ЦК КПСС всевозможное содействие и помощь.
ТИХОНОВ. Что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче? Это контактный человек, с ним можно обсуждать вопросы, обсуждать на самом высоком уровне. Это — первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике. Вы представляете, насколько это важно. Поэтому мнение мое безоговорочное: человеком, который годится быть Генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич Горбачев.
ГРИШИН. Мы вчера вечером, когда узнали о смерти Константина Устиновича, в какой-то мере предрешили этот вопрос, договорившись утвердить Михаила Сергеевича председателем комиссии по похоронам. На мой взгляд, он в наибольшей степени отвечает тем требованиям, которые предъявляются Генеральному секретарю ЦК.
СОЛОМЕНЦЕВ. Он хорошо готовится к заседаниям Секретариата ЦК и Политбюро, вносит при рассмотрении вопросов новые предложения, высказывает интересные мысли. Этот дух новаторства очень ценен. Другой кандидатуры у нас просто нет.
КУНАЕВ. Я хочу доложить вам, мне поручено сказать на заседании Политбюро о том, что, как бы здесь ни развернулось обсуждение, коммунисты Казахстана будут голосовать за избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.
РОМАНОВ. Он эрудированный человек. Например, очень быстро разобрался во многих сложнейших вопросах научно-технического прогресса. Николай Александрович Тихонов говорил здесь о работе Михаила Сергеевича Горбачева в Комиссии по совершенствованию хозяйственного механизма. Тон в этой комиссии задает т. Тихонов, а Михаил Сергеевич, опираясь на отделы ЦК, тактично вносит свои предложения, которые в большинстве своем поддерживаются Комиссией. Считаю, что он будет полностью обеспечивать преемственность руководства в нашей партии и вполне справится с теми обязанностями, которые будут на него возложены.
ВОРОТНИКОВ. Сама логика жизни подвела нас к этому решению. Его важнейшие качества — ответственность, умение прислушиваться к мнению других, знание дела. Вот почему он завоевал большой авторитет среди партийного актива. И все товарищи (а мне пришлось встретиться сегодня с большим числом представителей областных партийных организаций России) высказываются за то, чтобы избрать т. Горбачева М.С. Генеральным секретарем ЦК КПСС.
ПОНОМАРЕВ. В последнее время мы много занимались новой редакцией Программы партии. И я лично убедился, что он глубоко владеет марксистско-ленинской теорией, умеет разбираться в самых сложных программных вопросах.
ЧЕБРИКОВ. Я, конечно, советовался с моими товарищами по работе. Ведомство у нас такое, которое хорошо должно знать не только внешнеполитические проблемы, но и проблемы внутреннего, социального характера. Так вот с учетом всех этих обстоятельств чекисты поручили мне назвать кандидатуру т. Горбачева М.С. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива — это и голос народа.
ДОЛГИХ. Все мы едины в том мнении, что у него за плечами не только большой опыт, но и будущее.
КУЗНЕЦОВ. В некоторых зарубежных журналах, особенно американских, делались самые невероятные прогнозы, высказывались самые различные домыслы по поводу противоречий внутри Политбюро. Но наше единство ничем не поколебать.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Я знал Михаила Сергеевича Горбачева еще до его работы секретарем ЦК КПСС. Скажу прямо — такое решение ждет сегодня вся наша страна и вся наша партия.
ЛИГАЧЕВ. Для М.С.Горбачева характерен большой азарт в работе, стремление к поиску в малых и больших делах, умение организовать дело. А это, как вы понимаете, имеет огромное значение для всей партийно-организационной работы… М.С.Горбачев пользуется большим уважением в партийных, профсоюзных, комсомольских организациях, в активе нашей партии, в народе в целом. Мне об этом сегодня говорили многие секретари обкомов и крайкомов партии. Выдвижение М.С.Горбачева вызовет чувство гордости в нашем народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС.
ГОРБАЧЕВ. Мы переживаем очень сложное, переломное время. Нашей экономике нужен больший динамизм. Этот динамизм нужен и нашей демократии, нашей внешней политике…Вижу свою задачу прежде всего в том, чтобы вместе с вами искать новые решения, пути дальнейшего движения нашей страны вперед… Нам надо набирать темпы, двигаться вперед…»
На заседании Политбюро не было Щербицкого. Он во главе парламентской делегации был в Америке и вернулся уже к самому Пленуму. Арбатов, который был с ним в поездке, утверждал, что Щербицкий сразу принял решение возвращаться и твердо сказал, что будет поддерживать Горбачева. Думаю, он, будучи реалистом, понимал, что его шанс ушел.
Впереди был Пленум. Из обмена мнениями с товарищами, каждый из которых зондировал обстановку в ЦК, было очевидно: мнения членов Центрального Комитета настолько в пользу моей кандидатуры, что этот массовый настрой не дает возможности для какой бы то ни было дискуссии, не оставляет надежд на какие-либо другие варианты.
В пять часов начался Пленум, и я сразу почувствовал атмосферу полной поддержки, еще более утвердившейся под влиянием речи Громыко, который по поручению Политбюро предложил мою кандидатуру на пост Генерального секретаря ЦК. Произнесенная без письменного текста, она производила впечатление экспромта и оттого казалась особенно искренней, несла мощный эмоциональный заряд. Это было хорошо продуманное, взвешенное выступление, воздействие которого усиливалось тем, что оно было созвучно настроению зала.
Я был взволнован: никогда раньше мне не приходилось слышать о себе таких слов, такой высокой оценки.
Вся обстановка Пленума и овация, начавшаяся после того, как была названа фамилия Горбачева, единодушие членов ЦК при избрании меня генсеком — все это показало, что мы с ближайшими моими коллегами поступили правильно, когда после обмена мнениями решили, что в моей речи на Пленуме надо сразу серьезно заявить о наших стратегических позициях и замыслах. Все ждали, что же будет сказано новым советским лидером.
Интуитивно ощущая все это, я решил, что необходимо, не уходя от темы прощания с Черненко, уже в первых публичных выступлениях сказать о моей принципиальной позиции. Этого требовала ситуация.
На Пленуме я подчеркнул, что стратегическая линия, выработанная на XXVI съезде, последующих пленумах ЦК остается в силе. Это — линия на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества.
Хочу признать, что в этом утверждении была сознательно допущена небольшая натяжка. Ссылка на XXVI съезд была необходима для соблюдения правил игры, но политическая линия была сформулирована иначе, чем на съезде, — не было упоминания о развитом социализме, зато говорилось об ускорении социально-экономического прогресса в соответствии с новыми представлениями.
Была уже подчеркнута главная мысль, что ускорение можно обеспечить лишь путем перевода народного хозяйства на рельсы интенсивного развития, выхода в короткие сроки на самые передовые научно-технические позиции, на высший мировой уровень производительности труда. А для этого необходимо настойчиво совершенствовать хозяйственный механизм и всю систему управления.
В связке с экономическими задачами было сказано об усилении внимания к социальной политике, совершенствованию и развитию демократии, формированию общественного сознания.
Не были обойдены вопросы порядка, дисциплины, законности. Подчеркнута необходимость гласности в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций.
Что касается внешней политики — заявлена преемственность в осуществлении курса мира и прогресса. Наши позиции были изложены предельно ясно: «Мы хотим прекращения, а не продолжения гонки вооружений — и потому предлагаем заморозить ядерные арсеналы, прекратить дальнейшее развертывание ракет; мы хотим действительного и крупного сокращения накопленных вооружений, а не создания все новых систем оружия».
В отношении КПСС было отмечено, что партия — это та сила, которая способна объединить общество, поднять его на огромные перемены, которые просто необходимы. Именно исходя из этого мы должны провести подготовку к партийному съезду, на котором утвердить новую Программу партии и определить перспективы до 2000 года. Заканчивалась речь выражением твердой убежденности, что мы сможем полнее раскрыть созидательные силы социализма.
Таков смысл моего выступления ша внеочередном Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 года. По сути дела, это было нашим кредо, пусть в первоначальном виде и как декларация намерений.
Идеи эти не сразу, не вдруг пришли мне в голову. Многие из них уже содержались в предшествующих выступлениях, в частности, на декабрьском Пленуме 1983 года, на идеологической конференции в декабре 1984 года, на встрече с избирателями Киевского избирательного округа города Москвы по выборам в Верховный Совет РСФСР 20 февраля 1985 года.
В выступлении на Пленуме уже были расставлены более определенные акценты, вопросы ставились круче, чем раньше. Главная мысль — довести до сознания общества, что мы стоим перед серьезным выбором и перед необходимостью глубоких перемен. И что намерения у нас на этот счет самые решительные.
Что касается внешнеполитического раздела, то я не выходил за рамки проблематики, которую поднимал в последнее время. Тем не менее тональность была другой. И это тоже было сделано специально. Тут, прямо скажем, веяло миролюбием, приглашением к диалогу.
Читатель подумает: а что особенного сказал Горбачев в те мартовские дни 1985-го? Да, конечно, с позиций сегодняшнего дня можно на все это смотреть как на стереотипы. Но это с нынешних позиций. И совсем по-другому это оценивается, когда знаешь, что именно отсюда все начиналось.
Я надеялся, что все предложенное мною найдет отклик. Позиции по внутриполитическим проблемам да и вся речь получили поддержку Пленума. Люди этого не скрывали. Впервые за многие годы, может быть, чувствовалась атмосфера неподдельного энтузиазма.
Идеи внешнеполитического раздела речи тоже не остались без ответа. Когда по традиции проходило краткое представление зарубежных делегаций, прибывших для участия в похоронах Черненко, я почувствовал что-то вроде встречного движения, понял, что мои слова услышаны. Даже краткие реплики во время рукопожатий говорили об этом.
Тогда же состоялись важные встречи с «основными действующими лицами». Я решил, что буду беседовать в присутствии министра иностранных дел. Так мы и сделали. Встречи были содержательные, и было их много. С Бушем, Колем, Миттераном, Тэтчер. Интересная беседа состоялась с Накасонэ.
Менее чем за три года, один за другим, ушли из жизни три генеральных секретаря, три лидера страны, несколько наиболее видных членов Политбюро. В конце 1980 года скончался Косыгин. В январе 1982 года умер Суслов. В ноябре — Брежнев. В мае 1983 года — Пельше. В феврале 1984-го — Андропов. В декабре — Устинов. В марте 1985-го — Черненко.
Был во всем этом символический смысл. Умирала сама система, ее застойная, старческая кровь уже не имела жизненных сил.
Я понимал, какое бремя ответственности на меня возложено. Это было для меня самой большой нравственной нагрузкой.
Домой в тот день вернулся поздно. Все меня ждали, даже пятилетняя внучка Ксения, которой надо было уже спать. Так уж сложилась, сформировалась наша семья. Все были торжественны, взволнованны, но ощущалась и тревога за будущее. Раиса Максимовна вспомнила в своей книге (это у нее в дневниках было), что внучка сказала мне:
— Дедуленька, я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья', счастья и хорошо кушать кашу.
Расхлебывать кашу мне действительно пришлось. Да, время идет. На днях услышал от младшей, Настеньки, прямо-таки философское рассуждение:
— Дедуля, ты посмотри — зима, весна, лето, осень, и вот так годы вращаются, все время одно за другим идет.
Да, время действительно шло…
Часть II. В КРЕМЛЕ
Глава 9. Генеральный секретарь
«Рукописи не горят»
На протяжении своей жизни я никогда не вел дневников, но постоянно пользовался блокнотами, которых за годы накопилось множество. Это была моя личная рабочая лаборатория. После ухода с поста президента в декабре 1991-го, бесцеремонных в отношении меня действий российских властей я не исключал самых разных сценариев развития событий. Тогда, в частности, решили освободиться от значительной части огромной домашней библиотеки, а также бумаг «непервостепенной» важности, в том числе записных книжек.
Однако «рукописи не горят», не все они оказались уничтоженными. Некоторые сохранила Раиса Максимовна, одна обнаружилась в бумагах Черняева. Эти находки помогли восстановить в памяти события и факты того времени, многое из того, что определило замысел перестройки.
На первых страницах блокнота, сохранившегося у Черняева, пометки о беседах с жителями Пролетарского района Москвы и поездке в Ленинград, встречах с руководителями промышленности, колхозов и совхозов, учеными и специалистами, записи поручений членам Политбюро и правительства. Одни — короткие, другие — более подробные, как, например, разговор с Долгих о положении в нефтегазовой промышленности. Кунаев, Шеварднадзе, Щербицкий доложили по телефону об обстановке в республиках. Руководитель Компартии Киргизии У су-балиев и секретарь Башкирского обкома Шакиров жаловались на Госплан. На многих страницах записи по кадровым вопросам: об освобождении от должности Г.Романова, переводе на дипломатическую работу Б.Стукалина, назначении С.Колпакова министром черной металлургии, утверждении Б.Ельцина заведующим строительным отделом ЦК.
Чтобы дать представление о том, чем были заполнены первые дни и месяцы моего пребывания в роли генсека, приведу несколько записей, как они есть.
Мартовские: «Для беседы с Громыко: 1. О Женевских переговорах (за продолжение переговоров). 2. По письму Рейгана — дать ответ (рамки новые). 3. Снять расхождения сторон к подписанию протокола о продлении Варшавского Договора. 4. О 10-летии Хельсинкского соглашения. 5. Ответ президенту Миттерану (развернутое письмо). 6. Ответ Радживу Ганди (письмо с концепцией встречи. Время — конец мая — первая половина июня). 7. Обращение канцлера Коля о доверительном канале связи. 8. Афганистан. Нужен реалистический план. 9. Письмо президенту Сирии Х.Асаду. 10. КНР — конструктивная линия на переговорах. 11. Пакистан — продолжаем взятую линию».
И еще одна запись, касающаяся афганской темы: «Необходимо поэтапное урегулирование конфликта; провести беседу с афганским руководством (Бабрак Кармаль) о расширении базы режима; переговорить с Соколовым и Ахромеевым по военным аспектам проблемы. Очень важно: полная сдача позиций недопустима».
«27 марта 1985 года: 1. Качество. 2. Бой пьянству. 3. Малообеспеченная часть населения. 4. Земля под сады и огороды. 5. Медицина».
К встрече с Громыко, Чебриковым, Лигачевым: «1. О предстоящем Пленуме ЦК (договориться о Председателе Президиума Верховного Совета СССР, о членах Президиума, о председателе Комиссии по иностранным делам; о Романове Г. В.; о секретаре ЦК по оборонным делам). 2. О министре иностранных дел: не стоит ограничиваться рамками МИДа… Нужна крупная политическая фигура».
Пометки о беседе с редактором «Литературной газеты» А.Чаков-ским: «1. Аппарат Старой площади отторгает установку руководства на приведение пропаганды в соответствие с новыми задачами (намек на Зимянина и Стукалина). Все отделы ЦК, связанные с идеологией, надо объединить в один. 2. Нужна перестройка телевидения: идет борьба фактов, и мы эту борьбу проигрываем. «Правда» должна идти в ногу. Пропаганда марксизма ведется скучно, молодежь теряет к нему интерес. 3. Необходимо научное и объективное изучение истории: надо в ней разобраться, в том числе и в нашей новейшей истории. 4. Если мы хотим, чтобы новая политика получила поддержку, надо восстановить веру в социалистические идеалы. 5. О делах литературных: ползучая групповщина в литературе и творческой среде; идеализация прошлого. Нужна поддержка тем, кто стоит на четких позициях. Большая литература должна идти в ногу с новыми задачами. 6. Не надо запугивать советский народ американским оружием».
Беседа с академиком Ю.Б.Харитоном: «1. О проведении экспериментов, связанных с ядерной накачкой для получения лазерного излучения. 2. Об изучении ЭМИ (электромагнитные излучения), их возможного влияния на системы управления ракетами. 3. О срочном оснащении Центра быстродействующей вычислительной техникой».
Даже эта часть пометок показывает, какая на меня обрушилась лавина проблем. Я уже начал опасаться, что выработка общей политики будет отодвинута куда-то на задний план, а генсеку придется денно и нощно выслушивать информацию и принимать оперативные решения — кому строить метро, как осуществить мелиорацию в регионе, где приобрести вычислительную технику и т. д. Между тем надо было безотлагательно заняться программой, которая остановила бы сползание страны к кризису, открыла ей перспективу.
Вне рамок аппарата
По традиции оценки и предложения генсека следовало представить на рассмотрение центральных органов партии и обсудить в партийных организациях. Надо было прежде всего определиться, как быть с Программой КПСС, которая настолько устарела, что на нее стеснялись ссылаться и всякое упоминание о ней сопровождалось ироническими ухмылками. Работа над проектом новой Программы велась и при Андропове, и при Черненко. Но, поскольку в созданной для этого группе тон задавал Р.Косолапов, от представленных материалов за версту несло духом фундаментализма. Это были все те же привычные марксистские догмы (скорее даже псевдомарксистские), изложенные слегка осовремененным языком.
Конечно, для формулирования по-настоящему реалистических оценок и выдвижения крупных идей и сами мы, и общество были тогда еще не готовы. Между тем собрать съезд, чтобы закрепить новый политический курс и решить кадровые вопросы, было необходимо. Предложение не торопиться с Программой мне высказывали. Однако я полагал, что мы не должны уподобляться библейским пророкам, вещающим толпе непререкаемые истины. Сама работа над новым программным документом, его обсуждение в прессе и на собраниях коммунистов, наконец, на съезде виделись мне как способ привести в движение партию и общество, сделать их восприимчивыми к перестроечным замыслам. Эти соображения разделили все члены партийного руководства, не скажу уж, кто по убеждению, а кто просто, чтобы не перечить генсеку.
С самого начала своей работы на этом посту я взял за правило — при обсуждении важнейших решений не ограничиваться рамками партийных структур. Как уже упоминалось, Политбюро в 1984 году, как и пятнадцать лет назад, отложило Пленум ЦК по вопросам научно-технического прогресса. Понимая сложность проблемы и необходимость свободного обмена мнениями, мы решили не возвращаться к идее созыва Пленума, а провести Всесоюзное совещание. К нему надо было основательно подготовиться. Первым шагом стала встреча в ЦК с практическими работниками сферы экономики, учеными, партийными руководителями. Разговор получился вполне откровенным. Принципиальное значение имели открытое признание на этом авторитетном форуме технологического отставания страны и вывод о необходимости изменения хозяйственного механизма, предоставления широкой самостоятельности предприятиям. Аргументируя важность подобных изменений, кто-то из участников встречи с иронией говорил: окажись частный предприниматель в наших условиях, когда все расписано сверху, он сбежал бы через день-два.
Еще одна мысль, высказанная мной и поддержанная с энтузиазмом: нам не удастся осуществить реформы в экономике, если не займемся основательной перестройкой управленческих структур и децентрализацией управленческих функций. Мнение было единым — без этого никакие реформы не пойдут, будут сорваны. Любопытно, что в таком духе высказывались и некоторые заматерелые чиновники — видимо, считали, что к ним это не относится или вообще не верили в возможность серьезных новаций.
На совещании вспомнили, как Андропов наводил дисциплину и порядок в стране. Немалого можно добиться за счет жесткой требовательности, налаживания ритмичной работы, но это все-таки паллиатив, не способный компенсировать недостатки в стимулировании труда и экономическом механизме. Подобным признанием как бы преодолевалось узкое понимание дисциплины, последняя связывалась уже с повышением культуры производства.
В общем, первый после мартовского Пленума «выход за аппаратные рамки» оказался продуктивным. В середине апреля я встретился с работниками завода имени Лихачева: побывал в автосборочном корпусе, жилом квартале, в больнице, магазинах, а основной разговор с зи-ловцами состоялся в небольшом конференц-зале ЗИЛа. Тогда я впервые публично сказал, что с начала 70-х годов мы все больше отстаем от развитых стран, падение темпов роста серьезно осложняет ситуацию в экономике, социальной сфере, решение задач обороны страны. Раньше мы добивались высоких темпов за счет включения огромных трудовых и природных ресурсов. Теперь ни того, ни другого нет! Очередная демографическая волна — эхо войны — привела к дефициту рабочих рук, да и на привлечение новых материальных и природных ресурсов рассчитывать не приходится. Во-первых, они небезграничны, а во-вторых, их получение требует колоссальных затрат. Остается одно — добиваться роста производительности труда посредством внедрения прогрессивного оборудования, автоматики, менее энергоемких и безотходных технологий. Таким путем можно и нужно обеспечить не менее четырех процентов роста ежегодного национального дохода.
Эти оценки и намерения встретили у собравшихся живой отклик. И мне кажется, главное тут было не в традиционной готовности оказать уважение «высокому гостю». ЗИЛ, как и многие другие индустриальные гиганты, уже тогда жил с предощущением кризиса.
Апрельский Пленум
Обычно на пленумах сначала обсуждался главный вопрос, в конце — организационный. На этот раз мы решили нарушить традицию, начав с небольшой «встряски». Открыв Пленум 23 апреля, я предложил избрать членами Политбюро Лигачева, Рыжкова и Чебрикова, а Никонова — секретарем ЦК. Голосовали, как всегда, безотказно. Поздравив избранных, я попросил членов Политбюро подняться в президиум. Рядом с собой посадил Лигачева и передал ему председательствование: «Ну что ж, Егор Кузьмич, предоставляй мне слово для доклада». Сделал это сознательно, чтобы стала ясной новая расстановка в Кремле.
На апрельский Пленум 1985 года утвердился взгляд как на точку отсчета истории перестройки, хотя отсчет точнее вести с марта — уже там новый Генеральный секретарь заявил о предстоящих переменах. Кстати, недавно на одной из встреч деятелей культуры в Фонде Горбачева кинорежиссер Марлен Хуциев заметил, что основное было сказано уже в моем выступлении с Мавзолея при похоронах Черненко — потом шло наполнение программы. И это близко к истине.
При всем том концепция новой политики была все же официально изложена на апрельском Пленуме в докладе «О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». Перечитывая доклад, я отчетливо вижу, как тяжко мы расставались с идеологическими клише, мучительно преодолевали укоренившиеся догмы и предрассудки. Начинал я, как и в марте, с подтверждения преемственности курса XXVI съезда КПСС. Без таких клятв и заверений в то время немыслимо было обойтись. Но тут же пояснялось: «В ленинском понимании преемственность означает непременное движение вперед, выявление и разрешение новых проблем, устранение всего, что мешает развитию. Этой ленинской традиции мы должны следовать неукоснительно, обогащая и развивая нашу партийную политику, нашу генеральную линию на совершенствование общества развитого социализма».
В одной фразе как бы соединились два начала: одно — «непременное движение вперед, выявление и разрешение новых проблем», другое — «совершенствование развитого социализма». Для любителей «цитатных» диссертаций, мастеров жонглировать фразами, вырванными из исторического контекста, главным является то, что и Горбачев, мол, клялся «развитым социализмом», а потом «предал» его. Для меня же, для тех, кто начал перестройку, главным было «устранение всего, что мешает развитию». Этому принципу я оставался верен при всех сложнейших перипетиях перестройки.
«Противоречия» подобного рода можно обнаружить без особого труда и в других местах доклада. В нем присутствует общепринятый в те годы тезис, что, «опираясь на преимущества социализма, страна в короткий исторический срок совершила восхождение к вершинам исторического и социального прогресса». А буквально через два абзаца обосновывается «необходимость дальнейших изменений и преобразований, достижения нового качественного состояния общества, причем в самом широком смысле слова. Это прежде всего научно-техническое обновление производства и достижение высшего мирового уровня производительности труда. Это совершенствование общественных отношений, и в первую очередь экономики. Это глубокие перемены в сфере труда, материальных и духовных условий жизни людей. Это активизация всей системы политических и общественных институтов, углубление социалистической демократии, самоуправления народа».
Да, мы отдавали должное сделанному предшествующими поколениями, но самой постановкой вопроса о переходе к новому, качественному состоянию общества давали понять, что прежние формы жизни исчерпали себя, нужны радикальные перемены. И главным их рычагом называлось форсирование научно-технического прогресса, предполагающее реконструкцию отечественного машиностроения, производство нового поколения машин и оборудования, применение высоких технологий. Наряду с этим выдвигалась идея децентрализации управления экономикой, расширения прав предприятий, внедрения хозяйственного расчета, повышения ответственности и заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах своей деятельности.
Со времен революции на партийных съездах и пленумах, сессиях ВЦИК и Верховного Совета многократно обсуждался вопрос о громоздкости и низкой эффективности аппарата управления, его пораженности бюрократизмом. Принимались строгие решения, а численность аппарата неуклонно росла, поскольку стремились решать проблемы созданием новых управленческих структур. Нужно было менять саму систему руководства экономикой, оставить на долю верхних эшелонов социально-экономическую и научно-техническую стратегию, а все остальное передать на усмотрение производственных коллективов.
Решение социальных вопросов имелось в виду увязать с модернизацией и реформированием экономики, расширением прав местных органов власти, с преодолением уравниловки, перекрытием каналов нетрудовых доходов. Предусматривая разработку социальной программы к XXVII партийному съезду, уже тогда задавались вопросом: возможно ли одновременно модернизировать производство и осуществлять крупные меры в социальной области? И делали вывод, что это возможно при строгом соблюдении требования об опережающем развитии производственной сферы. Иначе говоря, наше мышление все еще оставалось в плену привычных постулатов.
Среди проблем, которые апрельский Пленум определил как неотложные и жизненно важные, были названы жилье, продовольствие, реформа народного образования, создание современной базы здравоохранения. Словом, были определены главные направления развития экономики и социальной сферы. Внутренние вопросы, прежде всего разработка концепции реформ, составляли основное содержание дискуссии. Что касается внешней политики, то в докладе была лишь лаконично подтверждена позиция СССР по актуальным международным проблемам на тот момент.
Хотя апрельский Пленум был, несомненно, прорывом в будущее, на нем лежала печать времени. Вся ставка делалась на КПСС, повышение ее «руководящей роли». Тема демократии свелась к декларации, что «решить сложные и масштабные задачи… можно только опираясь на живое творчество народа». Взявшись за решение исторической задачи обновления общества, реформаторы не могли, естественно, разом освободить свое сознание от прежних шор и оков. Мы, как, вероятно, все политические лидеры в переломные моменты истории, должны были вместе с народом пройти путь мучительных поисков. Тут, мне кажется, нет предмета для иронизирования, циничных насмешек. Вот почему я достаточно спокойно отношусь к попыткам злословить на противоречиях: смотрите, мол, что говорил Горбачев в 1985, 86, 87-м годах, а что в 91-м или 94-м.
Резюмируя, можно сказать, что на апрельском Пленуме мы предложили новую политику, сформулированную — если употребить парламентское выражение — в «первом чтении».
По городам и весям
Перестройка началась сверху. Иначе и быть не могло в условиях тоталитаризма. Но опыт прошлых лет показывал — если реформаторские импульсы не будут подхвачены массами, они обречены. Надо было как можно скорее вытаскивать общество из летаргии и равнодушия, включать в процесс перемен. В этом я видел гарантию успеха задуманной перестройки, об этом говорил на апрельском Пленуме, такую цель преследовали и мои поездки по стране.
15 мая я поехал в Ленинград. По традиции посетил памятные места, возложил цветы на Пискаревском кладбище. Побывал на крупнейших предприятиях — «Электросила», «Кировский завод», «Светлана», «Большевичка», встретился с преподавателями и студентами Политехнического института, посетил выставку «Интенсификация-90». А в конце поездки в Смольном — встреча с активом.
Ленинградцы были не просто вежливы и гостеприимны. Зная о решениях апрельского Пленума, они с напряженным вниманием слушали мои пояснения, спрашивали, давали советы, подбадривали. Для меня было очень важно услышать чье-то напутствие: «Так держать!».
Тогда и у нас, и в зарубежной прессе появились первые наблюдения о стиле нового генсека: «Горбачев любит ходить в народ». Действительно, я всегда ощущал потребность в таком прямом общении и меньше всего при этом держал в голове меркантильный расчет на популярность. Короткие беседы, мини-интервью в заводском цеху, на колхозном поле, в институтской аудитории, а чаще всего — на улицах были для меня важнее социологических опросов.
Правда, поначалу людей было нелегко разговорить. Побаивались, скрытничали. А в большинстве — я это чувствовал, выдавали глаза — просто не очень верили в серьезность наших намерений. Сколько раз слышали громогласные заверения и обещания, а в жизни мало что менялось.
На лицах моих собеседников буквально можно было прочитать: «Хорошо говоришь, да разве дадут тебе что-то сделать. Попрыгаешь год-другой, а там — махнешь рукой и начнешь вешать себе на грудь золотые звезды. Все это мы уже проходили».
И как бы отвечая на эти сомнения, давая понять, что на сей раз задумано то, что мы еще не проходили, я говорил: «Мы должны всем нашим кадрам дать шанс понять требования момента и начать работать по-новому. Но тот, кто тормозит решение стоящих задач, тот просто должен уйти с дороги, не мешать. Надо перестраиваться всем — от рабочего до министра, от рядового коммуниста до секретаря ЦК партии».
В конце июня я поехал на Украину. Встретился с киевскими авиастроителями, создавшими знаменитый самолет-грузовик «Руслан». Посетил Институт электросварки имени Е.О.Патона — его возглавлял Борис Евгеньевич Патон — крупнейший наш ученый, да и политик незаурядный; его поддержку я чувствовал все годы перестройки. Из Киева вылетел в Днепропетровск, полагая, что раз мы начинаем критическое осмысление брежневского периода, то и сказать людям об этом уместно на родине Брежнева. Выступая 26 июня на Днепропетровском металлургическом заводе, я прямо спросил собравшихся: «Может быть, у кого-то возникнет вопрос: а не круто ли мы заворачиваем? Как вы считаете?» Раздались голоса: «Правильно, так и нужно!» Спрашиваю: «Это что, отдельные голоса или общее мнение?» В ответ дружно: «Общее!»
В конце поездки я встретился с членами ЦК, первыми секретарями обкомов, руководящими работниками республиканских государственных органов — теми, кто держал в своих руках реальную власть и от позиции которых во многом зависела реализация курса апрельского Пленума на Украине. Хотя все предшествующие дни мы неразлучно были со Щербицким, я видел, как он волновался. Да и сам я не был спокоен. Надо было найти верный тон разговора с украинским руководством: сказать без обиняков не слишком приятные вещи и притом постараться установить взаимопонимание.
Украина, ее граждане заслуживали признания за свой вклад в общесоюзные дела. Но для многих участников встречи оказались неожиданными данные о том, что темпы роста сельскохозяйственного производства в республике снизились и хлеб на Украину уже приходится завозить со стороны. А ведь в зале сидели власти предержащие. Это были плоды их деятельности — самая благодатная для сельского хозяйства республика не обеспечивала себя зерном. Затем на фактах и цифрах я показал незавидное состояние ведущих отраслей индустрии, всегда бывших предметом гордости республики, — угледобычи, металлургии, машиностроения. В общем, на этой встрече сложилась непривычная для украинских руководителей обстановка. До сих пор с ними никто так не разговаривал. Украина, ее проблемы всегда являлись прерогативой Брежнева, а он в силу особой своей привязанности закрывал глаза на происходящее. Впрочем, эта своеобразная «деликатность» объяснялась в еще большей мере нежеланием нажить себе скрытых недоброжелателей и подорвать благостное единство руководящих кадров в центре и на местах. Ведь Брежнев не мог не знать о безобразиях, творившихся в Узбекистане, злоупотреблениях в других республиках и российских областях. Однако предпочитал не поднимать шума и не выносить сор из избы. Разве что пожурит с глазу на глаз проштрафившегося руководителя и уж в крайнем случае пошлет послом.
Что позволило мне уже на первой встрече повести с украинцами откровенный, честный разговор? В словах моих не было ни грана напраслины. Я с чистой совестью мог напомнить о немалых успехах, достигнутых в прошлом при участии тех же кадров. Ну и, наконец, дал понять, что, если они по-настоящему возьмутся за дело, поддержка будет масштабная.
Написав это, задумался над тем, что в то время все еще находился во власти иллюзии, будто можно успешно решать новые задачи, творить радикальные реформы с тем же руководящим слоем. Было в нем много талантливых, одаренных людей, прекрасных организаторов и специалистов, не одни чинуши и беспринципные ловкачи. Но в том-то и дело, что свою миссию они выполняли методами командной системы и вместе с нею исчерпали свои возможности, начали почивать на лаврах. А лавры на глазах убывали, как иссохший лист. Поздновато я все это понял, да и не мудрено: сам ведь вышел из этой среды, болел ее болезнями. Ну а тогда итогами своей поездки на Украину я был доволен. Она была уважительной с обеих сторон. Киевляне и днепропетровцы заявляли о готовности всячески поддержать курс нового генсека, а я не скрывал своих симпатий к ним. Вечером 25 июня во дворце «Украина» мы с Раисой Максимовной были приглашены на концерт народного хора имени Г.Веревки. С детства я любил украинские песни и пляски и в тот день испытал огромное наслаждение.
Решения апрельского Пленума были в центре моей поездки в Минск. Запомнились два состоявшихся там выступления: 10 июля перед участниками сбора руководящих военных кадров, на другой день — в ЦК Компартии Белоруссии. По реакции на выступления, характеру вопросов и реплик минчан я вынес впечатление, что и здесь новый курс партии встречает благожелательный отклик. Вместе с Раисой Максимовной посетили Хатынь, все жители которой были уничтожены фашистами в годы оккупации. Там, где когда-то стояли крестьянские избы, высится монумент — старик с мертвым ребенком на руках. А на пепелищах домов, словно обгоревшие печные трубы, каменные столбы с колоколами. Их протяжный скорбный перезвон напоминает о страшной войне, ее бесчисленных жертвах.
Первые поездки показали, что полагаться на агитпроп, да и на моих соратников в разъяснении политики перестройки нельзя. Как ни сложно со временем, надо продолжать прямое общение с народом, увидеть своими глазами, что происходит, понять, чем дышат большие и малые начальники.
Не теряя времени я стал готовиться к поездке в Восточную Сибирь. Хотелось на месте разобраться в причинах неблагополучного положения с добычей нефти и газа, посмотреть, как живут люди, — уж очень много недовольства высказывалось ими в письмах в ЦК КПСС. 4 сентября мы с Долгих, Ельциным, Байбаковым, министром газовой промышленности В.С.Черномырдиным прибыли в Тюменскую область. Знакомство началось с Нижневартовска — столицы нефтяного края. Потом добрались до расположенного у Полярного круга Уренгоя, где разворачивалась масштабная работа по добыче и транспортировке газа. Побывали в Сургуте на строительстве электростанции и микрорайонов города.
Разговор с нефтяниками и газовиками получился на редкость острым. Проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться ежедневно, выходили за рамки местных интересов. Наращивание экономической мощи государства упиралось в освоение этого сурового, труднодоступного, необжитого края. Изначально были допущены большие просчеты, негативные последствия которых уже начали сказываться на всем. Вроде бы прописная истина: если есть намерение развернуть крупное производство в незаселенных или малонаселенных местах, надо позаботиться об опережающем создании инфраструктуры: дорогах, жилье, свете, тепле. А школы, больницы, библиотеки, стадионы — словом, все, что нужно для нормального человеческого жития!
И сейчас перед глазами встреча в Уренгое: на улицы вышли все жители города. Люди довольны, что к ним наконец приехал «главный» — разговор прямой, беспощадный. «Как же так, живем в «балках» или железнодорожных вагончиках! Всего не хватает. Здесь, за Полярным кругом, не можем добиться регулярных рейсов самолетов, связи со столицей, другими городами! Газ нужен Союзу, Европе, а мы, выходит, никому не нужны?»
Поведали они мне о том, что торговые организации направляют покорителям Сибири залежалый товар, который не могут сбыть в других городах. В регионе не хватает электроэнергии — хотя строительные мощности позволяют решить эту задачу, кто-то должен распорядиться о продлении строительства новых мощностей на Сургутской ГРЭС. Да что там ГРЭС! На местном молочном заводе недостает мощностей, которые можно построить в течение месяца. И этот элементарный вопрос не решается.
Я столкнулся просто с абсурдными вещами. Оказывается, машиностроители поставляли на Север машины и нефтеоборудование чуть ли не россыпью, вместо того чтобы, применяя индустриальную сборку, доставлять их в виде крупных узлов. В результате приходилось создавать целые сборочные цехи, что требовало дополнительной рабочей силы, а значит, дополнительного жилья и всего прочего.
Мне импонировало, что люди, приехавшие в Сибирь, чувствовали себя не временщиками, а хозяевами, возмущались организацией работ, в результате которой безжалостно губятся лес, реки, почва. С самого начала была сделана ставка на фонтанирующую нефть, о рациональном использовании природных ресурсов не заботились. Тысячи факелов денно и нощно пылали по всей тюменской земле. Глубина переработки нефти составляла здесь 58 процентов, а в мире она приближалась к 80 процентам. Из одного кубометра древесины здесь производилось продукции в два раза меньше, чем по Союзу, по сравнению же с развитыми странами Запада — в несколько раз. Планы ресурсосбережения составлялись регулярно, но из года в год не выполнялись. Самая богатая природными запасами страна все острее стала ощущать недостаток топлива, энергии и даже леса.
В Тюмени, куда съехались нефтяники этого огромного края, я почувствовал по реакции зала, что людям надоели общие декларации, они ждали реальной помощи.
По возвращении из поездки без промедления приняли решения, к их реализации была подключена практически вся промышленность. В Западную Сибирь отправлялись трубы, цемент, стройматериалы, оборудование. Была оказана срочная помощь по линии торговли, внесены коррективы в планы жилищного строительства и сооружения предприятий жизнеобеспечения. Тогда удалось остановить падение и даже несколько увеличить добычу нефти. Увы, вскоре политические страсти захлестнули страну и внимание к этой коренной проблеме ослабло. Нефтяники и газовики правы, говоря, что начатое не было доведено до конца.
Крупнейшие просчеты экономической политики дали о себе знать и в других местах, что подтвердила моя поездка в Казахстан. Главным в ней было не столько знакомство с работой колхозов и совхозов, научными учреждениями целинного края — я и раньше там бывал, — сколько разговор с представителями Казахстана, Сибири, Урала о том, как реализуется Продовольственная программа. После ее принятия прошло уже три года. Производство сельскохозяйственной продукции в целом увеличилось, меньше стало убыточных хозяйств, крестьяне стали больше приобретать техники, строить дорог, жилья, а вот снабжение продовольствием практически не улучшилось. Где же выход? Дело упиралось в общее состояние экономики. И на первый план выходила необходимость установить разумные пропорции между гражданским и военным сектором.
«Кадры решают все»
Сказать, что отчетно-выборная кампания перед XXVII съездом отличалась от прежних, не могу. Правда, кое-где появились робкие признаки начавшегося раскрепощения сознания. Коммунисты, вопреки стараниям аппаратчиков, начали проваливать навязываемых им руководителей, избирать тех, кто был им по душе. «Работяги» стали посмелее высказываться. Но в основном все катилось по наезженной колее. Партия действовала прежними методами, жила по установленным десятилетиями писаным и неписаным правилам.
Было ребячеством думать о переменах в обществе, не меняя ничего наверху. Для части членов Политбюро апрельский Пленум — это уже другая эпоха, в которой они не могли найти себя. Выступить в поддержку нового курса их побудило чувство самосохранения. Ну а рассчитывать на возможность реализации с ними новых задач не приходилось. Этим была продиктована замена Тихонова на посту Председателя Совета Министров СССР Рыжковым. Председателя Госплана Байбакова сменил Талызин; Нуриева, отвечающего за АПК, — Мурахов-ский; Смирнова, ведающего оборонным комплексом, — Маслюков. Министром МВД вместо Федорчука стал Власов, до этого работавший первым секретарем Ростовского обкома партии.
После апрельского Пленума некоторые члены Политбюро стали высказывать мнение о целесообразности совмещения постов Генерального секретаря и Председателя Президиума Верховного Совета, как это было при Брежневе, Андропове, Черненко[7]. С этим я не согласился. Во-первых, для меня было далеко не безразлично, как это будет воспринято обществом. Во-вторых, на таком масштабном и ответственном развороте не хотел дополнительных нагрузок, которые отвлекали бы внимание, время и силы. Наконец, в тот момент было важным произвести замену министра иностранных дел, и я не видел иного варианта, как выдвижение Громыко на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Крупный политик и дипломат, умудренный опытом человек, — словом, личность незаурядная. Он стремился к контактам со мной, подчеркивая готовность лояльно сотрудничать.
Правда, Громыко рассчитывал сохранить за собой монопольное влияние на сферу внешней политики. Но уже скоро убедился, что это для меня неприемлемо. Как он реагировал? Спокойно. Умения адаптироваться к ситуации ему было не занимать, в этом состоял его талант, секрет непотопляемости.
Почему надо было менять министра иностранных дел? Предстояло радикально реформировать внешнюю политику, и ясно было, что это затронет многочисленных наших партнеров в международных делах — и союзников, и нейтралов, и противников, с которыми надо было искать формулу примирения. Крутой поворот в этой сфере был невозможен без обновления во внешнеполитическом ведомстве. Для Громыко такая задача была уже не по силам.
Впрочем, мое предложение было весьма почетным, и Андрей Андреевич принял его с удовольствием, рассматривая как достойную оценку своих заслуг перед Отечеством. Я никоим образом не изолировал его от участия в обсуждении вопросов внешней политики, как и внутренних проблем, напротив, считал ценной возможность обратиться к его памяти и опыту.
После нашего разговора с Громыко, о котором, кстати, никто до поры не знал, вопрос этот перешел в практическую плоскость. В итоге долгих размышлений я остановил свой выбор на Шеварднадзе.
С Шеварднадзе мы познакомились еще на XII съезде комсомола. Тогда он не совсем гладко говорил по-русски, не был, как принято говорить, молодежным вожаком, «заводилой», выдающимся оратором. С расхожей точки зрения — «нетипичный грузин», очень уж сдержанный и внутренне собранный. Но было в нем нечто располагавшее к общению. Встречались мы, как я уже рассказывал, и будучи секретарями: он — ЦК Компартии республики, я — крайкома, затем ЦК КПСС. Между ставропольцами и грузинами издавна существовали живые связи, и мы с Эдуардом Амвросиевичем всячески содействовали их развитию. Конечно, ни он, ни я не предполагали, к чему могут привести эти контакты несколько лет спустя.
Со временем между нами сложились доверительные взаимоотношения, позволявшие обо всем говорить откровенно. Я имел возможность убедиться, что ко многим ключевым проблемам политики, в том числе — международной, у нас общий подход. Став генсеком и размышляя о кадрах, я пришел к мысли о том, что именно такой человек, способный размышлять и убеждать, наделенный восточной обходительностью, может справиться с новыми задачами на поприще внешней политики.
Через несколько дней после разговора с Громыко мы снова встретились для обсуждения вопроса о его преемнике. Он рассчитывал выдвинуть на этот пост кого-то из дипломатов. Говорил о Корниенко, назвал и сам же отклонил Воронцова, в то время посла во Франции. Упоминалась и кандидатура Добрынина, хотя он его не жаловал, видимо, понимал, что тот во многом ему не уступает, а может быть, и превосходит.
Когда я спросил Андрея Андреевича: «Как вы смотрите на Эдуарда Шевардназде?» — первая его реакция была близка к шоку. Ожидал чего угодно, только не этого. Однако в считанные секунды справился с собой, стал рассуждать, взвешивая «pro и contra».
— Вижу, вы не воспринимаете Шеварднадзе, — сказал я, — что ж, давайте подумаем, кто лучше.
И вдруг слышу: «Нет-нет, это ведь, как я понимаю, ваше выношенное предложение».
— Хорошо, давайте еще подумаем, а затем продолжим разговор.
В следующий раз в разговоре участвовали Чебриков и Лигачев. Отметив, что сейчас нам не удастся заменить Громыко человеком, равным ему по опыту, я заключил:
— Размышляя о будущем министре, всякий раз прихожу к выводу, что он должен быть крупной политической фигурой. И в связи с этим склоняюсь к кандидатуре Шеварднадзе.
Обмен мнениями свелся к следующему. Эдуард Шеварднадзе — личность, несомненно, незаурядная, сформировавшийся политик, образован, эрудирован. Работая в трудное время в Грузии, прошел большую политическую школу как секретарь ЦК Компартии республики и кандидат в члены Политбюро. В курсе внутренней и внешней политики страны, занимает новаторские позиции. Конечным итогом было согласие. После этого я позвонил Шеварднадзе в Тбилиси и сказал, что мы предлагаем ему пост министра иностранных дел. Последовала длинная пауза.
— Все, что угодно, мог ожидать, только не это. Я должен подумать. И вы еще должны подумать. Я не профессионал… Грузин… Могут возникнуть вопросы. А как Громыко?
Сообщил, что Громыко, Лигачев, Чебриков поддерживают его кандидатуру, и попросил прибыть в Москву. На следующий день мы еще раз с ним побеседовали. Затем я пригласил членов Политбюро, и вопрос был решен. 1 июля на Пленуме ЦК Шеварднадзе был избран членом Политбюро, а 2-го на сессии Верховного Совета назначен министром иностранных дел СССР. Сессия избрала Громыко Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
Реакцию на назначение Шеварднадзе в стране и в мире можно охарактеризовать как крайнее недоумение. Многие выражали непонимание и несогласие с тем, что такую важнейшую функцию союзного государства доверили не русскому человеку. Но искушенные люди разгадали замысел Горбачева: «Воздал должное Громыко и одновременно обеспечил себе свободу рук во внешней политике, поставив на это дело близкого человека, соратника».
На июльском Пленуме от обязанностей члена Политбюро и секретаря ЦК был освобожден Романов. Секретарями ЦК избраны Ельцин и Зайков, заведующим отделом пропаганды утвержден Александр Яковлев, а заведующим общим отделом — Анатолий Лукьянов.
Встретившись с Романовым, я достаточно откровенно дал понять, что для него нет места в составе руководства. Воспринял он это болезненно, хотя возразить было нечего. Я сказал, что предпочитаю не доводить дело до обсуждения в Политбюро, лучше решить все на добровольной основе. Романов всплакнул, но в конечном счете принял это предложение. На Пленуме вопрос о нем решился спокойно, членом ЦК он остался.
Непросто решился вопрос об уходе на пенсию Тихонова. Вроде бы все ясно: человеку без пяти минут 80, во главе правительства, тем более — вступающего на путь реформ, должен стоять политик, обладающий запасом сил и времени, способный заглянуть в завтра. Тихонов же был деятелем не то что вчерашнего, скорее позавчерашнего, сталинского времени. Но у него на этот счет было собственное мнение. Был уверен, что не обойдутся без его услуг, и в первом нашем разговоре выразил готовность «поработать в новой интересной обстановке».
Я вежливо отклонил это предложение и, напирая в основном на трудности предстоящих преобразований, необходимость позаботиться о здоровье ветеранов, послуживших стране, дал понять, что ему надо уходить на пенсию. Здесь выяснилось, что Тихонов все-таки был готов к такому исходу дела. Он попросил не оставить без внимания условия его дальнейшего бытия, и я пообещал сохранить все, чем он пользовался. В конце сентября его освободили от обязанностей главы правительства, а в октябре на Пленуме ЦК вывели из состава Политбюро.
При обсуждении кандидатур на пост предсовмина всплывали многие имена, но в конце концов выбор свелся к двум: Рыжков или Воротников. Виталий Иванович неплохо зарекомендовал себя на посту главы правительства Российской Федерации, за плечами у него был большой и многообразный опыт руководящей деятельности. Он располагал к себе взвешенностью суждений, вдумчивой, спокойной манерой решать дело. Но тот факт, что в РСФСР не было своего ЦК и фигура главы правительства приобретала особый смысл, говорил за то, чтобы оставить Воротникова на этом посту.
Выбор в пользу Рыжкова был, конечно, продиктован не только этим. Мы с ним плодотворно сотрудничали еще при Андропове, и во многих случаях обнаружилась близость наших взглядов на положение в экономике, понимание острой нужды в коренной ее реконструкции. Совпадали и политические позиции, по крайней мере, не помню каких-либо существенных расхождений по этому поводу. Мне импонировали человеческие качества Николая Ивановича — четкость, иногда резкость суждений, никогда не переходившая в грубость, деловая хватка, воспитанная в годы практической деятельности на производстве.
Наши отношения не оставались безоблачными. Развитие событий ставило обоих перед непредсказуемыми ситуациями, взгляды каждого претерпели эволюцию, не обошлось без моментов непонимания, обиды и даже раздражения. Не рассудить, кто был прав в каждом конкретном случае (ко многим эпизодам я буду не раз возвращаться), но при всем этом должен сказать, что и сейчас считаю правильным тот выбор. Рыжков был моим первым соратником в деле реформ, мы действовали тогда в одном ключе, и, что бы ни случилось потом, за это товарищество я останусь ему благодарен.
Следующей по значению кадровой проблемой стала смена первого секретаря МК, в просторечии — московского губернатора. Всем было очевидно: руководство столицы выдохлось, полагаться на его способность работать по-новому безрассудно. Москва, которую торжественно обещали превратить в «образцовый коммунистический город», переживала серьезные трудности с жильем и снабжением, падал ее производственный и интеллектуальный потенциал. Конечно, тогдашнее состояние столицы может считаться образцовым по сравнению с тем, во что превратили ее за два года своего правления наши демократы. Но все, как известно, познается в сравнении. Тогда мало кто сомневался в необходимости замены Гришина, хотя сам он думал по-другому и даже претендовал на более высокие посты. Человек крайне самоуверенный и болезненно властолюбивый, он не терпел вокруг себя сколько-нибудь ярких, самостоятельно мыслящих людей. Неудивительно, что в Московском комитете не оказалось фигуры, обоснованно претендующей на роль «первого», — пришлось искать ее на стороне. Так совпало, что одновременно надо было менять председателя Моссовета. В.Ф.Промыслов, занимавший этот пост на протяжении двух десятилетий, прослыл бездельником. Он умел и себя подать публике, и начальству «втереть очки», на том держался.
Отсюда начинается политическая карьера Ельцина, во всяком случае — столичный ее этап. Я уже упоминал о его назначении заведующим отделом строительства ЦК КПСС. Обычно претендентов на подобные роли искали среди секретарей, а среди них выбор на Бориса Николаевича пал не случайно. Он отвечал всем требованиям по анкетным данным: несколько лет руководил домостроительным комбинатом, работал заведующим строительным отделом обкома, а с 1976 года — первым секретарем Свердловского обкома.
Лично я знал его мало, а то, что знал, настораживало. В бытность мою секретарем ЦК проверялась работа свердловской парторганизации в области животноводства. Комиссия критически оценила деятельность обкома. Ельцин позвонил мне и попросил не вносить в ЦК подготовленную аналитическую записку, а направить ее в обком для обсуждения и принятия мер на месте. Тогда я курировал Секретариат ЦК и решил пойти навстречу свердловчанам: пусть разберутся сами, дело ведь не в том, чтобы устроить им разнос. Однако, вынеся записку формально на обсуждение, он не только не счел нужным ознакомить с ее содержанием участников пленума обкома, но, по сути дела, дезавуировал основные выводы комиссии. Присутствовавший на пленуме представитель ЦК Иван Капустян — человек прямой и твердый — взял слово, огласил для начала саму записку, а затем дал нелестную оценку поведению первого секретаря обкома.
Я тогда отметил для себя, что свердловский секретарь неадекватно реагирует на замечания в свой адрес. К этому прибавилось такое наблюдение: как-то в разгар дискуссии на сессии Верховного Совета Ельцин покинул зал, опираясь на чью-то руку. Многие заволновались — что произошло? Доброхоты успокоили: ничего, мол, особенного, подскочило давление. А земляки улыбались: с нашим первым случается, иной раз перехватит лишнего. Поскольку в памяти всплыли эти факты, я решил побеседовать с Рыжковым, он ведь в бытность руководителем Уралмаша был членом Свердловского обкома.
— Наберетесь вы с ним горя, — ответил Николай Иванович. — Я его знаю и не стал бы рекомендовать.
Это заявление усилило мои сомнения. Лигачев, ведавший кадрами, предложил:
— Давайте я съезжу в Свердловск, посмотрю на месте. Выехал, через несколько дней звонит:
— Я здесь пообщался, поговорил с людьми. Сложилось мнение, что Ельцин — тот человек, который нам нужен. Все есть — знания, характер. Масштабный работник, сумеет повести дело.
— Уверен, Егор Кузьмич?
— Да, без колебаний.
Так Ельцин оказался в ЦК. При его оформлении состоялась у нас короткая беседа, она мне не запомнилась. Работать начал он активно и на фоне предшественника выглядел неплохо. В то время пришлось повсюду «высматривать» людей деятельных, решительных, отзывчивых ко всему новому. Их в верхнем эшелоне, так сказать, поблизости, было не слишком много. Ельцин мне импонировал, и на июльском Пленуме я предложил избрать его секретарем ЦК. Не скрою, делал это, уже «примеривая» его на Москву.
22 декабря состоялось решение Политбюро рекомендовать Ельцина на должность первого секретаря МГК. На городской конференции он выступил с четко выраженным реформаторским замахом. Я поддержал критический пафос его доклада. Мы, правда, беспокоились, как пройдет тайное голосование, поскольку московский партактив был немало раздосадован тем, что не нашли достойного кандидата в столичной парторганизации, подыскали «варяга» со стороны. Но избрание прошло без помех. Ельцин и здесь энергично взялся за дело. Москвичам понравилась его требовательность к чиновникам различного ранга. И я считал такое решение о секретаре столичного горкома нашей удачей.
XXVII съезд КПСС
На рубеже 1985–1986 гг. был всецело занят подготовкой XXVII съезда партии, много размышлял о его «сверхзадаче». Прорыв, сделанный в марте — апреле, последовавшие за этим шаги во внутренней и внешней политике получили поддержку общества. Мои поездки по стране, встречи с руководителями Варшавского Договора, визит во Францию, переговоры с Рейганом, другими лидерами зарубежных стран поставили в повестку дня множество новых задач. В середине января 1986 года мы обнародовали программу разоружения к 2000 году. Теперь нужно было системно изложить и закрепить политический курс на перестройку, конкретизировать направления практической работы. Ну и, разумеется, принять новую программу; работу над ней завершили в октябре, и, рассмотрев на Пленуме ЦК, опубликовали для обсуждения.
По традиции генсек выступал на съездах с отчетным докладом. На сей раз решили назвать его политическим. Это позволяло отказаться от рутинного анализа проделанной работы, сосредоточиться на вопросах стратегического порядка.
К концу декабря материалы к докладу были подготовлены, и в самый канун Нового года я отправился на отдых в Пицунду. В это время у холодного, беспокойного моря своя суровая красота. Волны с грохотом разбиваются о камни, брызги, пена. Воздух настолько насыщен ионами, что кажется осязаемым, весомым, вдыхаешь его, как тонизирующий коктейль. Работается, скажу вам, в такой атмосфере превосходно.
Сразу после Нового года я пригласил в Пицунду Александра Яковлева и Валерия Болдина. В дополнение к материалам рабочей группы они привезли проблемные разработки, представленные по моей просьбе академическими институтами. В маленьком домике, стоящем на берегу моря, были вновь перечитаны, обдуманы, обсуждены все положения доклада. Делались первые попытки продвинуться к новым оценкам и выводам.
Принципиальное значение имел вывод доклада о взаимосвязанности, взаимозависимости, целостности мира, оказавший огромное воздействие на нашу собственную и мировую политику. В самом деле, признав его правильность, нельзя не признать абсурдным и раскол мира на противостоящие блоки. Так, в докладе появляются записи: «Политика тотального противоборства, военной конфронтации не имеет будущего». «Не только сама ядерная война, но и подготовка к ней, то есть гонка вооружений, стремление к военному превосходству объективно не могут принести политического выигрыша никому». Выиграть «гонку вооружений, как и саму ядерную войну, уже нельзя», надо идти по пути сотрудничества «ради создания всеобъемлющей системы международной безопасности». А в таком случае и сама «задача обеспечения безопасности предстает как задача политическая, и решить ее можно лишь политическими средствами».
Преобразование общества связывалось с реализацией курса на ускорение социально-экономического развития страны, взятого на апрельском Пленуме. Речь шла не о революции, а именно о совершенствовании системы. Тогда мы верили в такую возможность. Так истосковались по свободе, что думали: дай только обществу приток кислорода — оно воспрянет. И саму свободу толковали широко, включая действительную, а не декларативную передачу земли крестьянам и фабрик рабочим, простор предпринимательству, изменение инвестиционной и структурной политики, приоритетное развитие социальной сферы. Давали себе отчет — хотя еще не слишком конкретно формулировали эту мысль — о необходимости демократизации общества и государства, развития народного самоуправления.
Прожив почти год после апрельского поворота, мы видели, что политика перестройки наталкивается на большие препятствия, а многими воспринимается как очередная кампания, которая вот-вот выдохнется. Нужно было устранить подобные сомнения, убедить людей в необходимости взятого курса. Так появилась в докладе тема гласности. «Без гласности нет и не может быть демократии». «Надо сделать гласность безотказно действующей системой. Она нужна в центре, но не менее, а, может, даже более нужна на местах, где живет и работает человек». Сейчас подобные «заклинания» воспринимаются вроде банально, но* в то время это были принципиально новые политические установки, сыгравшие огромную роль в пробуждении общественного мнения и активности. Впрочем, гласность остается не менее актуальной и теперь.
При подготовке доклада были сделаны первые попытки осмыслить роль партии в контексте перестройки общества. Появляются положения, которые получат развитие на январском Пленуме 1987 года и особенно на XIX конференции КПСС. «Партия осуществляет политическое руководство, определяет генеральную перспективу развития… Что касается путей и методов решения конкретных хозяйственных и социально-культурных вопросов, то здесь широкая свобода выбора предоставляется каждому органу управления, трудовому коллективу, хозяйственным кадрам». «Партия решительно выступает против смешения функций партийных комитетов с функциями государственных и общественных органов». Конечно, никто тогда не усматривал в подобных утверждениях призыва к политической реформе, но ведь объективно они сыграли именно такую роль.
К середине января я представил проект доклада в Политбюро и при его обсуждении впервые почувствовал, насколько сильна власть идеологических стереотипов. Даже выдвинутые мною члены руководства, которые, казалось бы, по многим качествам относились к реформаторам, были до крайности робки, когда речь шла не то что о пересмотре, а только об уточнении тех или иных теоретических формул. Тут они наперебой спешили продемонстрировать свою ортодоксальность.
Как бы не впасть в ересь, «как бы чего не вышло» — вот что было почти у всех на уме. Заявляли о поддержке нового, но у многих то и дело включались идеологические тормоза.
После обсуждения проекта доклада мы с Раисой Максимовной уехали в Завидово. Через день туда приехали Медведев, Яковлев, Бол-дин — начался завершающий этап работы над докладом. Проблематика сохранилась, а вот структура, изложение материала претерпели большие изменения. Раиса Максимовна практически все время была с нами, слушала наши дискуссии, включалась в них. Здесь оказались полезными ее опыт социологических исследований, работа с вузовской молодежью, да и просто знание быта, женская интуиция. Она нас, можно сказать, пристыдила за то, что в докладе обходилось положение семьи и женщины в обществе, подсказала, как лучше, масштабней эту тему поставить. Что говорить, всю дорогу у нас провозглашался лозунг равенства женщин, их участия в управлении страной, а на практике мы здесь уступаем не только западным, но и восточным странам. Каюсь, не было женщин в руководстве и при Горбачеве. Не видно их и при Ельцине.
Когда работа над докладом подошла к концу, мы обнаружили большой разрыв между ним и новой редакцией Программы КПСС — последняя была бледней во всех отношениях — по идеям, глубине анализа, четкости аргументации в пользу нового политического курса. Пришлось спешно готовить поправки, чтобы снять хотя бы бросающиеся в глаза расхождения между двумя документами. Эти поправки было предложено внести на заседании Программной комиссии 17 февраля 1986 года. И уже на следующий день Пленум ЦК утвердил Политический доклад, проекты новой редакции Программы и Устава КПСС, а также доклад об основных направлениях экономического и социального развития СССР на предстоящие годы.
Дату открытия съезда (25 февраля) выбрали случайно, но — своеобразная символика! — она совпала с 30-летней годовщиной XX съезда. Политический доклад, как мне показалось, делегаты приняли хорошо, а вот в дискуссии преобладала инерция прошлого. Делегаты «с мест», включая выступивших вначале Кунаева и Щербицкого, сбивались на мелочные самоотчеты. Не обошлось без славословий в честь генсека, хотя, казалось, время их ушло безвозвратно. Когда этот мотив зазвучал в выступлениях Льва Кулиджанова и Эдуарда Шеварднадзе, я вклинился в прения, попросил «снизить патетику» и «перестать склонять Михаила Сергеевича». Реакция съезда была неожиданной. Казалось бы, сущий пустяк, но он как раз высветил общий настрой людей: раздался дружный смех делегатов и гром аплодисментов. Дискуссия начала приобретать более содержательный характер и в целом несла печать начавшегося перехода от одного состояния общества к другому.
Часть делегатов, остро критически оценивая положение в стране, ставила вопрос об ответственности прежнего руководства партии. Среди ораторов с таким настроем выделялся Ельцин. Другие акцентировали на положительной оценке сделанного предшествующими поколениями, призывали сохранить преемственность в политике. Пожалуй, сильнее всех выразил это настроение Громыко. Но открытого столкновения этих позиций на съезде не произошло.
Думаю, среди делегатов превалировало то, что я ощущал в общении с людьми во время своих поездок по стране. Рассуждали примерно так: «Посмотрим, что из этого выйдет». Мне передали, что один из руководителей Итальянской компартии Джан Карло Пайетта, человек проницательный и въедливый, не без юмора заметил:
— У меня сложилось впечатление, что ваша партия имеет как бы трех генеральных секретарей. Один — тот, который одобрил новую редакцию Программы КПСС. Это документ, целиком пронизанный взглядами прошлого. Другой — тот, который выступил с докладом; тут уже есть свежие идеи, нацеленные на перемены. И наконец, третий генсек редактировал резолюцию по докладу. В ней гораздо больше нового, хотя и здесь сталкиваешься то ли с эзоповым языком, то ли с недостаточным пониманием необходимости глубоких преобразований.
В этих рассуждениях проявилось направление критики, которое исходило из привычных представлений, будто Генеральный секретарь может делать все, что ему заблагорассудится. А было ли такое время вообще? Ведь инерция общественного сознания существовала всегда, и любой генсек вынужден был считаться с «законом косности». По-иному никакие новации не проходили. Выходит, проблема заключалась не «в трех генсеках», а в том, что нарождавшемуся «новому мышлению» приходилось пробиваться через подводные рифы заскорузлых представлений и догм.
Тем, кто полагает, что из людей, как из глины, можно лепить любые фигуры в соответствии с вольной авторской фантазией, напомню о силе стереотипов. С этим я еще раз столкнулся в 1993 году в ходе визитов в Германию по приглашению правительств земель, политических и научных центров. В один из вечеров мы с Раисой Максимовной встретились с Гельмутом Колем и его супругой. Обсуждали многое. И вот что сказал канцлер, делясь своей оценкой положения в стране. «Что касается экономической интеграции восточных земель с экономикой западной части, то, хотя эта проблема решается непросто, тут все-таки меньше неожиданностей. Намного сложнее оказались вопросы, связанные с образом жизни и мировосприятием людей. В восточных землях мы встретились, по сути дела, с другим народом, и это нельзя игнорировать. Как минимум, целое поколение должно прожить другой жизнью, чтобы вписаться в новую социально-политическую и психологическую среду».
То, что мы называем советским образом жизни, и было реальностью для нескольких поколений, не могло бесследно исчезнуть — в таком случае должен был бы исчезнуть 300-миллионный народ, по крайней мере все люди сознательного возраста. А для этого образа жизни, помимо бесспорных плюсов, о которых нельзя забывать, было характерным низведение личности человека до мельчайшей частицы гигантского запрограммированного потока, на скорость и направление которого влиять она не могла. У основной массы людей практически не было ни экономического, ни политического, ни духовного выбора, все определялось и «расписывалось» в рамках действующей системы. Человек не решал, за него решали власти, и это в конечном счете обернулось социальным иждивенчеством и социальной апатией.
Правда, многим уже были видны симптомы надвигавшегося кризиса, критика существовавших порядков усиливалась, несмотря на репрессии, появились осуждавшие систему в целом диссиденты. Но не следует преувеличивать степень «прозрения» тех, кто после смерти Сталина предпринимал шаги по реформированию нашего общества. Они оставались детьми своего времени, не смели перешагнуть через идеологические табу.
Достигнутое на XXVII съезде «соглашение» создавало для нового руководства определенную ловушку. Перестроечные процессы должны были очень скоро выйти за рамки принятых на нем решений. Это давало повод обвинить реформаторов в ревизионизме с последующими «оргвыводами». Чтобы избежать подобной угрозы, был один путь: использовать авторитет ЦК. По существовавшей в партии традиции Центральный Комитет был на деле средоточием власти, мог принимать любые решения, лишь формально ссылаясь на установки последнего съезда.
Съезд закончился 6 марта. Не откладывая в долгий ящик, я пригласил секретарей ЦК и членов правительства для разговора о предстоящих делах. На первый план выходила задача децентрализации экономики, которая уже встречалась в штыки бюрократическим аппаратом. Признаки непонимания и недовольства я уловил и в самом «верхнем эшелоне» партийно-государственного руководства. Многие тогда примеривали к себе грядущие перемены, задумывались, к чему приведет ликвидация излишних звеньев аппарата, борьба с громоздкостью и параллелизмом в деятельности управленческих структур. Но меня вдохновляла позиция руководителей хозяйственных организаций, предприятий.
После съезда я встретился с редакторами газет, руководителями телевидения, творческих организаций — эти контакты стали регулярными. Но больше всего меня интересовало, что делается в трудовых коллективах, как люди восприняли решения съезда, как действуют кадры. В начале апреля я отправился в Куйбышев, ныне Самару. Выбор был связан с тем, что в этом регионе сосредоточена крупная промышленность: авиационная, химическая, металлургическая. Область располагает крупным сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Куда же еще ехать! И, конечно, в Тольятти, на знаменитый ВАЗ, флагман советского машиностроения.
Три дня заняла поездка. Первое ощущение — будто машина времени вернула меня ровно на год назад. Секретари обкома, горкомов все так же зыркали на подчиненных, определяя «допустимую» меру общения генсека с народом. Жестом останавливали людей, рвавшихся к откровенной беседе, или пресекали ненужные, на их взгляд, разговоры. Мое желание выяснить истинное положение дел явно не устраивало местных начальников. Беседы напрямую с людьми настолько выводили некоторых из равновесия, что они пытались бестактно вмешиваться. Приходилось публично осаживать, говоря, что в данный момент меня интересует беседа не с ними. И я видел, как начальственные шеи и лица багровели, наливаясь кровью от обиды и негодования.
Порадовали меня автозаводцы своим стремлением освоить новые методы хозяйствования — им, кажется, это удается лучше других. В то время успешно осуществлялась программа модернизации местным металлургическим заводом. Опыт этих предприятий показывал, что пришло время для расторопных и предприимчивых людей.
Но таких было раз, два и обчелся. В остальном — все по-старому. Типичная для того времени картина: огромное желание перемен у людей и равнодушие руководящих кадров. Настоящая обломовщина. Я задавал себе вопрос: в чем причина, не приемлют перемен или не способны на них? Конечно, многое зависит от союзных и республиканских верхов, но ведь и то, что можно сделать на месте, не делается.
Ничего утешительного не услышал я и от своих коллег, побывавших в других районах страны. Все идет по инерции, «сцепления» политики перестройки с жизнью городов и предприятий пока не видно — таков был общий приговор. Идет поток писем в ЦК, и большая их часть наполнена тревогой по поводу бездействия местных властей. Мой земляк со Ставрополья с горечью сообщал: на днях пошел к директору совхоза с планами улучшения производства, а тот его выставил из кабинета: не суйся не в свое дело. «Вот так, оказывается, и после съезда — это не мое дело». Тогда же пришло письмо из Горького от бывшего соученика по МГУ Василия Мишина — теперь доктора философских наук, заведующего кафедрой: «Имей в виду, Михаил, в Горьком ничего не происходит, ни — че — го!»
На заседании Политбюро 24 апреля вели разговор о причинах пробуксовки перестройки. Констатировали — дело упирается в гигантский партийно-государственный аппарат, который, подобно плотине, лег на пути реформ. В мае 1985-го я говорил, что мы даем всем шанс перестроиться и честно занять позицию, прошедшее время убедило в необходимости более жесткого подхода к кадрам, ибо речь уже шла не только о недопонимании или неумении, а о прямом саботаже. Внимание коллег я обратил на одну из публикаций, содержание которой перекликалось с темой нашего разговора: «Хрущеву шею сломал аппарат, и сейчас будет то же самое».
А через два дня мы испытали потрясение, надолго отодвинувшее на второй план все замыслы.
Чернобыль
Авария на Чернобыльской атомной электростанции явилась самым наглядным и страшным свидетельством не только изношенности нашей техники, но и исчерпанности возможностей прежней системы. Вместе с тем — такова ирония истории — она тяжелейшим образом отозвалась на начатых нами реформах, буквально выбила страну из колеи.
Теперь мы знаем, какие масштабы приняла трагедия, сколько еще нужно сделать для людей, потерявших здоровье, лишившихся крова.
Случилось это в ночь с пятницы 25-го на субботу 26 апреля, в 01 час 25 минут, когда на рабочем месте оставалась только дежурная смена и те, кто проводил эксперимент — испытание турбогенератора во время запланированной остановки реактора на четвертом блоке. Информация об аварии на АЭС поступила в Москву под утро 26-го. Она прошла по линии Министерства среднего машиностроения, была доложена Рыжкову, а он сообщил мне. В тот же день я собрал членов Политбюро, сообщение сделал Долгих, занимавшийся этими вопросами. Его информация носила довольно общий характер, не давала представления о масштабах опасности. Было принято решение немедленно направить на место аварии правительственную комиссию во главе с заместителем Председателя Совета Министров Борисом Евдокимовичем Щербиной. В комиссию вошли специалисты по атомным электростанциям, медики, радиологи, осуществлявшие контроль за средой. Вечером 26 апреля она была на месте. В Чернобыль спешно прибыли ученые из Академии наук СССР и Украинской Академии наук.
Информация от комиссии начала поступать 27 апреля. Она сопровождалась всяческими оговорками, носила сугубо предварительный, констатирующий характер, не содержала каких-либо выводов. Сообщалось о взрыве, гибели двух человек, массовой госпитализации людей для контроля, о мерах по локализации пожара, остановке остальных трех блоков. Сообщалось, что в момент взрыва произошел выброс радиоактивных веществ.
28 апреля Рыжков доложил на Политбюро о первых результатах работы комиссии. Вечером 28 апреля на этой основе было дано сообщение по телевидению, а на следующий день в газетах. Затем сообщения публиковались регулярно по мере поступления новых сведений. Отвожу решительно обвинение в том, что советское руководство намеренно утаивало всю правду о Чернобыле. Просто мы тогда ее еще не знали.
Учитывая чрезвычайный характер аварии, мы уже 29 апреля создали оперативную группу Политбюро во главе с Рыжковым, которая действовала круглосуточно. Протоколы и другие материалы о ее работе ныне опубликованы.
В первые дни мы интуитивно, поскольку все еще не было полной информации, чувствовали, что проблема приобрела драматический характер и последствия могут быть очень тяжелыми. Нужна была информация из первых рук. Рыжков и Лигачев 2 мая вылетели на место аварии, к ним присоединился Щербицкий. Они посетили район бедствия, заслушали информацию правительственной комиссии, беседовали с жителями.
Масштаб беды день за днем вырисовывался все более отчетливо. Стало понятней, что надо делать. На первом месте была задача обеспечить безопасность людей. К проведению сплошного медицинского контроля подключили буквально все, чем располагали. Была развернута сеть медицинской помощи, охватившая почти миллион человек, в том числе более 200 тысяч детей. Правительственная комиссия приняла решение о выселении людей из города Припяти. Как только была составлена первоначальная карта радиационного загрязнения и ученые сделали вывод о невозможности проживания там, началась эвакуация населения, сначала из 10-, затем из 30-километровой зоны. Дело оказалось чрезвычайно трудным: люди не хотели выезжать, пришлось выселять их принудительно. В первых числах мая переселили примерно 135 тысяч человек и установили контроль над всем районом.
Сложнейшей инженерной и научной проблемой стал сам разрушенный блок реактора — существовала опасность его провала. Об этом академик Велихов рассказывал журналистам в начале мая: «Сердце реактора — раскаленная активная зона как бы висит. Он перекрыт сверху слоем из песка, свинца, бора, глины, а это дополнительная нагрузка на конструкции…Удастся его удержать или он уйдет в землю? Никогда и никто в мире не находился в таком сложном положении».
Принимались меры, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ через грунт в Днепр. Были переброшены войска химической защиты, сосредоточена необходимая техника, развернуты работы по дезактивации. Члены правительственной комиссии работали безвыездно, затем перешли на недельные дежурства. Возглавляли комиссию по очереди Щербина, Силаев, Воронин, Маслюков, Гусев, Ведерников и опять Щербина. Круглосуточно работали научные институты в Москве, Ленинграде, Киеве, других городах, решая десятки необычных проблем. К этому была подключена практически вся страна. В те тревожные дни 1986 года проявились лучшие качества наших людей: самоотверженность, человечность, высокая нравственность. Многие просили направить их в район Чернобыля, предлагали бескорыстную помощь.
Ликвидация последствий взрыва обошлась в 14 миллиардов рублей, потом поглотила еще несколько миллиардов. Организованными усилиями удалось ограничить число пострадавших и локализовать аварию. К июлю была разработана концепция «саркофага», затем в сжатые сроки возведено уникальное защитное укрытие для поврежденного реактора с постоянно функционирующей системой контроля за его состоянием. У экспертов МАГАТЭ не было претензий, они признали: делается все, что возможно и необходимо.
И все же… Считаю нужным сказать со всей откровенностью: в первые дни не было ясного понимания того, что происшедшее — катастрофа не только национального, а мирового масштаба. Представление об ее истинных размерах формировалось по мере накопления информации. Но, как известно, «природа не терпит пустоты», отсутствие полной ясности порождало слухи, панические настроения. И тогда, и сейчас высказываются критические суждения о действиях руководства Украины, Белоруссии, руководства Союза. Исходя из того, что мне известно, я бы не стал подозревать кого-то в безответственном отношении к судьбам людей. Если что и не было сделано своевременно, то прежде всего из-за незнания. Не только политики, но и ученые, специалисты не были готовы к адекватному восприятию случившегося.
Крайне отрицательно сказалась закрытость, секретность атомной энергетики, отягощенная ведомственностью и монополизмом в науке. Об этом я говорил на заседании Политбюро 3 июля 1986 года: «Мы 30 лет слышим от вас — ученых, специалистов, министров, что все тут надежно. И вы рассчитываете, что мы будем смотреть на вас, как на богов. А кончилось провалом. Министерства и научные центры оказались вне контроля. Во всей системе царили дух угодничества, подхалимажа, групповщины и гонения на инакомыслящих, показуха, личные и клановые связи вокруг руководителей».
Свою роль сыграла «холодная война», взаимная закрытость двух военных блоков, в том числе в атомной энергетике. Почти ничего не было известно о ста пятидесяти одной значительной утечке радиации на АЭС в мире, опыте ликвидации последствий аварий. Академик В.А.Легасов говорил, что вероятность ядерных аварий считалась крайне малой, вся мировая наука и техника не очень-то были к ним подготовлены. Царили самоуспокоенность, даже легкомыслие. До сих пор помню о заявлениях на Политбюро, сделанных сразу после аварии академиками А.П.Александровым и Е.П.Славским. Они стояли у истоков нашей атомной энергетики, были творцами этой техники, люди заслуженные, уважаемые. Но то, что мы от них услышали, больше походило на обывательские рассуждения — ничего, мол, страшного не произошло, такие вещи бывали на промышленных реакторах: стакан-другой водки выпьешь, закусишь, отоспишься — и никаких последствий.
Ведомственность не просто мешала делу. С ней «истончалось» нравственное начало, без которого знание грозит стать источником смертельной опасности. Боязнь проявить инициативу, страх перед начальством и стремление избежать ответственности сыграли крайне негативную роль. Не выдержал проверки механизм принятия решений.
Постепенно начали вырисовываться все последствия аварии. Поначалу наибольшее беспокойство вызывала судьба Киева и Днепра. А самый тяжелый удар пришелся на Белоруссию, особенно Могилев, — из-за розы ветров. Потом обнаружили загрязнение в Брянской области и дальше, около Тулы.
В середине мая я выступил по телевидению: выразил сочувствие пострадавшим, рассказал о принимаемых мерах, воздал должное мужеству людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии. Поблагодарил я и всех тех за рубежом, кто откликнулся на нашу беду р протянул руку помощи. Первыми должен назвать американских медиков Р.Гейла и П.Тарасаки, президента МАГАТЭ Х.Бликса. Государственные и общественные организации, фирмы и частные лица из многих стран присылали средства тушения пожара, робототехнику, лекарственные препараты. Это была беспрецедентная кампания солидарности.
В то же время некоторые зарубежные пропагандистские центры выплеснули поток обличений, свидетельствовавший, что они не столько обеспокоены самой трагедией, сколько пытаются ее использовать для дискредитации нашей новой политики. Кое-кто и внутри страны попытался сделать Чернобыль предметом политических спекуляций. В этой связи хочу вернуться к вопросу об информации населения и мировой общественности.
В Политбюро высказывались две точки зрения. Одна — информацию надо расширять постепенно, чтобы не допустить паники и не нанести тем самым еще больший вред. Сторонники этой точки зрения не были оригинальными: неоперативное оповещение населения и даже своего правительства отмечалось во всех крупных ядерных инцидентах в других странах. Да и сейчас, нет-нет, газеты сообщают о попытках придержать или даже вовсе утаить сведения о неполадках на АЭС. И все-таки у нас возобладала другая точка зрения — выдавать информацию по мере поступления полностью, без ограничений, но она должна быть достоверной.
Моя позиция была однозначной. На заседании Политбюро 3 июля я говорил: «Ни в коем случае мы не согласимся скрывать истину ни при решении практических вопросов, ни при объяснении с общественностью. Мы несем ответственность за оценку происшедшего и правильность выводов. Наша работа теперь на виду у народа и всего мира. Думать, что можно ограничиться полумерами, ловчить, недопустимо. Нужна полная информация о происшедшем. Трусливая политика — это недостойная политика». Меня поддержали Рыжков, Лигачев, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе. Чернобыль стал жесткой проверкой также и гласности, демократии, открытости,
Были отправлены телеграммы руководителям соседних и других государств с исчерпывающей на тот момент информацией. 6 и 9 мая в Москве Щербина, члены комиссии провели пресс-конференцию. В середине мая представители прессы, в том числе зарубежной, посетили Украину, получили возможность убедиться, «вымер» ли Киев, погибли ли «тысячи людей», как сообщается некоторыми средствами массовой информации Запада. В Женеву была направлена делегация во главе с академиком Легасовым. Представленные там доклады произвели впечатление уровнем квалификации, четкостью, откровенностью.
3 июля на заседании Политбюро с участием представителей республик был заслушан в порядке контроля отчет правительственной комиссии. Состоялось первое широкое обсуждение причин чернобыльской аварии, встал вопрос и о будущем атомной энергетики. Еще до перестройки эта тема поднималась в журнале «Коммунист», опубликованная в нем статья академика Долежаля вызвала большой резонанс, но ее публичного обсуждения не допустили. Теперь вопрос о перспективах «мирного атома» стал предметом широкой общественной" дискуссии. В ней, в частности, затрагивались проблемы АЭС устаревших конструкций, строительства новых станций, особенно в сейсмически неустойчивых районах (в Армении, Крыму), и другие.
После долгих размышлений, знакомства с доводами сторонников и противников атомной энергетики, в числе которых были многие мировые авторитеты, я пришел к выводу, что без нее нам пока не обойтись. Академик Сахаров говорил: «По-видимому, в перспективе все большую и большую роль должна играть все-таки ядерная энергетика. Но ее, конечно, надо сделать безопасной». Об этом же предупреждал И.В.Курчатов: «С ядерным реактором надо обращаться на «Вы», он ошибок не прощает, аварии происходят тогда, когда об этом забывают».
Позднее была разработана правительством и одобрена Верховным Советом СССР долговременная программа ликвидации последствий чернобыльской аварии, основанная на предложениях Украины, Белоруссии и Российской Федерации. Были даны поручения по оценке техники для атомных станций, внесены предложения объединить усилия для повышения безопасности АЭС в мире, значительно расширить наше плодотворное участие в деятельности МАГАТЭ. Я выступил с призывом прекратить ядерные испытания и объявил, что Советский Союз продлевает действие моратория, объявленного на первые три месяца 1986 года (до 6 августа).
«Перевалив» через Чернобыль, заглянув в пропасть, мир все-таки так и не пришел к однозначному решению. Около 70 процентов энергии получает от атомных станций Франция, примерно столько же Япония. США, как и мы, — 10–11 процентов. Не обходятся без АЭС многие другие страны.
Чернобыль стал ударом колокола, зовущего человечество понять, в какой век мы живем. Он способствовал осознанию опасности небрежного, тем более преступно халатного отношения к природной среде. Общественное мнение сконцентрировалось вокруг острых проблем, к которым экологическое движение пыталось привлечь внимание. Вспомнили об аварии на ядерном предприятии в Челябинске в конце 50-х годов, о последствиях наземных ядерных взрывов. Любая неполадка в дальнейшем становилась достоянием гласности.
Чернобыль высветил многие болезни нашей системы в целом. В этой драме сошлось все, что накапливалось годами: сокрытие (замалчивание) чрезвычайных происшествий и негативных процессов, безответственность и беспечность, работа спустя рукава, повальное пьянство. Это был еще один убедительный аргумент в пользу радикальных реформ.
«Решения съезда — в жизнь»
Да, Чернобыль заставил меня и моих коллег многое пережить и передумать. Мы видели необходимость укрепить дисциплину и порядок, прежде всего, в атомной энергетике. И все же, размышляя над этими вопросами, я все больше приходил к убеждению, что одним административным нажимом, наказаниями, жесткими мерами, партийными взысканиями, разносами проблемы не решить. Надо двигать перестройку.
Больше всего я опасался, что и на этот раз, как бывало в прошлом, дело будет утоплено в «говорильне». Первым признаком стали появившиеся в публичных местах призывы: «Решения XXVII съезда — в жизнь», сообщения печати о единодушном одобрении этих решений. В партийных организациях и трудовых коллективах готовились тихие похороны намеченных преобразований, и, чтобы не допустить бесславной кончины наших замыслов, надо было в первую очередь взять под контроль подготовку проекта плана социально-экономического развития страны на 1986–1990 годы.
После многочисленных дискуссий о задачах XII пятилетки в правительстве и Политбюро собрался (16 июня) Пленум ЦК. В докладе я развернул картину намечаемых преобразований, имевших целью обеспечить устойчивые темпы роста национального дохода. Тогда было впервые сказано, что в новой пятилетке все отрасли экономики должны быть переведены на новые методы хозяйствования.
Принятые Пленумом решения придавали известную конкретность новому экономическому курсу. Но от моего внимания не ускользнуло беспокойство многих выступавших в прениях. Люди, привыкшие десятилетиями занимать высокие должности, явно опасались, что новации «катапультируют» их из начальственных кресел. При таких настроениях руководящих кадров трудно было рассчитывать на успех.
Это побудило меня через неделю встретиться с секретарями и заведующими отделами ЦК. Я поделился впечатлениями о Пленуме, сказал, что партийные органы, руководящие кадры перестраиваются медленно и без «малой революции» в партии дело не пойдет. Многие партийные комитеты меньше всего пекутся о реформах, отсиживаются, выжидают. Это неприемлемая и опасная позиция — общество разбужено, люди ждут перемен. Секретариат ЦК не может быть сторонним наблюдателем.
Сколь глубоко волновала нас тогда кадровая проблема, свидетельствуют записи многих дискуссий и бесед. Накануне поездки на Дальний Восток (в конце июля 86-го) на встрече с редакторами местных газет я упрекнул их в нерешительности и «безголосый». В ответ услышал горькие слова:
— А вы, Михаил Сергеевич, повторите все то, что сказали нам, секретарям райкомов, горкомов и обкомов партии. Ведь наши газеты — их рупоры, а им гласность ни к чему.
Поездка во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск убедила меня, что редакторы правы. Я столкнулся здесь с такой безрукостью, безразличием к людям, бессердечным отношением к их житью-бытью, о каких даже не представлял. Местному начальству, разумеется, меньше всего нужны были открытость и гласность. Напротив, оно было заинтересовано не выносить сор из избы.
Дальний Восток, исключительно важный для страны регион, был обделен вниманием и заботой центральных властей. Возникавшие здесь проблемы решались кое-как, как правило — в пожарном порядке, когда грозила катастрофа. Мои беседы с руководящими работниками, учеными, специалистами, жителями дали много ценного материала, на основе которого были потом подготовлены решения о развитии края. Поездка помогла также понять, что происходит далеко от Москвы, как там воспринимают перестройку. Ответы оказались неутешительными: надежды людей на перемены не находят никакого отклика в партийных и управленческих структурах, чиновная знать инстинктивно или сознательно саботирует перестройку, не желает решать и простейшие вопросы.
Я, к примеру, понимал, что жилищную проблему рыбаков Владивостока сразу не решишь: для этого нужны время и большие капиталовложения. Но вот трудно было уразуметь, почему руководители Комсомольска-на-Амуре, расположенных там оборонных предприятий, создающих современные подлодки и самолеты, едва ли не каждый день посылая грузовые самолеты в Ташкент по производственным делам, не позаботятся завезти оттуда овощи и фрукты? Почему в разгар лета не организовали для ребятишек производство мороженого? Почему жители города вынуждены ездить за мебелью за тридевять земель, в Среднюю Азию, если сами ее производят и нужно лишь расширить производство.
Самым частым ко мне обращением в ходе поездки было:
— Михаил Сергеевич, надо дать возможность нам самим выбирать руководителей, выдвигать умных, порядочных, работящих. Тогда и дело пойдет на лад.
20 августа я уехал в Крым, в Нижнюю Ореанду. Но отдых не получался. Не мог настроиться на отпускную волну: заботы и тревоги переполняли меня и вообще на душе было муторно. На берегу моря продолжал обдумывать сложившуюся ситуацию, делал записи, давал поручения. Утверждался в том, что нужно радикально обновить кадры, в соответствии с новыми задачами выстроить систему их подбора и расстановки. В то же время все чаще приходил к мысли, что дело, видимо, не только в людях, а и в том, что они действуют в жестких рамках сложившейся системы, которая оставляет мало пространства для инициативы в хозяйстве и политике. Значит, необходимо определенное реформирование самой системы — такой вывод уже не казался мне крамольным.
Неважно обстояли дела и на внешнеполитическом направлении. Переговоры в Женеве, по сути дела, застряли, свелись к пустому времяпрепровождению. Американцев, как я понимал, такая ситуация устраивала. Тогда я предложил Рейгану безотлагательно встретиться.
Поступавшая в Крым закрытая информация, материалы прессы, беседы по телефону с Лигачевым (он оставался «на хозяйстве»), секретарями ЦК и обкомов партии усиливали впечатление о пробуксовке реформ. Не дожидаясь завершения отпуска, я отправился в Краснодар и Ставрополь. Хотелось побывать в местах, которые хорошо знал, побеседовать с людьми, проверить свои размышления.
Чуда не случилось. И в Краснодаре, и в Ставрополе я еще раз убедился, что перемены идут трудно. Поддержка населением политики перестройки не ослабевала, даже крепла, а вот партийные и управленческие структуры стояли незыблемо. Вроде бы никто не против, все «за», но ничего не меняется. Что же это, непонимание происходящего, неумение действовать по-новому или интуитивно срабатывает инстинкт самосохранения, предостерегая, что «новое» несет серьезную опасность?
В ноябре 1991 года, когда я встречался с профессиональным политологом Э.Хьюиттом, ставшим помощником Президента США, он рассказывал:
— Начиная с 1985 года я три года подряд прилетал в Москву и окунался в столичную атмосферу, встречался с политиками, представителями прессы, творческой интеллигенции. Впечатления? Перестройка идет полным ходом. Ну, прямо-таки «девятый вал»! А потом ехал из столицы в провинцию. Отъедешь на какие-нибудь 100–200 километров, и там совсем другая ситуация, как говорят русские: «тишь да благодать»…
Среди потока корреспонденции, шедшей лично мне и в ЦК, стали все чаще появляться подобные письма. Автор из Белоруссии, разделав в пух и прах никудышную работу местных властей, взывал: «Михаил Сергеевич, дайте команду открыть огонь по штабам!» Собственно, это было приглашение руководству страны взять на вооружение лозунги китайской культурной революции. Не думаю, что автор хотел того же у нас, задумывался над последствиями. Это был, по сути дела, «крик души», свидетельство того, что люди окончательно разуверились в возможности дождаться перемен при сохранении у власти нынешних кадров.
Разговор о кадрах был необходим. С ранней осени началась подготовка Пленума, постепенно сложилась схема доклада.
Работа над докладом явно затянулась, Пленум, намечавшийся на осень, пришлось дважды откладывать. На заседании Политбюро 1 декабря, рассказывая о своей последней встрече с секретарями обкомов, я констатировал, что многие из них остаются в плену старых подходов.
— Убежден, главная причина застоя — окостенение руководящего состава. Если мы хотим поправить дело, надо менять кадры, кадровую политику. Это и проблема морального права руководить. В корпусе руководителей разных звеньев и уровня накопилось много такого, что не дает возможности открыто и прямо говорить с людьми. Они просто не верят тем, кто себя замарал. Не будет оздоровления кадров — народ за нами не пойдет. Нужна атмосфера гласности, только при таких условиях будут формироваться зрелые кадры.
В выступлениях членов Политбюро были свои оттенки. Громыко настаивал на необходимости «оптимистической направленности доклада». Шеварднадзе — на более жесткой характеристике положения в самой партии, снижении ее авторитета, девальвации членства в КПСС. Соломенцев предлагал сильнее сказать об «эксплуатации социализма бездельниками и рвачами». При всех нюансах основные идеи доклада получили поддержку.
Незадолго до Нового года пригласил заведующих отделами ЦК, к которым накопилось немало претензий: «Я знаю, что среди аппарата идет ропот. Теперь ведь ставка на то, чтобы угодить начальству, не срабатывает. На первое место выходят компетентность, добросовестность, ответственность. У многих эти качества отсутствуют. Для руководства ЦК неприемлема позиция, которую занимал многие годы партийный, да не только партийный, аппарат. Ситуация в стране осложнялась, принятые решения срывались, а аппарат молчал, в лучшем случае пописывал докладные записки.
Теперь эта позиция должна быть решительно осуждена и отброшена. Среди работников аппарата есть и те, кто рассчитывает на провал реформ, злорадствует, когда нас постигает та или иная неудача. Секретарь одного из московских райкомов партии недавно заявил: «Подождем, через два года все уляжется». Он убежден, что перестройку удастся похоронить. Так вот: таким людям не место в аппарате партии. Должен быть преодолен номенклатурный подход к кадровой политике. Нам не удастся изменить ситуацию, решить задачи перестройки, если не встанем на путь демократизации партии и общества».
Вот так, шаг за шагом шла апробация идей, которые закладывались в доклад. Каждая встреча давала пищу для размышлений и формулирования задач, а заодно позволяла реально почувствовать, что называется, «сопротивление материала». (Помню, в кругу членов Политбюро Рыжков говорил, что из шестидесяти министров ни один не попросил об отставке, хотя время для многих пришло давно.)
Был момент, когда в Завидове, где я работал, дискуссия о структуре и проблематике доклада в рабочей группе приняла такой характер, что я едва не перессорился со своими ближайшими помощниками. Даже присутствие Раисы Максимовны не сдержало страсти. Работа была прекращена и возобновилась лишь на следующий день. Но оказалось, инцидент в конечном счете сыграл полезную роль. Когда страсти улеглись, мы быстро согласовали спорные вопросы. Документ в целом получился неординарный и представлял серьезный шаг в осмыслении прошлого и выборе пути. Хотя с членами Политбюро я советовался по многим принципиальным тезисам доклада, тем не менее шел на его обсуждение (19 января 1987 г.) не без волнения.
Состав руководства достаточно полно отражал многоцветную гамму настроений в партии и обществе. Из предварительных бесед я знал, что могу твердо рассчитывать на солидарность Рыжкова, энергичную, даже эмоциональную поддержку Шеварднадзе. В разговоре наедине с Воротниковым почувствовал настороженность. А как остальные? Поддержат ли основные идеи демократизации? Ведь, по сути, это означало конец номенклатурному подходу. На место назначений должны были прийти выборы, причем реальные. В кадровый процесс вводился новый решающий элемент — мнение и воля граждан, коммунистов.
Как говорят, «действительность превзошла ожидания». Проект доклада поддержали практически все, острота постановки вопросов помогла создать атмосферу непривычной для этой среды откровенности. Возможно, кое у кого пробудились чувства, годами дремавшие где-то в глубине души. Тон задал Громыко: «Проект очень глубокий… Есть кадровый контингент, который себя еще не проявил, а есть те, кому «не по Сеньке шапка». Стоит вопрос — быть или не быть социалистическому государству».
Рыжков отметил, что «критика суровая, но нет безысходности». Однозначно высказался в поддержку раздела о демократизации, связав эту тему с проблемами экономики. Предложил ввести предельный срок занятия государственных должностей, в том числе министров, тайные альтернативные выборы секретарей партийных комитетов.
Лигачев увидел, что от одобренного им рутинного материала, подготовленного орготделом, в докладе практически ничего не осталось. Но оценку проекту дал самую высокую. Поддержал необходимость реформирования политической системы. «Сверлит мысль, что надо сделать, чтобы не переживать периодические кризисы, которые наносят неисчислимый ущерб. Уверен: главное — демократизация».
Эту тему подхватил Шеварднадзе. Вспомнив об афганской войне, он сказал, что прежде часто «нарушалась коллегиальность, решения принимались узкой группой, минуя даже Политбюро, не говоря уж о ЦК КПСС и высших государственных органах». Теперь «формируется целая система мер, гарантирующая от повторения ошибок. Это — нравственная революция».
Поскольку не высказал желания выступить Ельцин, я обратился к нему: не хочет ли что-либо сказать? Начал он с того, что «поддерживает большинство поставленных в докладе вопросов», разделяет критический пафос в оценке прошлого, но считает необходимым дать четкую оценку перестроечного периода. И еще: в застое и торможении развития страны повинны члены Политбюро и ЦК прежних составов, а посему надо дать каждому из них персональную оценку.
Подводя итоги многочасовой дискуссии, я заметил, что главная задача Пленума — вскрыть глубинные причины того, что привело нас к нынешней ситуации, и поддержать развертывающиеся с таким трудом в стране перестроечные процессы. Высказался против того, чтобы в оценке прошлого сводить дело к оценке членов руководства и членов ЦК прежних составов. Для нас важны политические выводы и извлечение уроков на будущее. Перестройка идет медленно — в докладе сказано, что это в значительной мере связано с кадровой политикой, деятельностью управленческих структур. Надо вести линию на приток свежих сил, но недопустимо под видом усиления требовательности устраивать гонение на кадры, ломать «через колено» судьбы людей. Перестройка начата во имя утверждения в обществе и партии демократических принципов, этих целей не достичь на подходах, далеких от демократии. Пообещал, насколько возможно, наиболее существенные замечания интегрировать в доклад.
После моего заключения Ельцин был смущен, подавлен: из столицы в то время уже поступало много жалоб на его грубость, необъективность, жестокость в обращении с людьми. Я понимал, что работать в Москве нелегко, что Ельцин, пожалуй, острее других ощущает сопротивление партийной и хозяйственной номенклатуры политике перестройки. Вместе с тем считал недопустимым подобные подходы в работе с кадрами. Ельцин вновь взял слово: «Для меня это урок. Думаю, он не запоздал».
Под занавес прозвучала реплика Лигачева:
— Самое трудное — привыкнуть к тому, что и тебя могут огреть…
Главным было единодушное мнение Политбюро: с таким докладом не стыдно идти к народу.
Январский Пленум 1987 года
Лигачев был прав, сказав на заседании Политбюро: «XXVII съезд ответил на вопрос, что произошло, а январский Пленум — почему это произошло». Было положено начало фронтальному анализу пути, пройденного страной, провозглашен курс на демократизацию.
На Пленуме из записавшихся 77 человек выступили 34. Ни один не обошел критики бюрократизма, все были, как говорится, двумя руками за демократизацию.
И все-таки Пленум, резко отличавшийся от предшествующих по раскованной атмосфере дискуссии, в главном вопросе остался на старых позициях — никто не покусился поставить под сомнение правомерность монополии партии на назначение кадров. Как совместить свободные выборы с механизмом номенклатуры — эту тему ораторы предпочли обойти.
Январский Пленум 1987 года запомнился еще и тем, что на нем впервые выплеснулись наружу противоречия по вопросу о гласности. Дискуссия на эту тему началась, по сути, с самого начала прений, когда Полозков, сказав «что положено» по докладу, продолжил:
— Чем зачитывается сегодня молодежь? От каких произведений в восторге обыватель? «Пожар», «Плаха», «Печальный детектив» и т. п. То же самое в театрах. Как и в периодической печати, остро вскрываются наши болячки. Но как бы душу при этом не опустошить!.. Метод отрицания в отражении действительности стал чуть ли не единственным, а надо же утверждать идеалы! Не пора ли нам в этом деле основательно разобраться?
Для меня было совершенно неожиданным услышать от Валентины Голубевой, ткачихи, дважды Героя Социалистического Труда: «Я считаю, что пора голой критики и проверок ради фиксации недостатков слишком затянулась. Нам надо твердо, четко отличать заинтересованную конструктивную критику от пустопорожнего, а иногда прямо-таки злобного критиканства… Идет смакование недостатков, мало освещается положительного опыта. Во всем должна быть мера. Есть опасность оказаться в противоположной крайности».
Это были тревожные признаки того, что партийная верхушка не станет безропотно мириться с потерей возможности по своему стандарту и к своей выгоде формировать духовную жизнь общества. Гласность, как и следовало ожидать, становилась первым полем борьбы за свободу. И на Пленуме нашлись люди, «поднявшие перчатку».
Сильней всех, на мой взгляд, выступил знаменитый наш артист Михаил Ульянов.
— Вводится в нашу общественную человеческую жизнь самое главное — гласность, демократизм, самоуправляемость. Я думаю, эти три кита, если не будем их округлять, припомаживать, прилаживать к себе, могут вытянуть огромные проблемы сегодняшнего дня нашего народа и партии. Гласность — непричесанная и неприглаженная, демократизм сверху и донизу, самоуправляемость, в которой участвует народ. Время винтиков прошло, и это прекрасно. Пришло время народа, который сам управляет своим государством.
Доклад Михаила Сергеевича поразительного мужества. Сказано прямо, что проблем у нас огромное количество, что перестройка идет туго, трудно, не так, как мы ожидали. Вот эта правда партийная. Что же, об этом не писать? Или писать, что у нас все хорошо? Бояться кого-то обидеть? Уже было. И мне кажется, скромные вроде бы намеки — не очень ли газетчики размазались, не нужно ли их немного поприжать — очень опасны…
Пленум одобрил доклад, согласился с нашими оценками причин кризиса, в котором страна оказалась на рубеже 70—80-х годов, поддержал идею демократизации, высказался в поддержку предложения о проведении Всесоюзной партийной конференции.
И в то же время стало ясно, что многие члены ЦК не готовы к тому повороту, который закладывался докладом. Чего же тогда можно было ожидать от работников партийных органов, от всей многочисленной номенклатуры?
Вероятно, историки будут оценивать рубеж 1986–1987 годов как первый серьезный кризис перестройки. И будут правы. Мы ощущали «подземные толчки», хотя общество жило ожиданием благих и скорых перемен, не предчувствовало еще, какие катаклизмы несет будущее, какими трудностями и горем обернутся для людей упорное сопротивление ретроградов и агрессивность радикалов.
Менялась жизненная атмосфера, будто широко распахнулись окна в душной комнате и повеяло свежим ветром. Настроение это отразилось, между прочим, даже в песнях. Я обратил внимание, что с одинаковым названием «Свежий ветер» появились две песни. Одна принадлежала Олегу Газманову и пользовалась широкой популярностью, особенно у молодежи. Позднее она послужила музыкальной заставкой к документальному фильму о первом Президенте СССР.
Авторы второй песни — П.Аедоницкий и А.Ковалев. Многие знали поэта Ковалева и дипломата Ковалева, заместителя министра иностранных дел. Но немногим было известно, что это один и тот же человек. У текста песни своя история. В 1976 году Анатолий Гаврилович был избран делегатом XXV съезда партии от ставропольской партийной организации, познакомился с моими земляками, которые произвели на него большое впечатление своей теплотой и открытостью. Особенно запомнилось ему, что встречи друзей там всегда завершались тостом: «Быть добру!» И вот много лет спустя он использовал эти слова как ощущение перестройки, обновления:
Иссык-Кульский форум
В октябре 1986 года произошло событие, которому суждено было сыграть заметную роль в годы перестройки. Это — Иссык-Кульская встреча, собравшая выдающихся деятелей культуры: Артура Миллера, Александра Кинга, Олвина Тоффлера, Питера Устинова, Омера Ливанелли, Федерико Майора, Афеворка Текле. Ее инициатором и вдохновителем явился наш Айтматов. Речь шла о ядерной угрозе, экологических бедах, о дефиците нравственности, особенно в политике.
Моя встреча с участниками форума состоялась 20 октября, спустя неделю после Рейкьявика. Мы почувствовали взаимное расположение и в непринужденной беседе за столом провели несколько часов. Я, в частности, напомнил собеседникам ленинскую мысль о «приоритетности интересов общественного развития над интересами классов». В ракетно-ядерный век ее значимость ощущается особенно остро. Мы присягаем этому принципу и хотели бы, чтобы он был понят и признан повсюду в мире.
Эта беседа, где ленинская идея интерпретировалась и обогащалась с учетом сегодняшних реальностей, была опубликована в «Коммунисте». Она вызвала большой резонанс и у нас, и за рубежом. В особенности тема общечеловеческих ценностей. Взорвалась бомба в стане сторонников ортодоксального мышления! Какие развернулись жаркие дискуссии, сколько недоуменных вопросов задавалось на последующих встречах со стороны прежде всего нашего партийного актива!
— Мы не отвергаем общечеловеческие ценности, — говорил мне Лигачев, — но нельзя сбросить со счетов классовые интересы!
— Да, но я ведь говорю о приоритете общечеловеческих ценностей. Это не значит, что мы отрицаем классовые, групповые, национальные и другие интересы. Ясно, однако, что они потеряют всякое значение, если не удастся предотвратить общими усилиями ядерную войну. Какие уж в этом случае интересы, да и сами классы! Все пойдет прахом…
Мы уже по-разному оценивали изменившийся мир, новые реальности. Тогда я остро почувствовал, как трудно будет продираться сквозь частокол закостенелых догм! Казалось бы, очевидно: ядерная угроза, экологический кризис, раскол мира — дальше двигаться по таким азимутам безумно. А тут подозрения: «Запахло антимарксистской ересью», «Горбачев себя выдал, что-то он затевает».
Глава 10. Больше света: Гласность
Сложное наследие
«Больше света» — часто говорил Ленин, когда партия большевиков находилась в подполье. Я прочитал их еще в студенческие годы, и они врезались в память.
С годами мой опыт политической деятельности все больше убеждал, что этот ленинский лозунг не случайно канул в Лету. Уж очень не подходил он номенклатуре, всем, кто причастен к власти. Наоборот, «поменьше света» — вот их принцип и тайное желание. Если кто-то из высоких сановников и ратовал за гласность, то только в том случае, когда надо было изобличить оппонента или дискредитировать соперника. То есть в сугубо карьеристских целях, а отнюдь не как неотъемлемый элемент общественной жизни, нормального функционирования управленческих структур.
В первые революционные годы «гласность» понималась как оружие партии. Ругали «контру», кляли империализм, критиковали бюрократов нового «пролетарского разлива». И только. Ведь не кто иной, как Ленин, распорядился установить жесткий государственный контроль над информацией. Почему? Неужели большевики боялись открытой схватки со своими идейными противниками?
Этот вопрос всегда меня интриговал. Тем более что внутри партии гласность первые годы не ограничивалась. Помню, я был просто восхищен, когда впервые читал стенограммы VII–XI съездов. Несмотря на Гражданскую войну и иностранную интервенцию, отчаянное положение молодой Советской власти, правящая партия не боялась дебатов, не считала возможным ограничить свободу мнений, высказываний, критики. У меня создавалось впечатление, что Ленин сознательно стимулировал «вскрытие» внутрипартийных разногласий, по крайней мере, на первых порах. А вспомните беспощадность полемики против самого Ленина по поводу Брестского мира, остроту и драматичность споров вокруг нэпа. «Рабочая оппозиция» беспощадно обвиняла вождя партии за отрыв от интересов пролетариата, трудящихся.
Не примечательно ли и то, что при Ленине никто из признанных лидеров не был удален из руководства? Наоборот, соблюдался своеобразный принцип: в его составе должны быть деятели, придерживающиеся разных позиций. На VII съезде, в ответ на очередное «увлечение» Бухарина, Ленин пишет ему: считать, что в ЦК все должны думать одинаково, — значит вести партию к расколу и гибели. X съезд РКП(б): троцкистская оппозиция, а двух человек из нее «обязательно в Политбюро», от рабочей оппозиции — двух человек «обязательно в ЦК».
Такая атмосфера сохранялась до середины 20-х годов. Шли острые дискуссии, но как только Троцкого исключили из ЦК и отправили в ссылку — все! По инерции внутрипартийные «разборки» продолжались до 1929 года, а с разгромом бухаринской оппозиции тоталитарный колпак окончательно опустился и на партию.
Итак, с одной стороны, Ленин был сторонником свободной дискуссии в партии, а с другой — он же выступил на XI съезде с резолюцией о запрете фракций, фактически означавшей беспощадную борьбу со всяким инакомыслием. С одной стороны, он выступал против бюрократизации партийной работы, подмены демократического централизма бюрократическим. А с другой, доводил выяснение отношений со своими оппонентами до изгнания их из партии и даже раскола. Не объясняется ли это противоречие сменой условий? В какой-то мере, конечно, да. Одно дело партия, определяющая в подполье свою стратегию, другое — пришедшая к власти и крайне нуждающаяся в единстве, чтобы сохранить ее за собой.
Но, полагаю, не меньшее значение имеют здесь черты характера, абсолютная уверенность в своей правоте. Ленин любил спор до той поры, пока мог сразить соперника своими аргументами, несокрушимой логикой. Но там, где «коса находила на камень», где противник не хотел сдаваться, он не останавливался перед крайними мерами.
Таковы были мои попытки разобраться в ленинском подходе к гласности и демократии. Они стимулировали мою собственную позицию по этим жизненным вопросам.
Кстати, будучи как-то в Веймаре, в доме Гёте, я узнал, что слова «Больше света» прозвучали из уст великого мыслителя, писателя в последние минуты его жизни.
Первые шаги
Первым актом гласности можно, думаю, считать мою поездку в Ленинград в мае 1985 года. Состоялся непривычный контакт руководителя с людьми. Выступление без всяких бумажек и предварительных консультаций с коллегами создало целую проблему для Политбюро. Впервые многое из того, что содержалось в неопубликованных материалах мартовского и апрельского Пленумов ЦК, о чем говорилось «в закрытом порядке» в партийных верхах, было «выплеснуто» на всех.
Но что было дальше?
У самолета, прощаясь с Зайковым, я получил от него видеокассету с записью моего выступления на встрече в Смольном с активом городской парторганизации. Прилетел домой, в воскресенье на даче в кругу семьи решили ее посмотреть. Все были взволнованы. Раиса Максимовна сказала:
— Я думаю, надо, чтобы все люди это услышали и узнали.
Возникла мысль: может, разослать запись по обкомам? Пусть послушают выступление целиком, ведь по телевидению и радио передали фрагменты в порядке репортажа. Мне было трудно решиться, не хотелось себя выпячивать — это походило бы на саморекламу. Я позвонил Лигачеву и направил ему кассету.
— Егор Кузьмич, посмотри и скажи свое мнение. Не разослать ли по обкомам?
Он посмотрел, позвонил мне и сказал:
— Считаю, за исключением, может быть, нескольких фраз надо дать полностью по телевидению. Такого же мнения Зимянин.
Но раз Лигачев (тогда «правая рука») и Зимянин («главный идеолог») так высказались, я согласился. Кто в то время следил за событиями, должен помнить, какой живой отклик вызвала в стране эта передача. У людей зародилась надежда на то, что действительно что-то начинает меняться.
Первый шаг гласности был сделан, но предстоял еще долгий путь. В аппарате ЦК, агитпропе стереотипы не менялись. Летом 1985 года сменили заведующего отделом пропаганды. Но вся огромная идеологическая машина партии — аппаратчики, пресса, партшколы, Академия общественных наук и т. д. — работала в привычном для себя режиме. Менять ситуацию можно было, только пробивая одно за другим «окна» в системе тотальной секретности, и делать это способен был только генсек.
Одним из таких прорывов к открытости стали мое интервью американскому журналу «Тайм» (начало сентября) и беседа с тремя корреспондентами французского телевидения (октябрь). Руководителям «Тайма», обратившимся с просьбой об интервью, предложили прислать вопросы, то есть «по старой схеме». Ответы были подготовлены в письменном виде, но, когда за ними в назначенный день пришли американцы, завязалась живая беседа. В «Правде» она была полностью опубликована, это встретило большой интерес в стране и мире. То же можно сказать о встрече с французскими журналистами — накануне визита в Париж. Я столкнулся в открытом эфире с людьми, которые вели беседу наступательно, временами даже бесцеремонно, вопросы ставили «в лоб». И, кажется, не проиграл этой баталии.
Для меня эти два интервью означали новый опыт, своего рода приобретение. Осталось ощущение, что через что-то перешагнул. Одно дело говорить с трибуны, да еще обращаясь к благожелательно настроенной, «дисциплинированной» аудитории, и другое — лицом к лицу, когда тебя в любой момент могут перебить и возразить. Я почувствовал себя раскованно не сразу, поначалу осторожничал, но постепенно разгорячился, «завелся», перестал думать о том, что меня записывают или идет прямая передача.
Новый стиль общения генсека со средствами массовой информации дал пример другим партийным деятелям. Это вошло в обиход, стало казаться нормальным и обыденным, а ведь поначалу воспринималось как диковинка, одних приводило в восторг, у других встречало осуждение.
Очередной ступенью в развитии гласности стало поощрение критических выступлений в печати, на телевидении и радио по поводу всевозможных безобразий, слабостей, прорех в нашей жизни, о которых в прошлом не полагалось говорить вслух, выносить на суд общественного мнения. Настолько общество устало от всяких зажимов и запретов, что стоило приоткрыть журналистам «кислород», как их охватила лихорадка критицизма. И тут же они натолкнулись на сопротивление номенклатуры, даже преследование, особенно свирепое на местах.
На перекосы я и сам обратил внимание: критика стала приобретать оскорбительный, разносный характер, нередко публиковались откровенно клеветнические материалы, основанные на искажении и подтасовке фактов. С другой стороны, страницы газет и телеэкран заполонили профессионалы пера: ученые, профессора, писатели, прежде всего сами журналисты. А люди «от жизни» опять оказались в роли слушателей поучений и назиданий. Причем каждый орган информации пускал «на публику» только «своих», инакомыслящих у себя не терпел. Поначалу эти и другие «отходы» гласности мы пытались устранять привычными методами: генсек обращал внимание «главного идеолога», тот давал указание агитпропу, в отделе собирали редакторов, журналистов и наставляли, как вести дело.
Но постепенно эти испытанные методы перестали срабатывать. Редакторы начали «огрызаться», некоторые и вовсе проявляли непокорность, испытывая терпение партийного начальства методом проб и ошибок. Чуть ли не каждую неделю появлялись «дерзкие» публикации поднимавшие планку допускавшейся в тот момент открытости. В первое время роль «заводил» играли «Огонек», «Московские новости», «Аргументы и факты». И на Пленумах ЦК, как я уже рассказывал, в аппарате и руководстве роптали по поводу вседозволенности печати. Я же все больше приходил к выводу, что нужно оградить гласность от покушений, но и средства массовой информации должны нести четкую ответственность. Добиться того и другого следует «не цыканьем» на редакторов, а принятием закона о печати. Эта мысль у меня начала созревать где-то в 1986 году, но прошло немало времени, пока удалось ее реализовать.
Благодаря гласности перестройка начала обретать все более широкую социальную базу. Значение этого трудно переоценить. А это могли сделать только по-настоящему «ангажированные» люди в редакциях газет, теле- и радиостанций, изо дня в день распространяющие и разъясняющие новые идеи. Без этого трудно было рассчитывать и на соответствующие практические действия в русле политики перестройки.
Я особенно оценил значение гласности, когда почувствовал, что импульсы, идущие сверху, все больше «зависают» и застревают в вертикальных структурах партийного аппарата, управленческих органов. Свобода слова позволила прямо, через головы аппаратчиков обращаться к людям, стимулировать их активность и получать поддержку. Образовалась «обратная связь», оказывавшая огромное влияние и на инициаторов реформ.
Закрытые зоны
Очень скоро приобрела актуальность проблема «зон, закрытых для критики». Брежнев предпочитал щадить своих сподвижников в «верхнем эшелоне», от которых так или иначе зависел. Допускалась ли когда-нибудь критика Кунаева, Щербицкого, Рашидова, Алиева или «гришинской» Москвы? Это было просто немыслимо.
Вопрос встал шире. Ведь как было? Можно критиковать почти всех в районе, даже председателя райисполкома. Но первого секретаря, пока его не снимут сверху, — не тронь. Это было железным правилом, и, когда один за другим партийные работники все более высоких рангов стали выпадать из «зоны вне критики», реакция была болезненной. Сколько звонков в редакции, в ЦК, жалоб на телевидение и газеты, которые «осмелились» выводить на чистую воду засидевшихся удельных князьков! Много жаловались и на редактора «Правды» В. Афанасьева. В областях завели учет, сколько раз центральный орган партии отметит ту или иную из них в положительном плане, а сколько покритикует. И буквально требовали «соблюдать баланс», чтобы «не обидеть коммунистов, тружеников области». Шло давление через цековское лобби.
Полностью закрыто было все, касавшееся реальных военных расходов, вообще положения в армии, состояния научных исследований в ВПК, данных о том, насколько эффективно используются финансовые и материальные ресурсы для обороны. Не то что народ, члены Политбюро не знали полной картины и были фактически «заложниками», ставя подпись под решениями по ультрасекретным вопросам без права что-то спросить и обсудить. Когда «оборонку» курировал Устинов, он, по существу, монопольно распоряжался этими делами. Кроме Брежнева, никто из членов Политбюро не осмеливался поинтересоваться, не то что затребовать какую-либо информацию в этой сфере. Кстати, в армии дедовщина существовала давно, но сведения о ней замалчивались.
Внешняя торговля — еще одна закрытая зона, особенно в том, что касалось поставок оружия: количество, виды, место назначения, оплата и т. д. Почти тот же порядок распространялся на торговлю зерном, нефтью, газом, металлом. Подробные сведения на этот счет публиковались во всех иностранных справочниках, а у нас их стерегли от публики как первостатейный государственный секрет.
Целиком вне сферы информации и критики находился КГБ. Самое большее, что оттуда иногда исходило, — лаконичное сообщение о высылке шпиона или о связях какого-нибудь диссидента с империалистической разведкой.
Практически вся статистика находилась под плотным колпаком цензуры. Данные по экономике, социальным вопросам, культуре, демографии публиковались исключительно по специальному постановлению ЦК, с большими изъятиями и «подчистками», особенно по вопросам жизненного уровня населения. Сведения о преступности и медицинские показатели хранились за семью замками.
Не только военный, но и государственный бюджет в его реальных измерениях был тайной. От общества скрывали дефицит бюджета. Миллионы вкладчиков не подозревали, что для его покрытия незаконно делаются заимствования из Сбербанка. А кто знал, что темпы роста доходов на оборону многие годы в полтора-два раза превышали плановые и реальные приросты национального дохода!
Депутатам Верховного Совета СССР проект бюджета подавался в полном ажуре. В нем была статья «другие расходы», на которые отводились 100–120 миллиардов рублей. И никто из народных избранников не рискнул задать вопрос: что же это за «другие расходы»? А ведь не пустяк — пятая часть всего бюджета.
Как реагировали на редкие, но все же случавшиеся попытки получить информацию по «щекотливому вопросу»? Либо просто игнорировали подобную «дерзость», либо разъясняли, что этого не допускают высшие государственные интересы. На профсоюзном съезде делегат из Сибири — запамятовал фамилию — выступил с мягкой критикой правительства по бюджетным делам, даже упомянул Брежнева, мол, куда тот смотрит. Что здесь началось — ЧП[8] обсуждалось на Политбюро, аппарат ЦК трясло, секретарю ЦК по кадрам Капитонову поручили «разобраться».
Открывать «закрытые зоны» было невероятно трудно. В каждом случае это вызывало отчаянное противодействие соответствующих ведомств, ворчание хранителей секретов и стенания идеологов. Это и понятно. Ведь некоторым организациям снятие завесы секретности грозило «летальным исходом» — обнаруживались их полнейшая несостоятельность и ненужность. Ну а идеологи, «церберы системы», не без оснований полагали, что правда подорвет веру в непогрешимость наших догматов, не то что один король, а весь «двор» предстанет голым.
Гласность и экология
Гласность резко выплеснула в общество экологическую тему. Нельзя сказать, что она была до того полностью под запретом. Нет, и при Сталине писали о сокращении лесных угодий и значении в этой связи создаваемых по повелению «великого кормчего» лесозащитных полос. При Хрущеве модной темой стала борьба против заболачивания и засоления почв. А при Брежневе время от времени в печати публиковались свидетельства о некоторых острейших экологических проблемах — Байкале, Арале, Ладожском озере, Каспии, Азове.
Но при всем этом был установлен жесткий предел, который категорически запрещалось переступить. Прорывались к публике лишь скудные обрывки информации, народ не мог представить всех масштабов бедствия нашей природы в результате дикого, варварского к ней отношения. Гласность впервые позволила людям получить не отдельные, тщательно «процеженные» крохи информации, а всю правду о том, что происходит с нашей землей, лесами, водами, каким воздухом дышат города. Был дан мощный импульс «зеленому движению». Население начало остро реагировать на планы строительства крупных индустриальных объектов — особенно атомных станций, химических и металлургических производств, аэродромов.
Помню, какой бой дали волгоградцы планам расширения предприятия, работавшего на химизацию сельского хозяйства, хотя проектанты гарантировали экологическую чистоту. Так было в других местах, пусть даже речь шла о производстве дефицитных лекарств или мыльного порошка. Сильнейшее народное противодействие вынудило отказаться от проекта переброски вод северных рек, угрожавшего непредсказуемыми катаклизмами. Известные писатели связали себя с главными направлениями борьбы в защиту природы. Валентин Распутин — Байкал, Сергей Залыгин — Волга, Олжас Сулейменов — ядерный полигон в районе Семипалатинска, Виктор Астафьев — сибирские леса и реки, Василий Белов — леса севера России, Иван Васильев — Нечерноземье (гибель деревни — это гибель страны, таков был лейтмотив его ярких статей).
Гласность обнаружила, какая у нас расточительная психология: мол, хватит всего на веки вечные. Как неумело добывали, вернее «не добывали», нефть. Прошлись «кованым сапогом» по деликатному растительному покрову тундры. Загубили бесценные породы рыб, построив на Волге каскады электростанций. Мы узнали, что в 90 городах — практически всех крупнейших промышленных центрах Союза — наличие вредных веществ в атмосфере превышает допустимые нормы. По стране прокатился взрыв горечи и возмущения, когда стало известно, что поставлен под угрозу генофонд наших народов.
Уже тогда пришлось закрыть 1300 предприятий. Конечно, это было нелегко для экономики, намного осложнило перестройку, но, несмотря на возражения хозяйственных органов, местных властей, мы поддержали общественность. Предприятиям, продукция которых была необходима для жизнеобеспечения, было предложено принять срочные меры по соблюдению экологических предписаний и стандартов. Пришлось выступить и против перехлестов. Например, было очевидно, что нельзя творить произвол над землей, но некоторые фанатичные энтузиасты потребовали вовсе отказаться от мелиорации. Я возразил: с ума не надо сходить. Правильно предупреждают, что мы не знаем долговременных последствий сегодняшних действий, но рационально использовать воду сам Бог велел. В той же Америке, где климат куда благоприятнее нашего, более 25 миллионов гектаров орошаемых земель. Надо восставать не против мелиорации вообще, а против диких методов ее осуществления.
И в вопросах отношения к природе гласность несла не одни блага, сопровождалась и издержками. Появлялись прямо-таки истерические «выбросы» в прессе, публичных выступлениях. Некоторые члены руководства, хозяйственники хватались за эти вздорные выступления, убеждали, что «зеленое движение» погубит нашу экономику. Реакция интеллигенции на экологические проблемы стала трансформироваться в обобщения. Одни видели в них еще одно свидетельство изначальных пороков системы, другие — результат недальновидности, безответственности, ошибок партийно-государственного руководства. Все более ожесточенно атаковали правительство. Николай Иванович Рыжков порой просто терял самообладание. Помню один из таких эпизодов на заседании Политбюро. «Я не позволю издеваться надо мной, над моей семьей!» — буквально взорвался он, имея в виду крайне злобный выпад против него на телевидении.
«Дети Арбата» и другие прорывы
Гласность — это также возвращение «с полок» запрещенных к показу кинофильмов, публикация острокритических произведений, переиздание в стране практически всей «диссидентской» и эмигрантской литературы.
Пробным камнем стали, пожалуй, романы Рыбакова «Дети Арбата», Дудинцева «Белые одежды», Бека «Новое назначение».
Анатолий Рыбаков прислал мне письмо, а затем и рукопись. В художественном отношении она не произвела на нас большого впечатления, но в ней воспроизводилась атмосфера времен сталинизма. Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу «романом века». Она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет. Располагало и имя автора, с творчеством которого я был знаком по «Екатерине Ворониной» и «Тяжелому песку». В общем, я считал, что книга должна выйти в свет, поддержал ее и Лигачев. Эпизод с романом Рыбакова помог преодолеть опасения последствий разоблачения тоталитаризма.
К такого рода преодолениям относится и реакция руководства на кинофильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Он создавался под «прикрытием» Шеварднадзе, появился на экране сначала в Доме кино для «узкого круга», потом начал демонстрироваться в других закрытых залах. Фильм произвел впечатление разорвавшейся бомбы, стал явлением не только художественным, но и политическим. Идеологи предлагали обсудить на Политбюро, пускать ли его в широкий прокат. Я воспротивился, считая, что вопрос этот должны решать сами кинематографисты, творческие союзы. Там только этого и ждали. Так был создан прецедент, и скоро с полок посыпались произведения, задвинутые туда цензурой. А издательства начали беспрепятственно выпускать новые работы Айтматова, Астафьева, Распутина, Можаева и других писателей, перешагнувших каноны «социалистического реализма» и стремившихся восстановить великие традиции отечественной литературы, основанные на реализме критическом. Массовыми тиражами стали выходить труды Карамзина, С.Соловьева, Ключевского, Костомарова и других историков. За ними последовали книги русской эмигрантской классики: Бунина, Мережковского, Набокова, Замятина, Ал-данова. А там пришла пора «вернуться на Родину» той плеяде великих мыслителей, которые подверглись остракизму после революции: В.Соловьеву, Федорову, Бердяеву, Флоренскому, Ильину.
Не берусь перечислять всех. Называю лишь тех, с чьими трудами успел хотя бы познакомиться. И знаете, что мне прежде всего приходило в голову: как жалко, что не смог прочитать всего этого еще в студенческие годы! Да, наше поколение было обделено в духовном отношении, посажено на скудный паек, состоявший из одной идеологии, лишено возможности самому сравнить, сопоставить различные направления философской мысли и сделать свой выбор.
Факторы торможения
В обществе довольно быстро стали сознавать, какое могучее орудие — гласность. Люди начали жить в других координатах. В Москву, в центральные учреждения шло уже меньше липовых победных реляций, больше сведений о действительном положении дел. Налаживалась обратная связь, власть попала под «прожектор» гласности. Высвечивалось, кто в правящих структурах чего стоит с точки зрения дела и морали. К этой новой ситуации надо было либо приспосабливаться, либо бороться с ней. Так двояко и отреагировал на новую ситуацию верхушечный слой.
Когда мы собрали в Москве совещание руководителей областной и местной печати, буквально стон стоял: начальство зажимает, снимает с работы, затевает всякого рода расследования, организует компромат на журналистов, выносящих сор из избы. А от самого «начальства» слышали другие вопли: подрываются основы, посягают на социализм, социалистическое здание рушится! Наши «удельные князья», будь то руководитель предприятия, колхоза, района, области, к критике сверху привыкли и безропотно ее терпели. Но чтобы каждый, да еще подчиненный, мог свободно судить об их деятельности — такого не бывало, воспринималось как потрясение основ. Недовольство кадров нарастало, в Кремль сыпались жалобы.
На упоминавшемся совещании редакторов приводилось много фактов, свидетельствовавших, что бюрократия держит прочную оборону и не выпускает прессу из-под своего жесткого контроля. Да и сама она не всегда действовала боевито, больше робела, по привычке гнула спину. Мы стали поощрять в центральных органах статьи в поддержку региональной прессы. Печатались обзоры наиболее интересных выступлений местных газет, брались под защиту корреспонденты, подвергшиеся преследованию за критику.
Развертывание гласности тормозила не только позиция номенклатуры. Корни уходили в саму систему руководства средствами массовой информации, унаследованную от сталинских времен. Центр сохранял тотальный контроль за этой сферой «от Москвы до самых до окраин». Были ли это партийные газеты или профсоюзные, комсомольские, Союза писателей, организаций рыбаков, охотников, ветеранов — кого угодно, над всеми стоял агитпроп. Все редакторы утверждались в партийном порядке. Раз или два в месяц в отделе пропаганды ЦК проводились встречи с главными редакторами, иногда с участием зампредов Совмина и министров. Давались хвалебные либо осуждающие оценки публикациям, указания, что и как писать. Любое изменение, касающееся, скажем, периодичности, объема, количества полос в газетах и журналах, допускалось исключительно с согласия Секретариата ЦК. В аппарате постоянно «отслеживали», что публикуется, инструкторы докладывали руководству свои наблюдения и оценки, конформисты поощрялись, «критиканы» сурово наказывались.
Не могу не упомянуть о цензуре, которая играла огромную роль в «охране» режима. Официально этот орган именовался вежливо — Главлитом, и он должен был следить за неразглашением государственных секретов. На деле это был своего рода идеологический КГБ, перед которым буквально трепетали редакторы и издатели. В функции Главлита входил бдительный надзор за периодикой, и особенно библиотеками, архивами. По его представлениям утверждались списки запрещенной литературы, указывалось, что следует держать в спецхране, что «секретно», «совершенно секретно», «для служебного пользования».
Практика эта была отменена в 1988 году, и это тоже стало одним из завоеваний гласности. Главлит еще оставался, но утратил прежние функции. Постепенно была упразднена и система спецхранов. Списки книг, подлежащих запрету или полузапрету, несколько раз пересматривались, пока все они не были возвращены на открытые для всех книжные полки. В числе первых были книги А.И.Солженицына.
Пресса выходит из-под контроля
Между тем читатель начал проводить различие между официальными изданиями, которым полагалось строго выдерживать партийную линию, и менее скованной печатью. Подписка на газеты и журналы осенью 1986 года дала любопытные результаты: «Комсомолка» — на 3 миллиона больше, «Советская Россия» — на 1 миллион, «Известия» — на 40 тысяч, «Коммунист» — на 70 тысяч, «Правда» прибавила немного.
Стали возникать «вольные» издания, взявшие на себя роль возмутителей спокойствия. Началось это с «Московских новостей», чьи смелые публикации то и дело вызывали переполох в соответствующих инстанциях. Приходилось не раз брать под защиту редактора Егора Яковлева, хотя и мне он доставлял немало хлопот. Вослед «МН» двинулся «Огонек». До того это был сугубо парадный официоз, сначала грибачевский, потом сафроновский[9]. Когда освободилось место главного в журнале, стали обсуждать, кого назначить. Все были согласны с тем, что надо сделать это популярное иллюстрированное издание активным проводником перестроечных идей. Называлось несколько кандидатур, в конце концов Лигачев предложил Коротича, на том и порешили. Почему выбор пал на него? Он к этому времени опубликовал в «Правде» несколько интересных статей. Привлекало и то, что человек вроде «со стороны», не связан с московской групповщиной. Егору Кузьмичу больше всего импонировало, что Коротич выступает «с классовых позиций», против буржуазной идеологии и культуры.
При новом шефе «Огонек» воспрянул, вызвал большой резонанс острыми выступлениями на актуальные темы, волновавшие общество. Но затем, увы, редакция скатилась на односторонние, в известной степени даже клановые позиции. Разгоревшаяся у нее полемика с изданиями других направлений приняла ожесточенный, временами неприличный характер. Появились призывы к различным группировкам литераторов прекратить свары, больше думать о проблемах, которыми озабочено общество. Ну а после неудавшейся попытки избраться в народные депутаты Коротич, похоже, вовсе охладел к «Огоньку» и укатил в США, оставив его хиреть на чьем-то попечении. Печальный финал издания, которое вместе с «Московскими новостями» сыграло роль рупора сторонников перестройки на первом ее этапе.
Теоретический и политический орган ЦК КПСС «Коммунист» с самого начала перестройки выступал против новых идей. Удивляться не приходилось: возглавлял журнал самонадеянный философ, фанатичный приверженец схоластики «развитого социализма» Косолапов. Первые месяцы я как-то с этим мирился, не хотелось выглядеть лидером, который «расправляется» со ставленниками предшественников. Но эта терпимость стала вызывать недоумение, да и дело требовало срочно укрепить, как тогда принято было говорить, руководство ведущего партийного издания. Всплыла кандидатура Ивана Тимофеевича Фролова. Он был членом-корреспондентом Академии наук СССР, отличился в свое время смелыми выступлениями против лысенковщины. Успешно руководил журналом «Вопросы философии», но был снят с этого поста известным мракобесом, заведующим отделом науки ЦК Трапезниковым. Работал в журнале коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма». Словом, подходил «по всем статьям».
Фролов стал главным редактором «Коммуниста», и очень скоро уровень журнала резко повысился, он активно включился в разработку и пропаганду перестроечных идей. В это время я поближе узнал Ивана Тимофеевича, оценил независимость его суждений. Это и определило выбор Фролова в качестве помощника по идеологическим проблемам, когда такой вопрос встал передо мной. Годы сотрудничества с ним выпали на самый ответственный этап наших поисков, анализа прошлого, теоретических разработок актуальных проблем перестройки.
Роль активного катализатора в критике всего негативного, что унаследовало общество от застойного периода, сыграла «Правда». Поначалу она задавала тон в очистительной работе, на нее равнялись другие издания. Газета «забирала» все выше в смысле должностного положения критикуемые, ставила крупные проблемы экономических преобразований.
Но вот парадокс: чем шире становился поток гласности, чем смелее выступали редакции других газет, тем суше, скучнее, ортодоксальнее становились материалы, публикуемые центральным органом партии. Из положения лидера «Правда» переходила в положение замыкающего, с реформаторских позиций сползала на консервативные. Падала популярность газеты, сокращался тираж, и это при том, что партийные комитеты в той или иной форме способствовали ее распространению.
Главный редактор Виктор Афанасьев не скрывал своих антипатий к демократическому процессу, вышедшему на новый виток, за пределы идеологической ортодоксии. Он сориентировался на тех членов Политбюро, которые уже сделали для себя вывод, что «перестройка пошла не туда». В результате «Правда» с определенного времени превратилась в рупор противников реформ. Это происходило при поддержке Лигачева, в чем я еще раз убедился, прочитав его книгу, в которой расточаются похвалы Афанасьеву.
Вокруг «Правды» все больше складывалось негативное общественное мнение. К тому же и в самом коллективе газеты к «главному» высказывалось много претензий. Людей возмущало его равнодушие, откровенное пренебрежение к мнению сотрудников, всегдашняя занятость очередной своей книгой в ущерб делам редакции. Словом, вопрос о замене редактора назрел. Называли Примакова, Болдина, Ненашева. Даже Капто… В конце концов мой выбор пал на того же Фролова. Скажу откровенно, хотелось иметь на этом ответственнейшем посту человека, не только подходящего по всем профессиональным измерениям (академик, опытный редактор), но и на которого можно было положиться.
Поляризация общественного мнения
Постепенное освобождение прессы от агитпроповского диктата выявило растущую дифференциацию взглядов на идущие в стране процессы. Образовались два полюса. Один — реформаторский, к которому тогда еще примыкало и радикально-разрушительное крыло. Другой — умеренно консервативный, из которого опять-таки тогда еще не выделилась откровенно реваншистская группировка.
Это — если говорить схематично. Разброс мнений и позиций был большой. Много было «промежуточных», центристского толка взглядов внутри обозначенных лагерей. Газеты, журналы как бы разошлись по своим «окопам», стали выразителями определенных социальных устремлений и политических течений. Развернулась яростная борьба: грубые обвинения, нападки, брань и клевета, полоскание на виду у всех грязного белья. Противопоставление оценок и взглядов то и дело перерастало в беспринципную склоку, за которой скрывались корыстные интересы определенных групп или новых хозяев средств массовой информации. В такие моменты я шел на встречи с прессой, с тем чтобы остудить страсти, напомнить об ответственности журналистов перед народом. На какое-то время удавалось утихомирить противостоящие стороны, но потом полемика разгоралась с новой силой — по логике эскалации. В этой свалке участвовали практически все, внося свой «оригинальный вклад».
Гласность вырывалась из рамок, которые первоначально пытались ей определить, приобрела характер независимого от чьих-то указов и, директив процесса. С точки зрения демократизации общества плюсы' очевидны. Но много появилось и минусов. Беспринципная перепалка в средствах массовой информации сеяла в обществе ненависть, вражду, непримиримость.
Так случилось с оценкой пути, пройденного страной после Октября 1917 года. Пожалуй, ни одно из направлений гласности не имело столь сильного резонанса и не произвело такого психологического шока, как восстановление достоверной, а не мифологической, идеализированной и романтизированной истории советского периода, включавшей наряду с многими образцами народного героизма и бесспорными достижениями в социальном устройстве чудовищный разгул бюрократии, массовые репрессии, тоталитарное подавление свободной мысли. Люди жадно набросились на публикации с разоблачением творившихся преступлений, накатилась вторая после XX съезда волна развенчания Сталина, полной мерой досталось Брежневу, а затем дело дошло до переоценки и самого Ленина, марксистской идеологии, принципов социализма.
На общество выплеснулось много легковесного и сенсационного. События прошлого нередко воспроизводились без серьезного анализа, показа всей сложности и противоречивости происходивших в стране процессов. Срывались покровы лжи и демагогии, окутывавшие многие эпизоды нашей истории, но предвзятость и озлобленность все чаще вели к попыткам подменить «красные» мифы «белыми», отказать великой революции в каком-либо позитивном содержании.
Я исходил из того, что очистительный процесс через познание своей истории необходим, люди должны знать всю правду о прошлом. Нужно снять запреты с архивов, сделать любые документы достоянием гласности, честно воссоздавать подлинную картину всего, что мы пережили. Что приобрели и какой ценой, какие понесли потери, чем обернулась реализация коммунистической модели для нескольких поколений советских людей. При этом никому не дано перечеркнуть все положительное, что было сделано в стране за семь десятилетий, принизить самоотверженность народа, страстно хотевшего построить новую справедливую жизнь и сумевшего не только возвысить Отечество, но и внести огромный вклад в мировое развитие.
Все, что связано со сталинщиной и ее рецидивами, должно быть проанализировано, трагические уроки тоталитаризма усвоены навечно. Но надо сохранить уважение к памяти наших отцов и дедов, оценить испытания, какие они вынесли, и, несмотря на это, продолжали верить в идеалы революции. Тогда мы сможем понять, почему старшие поколения, для которых советская история была их личной биографией, почувствовали себя оскорбленными огульным отрицанием прошлого, отторгаемыми меняющимся обществом, начали возмущаться и протестовать.
Была одна особенно деликатная тема, нуждавшаяся в глубоком и крайне добросовестном анализе. Это — история межнациональных отношений в стране. И здесь велика была потребность в «очищении», раскрытии трагических эпизодов, тщательно скрывавшихся в прошлом. Но их следовало, конечно, рассматривать в историческом контексте, не забывая о тех колоссальных усилиях, которые были приложены для развития народов, их мирного сожительства и дружбы в многонациональном государстве.
Увы, и в этих вопросах верх взяли предвзятость и нетерпимость, на них сделали политическую карьеру и рванулись к власти националисты, развернувшие атаку на саму идею Союза.
Гласность и интеллигенция
В условиях идеологической монополии партии сложились кланы и группировки, заправлявшие творческими союзами, выполнявшие функции связных между властью и интеллигенцией. Научная, художественная, в широком смысле — творческая сфера была прочно включена в общую систему распределения ролей, влияния, дележа государственного пирога. Вожди народа хорошо понимали, как много значат повсюду, а особенно в России, «властители умов», «инженеры человеческих душ». Неустанно расправляясь с оппозиционными философами, художниками, писателями, музыкантами, Сталин всячески старался облагодетельствовать тех из этой среды, кто сотрудничал с властью по убеждению или ради выживания. Это тем более относится ко временам Хрущева и Брежнева. На работу с интеллигенцией был ориентирован огромный партийный аппарат. Занимались у нас культурой помимо соответствующего министерства буквально все, а больше других, разумеется, КГБ.
Переехав в Москву, я наблюдал, как действовал зав. отделом культуры ЦК Василий Филимонович Шауро, какие чудеса гибкости проявлял, чтобы доверенный ему «участок партийной работы» выглядел в глазах начальства достойно, несмотря на нараставшее в рядах творческих работников стремление к большей свободе, капризы и склоки, появление диссидентов. «Порядок» поддерживался в значительной мере тем, что во всех секторах художественной деятельности существовала своеобразная «табель о рангах». Имелась своя система поощрений и наказаний, свои «маршалы» и «генералы». Они были членами ЦК и депутатами Верховного Совета, Героями Труда, ездили по всему миру, пользовались теми же привилегиями, что и верхушка партаппарата. Их книги печатались многократно и массовыми тиражами, картины выставлялись на регулярных выставках, музыка исполнялась по разряду «классики».
Уже в начале перестройки стало очевидно, что большинство избалованной и обласканной властью творческой элиты озабочено преимущественно сохранением этих привилегий. Впрочем, несколько огрубляя, здесь можно было различить три слоя людей. Первый — заваленные наградами конформисты, опора режима. Второй — стремившийся сохранить известную независимость, но не свободный от соблазна получить что-то с «господского стола» — премии, загранпоездки, квартиры. И, наконец, еще один слой — люди твердых убеждений, не скрывавшие своих негативных оценок того, что происходит в обществе. С ними у идеологического начальства и руководителей творческих союзов всегда были наибольшие проблемы. Их подвергали ограничениям, шантажировали, «предупреждали». Некоторые сдавались, большинство замыкались в себе, писали «в стол». В этом слое были люди разных взглядов и убеждений — от «чистых западников» до почвенников-монархистов, от гуманистов-интернационалистов до фанатичных националистов.
К началу перестройки во всех сферах культуры накопились проблемы, их можно и нужно было решать не только в рамках всего общества, но и в самой интеллектуальной среде, прежде всего в творческих союзах. При этом нельзя было ограничиться Москвой, хотя в столице были сосредоточены все руководящие центры культуры и добрых три четверти ее корифеев. Аналогичная ситуация складывалась в республиках, где давал о себе знать и сильный национальный акцент. Очень заметен он был в Грузии, проявлялся в Белоруссии и на Украине.
В январе 1988 года, когда я был в Киеве, ко мне обратилась группа писателей, среди них Олесь Гончар, с просьбой о встрече. Я предложил собраться у Щербицкого. Разговор начался в жестком тоне, литераторы обвинили украинского лидера в нежелании поддерживать контакт с интеллигенцией. «Мы, — говорили мои собеседники, — впервые в этом кабинете, и не по приглашению Владимира Васильевича». Жаловались на попытки зажима, мелочной опеки. Проскальзывали нотки неудовольствия недостаточным вниманием к национальным ценностям — мало школ на украинском языке, не хватает бумаги для издания книг и т. д. Поговорили мы по душам, но я почувствовал, что Щербицкому не хватает расположенности к деятелям культуры, внимания к их заботам.
Украина не была исключением. Духовная сфера повсеместно была отдана на откуп аппаратчикам из идеологических отделов, перед которыми ставилась главная задача — сплачивать интеллигенцию «вокруг партии», а инакомыслящих «держать и не пущать».
Тем не менее корень зла был не в непросвещенности начальства, а в системе. Перестройка пробивала в ней одну брешь за другой. У людей развязались языки, начало раскрепощаться сознание, исчезать страх, стали говорить, что думают, покушаться на посты и привилегии творческого генералитета. Тот ощетинился, кинулся к властям в ноги: защитите, мы ведь вам служили верой и правдой! Но скоро убедились, что времена уже не те, на одни милости и благоволение начальства полагаться нельзя, оно само уже не так всесильно, не сегодня-завтра вовсе рухнет. Остается налаживать круговую оборону.
И все больше углублялась дифференциация, все ярче разгоралась полемика между писательскими группировками, все плотней они сбивались в армии по принципу единомыслия. С одной стороны, «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», с другой — «Знамя», «Октябрь», «Новый мир». Были, конечно, и промежуточные издания, но не они определяли основную тенденцию. Поляризация распространялась на массовую прессу, проявилась на съездах и пленумах творческих организаций, втягивая в борьбу все общество. Кое-кто уже призывал действовать по правилу: если враг не сдается — его уничтожают. В словесной схватке перестали выбирать выражения, вопрос ставился так: не важно, прав ты или нет, главное — кто «наш», а кто «не наш».
Мы стремились дать людям свободу — слова, мысли, творчества, а уж как они ею воспользуются, зависело от них самих. Сегодня с горечью приходится признать, что значительная часть интеллигенции использовала эту свободу далеко не на пользу обществу и даже самой себе.
Основное направление оставалось тогда верным. Велась борьба с извращением истории и лакировкой действительности, опрокидывались идолы, воспрянули духом несправедливо гонимые и обиженные. Под напором молодых рухнули твердыни консерваторов в творческих союзах. Застрельщиком этого бескровного переворота стали кинематографисты, переизбравшие на своем V съезде все прежнее руководство союза, — его возглавил Э.Климов. Этому примеру скоро последовали писатели, художники, архитекторы. Дольше всех сумели продержаться «старики» в Союзе композиторов — уж очень высок был авторитет Тихона Хренникова, многие десятилетия умело направлявшего организацию советских музыкантов. Но и ему пришлось в конце концов уступить дорогу «новым людям».
Сколько было тогда восторгов, какие речи произносились о том, что покончено наконец с засильем чинуш и бездарей, открываются небывалые возможности для вольного творчества. И действительно, в первое время появилось несколько интересных театральных постановок, фильмов и повестей — в основном документальных. Но уже очень скоро крайний радикализм реформаторов начал мстить за себя. Бесплодными оказались попытки зачеркнуть художественное наследие советского периода. Вытолкав взашей былые авторитеты и усевшись в секретарских креслах, радикалы не смогли создать сколько-нибудь значительных произведений и тем более — нормальной творческой атмосферы.
В феврале 1987 года на Политбюро зашла речь о творческих союзах. Самое плохое, сказал я, если в такое время интеллигенция погрязнет в склоках, сведении счетов. Иногда просто стыдно читать, что происходит на собраниях. В то же время многие художники хотят помочь продвижению реформ, и ничто не может заменить в этом литературу, кино, театр. Накануне я был в «Современнике» на спектакле по пьесе М.Шатрова «Большевики». Зал был буквально заряжен, соотносил каждую реплику с тем, что происходит сегодня. И мне вновь подумалось, что не следует командовать художниками, инструктировать их, нужно по мере возможности помочь им понять замысел перестройки, найти в ней свое место.
К этому, в сущности, и сводилась наша новая политика в области культуры. С одной стороны, покончили с «бульдозерными методами»[10] (эту метафору вполне можно отнести не только к живописи, но и ко всем другим искусствам), поддержали деятелей культуры, выступивших практически с единых позиций против наплыва халтуры, пошлости, разложения. Настойчиво предлагали мы расширять гласность в сфере культуры, народу возвращались одна за другой ценности, которых он был лишен. Потоком пошли переводы многих значительных произведений, созданных в мире за десятилетия, не допущенных либо просто не дошедших до советского читателя.
Открылись запасники музеев, достоянием публики стали шедевры Филонова, Кончаловского, Шагала и многих других художников, оказавших огромное воздействие на всю живопись XX столетия.
Мне не надо было мучительно думать, какую роль следует отвести художественной интеллигенции. С самого начала я понимал, что без нее не удастся поднять общество на перестройку, но включить ее самое в этот процесс тоже крайне не просто.
Я старался не пропускать сколько-нибудь значимых театральных постановок и кинофильмов, посещал выставки, встречался с актерами, писателями, музыкантами по их просьбе или сам приглашал для беседы.
Вспоминаю встречу с писателями в начале лета 1986 года. Дело шло к очередному их съезду, возникли острые дискуссии, появились группировки, грозившие расколом союза. И я решил пригласить писателей для откровенной беседы.
В зале Секретариата ЦК собралось человек 25 ведущих деятелей писательского цеха. Я откровенно поделился с ними своей оценкой обстановки, подчеркнул, что мы нуждаемся в поддержке творческой интеллигенции, поинтересовался, как они намерены распорядиться литературными делами.
Обмен мнениями проходил сумбурно, но, хотя присутствовали представители соперничавших группировок, превалировало настроение в пользу того, чтобы отложить цеховые распри, активнее поддержать перестройку. Пожалуй, благотворную роль сыграли мудрые выступления «старейшин» — Леонида Леонова и Сергея Залыгина.
Накопление проблем, все более острые столкновения интересов сказались на атмосфере моих встреч с интеллектуалами. Я всячески стремился погасить страсти, умерить ожесточение, но чем дальше, тем меньше это удавалось. Верх брали групповые интересы: борьба за тот или иной журнал, за Литфонд, места в секретариатах, правлениях союзов. Творческие и общенациональные интересы уходили на задний план, ими переставали заниматься. Стыдно вспомнить, как себя вели в то время некоторые интеллигенты дома и за границей, сколько истерических поношений всего и вся приходилось слышать.
Быть может, стоит сделать некоторую скидку на глубокий духовный кризис, в котором оказалась наша интеллигенция. Ведь исходным материалом творческого процесса на протяжении десятилетий была определенная социальная среда — с ее проблемами, специфическими конфликтами и драмами. Это находило отражение в художественных произведениях; и вдруг оказалось, что все было «не так», подлежит пересмотру. Значит, их работа пошла насмарку, оказалась никому не нужной.
Конечно, подобные суждения, крайне несправедливые и неверные в своей односторонности, со временем будут отвергнуты. Будет обнаруживаться непреходящая ценность действительно талантливых произведений — не важно, писались они с позиций социалистического реализма или каких-то других[11]. Но разве эта мысль облегчит страдания художника, на глазах которого его сочинения подвергаются издевкам и предаются забвению?
Очевидно, революция в умах, вызванная перестройкой, прежде всего потрясла интеллигенцию. Поэтому я не склонен строго судить, тем более обличать ее. Она острее других переживала перемены. Люди, которым по самой их профессии полагалось осмысливать и отображать происходящее, оказались перед пропастью. Это тяжелый кризис, не каждый может с ним совладать. И многие начали срываться на истерики, злобные выпады против перестройки и лично против меня. Одни мстили за разрушение привычных миров и удобного для них порядка. Другие, пьянея от свободы, соревновались в показной смелости.
Глава 11. Хозяйственная реформа: первая попытка
Прелюдия реформы
К теме гласности я буду возвращаться не раз. Она была и самоцелью, и мощным инструментом перестройки во всех сферах жизни. А среди них особую заботу вызывала экономика.
После поездки в Латвию и Эстонию (февраль 87-го) я взял кратковременный отпуск и 9 марта уехал в Пицунду. Перед отъездом поставил на Политбюро вопрос о Пленуме по экономической реформе. Просил Рыжкова, Слюнькова, Медведева подготовить соображения на сей счет. Сам же взялся за чтение материалов по экономике.
Мои размышления невольно возвращались к тому времени, когда по поручению Андропова мы вместе с Рыжковым, с привлечением ведущих ученых и специалистов попытались объективно, с критических позиций проанализировать состояние народного хозяйства. Необходимость структурных перемен была ясна уже тогда. Но чтобы они начались, многое должно было измениться в стране.
Я уже говорил, что к данным о ВПК имели доступ два-три лица в государстве. Конечно, мы понимали, как тяжело отзываются на экономике непомерные военные расходы. Но только став генсеком, я увидел действительные масштабы милитаризации страны. В конечном счете, преодолев сопротивление лидеров ВПК, мы опубликовали эти данные. Оказалось, что военные расходы составляли не 16, а 40(!) процентов госбюджета, продукция ВПК — не 6, а 20 % валового общественного продукта. Из 25 млрд. рублей общих расходов на науку — около 20 млрд. шло на военно-технические исследования и разработки.
Экономика продолжала идти по экстенсивному пути, носила ярко выраженный затратный характер. Удельные затраты труда, топлива, сырья на единицу продукции были в два-два с половиной раза выше, чем в развитых странах, а в сельском хозяйстве — на порядок. Мы производили угля, нефти, металла, цемента и других материалов, за исключением искусственных и синтетических, больше, чем США, а по размерам конечного продукта отставали от них не менее чем вдвое. Автомобили и особенно сельхозтехника отправлялись потребителям недоукомплектованными, небрежно собранными, разграблялись в пути, на местах их приходилось чуть ли не собирать заново. Расхлябанность захватила даже такую отрасль, как транспорт. На запасных путях и в тупиках месяцами простаивали десятки брошенных поездов, груженных нужными стране товарами, которые подвергались порче и расхищению.
Наша аналитическая работа тогда, в 1982–1984 годах, не сводилась к констатации бед в народном хозяйстве. Мы стремились выяснить причины нарастания кризисных явлений, определить пути оздоровления экономической ситуации. И тут выявился спектр мнений, определивший практическую деятельность руководства на ряд лет вперед.
Пожалуй, не было разногласий лишь в одном — в признании общего ослабления руководства экономикой и его последствий: расхлябанности, безответственности на производстве и во всех звеньях управления. На этой почве родилась андроповская политика наведения порядка, получившая вначале дружную поддержку. Но односторонний акцент на дисциплинарных мерах не замедлил породить крайности, дискредитировавшие общую линию. Стало ясно, что на одной дисциплине далеко не уедешь, нужен более фундаментальный подход.
А дальше мнения расходились. Ученые, не связанные ведомственными интересами, считали основной причиной отставания страны то, что мы, по существу, «проглядели» новый этап научно-технической революции, в то время как западный мир далеко ушел вперед и в структурной перестройке экономики, и в ее технологическом обновлении. Такую позицию (с нюансами) разделяли Г.И.Марчук, П.Н.Федосеев, А.И.Анчишкин, Г.А.Арбатов, А.Г.Аганбегян, О.Т.Богомолов, Т.И.Заславская, Е.М.Примаков, В.А.Медведев, С.А.Ситарян, Р.А.Белоусов, И.И.Лукинов, В.А.Тихонов и другие ученые, принимавшие участие в дискуссиях. Они доказывали, что дело не только в ошибках, недооценке научно-технического прогресса, но и в архаичности хозяйственного механизма, жесткой централизации управления, гипертрофии плана, отсутствии серьезных экономических стимулов. Впрочем, признание необходимости совершенствования хозяйственного механизма не выходило тогда за пределы формулы «более полного использования возможностей социалистической системы».
Раньше было принято при каждом критическом анализе трудностей и провалов в экономике винить ученых. Конечно, какая-то доля вины на них падала. Большая часть экономистов действительно была отучена от серьезных и беспристрастных исследований, занималась комментированием (главным образом комплиментарным) решений партии и выступлений вождей, обоснованием официальных идеологических догм. Пагубную роль сыграли репрессии в отношении самых видных наших ученых-экономистов (Н.Д.Кондратьев, А.В.Чаянов и другие), наскоки на прогрессивные идеи, рождавшиеся в рамках экономико-математической школы, периодические погромы «товарников». Но несмотря на это, творческая мысль в экономической науке не заглохла, критический и конструктивный материал накапливался. Он сыграл неоценимую роль в разработке идей перестройки.
Выбор направления
В апреле 1985-го, как я уже писал, мы взяли линию на ускорение социально-экономического развития страны. Установка эта звучала лейтмотивом на июньском совещании по проблемам научно-технического прогресса, под этим девизом развертывалась деятельность партии, ее нового руководства до XXVII съезда КПСС и после него. Лишь с весны 1986 года формула «ускорения» стала употребляться в сочетании с понятием «перестройка». Это дало повод для суждений, что Горбачев поначалу рассчитывал повысить темпы роста производства старыми методами, не покушаясь на сколько-нибудь серьезное реформирование системы. В какой мере верны подобные утверждения?
Я далек от попыток идеализировать экономическую политику того времени — очень скоро стали видны ее ограниченность и недостаточная глубина. В течение какого-то времени мы действительно надеялись преодолеть застой, опираясь на такие «преимущества социализма», как планово-мобилизационные методы, организаторская работа, сознательность и активность трудящихся.
Читатель вправе задать вопрос: вы только что толковали, что еще в 84-м году понимали необходимость структурных реформ. Почему же отставили их в сторону и взялись за старое? Дело в том, что крайне тревожная экономическая ситуация, доставшаяся в наследство новому руководству, требовала срочных мер. Нам тогда казалось: вот поправим дела, вытянем на прежних подходах, а там возьмемся уже за глубокие реформы. Вероятно, это было ошибочно, привело к потере времени. Но так мы тогда мыслили.
В том, чтобы накопившуюся энергию общественных ожиданий направить в русло «наведения порядка», не ломая существующих институтов, был, естественно, заинтересован партийный и государственный аппарат. В руководстве выразителями этих настроений были Лигачев, Соломенцев, в какой-то мере Чебриков, Воротников. Акцент на научно-техническом прогрессе делали Рыжков, Маслюков, Талызин, за которыми стоял корпус хозяйственных руководителей — министров, директоров предприятий. Ну а за неотложное преобразование экономических отношений в руководстве выступали Медведев и Яковлев.
Понимая значение экономических реформ, я считал, что надо прежде всего попытаться модернизировать экономику, чтобы к началу 90-х годов подготовить условия для радикальной экономической реформы. На это и было нацелено Всесоюзное совещание по научно-техническому прогрессу. Скажу для ясности, что эти замыслы были в определенной мере близки дэнсяопиновским методам осуществления реформ в Китае.
В соответствии с рекомендациями совещания была составлена программа модернизации отечественного машиностроения, предусматривавшая достижение мирового уровня уже к началу 90-х годов.
Особые надежды я возлагал на «целевые программы научно-технического прогресса» по информатике и вычислительной технике, развитию роторных и роторно-конвейерных линий, робототехнике, биотехнологии, генной инженерии и т. д. Эти программы предусматривали, кстати, серьезную перестройку инвестиционной политики, широкое кооперирование с предприятиями восточноевропейских социалистических стран, создание совместных производств и с западными фирмами (в частности, ФРГ). Они воспринимались кадрами как крутой поворот, которого ждали годы. Эти настроения проявились в выступлениях участников совещания по НТП. Начиналась пора гласности. Люди оттаивали, вели себя раскованно.
Как не вспомнить Игоря Северянина:
Были мы тогда прожектерами? В какой-то степени — да. Но и маниловщиной эти планы нельзя назвать. Потенциал страны позволял если не перегнать развитые страны Запада, то, во всяком случае, ликвидировать огромное наше отставание от средних мировых показателей.
Вокруг программы по машиностроению закипели нешуточные страсти: нужно было найти ресурсы для ее выполнения. Я предложил испытанный способ — за счет сокращения капиталовложений в отрасли, потребляющие машиностроительную продукцию. Поскольку там ждут лучших машин и оборудования, пусть поступятся частью выделенных им ресурсов.
Отрасли шли на это с большим скрипом. Помню, как яростно боролся за приращение капиталовложений в угольную, нефтяную и газовую промышленность Долгих. Буквально завалил записками. Глядя на теперешнее состояние этих отраслей, можно подумать, что он был прав. Но ведь оно возникло прежде всего из-за отсталой технической базы. Наращивать добычу, не думая о ресурсосберегающих технологиях и машинах, значило завести дело в тупик.
В конечном счете не без нажима с моей стороны пришли к соглашению. Инвестиции в машиностроительный комплекс было решено увеличить в 1,8 раза. Приняли ряд организационных мер, в частности, было создано бюро Совета Министров СССР по машиностроению.
И все же, как показал последующий ход развития, наши решения того периода были односторонними, несли печать инерционных представлений, согласно которым можно добиться коренных перемен в экономике, главным образом, с помощью волевых действий.
В ноябре 1985 года Политбюро одобрило постановление «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом». Оно было сосредоточено в руках Госагропрома — суперведомства, созданного за счет слияния примерно десятка министерств под руководством первого заместителя председателя правительства. Подобные органы создавались в республиках и на местах.
Это, безусловно, было данью традиционной вере в безграничные возможности предельной централизации. Негативные результаты дали о себе знать скоро. Над колхозами и совхозами, предприятиями по переработке сельхозсырья навис громоздкий бюрократический механизм, пытавшийся все определять и контролировать. На органы Агро-прома вскоре обрушился шквал критики, в большинстве своем справедливой. Все это было, «из песни слова не выкинешь». Оперативные меры явно отставали от намерений, заявленных на апрельском Пленуме ЦК, совещании по научно-техническому прогрессу. А во многих отношениях не отвечали этим намерениям, оставались в русле прежних административных подходов. Сказывались инерция мышления, состав руководства. Да и реформаторской его части не все было ясно, недоставало решимости.
Антиалкогольная кампания: благородный замысел, плачевный итог
Антиалкогольная программа, принятая в мае 1985 года, до сих пор остается предметом недоумения и догадок. Почему решили начать с этой меры, рискуя осложнить возможность проведения реформ? Как можно было допустить, чтобы доброе само по себе начинание обернулось для общества немалым ущербом?
Не секрет, пьянство на Руси было бичом со средних веков. Время от времени объявляли ему бой — как могли, ограничивали продажу спиртного, ужесточали наказания, клеймили пьяниц с церковных амвонов. В предреволюционное время вводился «сухой закон», соблюдался он и в первые годы Советской власти. В 1958 году энергично взялся за искоренение этого порока Хрущев; были повышены цены на алкоголь, ограничена его продажа. Но постепенно все спустили на тормозах. При Брежневе вопрос несколько раз обсуждался на Секретариате, создали комиссию во главе с А.Я.Пельше, но вскоре его не стало, о комиссии забыли.
Алкоголизм превратился в острейшую социальную проблему, которую долгое время стыдливо замалчивали. Пьяниц объявляли «моральными уродами», в пропаганде утверждалось, что в социалистическом обществе нет объективных причин, порождающих это явление.
А между тем ситуация создалась катастрофическая. В стране насчитывалось 5 миллионов только зарегистрированных алкоголиков. По данным Института социологии АН СССР, ежегодный ущерб народному хозяйству от пьянства оценивался от 80 до 100 миллиардов рублей. Выпивали в чистом алкоголе 10,6 литра на душу населения, включая грудных младенцев! (В 1914 году, когда в России ввели «сухой закон», — 1,8 литра, после Великой Отечественной войны — 2 литра.) Сокращалась продолжительность жизни, подрывалось здоровье живущих и будущих поколений.
В чем были причины повального пьянства? Их много: нелегкие условия жизни миллионов людей, неустроенность быта, низкий культурный уровень. А многие спивались из-за невозможности проявить себя, говорить что думаешь. Гнетущая общественная атмосфера толкала слабые натуры «залить» чувство неполноценности, страх перед окружающим суровым миром. Дурную роль играл пример начальства, отдававшего щедрую дань «зеленому змию».
В обществе сложилась обстановка безразличия и терпимости к пьянству. Аресты пьяниц на 15 суток, содержание в вытрезвиловках, привлечение к подметанию улиц стали расхожими сюжетами анекдотов. Ходила история, как министром угольной промышленности стал Засядько. Он оказался на застолье у Сталина, пили из фужеров, Сталин — вино, Засядько — водку. Выпили по нескольку фужеров. А при очередном тосте Засядько заявил:
— Нет, товарищ Сталин, я все, свою норму знаю.
И вот, когда Сталину дали список кандидатов на должность министра, он выбрал Засядько. В ответ на замечание, что работник хороший, но вроде бы пьет, сказал: «Пьет, но норму знает».
Пожалуй, самое печальное состояло в том, что в условиях тотального дефицита потребительских товаров государство не видело другого средства поддерживать денежное обращение, как спаивать народ. Звучит дико, но ведь чистая правда. Брешь между колоссальной денежной массой и убогим предложением заполнялась спиртным причем увеличивали выпуск вредных для здоровья некачественных напитков, получивших в народе название «бормотуха». Писатель В.Белов заметил: «Дензнаки, как выражаются финансисты, оборачивались со скоростью суточного вращения Земли: заводская касса — карманы трудящихся — винный ларек — инкассаторская сумка и вновь заводская касса. В общем, открыли новую экономическую «закономерность».
Эта проблема встала перед нами в самом начале. На стол Политбюро легли убийственные материалы, свидетельствующие о народной беде. Десятки тысяч людей, предприятия и целые системы, требующие жесткой дисциплины и ответственности, оказались заложниками пьянчуг. Помню, Громыко, придя в Верховный Совет и ознакомившись с письмами и другой информацией по этому вопросу, делился со мной своим возмущением: «Представляешь, у нас пьют повсюду — на производстве и на отдыхе, в политических и творческих организациях, лабораториях, школах и вузах, детских садах!» Попутно Андрей Андреевич вспомнил об одном разговоре по поводу пьянства с Брежневым. Как-то они возвращались из Завидова, ехали вдвоем в автомобиле — за рулем генсек. Громыко, ссылаясь на информацию, попавшую в его распоряжение, посетовал на то, что в Союзе пьянство достигло катастрофических масштабов и это сказывается на всей жизни общества. Брежнев, выслушав его суждения, долго молчал, а потом сказал: «Знаешь, Андрей, русский человек без этого не может обойтись…» Громыко, по его словам, свернул разговор на эту тему.
Сейчас часто спрашивают, кому принадлежала инициатива принятия 7 мая 1985 года постановления ЦК и правительства о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР (16 мая). Злые языки говорят, что это, мол, дело членов Политбюро, давно выпивших свою норму. Это несерьезно. По существу, инициатива принадлежала общественности. Шло мощное давление на партийные и государственные органы, куда поступало несметное количество писем, главным образом от жен и матерей. Приводились ужасающие примеры семейных трагедий, производственного травматизма, преступности на почве пьянства. Чрезвычайно остро ставили этот вопрос литераторы и медики.
Другой миф — будто мы установили «сухой закон». Такой вариант даже не рассматривался, потому что был заведомо нереален.
Хочу возразить тем, кто считает, что мы не задумывались, чем закрыть брешь в доходной части государственного бюджета в результате сокращения продажи спиртного. Проводились специальные экономические расчеты, которые учитывали размеры потерь на производстве по причине пьянства. Намечалось постепенно (подчеркиваю — постепенно) сокращать спиртное, по мере его замещения в товарообороте и бюджетных доходах другими товарами.
Поначалу общество (я не говорю о завзятых выпивохах) с одобрением отнеслось к этому решению, но по мере его воплощения в жизнь возникло недоумение, сменившееся раздражением, недовольством и в конце концов даже озлоблением. Что же произошло?
Как у нас нередко бывает, между замыслом и его претворением в действительность пролегла дистанция огромного размера. Я бы сказал, что на стадии обсуждения, принятия решения были проявлены и реализм, и ответственность, а вот на стадии исполнения дела начали «пороть горячку» и допускать перехлесты, загубили полезное и доброе начинание.
Контроль за исполнением постановления был поручен Лигачеву и Соломенцеву. Взявшись за дело с неуемным рвением… довели все до абсурда. Требовали от партийных руководителей на местах, министров, хозяйственников «перевыполнить» план сокращения производства спиртного и замены его лимонадом. Устраивали жесткие разносы «отстающим», вплоть до снятия с работы и исключения из партии. Призывали равняться на тех, кто добился «опережения графика», пусть даже ценой огромного ущерба для экономики.
В нашем обществе больше привыкли к «революционным скачкам», чем к кропотливой работе на длительном отрезке времени. Антиалкогольная кампания, к сожалению, стала еще одним печальным примером того, как вера во всесилие командных методов, максимализм, административный раж губят правильно задуманное дело. В спешном порядке начали закрывать магазины, винно-водочные заводы, а кое-где и вырубать виноградники. Свертывалось производство сухих вин, что не было предусмотрено постановлением. Приобретенное в Чехословакии дорогостоящее оборудование по производству пива ржавело и гибло. Массовый характер приобрело самогоноварение. Из продажи начал исчезать сахар; его нехватка потянула за собой резкое сокращение ассортимента кондитерских изделий. Потом с прилавков начали исчезать недорогие одеколоны, употреблявшиеся вместо алкоголя. А использование всевозможных «заменителей» привело к росту заболеваний. Вот какая протянулась зловещая цепочка. Людей все больше раздражали многочасовые очереди, униженные ожидания в надежде приобрести бутылку водки или вина по случаю какого-либо торжества. Как только ни ругали начальство, а больше всех доставалось генсеку, которого по традиции принято было считать ответственным за все. Так я получил кличку «минеральный секретарь».
Нельзя сказать, что принятые меры оказались абсолютно безрезультатными и вызывали только отрицательные эмоции. Сократился травматизм, снизилась смертность людей, потери рабочего времени, хулиганство, разводы по причинам пьянства и алкоголизма. Не все ведь сводилось к запретам. Впервые появилась информация о производстве и потреблении спиртных напитков, публиковались статистические данные, которые раньше держались в тайне. Но негативные последствия антиалкогольной кампании намного превзошли ее плюсы.
Что ж, должен покаяться: на мне лежит большая доля вины за эту неудачу. Я не должен был всецело передоверять выполнение принятого постановления. И уж во всяком случае, был обязан вмешаться, когда начали обнаруживаться первые перекосы. А ведь до меня доходила тревожная информация, что дело пошло не туда, да и многие серьезные люди обращали внимание на это в личных беседах.
Помешала отчаянная занятость лавиной обрушившихся на меня дел — внутренних и внешних, в какой-то мере и излишняя деликатность.
И еще одно скажу себе в оправдание: уж очень велико было наше стремление побороть эту страшную беду. Напуганные негативными результатами кампании, мы кинулись в другую крайность, совсем ее свернули. Шлюзы для разгула пьянства открыты, и в каком жалком состоянии мы находимся сейчас! Насколько труднее будет из него выбираться!
На подступах к реформе
Настраиваясь на реформу хозяйственного механизма, мы связывали немалые надежды с экономическим экспериментом, начатым еще в 1983 году на предприятиях двух союзных и трех республиканских министерств, — по расширению прав предприятий и усилению их ответственности за результаты работы. Результаты были неплохие, и в июле 1985 года было решено распространить эту систему с 1986 года на все предприятия и объединения машиностроения, легкой, пищевой, мясной и молочной промышленности, рыбного хозяйства, местной промышленности и бытового обслуживания. А с 1 января 1987 года — на всю промышленность.
Но очень скоро мы почувствовали, что рамки экспериментальной системы слишком узки, ее энергетический заряд ограничен. На XXVII съезде КПСС был поставлен вопрос, что нельзя ограничиться частичными улучшениями, нужна радикальная реформа. Уже в 1986 году был принят ряд практических решений.
Установлено, что в основе планирования и оценки работы предприятий легкой промышленности будут лежать заказы, формируемые через оптовые ярмарки, а предприятий и организаций торговли и общественного питания — их конечная выручка. Промышленным министерствам разрешена фирменная торговля. Основным критерием оценки результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий объявлено стопроцентное выполнение их обязательств по поставкам продукции в соответствии с заключенными договорами. Предприятия строительного, дорожного и коммунального машиностроения, а также ряда непроизводственных министерств были переведены в порядке опыта на материально-техническое снабжение без фондов и лимитов. Принят пакет документов по проблемам качества продукции, предусматривающий введение госприемки. Поддержаны такие формы организации производства, как коллективный подряд и аренда. Наконец, были приняты решения, принципиально меняющие подход к внешнеэкономической деятельности: впервые за многие десятилетия право прямого выхода на мировой рынок предоставлено двадцати министерствам и семидесяти крупнейшим объединениям и предприятиям, а в прямые отношения с партнерами из соцстран разрешено вступать всем предприятиям и организациям.
Я сознаю, что этот перечень может показаться выдержкой из отчетного доклада и навеять на читателя скуку. Да и теперь, когда экономика страны уже коренным образом изменилась, первые шаги поневоле выглядят крайне робкими, заслуживающими внимания разве что прилежных историков и архивистов. Но что поделаешь, это ведь была часть моей жизни и работы. Сколько долгих жарких споров вокруг каждой детали, бессонных ночей над писанием документов, надежд и разочарований!
Вроде бы удалось глыбу экономической реформы сдвинуть с места. Но не больше! Предпринятые шаги носили разрозненный характер, это была, по существу, «точечная стратегия», не дававшая решения проблемы в целом. К тому же некоторые из названных мер несли на себе печать традиционных подходов, и от них пришлось отказаться. Это в первую голову относится к эпопее с госприемкой. Хотелось любыми средствами, да побыстрее повысить качество продукции. На виду неплохой пример — приемка продукции военпредами на оборонных предприятиях (более детальное ознакомление впоследствии показало, что и там не так уж все было идеально). И вот весной 1986 года было решено ввести государственную приемку важнейших видов народнохозяйственной продукции специально создаваемыми для этого вневедомственными органами.
Некоторые ученые, специалисты и тогда высказывали мнение, что эффект в лучшем случае будет кратковременным, что единственно надежным контролером качества может быть лишь потребитель. Но для этого надо было покончить с дефицитностью в экономике, а время нас подгоняло. Введение госприемки первоначально на 1500 предприятиях вызвало шок, на многих из них снизилась зарплата, перестали выплачиваться премии. Госприемку стали винить в срыве планов, потянулись ходатаи в партийные органы, Госплан и правительство с просьбами «ослабить диктат по качеству». А более сообразительные и предприимчивые руководители бросились налаживать «контакты» (я — тебе, ты — мне) с госприемщиками, тем более что они были, как правило, вчерашними их коллегами и подчиненными.
Госприемка уже через два-три года «приказала долго жить», это был еще один ясный сигнал того, что решение проблемы не в административно-организационных мерах, а в перестройке экономического механизма.
Любопытная ситуация сложилась с переводом ряда предприятий на снабжение через оптовую торговлю. Теми, кого он затронул, это было воспринято как отказ от гарантированного снабжения. Посыпались жалобы и возражения. С большим трудом Академии наук удалось добиться сохранения старого порядка, а другие смирились, полагая втихомолку, что на деле ничего не изменится. Так оно и случилось! Невольно возникает подозрение — не на такой ли результат как раз рассчитывали многоопытные плановики и снабженцы. Они как бы говорили нам: «Надеетесь обойтись без нас? Пожалуйста, получайте вашу оптовую торговлю, но коллективы ее не примут, производство развалится».
Поучительна история с принятием решений о личных подсобных хозяйствах, коллективном садоводстве и огородничестве, индивидуальной трудовой деятельности. Это было полезно со всех точек зрения: могло стать источником дополнительного дохода для людей, наполнения рынка товарами, развития сферы услуг, занятия посильной работой пенсионеров и инвалидов. Положительный опыт в этом отношении был в ГДР, Венгрии, других социалистических странах. У нас же все еще видели в кустарных промыслах нечто чуждое социализму, хотя были и свои традиции. В России всегда ценились толковые работники, которые могли и печь сложить, и колодец вырыть, и жилье отремонтировать, и технику починить. Уже в начале века начали появляться разные товарищества, артели, а после революции, особенно в период нэпа, сложилась разветвленная система промысловой кооперации.
Потом все попало под пресс огосударствления, а люди, имеющие склонность к подобным занятиям, стали клеймиться как носители частнособственнических инстинктов. Такая уж была психология: подавай работу ради великих целей. Заниматься индивидуальным трудом и хорошо зарабатывать — неприлично, а вот кое-как «пахать» на большом предприятии или в учреждении — в порядке вещей.
Быстрее всего были сняты ограничения с садово-огородных товариществ. Нелепости тут встречались на каждом шагу, в домиках не разрешалось ставить печки, регламентировались размеры строений, «нарушителей» наказывали, вплоть до сноса построек. Со всем этим было покончено. Резко расширены выделения земельных участков под сады и огороды, продажа населению стройматериалов. Эти меры дружно поддержали все члены руководства. Намного сложнее оказалось освободиться от предубеждений в отношении индивидуальной трудовой деятельности, изменить отношение к ней партийно-государственных структур, особенно местных Советов. Вот когда еще началась дискуссия о допущении частной собственности и частного хозяйства!
Одним из первых поддержал мою позицию Рыжков. Основное же противодействие шло от финансистов, стремившихся обложить «частные» доходы непомерными налогами. На одном из заседаний Политбюро я сказал, обращаясь к министру финансов Гостеву:
— Что, Борис Иванович, будем по-прежнему душить инициативу людей или дадим им жить и работать? Не пугайтесь вы, если кто-то разбогатеет свом горбом!
Другой прием, искусно использовавшийся противниками перемен, — сопровождение принимавшихся решений инструкциями или «разъяснениями» ведомств и местных властей, которые выхолащивали, а то и полностью искажали их смысл. Ну а в большинстве случаев эти решения просто игнорировали: получат бумагу, подошьют в папку, и дело с концом, словно бы ее и не было.
Справедливости ради надо сказать, что в некоторых случаях исполнителям было непросто претворять на практике поступающие из центра противоречивые предписания. Причиной их была все та же раздвоенность сознания. С одной стороны, понимали, что нужно дать простор частной инициативе, а с другой — опасались, что это подорвет основы строя. Да и ревнители «чистоты» стояли на страже, чуть что — поднимали шум. В итоге — качели: туда — обратно, можно — нельзя.
Явные перегибы стали допускаться в связи с принятыми в мае 1986 года решениями об усилении борьбы с нетрудовыми доходами. По замыслу они были направлены против расхитителей, взяточников, вымогателей, а больше ударили на деле по слою работяг-индивидуалов, кустарям, мастеровым, мелким посредникам. Плохую роль сыграло то, что в директивных документах не было сказано о поддержке индивидуальной трудовой деятельности, удовлетворение потребностей населения связывалось лишь с улучшением работы предприятий торгового и бытового обслуживания. Зато с пафосом говорилось о «борьбе с лицами, живущими не по средствам», «пресечении деятельности спекулятивных элементов и перекупщиков» и т. д. Здесь проявилась позиция той части партийно-государственного аппарата, которая не принимала линию руководства. А мы просто проглядели подготовку и выпуск односторонне направленных решений. Потом пришлось их поправлять.
Чтобы устранить почву для противоречивых толкований, было решено разработать Закон об индивидуальной трудовой деятельности. После больших споров проект передали в Верховный Совет СССР, и 19 ноября 1986 года он был принят. Хотя и несовершенный, половинчатый, он сыграл полезную роль в преобразовании экономических отношений.
В 1985–1986 годах экономическая ситуация в стране несколько улучшилась. Промышленное производство приросло на 4,4 процента, сельское хозяйство — 3 процента. За два года в социальную сферу было вложено почти на 40 миллиардов больше, чем предполагалось по пятилетнему плану.
Успех радовал, но в какой-то степени и расхолаживал, создавая иллюзию серьезных перемен. Отрезвление не заставило себя долго ждать. В начале 1987 года в экономике произошел серьезный сбой: промышленное производство упало на 6 процентов против декабря 1986 года. Прежде всего это коснулось машиностроения и легкой промышленности. Немалые трудности испытывали металлургия, химическая промышленность. Возникла опасность, что план 1987 года рухнет как карточный домик.
12 февраля в связи с этим состоялся острый разговор на Политбюро. Объяснения Талызина и Воронина свелись к тому, что виноваты зима, госприемка, нерасторопность снабженцев (временные перебои с шарикоподшипниками и резинотехническими изделиями). Срыв действительно удалось локализовать, еще в течение двух лет народное хозяйство удерживалось от вползания в кризис. Но это был громкий «звонок», сигнал о том, что экономика пребывает в неустойчивом состоянии, а процессы обновления идут в ней вяло. Насмерть стояли министерства, не желая делиться толикой прав с объединениями и предприятиями. Программы развития приоритетных отраслей не обеспечивали ускорения научно-технического прогресса, проваливались планы модернизации машиностроения. Наши напряженные усилия во многом «уходили в песок».
Муки рождения
В марте 1987-го мы наконец приблизились к пониманию того, какой должна быть тактика разработки и проведения экономической реформы.
Был учтен горький опыт прежних попыток, в особенности «косыгин-ской реформы». Предпринятая во второй половине 60-х годов, она была для своего времени достаточно смелой, прежде всего в плане расширения самостоятельности предприятий и товарно-денежных отношений между ними. Хорошо помню, какое оживление она вызвала в обществе, какие породила надежды, оказав положительное влияние на развитие экономики в восьмой пятилетке, пожалуй, наиболее успешной в послевоенные годы.
Реформа тех лет была по преимуществу технократической, не получила должного политического обоснования, больше того — выпала из контекста общественного развития: ведь оно тогда шло не в сторону демократизации, а к «завинчиванию гаек», особенно после подавления «пражской весны».
Немаловажную роль, по моим наблюдениям, сыграло и то, что Брежнев, стоявшая за ним партократия оказались как бы в стороне от разработки и осуществления реформы, ревностно следили за действиями главы правительства, не очень радовались его достижениям и не очень печалились неудачами, а порой и вставляли палки в колеса. Можно было не сомневаться, что с такого же рода противодействием и даже открытым саботажем придется столкнуться и нам.
Все равно начинать приходилось с Пленума, надо было провести через эту верховную инстанцию власти пакет принципиальных установок. Было решено разослать его участникам тезисные материалы для предварительных раздумий. Подготовкой тезисов и доклада занялась рабочая группа, в которую вошли кроме меня Рыжков, Слюньков, Яковлев, Медведев, ряд ученых и специалистов (Аганбегян, Абалкин, Анчишкин, Петраков, Ситарян, Можин). Привлекались Г.Х.Попов и В.С.Павлов. Все принципиальные вопросы обсуждались с моим участием, иногда вместе со мной в Волынское, где делалась «черновая работа», приезжал Рыжков. Кроме того, в отделах ЦК и правительстве готовились проекты постановлений, направлявшиеся на апробацию в республики. Одновременно разрабатывался Закон о предприятии, призванный закрепить демократические принципы управления. Он мыслился в качестве «несущей конструкции» новой хозяйственной системы. Опубликовав его перед Пленумом для всенародного обсуждения, мы получили мощную поддержку трудовых коллективов, которые стали соавторами экономической реформы и ее демократической опорой.
Ну и, наконец, была проведена серия совещаний с первыми секретарями партийных организаций, директорами предприятий, рабочими, специалистами, учеными, чтобы основательнее подготовить общественность к восприятию реформы.
Рассказывая обо всем этом, не могу удержаться от реплики по адресу тех, кто утверждает, что реформы у нас проводились скоропалительно, не были достаточно продуманы, навязывались обществу. Чепуха! Они в полном смысле слова явились результатом коллективных усилий реформаторов, науки, общества. Противилась только наиболее твердолобая часть аппарата. И темпы их реализации выбирались не по произволу, их диктовала мера общественной готовности к переменам.
Могу сказать без преувеличения, что в течение нескольких месяцев подготовка Пленума держала руководство страны в постоянно нараставшем напряжении. На этот период выпало немало крупных событий внутреннего и международного порядка. Прошли очередные съезды профсоюзов и комсомола, в работе которых я, естественно, принимал участие. Состоялись мои поездки в Латвию, Эстонию и Казахстан, визиты в Чехословакию, Румынию, ГДР. А чего стоит скандальная история полета Руста и его приземления на Красной площади, вынудившая заменить министра обороны, снять с должностей других ответственных за это военачальников, уделить много внимания проблемам безопасности, которую мы по традиции привыкли считать безупречной.
И все же и по усилиям, которые пришлось затратить, и по драматизму это несопоставимо с процессом подготовки июньского Пленума ЦК. События разворачивались действительно по законам драмы: завязка, развитие нескольких линий, подспудные течения и открытые схватки героев, кульминация, развязка. Все участники были и авторами, и исполнителями. Разногласия и противоречия то были укрыты от глаз публики, то выходили на поверхность, становясь своего рода сенсациями.
Если раньше основные дискуссии развертывались между приверженцами реформ и сторонниками волевых решений, то теперь разделительная линия пролегла по вопросу о том, насколько глубоко реформировать экономическую систему. Главное противодействие нашим замыслам оказывалось руководящими структурами министерств и ведомств, в первую очередь общеэкономических — Госплана, Госснаба, Минфина, аппарата правительства. Потом оно сомкнулось с позицией партбюрократии. Открыто против реформы никто выступать не осмеливался, все были «за», но предлагались половинчатые, двусмысленные решения, оставлявшие многочисленные лазейки, а то и прямую возможность отката к прошлому.
К сожалению, на этом этапе у меня возникли столкновения по ряду вопросов с Рыжковым. Я видел, что он испытывает сильнейшее давление мощного слоя своих вчерашних коллег по директорскому корпусу. Ему постоянно подбрасывали коварную мысль: от правительства-де требуют эффективного руководства народным хозяйством и тут же лишают реальных рычагов управления, демонтируя плановую систему. Николай Иванович иногда проявлял колебания, непоследовательность. К этому следует добавить его негативную, во многом оправданную, но чрезмерно болезненную реакцию на попытки Секретариата, отделов ЦК, в особенности Лигачева, вмешиваться в функции правительства.
Я старался удержать Рыжкова на реформаторских позициях, и, думаю, в общем это удавалось. Но, как говорят, шила в мешке не утаишь. Именно в это время в общественном мнении стали постепенно возникать представления о главе правительства как приверженце консервативных взглядов.
Первое столкновение мнений произошло уже на стартовом совещании по подготовке тезисов и доклада 3 апреля. Это был неторопливый и неформальный, абсолютно раскованный обмен мнениями, продолжавшийся примерно четыре часа.
Не скажу, что мысли Рыжкова диссонировали с общим настроением. Но некоторые мотивы настораживали. Уж очень он нажимал на то, что нельзя «выходить за рамки социализма». (На это, помню, я отреагировал так: «Реформу будем проводить в рамках социализма, но не в тех, которые сковали общество, погасили инициативу и заинтересованность людей».) Сетовал, что Воронин теряет нити управления материально-техническим снабжением.
Разговор заметно обострился, когда дело коснулось объемных показателей в легкой промышленности. Ей определили план в 75 миллиардов рублей, а договоров с торговлей она заключила на 72 миллиарда. По мнению Госплана и правительства, надо нажимать на легковиков, чтобы в план заложить нужную для хозяйства и бюджета сумму. Но возникал вопрос: зачем же закладывать в план 3 миллиарда рублей, на которые торговля не предъявляет спроса?
Весь апрель и начало мая были заполнены работой над тезисами. Я регулярно вел дискуссии с членами рабочей группы, стараясь не выпускать из поля зрения мельчайшие детали, имеющие отношение к делу, практически каждый день бывал в Волынском или приглашал товарищей к себе. Читали раздел за разделом, спорили, искали нужную тональность, точные формулировки. Первоначальный вариант отличался излишней задиристостью и запальчивостью. Это было понятной реакцией на настроения Госплана и других экономических ведомств. Но тезисы для членов ЦК, заметил я, должны брать солидностью, убедительностью, а не эмоциями и публицистикой. Доклад же — отличаться доходчивостью, его ведь будет читать вся страна.
Работа над тезисами была закончена 9 мая, и этот сорокастранич-ный документ разослан членам Политбюро.
В тезисах впервые была нарисована картина надвигающегося на страну экономического кризиса (само слово «кризис» еще не употреблялось), сформулированы основные направления перестройки управления экономикой и создания надежно действующего противозатратного механизма.
В то время мы подчеркивали, что перестройка мыслится в рамках социалистического строя, но в самом понимании социализма происходили глубокие перемены, ставился вопрос, насколько соответствуют этому понятию многие черты модели, сложившейся у нас в основном в 30-е годы. Резкой критике были подвергнуты этатизация общественной собственности, недооценка кооперативных и индивидуальных форм трудовой деятельности, отождествление планомерности с централизмом, ущемление демократических форм управления и самоуправления.
В тезисах дано развернутое обоснование новой модели хозяйственного предприятия (объединения) как «социалистического товаропроизводителя», ведущего хозяйство вполне самостоятельно. Коренным образом менялась «философия» планирования: из директивного, распорядительного оно постепенно должно было стать рекомендательным, прогностическим. Узловым моментом реформы назывался переход к новым принципам ценообразования, по сути дела, сочетающим рыночные механизмы с государственным регулированием. В развернутом виде излагались основные направления перестройки органов экономического управления.
До таких проблем, как мелочный контроль партийных органов за хозяйственной деятельностью предприятий, в тот период еще не добрались. В свое время Косыгин попросил передать в правительство отделы, созданные в ЦК КПСС для курирования практически всех отраслей народного хозяйства. Брежнев и его окружение восприняли это как попытку лишить партийное руководство рычагов управления, оставить его с одной идеологией. И реакция была прямо противоположной: соответствующие отделы и сектора стали расти еще быстрее. Поэтому в тезисах лишь в общей форме говорилось, что парткомы не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий, им следует сосредоточить усилия на развитии демократических основ управления.
Разослав тезисы по Политбюро, я на несколько дней съездил на Байконур, где познакомился с работами по созданию и запуску системы «Буран» мощнейшей ракетой-носителем. Еще раз убедился в огромных возможностях нашей науки и техники, в том, какие перспективы могут перед нами открыться, если подкрепить их сильной экономикой.
14 мая состоялось развернутое обсуждение тезисов на заседании Политбюро. Неожиданностей не произошло, не было недостатка в высоких и даже восторженных оценках. Рыжков, Лигачев, Талызин, Воротников и другие выступали в роли рецензентов и критиков. Впрочем, поскольку автором документа считался генсек, критика носила сдержанный характер и даже несогласие по принципиальным вопросам подавалось как частные замечания.
Лигачев, не углубляясь в вопросы экономической реформы, вдруг пустился в поучения о том, что перестройку не следует сводить к демократизации — это лишь ее рычаг, а цель — укрепление социализма. Высказался за смягчение критических оценок прошлого.
Ельцин отметил глубину и новизну документа, высказался за усиление раздела о партийной работе. Он ведь руководил столичной парторганизацией, а, как известно, «у кого что болит, тот о том и говорит».
Подводя итоги дискуссии, я акцентировал на том, что важен перелом в отношении реформы со стороны партии.
— Движение началось, но есть и сопротивление. Многие действуют вяло, кое-кто опаздывает. Еще раз убедила в этом поездка в Казахстан. Не забуду голоса из толпы: «Когда же наконец перестройка дойдет и до нас?»
От наших усилий зависит, быть ли перестройке ползучей, поверхностной или коренной, революционной. Поспешность, кавалерийский наскок не нужны, но нельзя и медлить, выжидать. Мы обязательно должны войти в 13-ю пятилетку с новым механизмом.
Противоречия нарастают
А как складывалась работа над пакетом правительственных документов? Вначале в Политбюро был представлен проект постановления о мерах по улучшению государственной статистики, затем о реформе финансово-кредитной системы и ценообразования. Была разослана записка Рыжкова о финансовом положении страны. Пожалуй, впервые на Политбюро встала в открытом виде проблема бюджетного дефицита.
Гостев, в частности, сообщил, что привлечен 21 миллиард рублей кредитных ресурсов для сбалансирования бюджета. А всего прореха составляла 80 миллиардов рублей. Неясно было, откуда взять недостающие 60 миллиардов. Сейчас эти вопросы обсуждаются на каждом перекрестке, а тогда они были откровением, потому что использование кредитных ресурсов в качестве доходной статьи бюджета делалось втихомолку, никто об этом практически ничего не знал. Это был основной источник инфляционных процессов в народном хозяйстве.
У Гостева четко прослеживалась фискальная линия: как бы кого прижать в финансовом смысле, чтобы покрыть дефицит, а не создавать условия для самоокупаемости и самофинансирования предприятий. Я уловил это и сказал:
— Хозрасчет всегда в себе таит потенциальное столкновение интересов предприятий и госбюджета. Финансовый контроль — да, но смотря для чего. Если водить за руку и тем более прижимать — это одно, а если помогать, как эффективно вести хозрасчет, как добиться, чтобы каждый наращивал доход и Минфину отдавал положенное, это — посложнее. Но в этом-то и состоит задача. Собрал бы ты, Борис Иванович, людей, растолковал, что такое самофинансирование. Оглушили народ законами, а поработать с людьми, настроить их — этого нет.
Затем разговор перешел на проблемы ценообразования. Главная беда старой системы цен состояла в том, что они, как правило, устанавливались по уровню затрат. В результате мы не только не поощряли, а наказывали предприятия за экономию ресурсов. Отсюда иждивенчество, упование на дотации государства. Цены должны определяться с учетом общественно необходимых затрат и качества продукции, спроса и предложения. Надо провести пересмотр и розничных цен. Разве можно считать нормальным, что дотации только на продовольственные товары составят 56 миллиардов рублей, то есть более 45 процентов к объему их продажи. Вместе с тем я категорически высказался против попыток за счет повышения цен сокращать дефицит госбюджета. Все, что получим, надо отдать населению через зарплату, может быть, за исключением высокооплачиваемой верхушки.
Я еще раз обратил внимание на недопустимость того, чтобы новые термины — контрольные цифры, госзаказ, нормативы, лимиты — служили прикрытием старого содержания.
О силе традиций говорит такой факт. Выступивший на Политбюро министр сельхозмашиностроения А.А. Ежевский сообщил, что снижается заказ на комбайны, Госагропром запросил 100 тысяч, а в плане значится 108 тысяч. Министр обратился с просьбой оказать воздействие на первых секретарей, чтобы те в свою очередь понудили области, республики, колхозы и совхозы заказать технику в нужном объеме. Кому нужном? Я давно знал Ежевского как толкового, болеющего за дело работника, но до чего же глубоко въелась в сознание старая система!
После перерыва Воронин — большой мастак говорить убедительно — докладывал, что к концу пятилетки 30 процентов материально-технического снабжения будет переведено на оптовую торговлю. Вспыхнула дискуссия, почему 30 процентов, ведь к началу следующей пятилетки новый экономический механизм должен полностью заработать, будет новая система ценообразования, как все это совместить с сохранением на 70 процентов старой системы «карточного» распределения ресурсов? Версия правительства состояла в том, что, дескать, оптовую торговлю надо вводить постепенно, по мере накопления ресурсов и преодоления их дефицита. Но тут все было перевернуто с ног на голову, и я просто сказал: в таком случае мы никогда не перейдем к оптовой торговле. Выстраивается порочный круг: материально-техническое снабжение нельзя якобы перевести на оптовую торговлю из-за дефицита, а фондирование порождает дефицит. Выход один — переходить к оптовой торговле по договорным ценам.
Само понимание оптовой торговли в проекте постановления было спорно; она рассматривалась как форма распределения средств производства органами Госснаба, размещающими заказы. Даже внутриотраслевые связи устанавливались министерствами и ведомствами. Та же история, что с контрольными цифрами.
На деле все объяснялось просто: не хотели упускать из рук рычаги власти. Кто определяет показатели, выделяет ресурсы, тот — царь и бог, властелин и благодетель. Сама система нуждалась в сохранении дефицита, иначе рушилась монополия с ее спутниками: подношениями, взятками, взаимными услугами и т. д.
Я был удовлетворен состоявшимся обсуждением, но как трудно, словно через тропические заросли, прорубались мы к нужным решениям. Система заставляет людей бороться за ее сохранение, поскольку это отвечает их интересам. Но я вижу и другую сторону дела: трафаретность, стереотипность мышления. Иные просто начинены штампами, под которые они подгоняют жизнь. Как-то читал про опыты наших психологов, доказывающих, что у советских людей в результате специфического догматического воспитания и образования проявляется удивительное свойство — не видеть в буквальном смысле слова того, что не соответствует либо их представлениям, либо надписи. Сюжет прямо из Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона написано буйвол, не верь глазам своим». Ну а сочетание косности и интереса в сохранении старого дает гремучую смесь огромной силы.
В мае — июне на заседаниях Политбюро продолжалось обсуждение отдельных вопросов экономической реформы и проектов постановления. От заседания к заседанию выявлялись все более резкие разногласия. 21 мая острая полемика вспыхнула при рассмотрении проектов постановлений о совершенствовании работы Совмина, республиканских органов управления, перестройке министерств и ведомств. На сей раз Рыжков не скрывал своих намерений жестко отстаивать интересы верхушки госаппарата. А на вопрос, от каких функций министерства отказываются в новых условиях, Николай Иванович, не раздумывая, ответил: «Ни от каких». В проекте содержались предложения об укрупнении министерств, но среди них были нарочито нелепые, например, о слиянии министерств металлургической промышленности и железнодорожного транспорта. Мне пришла на память притча об обезьяне. Живописец пригласил критиков ознакомиться со своим новым, весьма спорным произведением. В углу картины ни к селу ни к городу изобразил обезьяну. Расчет полностью оправдался: все обрушились на обезьяну, стали убеждать автора ее убрать. В конце концов он согласился, и картина прошла.
Может, и тут был подобный расчет? Если так, то он не оправдался.
В истории экономической реформы немалую часть занимает эпизод, связанный с Законом о предприятии. Он был одной из «первых ласточек» в серии мер, предназначенных существенно изменить к лучшему систему хозяйствования и управления. Одобренный январским Пленумом ЦК 1987 года проект закона был 8 февраля опубликован для всенародного обсуждения. А в ходе подготовки Пленума по экономической реформе родилась идея использовать его в качестве правовой основы намечавшихся преобразований.
Но тут получился разнобой. Поглощенные работой над тезисами, увязшие в дискуссиях по правительственным проектам, мы на какое-то время ослабили внимание к закону. Результаты не замедлили сказаться, поскольку комиссия по его обсуждению и доработке находилась под сильным давлением консервативных сил, заинтересованных повернуть все вспять. В сущности, была предпринята попытка, как бы опираясь на «мнение снизу», попытаться ослабить закон в пользу сохранения прав центральных ведомств. Пришлось поправлять — рассмотрев предложения по доработке проекта (14 мая), Политбюро поручило «состыковать» его с тезисами.
В недрах рабочей группы родилось предложение подготовить «Основные положения перестройки управления экономикой» и разослать этот документ участникам Пленума вместе с тезисами доклада, проектом закона и другими материалами. Идея мне показалась стоящей, и мы взвалили себе на плечи еще один весьма объемистый труд. Энтузиазма было, как видите, сверх меры.
В субботу, 20 июня, я пригласил Рыжкова в Волынское для окончательного согласования позиций. В разговоре приняли участие Яковлев, Слюньков, Медведев. Николай Иванович приехал с помощниками. Чувствовалось, он доволен приглашением, но все-таки колеблется, чью занять позицию — Горбачева, экономистов-реформаторов или мощных правительственных, госплановских, министерских структур. Трудно копаться во внутреннем мире человека, его переживаниях, но о всесилии аппарата я кое-что знал. Созданный еще «отцом народов», этот монстр действовал безотказно. Любого подчинит, обломает, «утрамбует». Силен он был и групповой солидарностью. Министры, чиновный люд десятилетиями занимали свои посты, оказывали друг другу услуги, общались в застолье. Народ с виду послушный, безропотный, но знающий цену себе и своей власти.
Понимая ситуацию, я старался соблюдать деликатность. Тем не менее опять спорили. Те же проблемы, по которым продолжалось несколько месяцев перетягивание каната — права министерств, госзаказ, материально-техническое снабжение и т. п. В конце концов нащупали компромисс.
8 — 9 июля в ЦК с моим участием прошло большое совещание партийных, государственных, хозяйственных работников. Откровенно говоря, это было нужно не столько для уяснения каких-то вопросов, сколько для того, чтобы укрепиться в наших намерениях. Самим «набраться куражу» и людей убедить.
Заключительное обсуждение доклада на Политбюро прошло сравнительно спокойно. Возражений по вопросам экономической реформы, так остро обсуждавшимся ранее, не было высказано. Это дало мне право констатировать: «Мы едины и в главном, и в частностях».
К сожалению, этот вывод в дальнейшем не оправдался. Сопротивление радикальным экономическим преобразованиям не ослабнет и приведет к торпедированию принятых решений.
Дискуссия на Пленуме
И вот наконец 25 июля. Пленум ЦК, доклад «О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой», ставший одним из этапных событий перестройки.
Исходный пункт моих рассуждений: демократизация и еще раз демократизация, в ней смысл перестройки, самое эффективное средство разрешения возникших острых противоречий и проблем. Командно-административные формы управления тормозят наше движение. Сохраняются заповедники инертности, безынициативности. Люди говорят и пишут, что они за перестройку, но не видят перемен вокруг себя — в трудовых коллективах, городах, селах, где они живут и трудятся. Это показатель слабости работы партийных организаций, которые отстают от динамичных процессов в обществе. Требовательность надо повышать на всех уровнях. И начинать с себя.
Я высказал критические замечания по работе не только отдельных центральных ведомств, но и Политбюро, Секретариата, Совета Министров. Назвал ряд руководителей министерств и ведомств, республик, краев и областей, виновных в серьезных упущениях в работе. Это было необычно для партийных форумов, вызвало оживление в зале.
Сказав о приоритетном значении трех задач (продовольствие, жилье, товары и услуги), подчеркнул, что эти и все другие жизненные проблемы страны могут быть решены только путем радикальной реформы экономики. Как превратить человека в хозяина, использовать возможности кооперации, сочетать интересы общества, коллектива и отдельного работника? Постановкой этих вопросов мне хотелось увести участников Пленума от узкого практицизма, задать тон серьезной дискуссии.
Увы, несмотря на то что были заблаговременно розданы тезисы доклада, «Основные положения», проект Закона о предприятии, проведена солидная «артподготовка», — крупного разговора о реформе не получилось. Партийные «боссы», поклявшись в своей верности перестройке и вскользь коснувшись проблем, затронутых в докладе, двинулись по привычной колее: что делается в их республиках и областях, какие там трудности, какая нужна помощь союзных инстанций.
В.В.Щербицкий с тревогой говорил об обострении экологической обстановки на юге Украины и в Крыму, особенно в связи с развитием там атомной энергетики; выступил против ликвидации министерств угольной промышленности и металлургии в республике.
Г.П.Богомяков (Тюмень) призывал увеличить за 15 лет добычу газа в Западной Сибири до 1 триллиона кубометров и нефти — до 500 миллионов тонн, а затем поддерживать такой уровень в течение ряда десятилетий. Что получилось из безоглядного выкачивания топливно-энергетических ресурсов, мы теперь знаем.
В.К.Месяц (Московская область) сетовал на то, что по показателям развития здравоохранения, социальной сферы Московская область находится на одном из последних мест в Российской Федерации.
П.М.Телепнев (Архангельская область) напирал на создание современного лесопромышленного комплекса, разработку открытых в области месторождений нефти и алмазов.
Б.Н. Ельцин говорил об изменениях в Москве: переход на двух-сменку, изменение стиля работы партийных и советских органов; сообщил, что исполком Моссовета впервые за 30 лет отчитался перед избирателями. Оценивая обстановку в стране, сказал, что «прошло два года, а перестройка вглубь не пошла». Подверг критике работу Секретариата ЦК, в которой «ничего не изменилось — обилие бумаг, администрирование».
Секретарь Ленинградского городского комитета партии Ю.Ф. Соловьев с беспокойством заговорил о возникновении неформальных объединений. Впрочем, по его словам, это лишь на какое-то время вызвало растерянность, «сейчас ситуация под контролем».
Меня интересовало, что думают о реформе в трудовых коллективах. Насколько можно было судить по выступлению ткачихи Московского хлопчатобумажного комбината «Трехгорная мануфактура» Н.Н.Щербаковой, на предприятиях готовы подхватить начинания «верхов», но малейшая инициатива встречает противодействие управленческого аппарата.
Примерно такие же мотивы звучали в выступлении М.Г.Вагина, председателя колхоза имени Ленина Горьковской области. Сколько ни говорим о невмешательстве в дела колхозов, на деле все остается по-старому — контроль за всем, вплоть до того, сколько чего сажать, когда и как сеять. Сохраняется негодная практика "писания долгов, которая породила стремление колхозов попасть… в списки отстающих хозяйств! По-прежнему в государственных и плановых органах косо смотрят на развитие подсобных промыслов в колхозах, а они имеют неоценимое значение, особенно в условиях Нечерноземья.
В былые времена члены Политбюро обсуждали заблаговременно целесообразность их участия в прениях. Так было и в начале моей деятельности, а затем такая практика отмерла. Я считал, что каждый член руководства имеет право сам решить, выступать или нет. И все же на этот раз был несколько удивлен тем, что Рыжков на таком Пленуме отмолчался. Мне казалось, главе правительства следовало выступить, снять тем самым распространявшиеся слухи о разногласиях по поводу реформы.
В целом же приращения идей Пленум не дал, но результаты его были весьма весомы: подтверждение линии на демократизацию, определение основных задач и методов проведения экономической реформы. Был переброшен мостик к следующему этапу перестройки — я имею в виду постановление созвать летом 1988 года XIX конференцию КПСС.
Я же Пленум использовал не только для продвижения программы реформы, но и для перегруппировки сил в политическом руководстве страны. Из кандидатов в члены Политбюро перевели Слюнькова и Яковлева, избрали Никонова. Был выведен из состава Политбюро Кунаев, освобожден от обязанностей кандидата в члены Политбюро Соколов, избран кандидатом Язов. Акция прошла без осложнений.
Перемещение Соколова в группу генеральных инспекторов Министерства обороны (это так называемая райская группа, созданная при Брежневе для высших военачальников, уходящих на пенсию) было результатом ЧП — полета и приземления в Москве на Красной площади молодого немца Руста на легкокрылом самолете. Это была пощечина стране, ее Вооруженным Силам. И что самое существенное — сигнал неблагополучия в обеспечении безопасности, безответственности в высшем командном эшелоне. Сенсационная новость о полете застала меня за круглым столом совещания ПКК ОВД в Берлине (со мной были Громыко, Рыжков, Шеварднадзе, Соколов и Медведев). Можно представить, какие чувства я испытывал, когда на стол легла такая информация.
Поставив участников совещания в известность о случившемся, я сказал, что этот эпизод не должен ставить под сомнение уровень нашей техники и надежность обороны. Хотя, откровенно говоря, сам был потрясен и оставался в полном недоумении, как это могло произойти: ведь существующие технические системы ПВО давали стопроцентную гарантию предупреждения и пресечения нарушений в несравненно более сложных ситуациях. Значит, дело в том, в чьих руках они находятся, в порядках или, точнее, — беспорядках в Вооруженных Силах.
Как обычно, возвращались в Москву двумя самолетами — так было заведено, чтобы не лететь всему руководству вместе. Разговор все время возвращался к полету Руста. Мои спутники высказались за самые строгие меры в отношении виновных, и прежде всего руководства Министерства обороны. Соколов должен уйти, тем более что сигналы о неблагополучии в Вооруженных Силах были и раньше.
На заседании Политбюро все высказались за отставку министра обороны и главкома военно-воздушных сил Колдунова, полное расследование инцидента и привлечение виновных к ответственности. Заключая, я охарактеризовал происшедшее как удар по всей нашей политике, подрывающий доверие народа к армии, требующий серьезно проанализировать положение в Вооруженных Силах.
А после перерыва было внесено предложение назначить министром обороны Язова. Возражений не последовало, хотя для многих такое решение оказалось неожиданным. Язов — в то время заместитель министра по кадрам — был менее известен, не занимал раньше таких престижных постов, как начальник Генерального штаба, командующий Западной группой войск или Московского военного округа. Но он обладал рядом ценных качеств, и мой выбор пал именно на него.
Познакомились мы на Дальнем Востоке, где он командовал округом, — очень сложным, разбросанным на тысячи километров, с массой болезненных проблем, особенно бытовых, вызывавших брожени& среди личного состава. Действовал там Язов очень уверенно, спокойно, грамотно. Добился сближения офицерского корпуса с солдатами, оздоровления обстановки. Помог ему в этом большой жизненный опыт — молодым офицером участвовал в Отечественной войне, после войны служил во многих военных округах и прошел все ступени военной карьеры. Армейскую жизнь знал вдоль и поперек.
Раньше, когда встал вопрос о проведении крупных кадровых изменений в армии, я вспомнил о Язове — он был назначен заместителем министра по кадрам и проявил себя как способный руководитель. При его активной роли началось обновление и омоложение генералитета и офицерского корпуса, на пенсию отправили 1200 генералов. Одним словом, появление его в роли министра не было случайным.
Новому министру пришлось столкнуться с непривычными проблемами, возникавшими в ходе переговорных процессов по разоружению. Порой выработка наших позиций специалистами МИДа, Минобороны, ВПК, КГБ заходила в тупик, и даже после заседаний комиссии Зайко-ва оставались несогласованные вопросы. Язов, естественно, поддерживал своих представителей, но, когда надо было принимать политическое решение, проявлял гибкость и здравый смысл. Я приглашал к себе его, маршала Ахромеева, и развязка всегда находилась: на что можно пойти сегодня, а чего пока не перешагнуть, какой должна быть основная позиция, какой — запасная.
Столь подробно говорю о Язове потому, что понять его поведение в августе 1991 года было мне всего труднее. Уж кого-кого, а его я никак не мог заподозрить в предательстве. Думал: ввели в заблуждение, впутали в гнусную историю. Сам Язов сразу после провала авантюры с ГКЧП признал факт предательства им президента.
О Слюнькове. Он был в последнее время секретарем ЦК по вопросам экономической политики, а кандидатом в члены Политбюро стал еще раньше, в бытность первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Я делал большую ставку на этого человека, его политический и хозяйственный опыт, обширные знания, организаторские способности, самоотверженность в работе. Он был генеральным директором крупнейшего в стране Минского тракторного объединения, первым секретарем Минского горкома партии, почти десять лет работал заместителем председателя Госплана.
Я высоко ценил человеческие качества Слюнькова — честность, открытость, огромное трудолюбие. Пожалуй, единственная слабость — говорливость. Собственные идеи его так увлекали, что другим порой трудно было вставить слово.
Что касается взглядов Слюнькова на экономическую реформу, то они претерпели серьезную эволюцию за три года работы в ЦК. Вначале он работал в унисон с Рыжковым, занимая умеренно консервативные позиции. Это объясняется и тем, что они вместе в свое время работали в Госплане. Но затем стал относиться к предложениям правительства критически, выступая за более радикальный вариант преобразований. Думаю, сыграло свою роль повседневное общение с реформаторской частью партийного руководства и учеными, меньшее давление со стороны государственных управленческих структур, да и неприятие амбициозности главы правительства. Уже примерно через год Слюньков стал высказывать на Политбюро несогласие со многими проектами и документами Совмина, выступал с альтернативными предложениями. Его отношения с Рыжковым вконец расстроились. Это и, конечно, резкое ухудшение здоровья привели его к решению об отставке за несколько месяцев до XXVIII съезда КПСС.
Избрание Никонова в Политбюро не только было данью давней традиции, что секретарь ЦК по аграрным вопросам должен быть в этом ранге, но диктовалось масштабностью предстоящих в этой сфере преобразований. Человек он был достаточно широких взглядов — это, в частности, проявилось и в постановке вопроса о реабилитации крупных ученых, ставших жертвами сталинских репрессий, — Кондратьева и Чаянова. Но его реформаторские наклонности я явно переоценил.
Возводя Яковлева в ранг члена Политбюро, я сознательно вел к тому, чтобы идеологическую сферу курировал не только Лигачев. Он был занят организацией работы Секретариата, внутрипартийными делами, а главное — для меня не было тайной, что в идеологическом плане у Лигачева проявляются консервативные акценты.
Так что это было не спонтанным шагом, а продуманным решением.
Позиционная борьба вокруг реформы
Документы Пленума носили компромиссный характер. Многие из них, особенно с высоты сегодняшнего дня, представляются половинчатыми и даже наивными. Но для состояния нашего общества того времени, уровня массового сознания это были радикальные, можно сказать, революционные решения. Важно было начать практическое движение по намеченному пути, «ввязаться в дело», а сама жизнь, логика преобразований показали бы, что и в каком направлении надо в реформе менять.
Многое, если не основное, тут зависело от правительства, центральных экономических органов. К сожалению, в их поведении перемен не произошло. Решения Пленума рассматривались ими как чрезмерная уступка реформаторам. Во всяком случае — последний рубеж отступления от планово-централизованной системы управления. Не только не проявляли рвения осуществлять эти решения на практике, но, напротив, предпринимали попытки вернуться назад, добиться своего не мытьем, так катаньем.
Чуть ли не из-под палки пришлось заставлять авторов правительственных проектов дорабатывать их, чтобы устранить расхождения с докладом и «Основными положениями реформы». Возникла необходимость и в поправках к проекту Закона о предприятии.
Любопытно, что впоследствии противники перестройки из числа партийных фундаменталистов обратили острие своей критики именно против этого закона, объявив его принятие чуть ли не первым толчком к развалу экономики. Слов нет, закон не идеален. В какой-то степени на нем сказалось влияние демократической эйфории. От некоторых предусмотренных им мер (выборность директоров), кстати, вскоре отказались. Но главные его недостатки как раз в непоследовательности и неполноте реализации принципа хозяйственной самостоятельности предприятий.
В сентябре, в порядке контроля за выполнением решения Пленума ЦК, на Политбюро были заслушаны доклады о разработке экономических нормативов (Ситарян) и подготовке реформы ценообразования (Павлов). Дело в том, что в ЦК поступали сигналы с предприятий, свидетельствующие о своеволии центральных ведомств, попирающих решения высших инстанций.
Еще перед июньским Пленумом Рыжков рассуждал, что если позволить предприятиям планировать свою работу, перевести их на самостоятельность и самоокупаемость, то потеряет смысл пятилетний план, надо будет его в корне пересмотреть или вообще отменить. Премьер отстаивал «незыблемость» заданий пятилетки, хотя даже по итогам 1986 и 1987 годов было ясно, что их не удастся выполнить.
Пожалуй, особым упорством сопротивление управленческой номенклатуры отличалось в вопросах перестройки организационных структур. Под видом создания государственных производственных объединений (ГПО) была предпринята попытка возродить систему бюрократических главков, подчиненных министерствам, с сохранением ведомственных перегородок и раздутого аппарата. Снова потребовался разговор на Политбюро, и только после этого были устранены извращения в осуществлении реформы.
Словом, шла позиционная борьба вокруг реформы, и чем дальше, тем она все больше увязала в тине бесконечных оговорок, болтовни, «инстинктивного» и сознательного саботажа.
Дискуссия о ценах
Полем особенно острых столкновений стала проблема цен и ценообразования.
Однако по порядку. В середине апреля 1988 года Политбюро рассмотрело предложения по ценообразованию, разработанные правительством по поручению июньского Пленума и представленные 10 месяцев спустя. Это была пухлая пачка многословных, но не слишком ясных документов, по ряду позиций идущих вразрез с замыслом реформы.
Предлагалось, в частности, разбить ее на ряд этапов. Вначале ввести оптовые цены и тарифы в промышленности и на транспорте, отложив на неопределенное время введение новых закупочных и розничных цен. Это нарушило бы комплексность реформы, вынудило возвращаться к наиболее болезненным мерам — изменениям розничных цен — несколько раз. Вопрос о ценах рассматривался в отрыве от других важнейших элементов экономической реформы. Не нашли в проекте конкретного решения такие важные вопросы, как приближение структуры внутренних цен к ценам мирового рынка, децентрализация и либерализация ценообразования, переход к договорным ценам.
Документы подверглись основательной критике, от Совмина потребовали не затягивать решения этих вопросов, ибо было очевидно, что условия для крупной ценовой реформы будут неумолимо ухудшаться. Но в правительстве не спешили, да, видимо, и боялись всерьез взяться за крайне острую проблему. В аппаратных играх было потеряно несколько месяцев. А между тем слухи о «покушении» на стабильные цены просачивались в общество, порождали растущую тревогу. В конце концов тема эта была оседлана популистами, стала полем политической борьбы. Несмотря на неоднократные заявления о том, что доход от повышения цен будет полностью возвращен населению (прежде всего низкооплачиваемым работникам в виде надбавок к заработной плате), а само решение по ценам не будет приниматься без совета с народом, в печати была поднята шумная кампания против реформы цен, как якобы противоречащей интересам народа.
«Не трогать цены!» — под таким девизом зарождалась радикально-демократическая оппозиция. Ее отнюдь не смущало то обстоятельство, что этим перекрывалась дорога экономическим реформам и что им самим не уйти от такой меры, приди они к власти. Как и во многих других случаях, интересы страны были принесены в жертву стремлению завоевать дешевую популярность. В газетах радикальной направленности публиковались подборки писем и гневные «филиппики».
В считанные недели произошел поворот общественного мнения в сторону категорического неприятия реформы цен и ценообразования. Под его влиянием оказались почти все ведущие ученые-экономисты, даже те, кто принимал участие в разработке концепции экономической реформы. Поддаваясь общему настроению, они стали один за другим выступать в печати с предостережениями против поспешности в этом деле. Справедливости ради надо признать, что основания для общественного возбуждения были. Уже в 1988 году начали появляться симптомы дезорганизации потребительского рынка и денежного обращения.
Под напором популистских требований явно преждевременно, до создания нового экономического механизма пошли на отмену контроля за соотношением производительности труда и заработной платы, что привело к необоснованному росту денежных доходов. Были приоткрыты (через кооперативы) каналы превращения безналичных денег в наличные. В надежде на рост производства в будущем стали допускаться излишества в принятии различного рода социальных программ. В обращение хлынул поток излишних денег, который привел потребительский рынок (и без того довольно скудный) в состояние неустойчивости. Из продажи стали исчезать то сахар, то табачные изделия, то мыло, то стиральные порошки. Массовый характер приобрели факты необоснованного завышения цен на предметы первой необходимости, что вызывало законное возмущение у покупателей.
Обстановка вокруг проблемы цен вызывала у меня серьезное беспокойство. Еще в августе, находясь в отпуске, я не раз обращал внимание Рыжкова и Слюнькова на складывающуюся ситуацию. Аганбегян прислал развернутую записку с обоснованием ряда конкретных мер и необходимости активной разъяснительной работы среди населения.
29 октября 1988 года Политбюро по предложению отделов ЦК приняло постановление о положении дел с розничными ценами и тарифами на услуги, оказываемые населению, осудив практику необоснованного их завышения. Но переломить общественное мнение не удалось. Более того, против реформы «в ближайшие годы» рыночных цен выступили в прессе Заславская, Шаталин, Абалкин, Попов, Шмелев и другие, мотивируя это интересами «не загубить перестройку», не восстановить против нее общество.
А что Совмин, Госплан, Госкомцен? На словах — возмущение безответственностью журналистов, отступничеством ученых, на деле — вялость, заторможенность, нежелание «лезть в пекло», брать на себя ответственность за непопулярные решения.
В начале ноября на заседании Политбюро «за повесткой» Рыжков поднял вопрос о публикациях Абалкина и Шаталина, в которых затрагивается вопрос о ценах. Реакция была бурная, повозмущались, но дальше этого дело не пошло. А надо было бить тревогу во все колокола, собирать журналистов, идти на телевидение и радио, в трудовые коллективы. Добиваться понимания в обществе той простой истины, что коренное изменение системы цен и ценообразования — неотъемлемая часть экономической реформы. Как ни нежелателен пересмотр розничных цен, без него не обойтись, если мы хотим оздоровления экономики, устойчивого повышения жизненного уровня.
Естественно предположить, что бюрократия втайне сочувствовала нападкам на экономическую реформу, хотя они и шли с «противоположной стороны», злорадствовала по поводу ее неприятия обществом. Эта позиция была логическим продолжением всей линии на торможение реформы.
Критически оценивая свою роль в драматической судьбе «первой попытки» хозяйственной реформы, должен признать, что мы недооценили противодействующие факторы. Слишком долго находились под влиянием иллюзий, считая, что речь идет просто о трудностях психологической перестройки кадров. Позволив неоправданно растянуть сроки структурных преобразований на 3–4 года, упустили самый благоприятный для них в экономическом и политическом отношении момент —1987–1988 годы.
Это был просчет стратегического порядка, обстановка в стране стала быстро обостряться, условия для успешного осуществления реформ становились все менее благоприятными, потребовались иные, более кардинальные подходы к их проведению.
Глава 12. Решающий шаг
Историки, любящие наводить строгий порядок в подведомственной им «материи», спорят по поводу периодизации перестройки и реформ: вести отсчет от марта 1985-го или какой-то более поздней даты?
Я уже говорил, что пришел к власти с пониманием необходимости радикальных преобразований. И постарался показать, что дело не ограничилось «декларациями о намерениях». В 1985–1988 годах предпринимались серьезные усилия для вывода страны из застоя, обновления всех сторон жизни общества. Была сделана первая попытка коренным образом реформировать экономику.
Но по-настоящему поворотным моментом, после которого перестройка начала приобретать необратимый характер, стала XIX Всесоюзная конференция КПСС. К этому решающему шагу подвели и явная пробуксовка с преобразованиями экономики, и радикализация общественного мнения.
Кредо перестройки
Возникла острая потребность осмыслить все происшедшее, подвести хотя бы промежуточный итог. А главное — изложить свои замыслы на будущее. Исподволь зрело у меня намерение написать книгу о перестройке. Вначале я отгонял эту мысль, но она возвращалась и приобретала осязаемые очертания. Уже виделась общая конструкция будущей книги, ее разделы, накапливались записи в блокнотах — как изложить ту или иную тему. Наконец я решился поделиться своим замыслом с моим ближайшим окружением.
Должен сказать, он не встретил горячей поддержки. Фролов советовал подготовить вместо этого цикл лекций, Добрынин и Яковлев считали, что можно ограничиться передачей в издательство сборника моих статей. Я не возражал, но полагал, что разрозненные, написанные по конкретным поводам материалы не заменят цельного рассказа о том, что обсуждалось мною с коллегами, было предметом бесед с зарубежными политиками и оставалось не известным широкой публике — как родилась идея перестройки, какое содержание вкладывал я в это понятие. Наиболее существенные замечания последователи от Медведева, в основном я их принял. Другие ограничились похвалами.
Моей первой книге сопутствовал большой успех. Она встретила широкий отклик и выдержала множество изданий во многих странах. Гонорары направлялись на благотворительные цели, в том числе в Фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Армении и Таджикистане. Добавлю, что и Нобелевскую премию, и премию Фьюджи — в общей сложности более миллиона долларов — я передал на те же цели. Значительные суммы были переданы детской клинике Минздрава РСФСР, больницам Брянска, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, где лечились люди, получившие заболевания в результате Чернобыльской аварии, экологических бедствий, а часть в партийную кассу.
Реакция на книгу стала своеобразной лакмусовой бумажкой. Мы увидели, что мир созрел для поворота в лучшую сторону, ждет перемен. И хотя кое-кто из придирчивых зарубежных профессионалов подверг ее критике за «небрежность» в изложении материала, недоговоренность по некоторым темам, в принципе она была принята. Конечно, к ней относились не как к обычному изданию. Она воспринималась как манифест инициатора перестройки.
Неюбилейный доклад к юбилею
Еще в январе 1987 года мы завели разговор о подготовке к 70-летию Октября — какой критерий взять за основу при оценке пути, пройденного после революции, сделанного за перестроечные годы? По традиции от Генерального секретаря ждали оценок по принципиальным вопросам.
В то время в партии, научных кругах и среди широкой общественности были в разгаре дискуссии о содержании начатых реформ. Никто из наших ведущих историков, философов, экономистов против социалистического выбора открыто не выступал, но уже достаточно остро ставился вопрос о природе нашего общества, о критериях социалистичности. Привлекла внимание выпущенная перед XIX партконференцией книга «Иного не дано», большинство авторов которой — радикальные демократы.
Не раз я уже отмечал, что, пока не пойму внутреннюю логику темы, не могу рассуждать, выступать, писать. По складу мышления привержен системному подходу и, приступая к работе над докладом, ощутил потребность начать с начала — вернуться к первым годам Советской власти, чтобы углубить свое понимание зародившихся тогда тенденций. Еще раз перечитал ленинские работы того времени.
Как известно, «Очередные задачи Советской власти» написаны в короткий промежуток мирного времени сразу после революции. По этой брошюре можно судить, как представлял себе Ленин движение к новому обществу, в чем состояла логика преобразований, на какие методы он ориентировался. В последующих работах Ленина ощущается атмосфера Гражданской войны, раскола страны на противоборствующие лагери. А затем — статьи 1922–1923 годов, в которых — нарастающая тревога за судьбу революции. Ленина беспокоило, что методы, применявшиеся в революционном перевороте или в условиях непримиримой борьбы против контрреволюции, укоренились. «Чрезвычайщина», приоритет насилия усвоены «пролетарской бюрократией», становятся неотъемлемым элементом нового строя.
С отказом от наследия Гражданской войны применительно к управлению страной связана потребность в «новом понимании социализма». В основе этого понимания — отказ от революционаризма, веры во всемогущество насильственных методов, ставка на демократию, реформы. Использование традиционных, понятных и привычных народу форм с постепенным их обновлением, наполнением социалистическим содержанием.
Болезнь помешала Ленину завершить эту колоссальную переоценку, в результате которой могла появиться на свет совершенно иная концепция развития, чем та, которую взял на вооружение Сталин. Вождь Октября последним волевым усилием успел только буквально навязать партии нэп, то есть, при всем различии исторических условий, все ту же радикальную экономическую реформу. Однако пришедшая к власти партбюрократия недолго ее терпела. Были искоренены зачатки рынка, свободного предпринимательства, идейного и политического плюрализма. Воцарился государственный, или казарменный, социализм.
Чем объясняется неудача нэпа, несмотря на очевидные его плюсы? Думаю, неспособностью большевиков перестроиться. Нужны были уже другие методы, другая политика, а они продолжали «комиссарить». Под воздействием форсированной индустриализации, требовавшей инвестиций, валюты, импортного оборудования, сформировалась жесткая линия по отношению к крестьянству — насильственное изъятие продукции, принудительная коллективизация. Был создан безотказный, крепостнический, по сути, механизм обеспечения средств для «кормления» бюрократии, создания военной мощи и удовлетворения на невысоком уровне социальных нужд. Командные методы, подавление инакомыслия, репрессии, которые оправдывались поначалу особыми условиями капиталистического окружения, стали неотъемлемой частью системы. В стране сложился тоталитарный режим, опирающийся на тотальную государственную собственность, монопольную идеологию, власть одной партии.
Непосредственно работа над докладом к 70-летию Октябрьской революции началась с совещания в узком кругу 29 апреля 1987 года. Почему-то больше всего его участникам запомнились слова, сказанные мной в шутку:
— Знаете, я думаю, судьба нынешнего руководства — умереть или развернуть перестройку.
Прежде, когда мы отмечали подобного рода даты, доклад сводился к инвентаризации побед с одним-двумя псевдокритическими тезисами. В этом случае акцент делался на другом: надо использовать юбилей, чтобы пройти еще несколько ступеней в развитии общественного сознания, понимании общества, в котором мы живем, ответе на вопрос: «Что делать?».
Разговор был вполне откровенный, высказывались самые смелые по тому времени мысли, и если не все из них были включены в ткань доклада, то только из соображения: не пришло еще время. Говорилось, что нужно дать более полную и четкую оценку трагических эпизодов нашей истории, объявленных «врагами народа» деятелей партии. В частности, шла речь о Бухарине.
Настроения в руководстве накануне октябрьской годовщины я смог уловить на заседании Политбюро 28 сентября сразу после возвращения из отпуска. Раздумья в связи с работой над книгой и будущим докладом, дискуссия в прессе, информация, поступавшая из регионов, побудили меня завести основательный и откровенный разговор. Масла в огонь подлили зарубежные пересуды о состоянии здоровья Горбачева, разногласиях между ним и Лигачевым, Лигачевым и Яковлевым, Рыжковым и еще кем-то. Мое длительное отсутствие, во время которого не было непосредственного контакта, одни телефонные разговоры, требовало, как говорят, быстро взять руль в руки.
Заседали целый день, до половины восьмого вечера. Лейтмотивом стал диагноз перестроечных процессов. Мой вывод состоял в том, что мы вступили в критический этап. В нашем распоряжении решения январского и июньского Пленумов ЦК, их реализация должна продвинуть далеко вперед демократические процессы. Нарастающее напряжение в обществе говорит о беспокойстве людей за перестройку.
И действительно, итоги 1987 года оказались значительно хуже предшествующего. Добавляли беспокойства неурядицы, связанные с неупорядоченным переходом промышленности на хозрасчет, самофинансирование и самоуправление. На трудностях начали спекулировать те, кто боялся перемен. Все громче становились голоса: «Вот ваша демократия!» (хозрасчет, подряд, кооперативы и т. д.). Нелегко было различать, где в них истинная народная тревога, а где злорадство и козни демагогов.
Пожалуй, в это время впервые начало проявляться отчуждение между центральными и низовыми органами партии. Последние в большинстве своем не были готовы работать в атмосфере, порожденной демократизацией и гласностью, переходом к новым формам в экономике. При встречах звучал один и тот же вопрос: «Скажите, что делать, дайте указания». Это были зловещие симптомы кризиса партии, которая формировалась совсем для другой роли. За три года перестройки, в рамках альтернативных выборов произошло существенное обновление кадров. Но и вновь пришедшие кадры были обременены грузом прошлого, за редкими исключениями действовали в том же духе, теми же методами.
Я все острее ощущал, что общество в своем нетерпеливом ожидании перемен намного обогнало партию, ей грозит серьезно отстать от «поезда». Как преодолеть эту опасность? — искали мы ответ.
На том же заседании Политбюро было решено создать комиссию по рассмотрению дел, связанных с репрессиями в 30-е и последующие годы (Соломенцев — председатель, Яковлев, Чебриков, Лукьянов, Разумовский, Болдин, Г.Л. Смирнов). Тем самым возобновлялся прерванный в брежневские времена процесс реабилитации невинно осужденных людей, восстановления справедливости и исторической правды.
К середине октября был подготовлен черновой вариант юбилейно, — го доклада — основательное сочинение объемом около 120 страниц, — и мы, по заведенному порядку, обсудили его. Замечания были полезные, но больше носили характер уточнения формулировок.
Более пространными оказались замечания Ельцина. Он считал, что в докладе смещены акценты — в пользу Февральской революции, в ущерб Октябрьской; недостаточно выпукло показана роль Ленина и его ближайших соратников; выпал период Гражданской войны; несоразмерны по подаче материала индустриализация и коллективизация; преждевременны (до выводов комиссии Политбюро) оценки видных деятелей революции; лучше обойти вопросы периодизации перестроечных процессов, подготовки новой Конституции, а в заключение со всей силой подчеркнуть роль партии в развитии советского общества. Как видите, это были замечания, проникнутые духом большой осторожности и консерватизма. Таков был Ельцин тогда.
2 ноября 1987 года с докладом «Октябрь и перестройка: революция продолжается» я выступил на торжественном заседании в Кремле. Он был воспринят как крупный шаг на пути очищения нашей истории от мифов, восстановления правды. Конечно, и на нем лежала печать ограниченности. Мы сознательно решили умолчать о чем-то. Нам самим предстояло еще многое осмыслить, преодолеть психологические барьеры. Оставалось немало «белых пятен», требовавших исследования. В таких делах, как говорится, выше себя не прыгнешь.
Доклад, достаточно взвешенный, а местами, я бы сказал, и очень осторожный, не удовлетворил «крайних» с обеих сторон. Одни восприняли критический анализ прошлого как «очернительство», «неуважение к своему народу», как потрясение основ и предвестие тотального пересмотра истории советского народа. Другие, кому лихих публицистических статеек было достаточно, чтобы «прозреть», твердили, что ждали большего, Горбачев топчется на месте, необходим полный разрыв с прошлым.
В какой-то мере я предвидел подобную реакцию. Именно поэтому по ряду вопросов доклад не ставил точек над «i». В свое время, когда начался отход от линии XX съезда, обычно добавляли при упоминании «культа личности», что это «вопрос, давно решенный нашей партией, и нет необходимости к нему возвращаться». Моей же целью было не закрыть, а открыть для исследования целые пласты прошлого, стимулировать дальнейшую работу над спорными вопросами. И до этого наша пресса печатала многочисленные материалы на исторические темы, теперь же они пошли буквально валом. Не обошлось без пустышек, фальсификации фактов, тенденциозной предвзятости. Но, насколько я могу судить, преобладает стремление серьезно разобраться в сложном и извилистом течении послеоктябрьских событий, дать оценки «sine irae et studio».
В дискуссиях о прошлом нередко прояснялось отношение к злободневным проблемам тактики реформ. Я обратил на это внимание еще на заседаниях Политбюро, когда обсуждался юбилейный доклад. В этом смысле небезынтересны, например, рассуждения Лигачева о том, что Бухарин, Рыков и Томский предлагали замедленные, растянутые сроки индустриализации, что могло сковать движение страны к социализму. Не о том ли говорят и позднейшие рассуждения Ельцина о «нерешительности» Горбачева? Для него, как и для Лигачева, «решительность» определялась не столько глубиной и эффективностью преобразований, сколько сроками…
Сроки — наша вечная и больная тема, с ними связаны, в сущности, и все последующие дискуссии о темпах перестройки. История рассудила этот спор. Нынешнее печальное состояние России прямо обусловлено тем, что на определенном этапе эволюционный подход был у нас отброшен. Вместо него стали действовать методом «бури и натиска», ломая общество, круша все и вся, в том числе человеческие судьбы, прокладывая по ним дорогу в новое «царство свободы».
Дело Ельцина
21 октября на Пленуме ЦК при обсуждении доклада к 70-летию Октября возник инцидент, связанный с Ельциным. Обычно доклады к юбилейным датам на пленумах не обсуждались. Реакция зала выявила общий настрой на то, что открывать прения и на сей раз нет необходимости. Лигачев, который вел заседание, поставил это на голосование. Думаю, он видел поднятую руку Ельцина, но решил не обратить внимания. Пришлось мне вмешаться и подать реплику: «По-моему, у Бориса Николаевича Ельцина есть желание что-то сказать…» Лигачев предоставил ему слово.
Вначале Ельцин сказал, что доклад к 70-летию неоднократно обсуждался на Политбюро, он тоже вносил свои предложения, часть их учтена, поэтому сегодня замечаний у него нет («Я его полностью поддерживаю»). Ну а затем перешел к «текущему моменту». Логика рассуждений была примерно такова. Вот мы анализируем нашу историю после Октябрьской революции, видим, какие драмы и трагедии пережило общество, где в конечном счете оно оказалось. Во многом это произошло из-за отсутствия демократии, в результате культа личности, всего, что с ним связано. А возник этот культ постепенно из-за нарушений коллегиальности. Вся власть оказалась в руках одного человека, он был огражден от критики, и этот урок нам надо усвоить. Пока в Политбюро подобных явлений нет, но все же со стороны некоторых товарищей растет славословие в адрес Генерального секретаря. Это тем более недопустимо в момент, когда мы закладываем в партии демократические формы товарищества. Надо предотвратить разрастание зла.
Дальше Ельцин затронул вопрос о трудностях, с которыми сталкивалась перестройка. Поставил под сомнение тезис о необходимости в ближайшие два-три года добиться улучшения жизни людей. Сказал, что это широковещательное, ничем не обоснованное заявление способно породить потом разочарование и озлобление. И, наконец, сделал сенсационное заявление: по разным причинам у него не получается работа в Политбюро. Сказываются и недостаток опыта, и другие обстоятельства, но главное — отсутствие поддержки, особенно со стороны Лигачева. По этим причинам он просит освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро и должности первого секретаря МГК.
Что тут можно сказать? Поставь Ельцин тогда вопрос о «нездоровых явлениях» в работе Политбюро и Секретариата ЦК, это вполне могло бы стать предметом серьезного обсуждения с пользой для всех. Но ультимативный характер и тон выступления вызвали острую реакцию, начались не планировавшиеся прения. Выступали спонтанно, без подготовки, разговор получился эмоциональный, резкий. Досталось «тираноборцу» изрядно. Чаще всего звучали одни и те же оценки: «ущемленное самолюбие», «избыточная амбициозность». Об этом, поднявшись на трибуну, сказал рабочий Затонский:
— Что мы тут мудрим? Оснований для такой постановки вопроса у Ельцина нет. Это его амбиции, обида, что его недооценивают, и, скажу по-рабочему прямо, нереализованные претензии на членство в Политбюро.
Слова, конечно, обидные, но основания для них были. До меня доходили переживания Ельцина, что Горбачев держит в «предбаннике» — кандидатом в члены Политбюро — первого секретаря столичной партийной организации, что мешает ему действовать более авторитетно и решительно. И это, мол, в то время, когда в Политбюро сохранялись от прошлого «мастодонты и динозавры», об удалении которых он писал мне 12 сентября в Крым, где я находился на отдыхе.
Я не раз говорил, что первое время был расположен к Ельцину. Мне импонировал его решительный настрой, хотя и тогда я уже прекрасно понимал, что любой радикализм хорош лишь в том случае, когда он сочетается со взвешенностью, способностью к самооценке и самоконтролю.
Повторяю: он имел полное право ставить вопрос об изменении состава Политбюро и плохой работе Секретариата, обратить внимание на «славословия» в адрес генсека, если считал, что такое действительно имеет место. Мы могли обсуждать, что дала народу перестройка и какими должны быть темпы преобразований, вокруг этого, собственно, и кипели страсти в последнее время. Обо всем можно и нужно было спорить в поисках истины, и, если бы он искал только ее, мы вполне могли прийти к согласию.
Но в нем говорило уязвленное самолюбие, и правы были те, кто указал на Пленуме на его гипертрофированную амбициозность, страсть к власти. Время лишь подтвердило такую оценку. Была и другая причина, толкнувшая его на этот шаг. Я уже говорил, что Ельцину пришлось столкнуться в Москве с препятствиями, о существовании которых в Свердловске он и не подозревал. Ему казалось, главное — освоить новый рубеж власти, укрепить его преданными людьми, затем нажать молодецким плечом и, как у нас говорят, порядок!
Не тут-то было. После январского и июньского Пленумов ЦК наша номенклатура почувствовала, что начинают затрагиваться ее коренные интересы, и стала сопротивляться, причем умело, хитро. И Ельцин, как мне представляется, оказался в эпицентре этой борьбы, ибо именно в столице тесно переплелись интересы городских, республиканских, союзных структур старой системы.
Против них он попытался поднять партийные организации, самих москвичей и в этом своем стремлении был, по-моему, прав. Но методы, использовавшиеся им для достижения данной цели, с самого начала стали приобретать популистский характер. То он неожиданно являлся на завод, брал руководителя предприятия, вел его в рабочую столовую и там устраивал публичный разнос, выставляя себя в роли радетеля народа, а руководителя — в роли изверга. То садился в автобус или трамвай, заходил в магазины или поликлинику, и на следующий день об этом полнилась слухами вся Москва. Под восторженные аплодисменты москвичей обещал им в самые короткие сроки решить проблемы жилья, торговли, медицинского и бытового обслуживания. Демонстрировал красочные диаграммы развернувшегося вокруг столицы строительства мясокомбинатов и молокозаводов, способных снять с повестки дня извечный вопрос о дефиците колбасы и кефира. Обо всем этом трубили московская пресса, радио и телевидение. Показушный характер носил и поиск им новых форм партийной работы. Так, например, заседания бюро горкома стал проводить в 11 или 12 часов ночи.
Близилась пора отчета о результатах работы, проделанной им в качестве секретаря МГК, а по существу ничего не менялось, обещания повисли в воздухе. Мы старались всячески поддержать его: по линии Политбюро, правительства, Секретариата ЦК принимались решения с целью оказать помощь Москве финансами, продовольствием, кадрами. А обстановка в столице мало изменилась к лучшему.
Ельцин начал нервничать, впадать в панику, в административный зуд. Не зная, что делать, устраивал бесконечные разносы, забывая о своих призывах к развитию демократии. Может быть, главный вывод состоит в том, что как реформатор Ельцин не состоялся уже тогда. Повседневная, рутинная, деловая работа и особенно трудные поиски согласия были не для него. По своим человеческим качествам он больше подходил для эпохи «бури и натиска». Не знаю, может быть, это от его профессии — от вечных авралов, в ходе которых наши строители стремились любой ценой сдать тот или иной объект, часто с недоделками, а то и просто недостроенный, занимались очковтирательством. Или ощущение бессилия, нарастающей неудовлетворенности от того, что мало удалось добиться в Москве, вывело из равновесия, привело к срыву.
Впрочем, обо всем этом я размышлял позднее. И пространное отступление позволил себе, чтобы стало очевидным, что Ельцин сам избрал и прошел свой путь. Октябрьский Пленум стал для него рубежом, выбор, сделанный тогда, в значительной мере предопределил его дальнейшие шаги.
Я наблюдал за Ельциным из президиума Пленума и понимал, что происходит у него в душе. Да и на лице можно было прочесть странную смесь — ожесточение, неуверенность, сожаление. Все то, что свойственно неуравновешенным натурам. Выступавшие, в том числе и те, кто вчера еще заискивал перед ним, лупили крепко и больно, у нас это умеют. Обстановка накалялась. Стали раздаваться требования не только лишить его должности кандидата в члены Политбюро, но и немедленно вывести из состава ЦК. Тогда я сказал:
— Давайте послушаем самого Ельцина. Пусть он выскажет свое отношение к выступлениям членов ЦК.
— Не надо, все ясно, — послышалось из зала.
Но я настоял дать Ельцину возможность высказаться, аргументируя тем, что раз уж развертываем демократизацию партии, то начинать должны с ЦК. Ельцин вышел на трибуну, стал что-то говорить не очень связно, признал свою неправоту. Я бросил ему «спасательный круг» — предложил еще раз подумать и снять заявление об отставке. Но он поддержки не принял и, страшно нервничая, произнес:
— Нет, я все же прошу меня освободить.
Решение, принятое Пленумом, состояло из двух пунктов. Первый давал оценку выступления Ельцина. Второй поручал Политбюро вместе с горкомом разобраться в ситуации и решить вопрос о первом секретаре МГК.
На том Пленум закончился. Через 10 дней, 31 октября, Ельцин пришел на заседание Политбюро, обсуждавшее окончательный вариант доклада о 70-летии Октября. Когда ему предоставили слово, стал пространно говорить, что на начальном этапе перестройки мы набирали скорость, а теперь потеряли ее; тогда готовность народа к переменам была большая, но мы слишком много взяли на себя и в чем-то просчитались. С середины 1986 года «вновь пошли большие подвижки, а я — это моя главная ошибка — из-за амбиций, самолюбия уклонялся от того, чтобы нормально сотрудничать с Лигачевым, Разумовским, Яковлевым. Но товарищи в горкоме партии не отвернулись от меня — хотя и осудили мое поведение, просят остаться».
Оказывается, он попросил секретарей горкома собраться без него. Бюро горкома признало поведение и выступление Ельцина ошибочным, отражающим лишь его личное мнение; посетовали, что он не счел нужным предварительно посоветоваться с товарищами и рекомендовали забрать заявление об отставке, продолжить работу.
3 ноября, как ни в чем не бывало, он прислал мне короткое письмо, в котором излагал указанное мнение бюро горкома и в этой связи просил дать ему возможность продолжить работу в качестве первого секретаря МГК КПСС. Воспринять логику его поведения было просто невозможно. Отменить решение Пленума никто не имел права. Ситуация осложнилась тем, что в зарубежной прессе появился кем-то сфабрикованный текст выступления Ельцина, и разные варианты этой фальшивки стали распространяться у нас. Опровержений со стороны самого Ельцина не последовало. Он явно начинал уже ощущать себя «народным героем». В таких условиях попытка решить вопрос, что называется, «фуксом» была, по меньшей мере, странной.
Я собрал членов Политбюро, кто был на месте, рассказал о письме Ельцина, и все присутствовавшие высказались однозначно: действовать в соответствии с постановлением Пленума. После этого позвонил Ельцину. Сказал, что мнение членов Политбюро — выносить вопрос на пленум горкома партии. В разговоре высказал все, что накопилось за эти дни.
В первой половине дня, кажется, 9 ноября мне доложили, что в московском горкоме — ЧП: в комнате отдыха обнаружили окровавленного Ельцина. Сейчас там бригада врачей во главе с Чазовым. Вскоре дело прояснилось. Ельцин канцелярскими ножницами симулировал покушение на самоубийство, по-другому оценить эти его действия было невозможно. По мнению врачей, никакой опасности для жизни рана не представляла — ножницы, скользнув по ребру, оставили кровавый след. Ельцина госпитализировали. Врачи сделали все, чтобы эта малопривлекательная история не получила огласки. Появилась версия: Ельцин сидел в комнате отдыха за столом, потерял сознание, упал на стол и случайно порезался ножницами, которые держал в руке. Но эта легенда самого Ельцина не устроила, и года через два он пустил в оборот другую — будто ночью на улице на него совершили покушение. Два хулигана набросились с финками, он, конечно, расшвырял их, как котят, но ножевое ранение все же получил. Эта легенда звучит куда как геройски. К тому времени я уже знал способности Ельцина к сочинительству.
А тогда, 9 ноября, снова пришлось срочно собирать членов Политбюро. Врачи еще раз подтвердили, что никакой опасности для жизни и здоровья рана не представляет. Его состояние уже стабилизировалось. Обсудив всю эту информацию, решили, что вопрос о работе Ельцина надо ставить немедленно. Разговор с ним по телефону я провел сам. Чтобы снять малоприятную для него тему о том, что произошло, сразу же сказал, что обо всем знаю, догадываюсь и о его состоянии. Поэтому нужно наметить день и провести пленум МГК.
Мне показалось, он несколько растерялся:
— Зачем такая спешка? Мне тут целую кучу лекарств прописали…
— Лекарства дают, чтобы успокоить и поддержать тебя. А тянуть с пленумом ни к чему. Москва и так полна слухами и о твоем выступлении на Пленуме ЦК, и о твоем здоровье. Так что соберешься с духом, приедешь в горком и сам все расскажешь. Это в твоих интересах.
— А что я буду делать потом?
— Будем думать.
— Может, мне на пенсию уйти?
— Не думаю, — ответил я. — Не такой у тебя возраст. Тебе еще работать и работать.
В начале нашего разговора, как мне показалось, Ельцин старался выиграть время, лихорадочно искал какие-то запасные варианты поведения. Потом, когда мы стали обсуждать возможность его работы в Госстрое в ранге министра, беседа приняла деловой характер.
— Это уход с политической арены? — прозвучал полувопрос, полуутверждение.
— Сейчас вернуть тебя в сферу большой политики нельзя, — ответил я. — Но министр является членом правительства. Ты остаешься в составе ЦК КПСС. А дальше посмотрим, что и как. Жизнь продолжается. Так что готовься к пленуму горкома.
Пленум МГК состоялся 12 ноября. Со мной туда пришли Лигачев и Зайков. Атмосфера была тяжелой. Ельцин был большим мастером по части нанесения обид своим коллегам и сослуживцам. Обижал зло, больно, чаще всего незаслуженно, и это отозвалось ему теперь. В ряде выступлений явно сквозили мотивы мстительности и злорадства. Запомнилась крайне резкая речь Прокофьева, который долго рассказывал, как несправедливо поступили с ним, когда он работал в горисполкоме. Все это оставило неприятный осадок. На пленуме Ельцин проявил выдержку, я бы сказал, вел себя как мужчина.
С самого начала я стремился не придавать «делу Ельцина» скандального характера, решать его в соответствии с новой атмосферой, которая складывалась в ЦК, в партии, в стране. Поэтому, когда на Политбюро встал вопрос о публикации выступлений на пленуме МГК, в том числе моего, я посоветовал: все, что там говорилось лично о Ельцине, надо сказать аккуратнее, не перечеркивать всю его жизнь и деятельность.
Меня поддержали: «Да, да! Так и сделать…»
Яковлеву, Разумовскому и Болдину поручили отредактировать в этом духе текст, готовившийся в горкоме для прессы. Но потом пошло много слухов, рисовавших весь этот эпизод как расправу над народным защитником. Шли они, надо полагать, от самого Ельцина и тех, кто уже примеривал его в вожди демократов.
Какое-то время после пленума МГК Ельцин продолжал лечиться, потом ушел в отпуск. А 14 января 1988 года его назначили первым заместителем председателя Госстроя СССР в ранге министра. Он оставался кандидатом в члены Политбюро, несколько раз присутствовал на заседаниях. И лишь на февральском Пленуме был освобожден от этих обязанностей. Позднее коллеги не раз упрекали меня в том, что я, мол, не довел дело до конца: «Вывели бы его из ЦК, заслали в дальний регион, куда Макар телят не гонял. А уж если так жалеете, то в заморскую страну послом. На том бы он и кончился». Сколько раз спрашивали меня: «Ну, признайтесь, это же был ваш крупнейший просчет!»
Подобных мыслей у меня не было. Не в моем характере расправляться с людьми, да это и противоречило бы духу отношений, которые я стремился внедрить в партию. Принимая решение о новом назначении Ельцина, я исходил из убеждения, что все у нас должно строиться на товариществе. Никакой антипатии по отношению к нему, и уж тем более чувства мести, у меня не было. Даже тогда, когда в ходе политической борьбы с его стороны стали раздаваться в мой адрес обвинения и оскорбления самого низкого пошиба, ему не удалось втянуть меня в перепалку подобного рода.
Февральский Пленум
Подготовка и проведение 70-летия Октября, публикации в прессе по широкому кругу проблем, волновавших людей, внесли большое оживление в общественную жизнь страны. 4–5 ноября в Кремле состоялась встреча представителей общественных сил и движений, приехавших на юбилейные торжества. Она стала ареной интересной дискуссии по проблемам исторического развития. Я впервые выдвинул тогда идею многовариантности исторического процесса, заявил, что противоречие двух систем не является определяющим. И уж совсем «крамольно», как призыв к инакомыслию, прозвучало из уст Генерального секретаря ЦК КПСС признание необходимости отказа от монополии на истину.
По набору идей, атмосфере, характеру общения это был удачный форум. Он показал огромные возможности сотрудничества общественных сил и движений, ставивших целью формирование новой, общечеловеческой цивилизации. Не менее важным было то, что все гости горячо приветствовали перемены, происходившие в нашей стране в рамках политики перестройки.
Во второй половине ноября на совещании партийных работников и 1 декабря — на встрече с руководителями средств массовой информации, деятелями науки и культуры состоялся разговор об их работе на новом этапе перестройки, суть которого — демократизация общества и радикальная экономическая реформа. С интересом была встречена опубликованная в ноябрьском номере журнала «Советское государство и право» статья академика В.Н.Кудрявцева с аргументацией в пользу создания правового государства. Вообще, «переход» от 87-го к 88-му году был отмечен углублением аналитических разработок по всем направлениям общественных наук. Из архивов и спецхранов библиотек извлекались труды мыслителей, художников, даже имена которых ранее боялись упоминать. Опьяненные свободой историки, экономисты, философы, социологи, литературоведы стремились очистить свои сферы знания от всевозможных искажений и заблуждений, порожденных сталинизмом, объективно оценить состояние нашего общества.
Уже тогда под лавиной новых фактов и данных становилась очевидной ущербность и упрощенность прежних наших представлений о социализме и социалистических ценностях. Если у нас самый передовой строй, носитель будущего, почему мы хронически отстаем от многих других стран и по уровню жизни, и по производительности труда? Если мы самая демократическая страна в мире, почему люди лишены духовной свободы, не имеют возможности влиять на политические процессы и принятие решений?
Эти и многие другие острые вопросы задавались теперь открыто; люди нового поколения, молодежь, не боялись обвинений в «антисоветской агитации». И разумеется, рассуждения наших идеологов относительно «создания основ социализма», потом его «полной и окончательной победы» и, наконец, «построении развитого социалистического общества», носившие сугубо апологетический и схоластический характер, уже не могли никого удовлетворить.
Между тем реформа экономики понемногу продвигалась. С 1 января 1988 года все предприятия были официально переведены на хозрасчет. Вступили в силу законы о финансовой их самостоятельности, реформе Госбанка, создании специализированных кредитных учреждений. Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение об условиях и порядке оказания психиатрической помощи, чтобы избежать злоупотреблений, имевших место в этой области. В ответ на массовые выступления во многих регионах страны было принято решение об усилении внимания к охране природы. Общественность потребовала внести изменения в постановление об увековечении памяти Брежнева, и 7 января были восстановлены прежние названия — города Набережные Челны, Черемушкинского района Москвы, Красногвардейской площади в Ленинграде, упразднена площадь Брежнева в Москве. Февраль начался с пленума Верховного суда СССР, отменившего приговоры 1938 года и прекратившего дела в отношении Бухарина, Рыкова, Ра-ковского и других, привлекавшихся к уголовной ответственности по так называемому «антисоветскому правотроцкистскому блоку».
8 февраля было опубликовано совместное постановление ЦК КПСС, правительства и ВЦСПС о порядке избрания советов трудовых коллективов и проведении выборов руководителей предприятий и объединений. А на следующий день я выступил с заявлением по Афганистану, предложив конкретные меры по политическому урегулированию, в том числе — вывод наших войск в течение 10 месяцев. Если вспомнить, сколько жизней стоила нам эта затянувшаяся на десятилетие война, скольких молодых людей навсегда оставила инвалидами, какие потери и страдания принесла афганскому народу, станет понятным взрыв надежд на ликвидацию конфликта, развязывание которого позорило нашу страну.
И все-таки не было покоя в моей душе. В январе я снова — в который раз! — встретился с руководителями средств массовой информации, идеологических учреждений и творческих союзов, призвал их сосредоточить внимание на живом деле, помочь преодолению апатии, равнодушия, робости. Созданы условия для инициативной предпринимательской деятельности — хозрасчет, аренда, кооперативы, банки, а масштабного разворота реформ все нет.
Поделился я и своими тревогами в связи с тем, что демократизация сопровождается противоречивыми процессами в сфере идеологии, национальных отношений, в других сферах общества.
Все чаще перед началом заседаний Политбюро и Секретариата происходили дискуссии по поводу наиболее острых публикаций прессы, передач радио и телевидения. Независимо от повестки дня этот разговор продолжался и на самих заседаниях, оттесняя порой существенные вопросы, требовавшие скорого решения.
Страсти кипели. Каждый раз часть членов Политбюро, в первую очередь Лигачев, повторяли одно и то же: мы упустили прессу, потеряли всякий над ней контроль, ответственность за это ложится на Яковлева. При этом Егор Кузьмич прекрасно понимал, что дело в принципиальном направлении нашей политики, но, поскольку до прямых нападок на Генерального секретаря еще не дошло, мне лишь указывали на излишнюю терпимость, призывали что-то предпринять, «положить конец». Со временем все чаще с такими же замечаниями стали выступать Соломенцев, Чебриков и Язов, а затем к ним присоединился и Рыжков.
Становилось очевидным, что нужен серьезный разговор на Пленуме ЦК. Очередной Пленум, намеченный на февраль, был «отдан» реформе школы, доклад по этому вопросу давно готовил Лигачев. Повестка дня не вполне отвечала требованиям момента, но менять ее было уже поздно, и я принял решение выступить на Пленуме по вопросам идеологии.
В подготовку доклада Лигачева я старался не вмешиваться.
Пленум ЦК состоялся 17–18 февраля 1988 года. Выступая с докладом «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее осуществлению», Лигачев прекрасно понимал, что вне зависимости от заявленной темы наши выступления как-то пересекутся, их станут сравнивать. Поэтому в качестве «упреждающего шага» решил, оттолкнувшись от проблем образования, застолбить свои позиции по крупным идеологическим вопросам. Он стал говорить о классовом воспитании, идейности, о недопустимости притупления идеологической бдительности, о том, что учебный процесс — это не только обучение, но и воспитание, в школе формируются основы мировоззрения человека. Все это звучало достаточно традиционно и в конечном итоге получилось так, что общая направленность его доклада заметно разошлась с моим выступлением.
Оно было опубликовано под обязывающим заголовком «Революционной перестройке — идеологию обновления». Центральная его мысль состояла в том, что демократизация общественной жизни и радикальная экономическая реформа требуют от партии и общества осмысления новых реальностей, перспективы дальнейших действий.
Эта новая реальность воспринималась общественным сознанием в различных, порой причудливых вариантах. Поскольку гласность вскрыла многие пороки нашей действительности, необходимость перестройки мало кто отрицал. «Так дальше жить нельзя!» — эта фраза от частого повторения стала в 1988 году расхожей. Но за кажущимся единством стояли различные, иногда прямо противоположные представления. Верхушка партгосаппарата считала, что существующая система просто «разболталась», нужно не заменять ее — избави Бог! — а лишь подналадить. Когда я пытался выяснить, какой смысл вкладывается в «подналадку», оказывалось, что речь идет о сугубо косметическом ремонте, вроде той покраски фасадов на центральных улицах, которую практиковали у нас к праздникам.
Как известно, крайний консерватизм лишь питает безоглядный радикализм. Его сторонники — вчерашние диссиденты, часть творческой интеллигенции, особенно «эмэнэсы» (младшие научные сотрудники), решительно настроенные изменить свой социальный статус и вторгнуться в большую политику, очертя голову бросились расширять «рамки дозволенного». Отвергнув социалистические ценности, еще вчера воспевавшиеся в диссертациях, они требовали полного и немедленного демонтажа прежней системы. Вели речь не столько о реформах, сколько о реставрации, неизбежно связанной с насилием и социальными потрясениями. Оставалось неясным, однако, о восстановлении какого общественно-политического строя шла речь.
В выступлении я предостерег от вульгарно-примитивных оценок и нашего прошлого, и того общества, которое мы создали. Нельзя видеть в отечественной истории лишь цепь кровавых преступлений. Нельзя глумиться над памятью народа. Надо понять, как и чем жили наши отцы и деды, во имя чего работали, во что верили миллионы людей, как соединялись воедино величайшие победы и поражения, успехи и неудачи, откровения и ошибки, светлое и трагическое.
Я говорил о том, что в этом смысле перестройка является и результатом нашего предшествующего развития, и своеобразной фазой «отрицания отрицания», когда мы начинаем освобождаться от всего, что превратилось в тормоз для движения вперед. Благодаря политическим и экономическим реформам социализм избавляется от деформаций, возвращается к своим истокам и в то же время выходит на новые исторические рубежи обновления.
Перечитывая свое выступление на февральском Пленуме, я сейчас нахожу в нем определенную внутреннюю противоречивость. Я был абсолютно искренен, отстаивая главные направления перестройки — гласность, демократизацию, экономические реформы. Произнося, чуть ли не как заклинания, слова: все, что мы делаем, направлено на раскрытие потенциала социализма. Нам действительно казалось, что беды страны никак не связаны с проявлением каких-то внутренних закономерностей системы, что накопившиеся в экономике, политике, духовной сфере противоречия можно разрешить, не выходя за ее рамки. Короче говоря, мы не подошли еще к осознанию масштаба грядущих перемен, к пониманию того, что наступивший кризис носит не частичный, а общий, системный характер.
В то же время и тогда я понимал, что логика реформ требует уже не просто совершенствования системы, а вторжения в самые ее основы. Употребляя одни и те же слова, мы говорили о разных вещах.
Безусловно, социальное мышление неразрывно связано с идеалом, социалистический идеал намного старше того, что мы называем «научным социализмом». В нем выражается тысячелетняя мечта людей о справедливости и счастье, которую каждая новая эпоха наполняла новым содержанием. Вот и теперь, считал я, назрела необходимость обновить представления о социализме с учетом реальностей, сложившихся в нашей стране и во всем мире. Как говорил в свое время Ленин, нужна была еще одна «коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм».
Разговор о приоритете общечеловеческих ценностей, как глубинной сути современного понимания социализма, был уже мной начат. Придет время, для меня станет очевидным и другое: любое развитие возможно лишь при наличии внутреннего разнообразия. Достижение «идеала» в результате полной победы одной из тенденций неизбежно приводит вновь созданную систему к внутреннему кризису и гибели. Поэтому ставить вопрос о создании общества с исключительно «социалистическими» чертами вряд ли правомерно и перспективно. Мы должны мыслить не только формационными, но и цивилизационными категориями: критериями создания нового общества XXI века, новой цивилизации.
В любом развитом и динамичном обществе присутствуют элементы консерватизма и радикализма, индивидуализма и коллективизма, либерализма и социалистических ценностей, без которых (особенно сейчас, при ядерной и экологической угрозах) невозможно само существование мирового сообщества. Именно поиск синтеза этих элементов и тенденций, их оптимального взаимодействия, — а на каждом историческом этапе, у каждого народа они разные, — обеспечивает движение к новой цивилизации. С этой точки зрения мы можем говорить о социалистической идее, социалистических ценностях как о глобальном общепланетарном явлении, как об органической составной напряженных духовных поисков человечества. И это нисколько не умаляет значения, скажем, либеральных или сугубо демократических ценностей.
Так, кардинально изменив подход к критериям социалистичности, мы выходим сначала на многовариантность решения проблем развития, путей воплощения социалистического идеала, а потом и на новую философию истории. Но к подобным выводам я пришел позже. На февральском Пленуме было сказано, что именно человек, его интеллектуальный и политический облик, мастерство и способность к творчеству, патриотизм и интернационализм будут стоять в центре бытия и в конечном счете определять успех социальных преобразований. Многое в этих словах звучало непривычно. Высшей ценностью провозглашалось не то, чему нас учили: руководящая роль партии, государственная собственность, плановость экономического развития. Или, проще, тонны стали и пуды хлеба, километры железных дорог и метры тканей.
Ну а когда я заявил, что и руководящая роль партии «не дана кем-то свыше и на вечные времена», тут уж мои коллеги совсем насторожились: «Как же так, а где руководство партии?» Будь они откровенней, их вопрос звучал бы проще: «А где же наша власть?» Ведь вся идеологическая эквилибристика являлась лишь прикрытием господства номенклатуры. Потому-то и устраивала их административно-командная система, и появились профессиональные плакальщики по развитому социализму, ярые защитники марксизма-ленинизма.
Весь пафос моего выступления на февральском Пленуме ЦК в значительной мере направлялся на то, чтобы еще раз разъяснить всем, кто сомневался в происходящем, что без демократизации перестройка не состоится и реформы не сдвинутся с места. А вне этого нет для нашей страны выхода из надвигающегося кризиса.
Просветления умов и после февральского Пленума не произошло. Наоборот, дифференциация усиливалась. Для тех, у кого с началом демократизации появилось ощущение уходящей из-под ног почвы, перемены в стране ассоциировались с потерей собственных позиций. Присматриваясь к ним, я все более убеждался, что за растрепанными чувствами, неуправляемыми эмоциями, а то и просто озлобленностью скрывалась не столько забота о народе, сколько боязнь утраты прежнего своего положения.
Но выступить перед обществом с эгоистической программой никто бы не рискнул. Частные и групповые интересы приходилось камуфлировать якобы бескорыстным служением высоким идеалам и принципам, ультрареволюционной фразой. Ну а когда возникает «общественная потребность» в соответствующем товаре, он незамедлительно появляется на рынке.
Кредо антиперестроечных сил
13 марта я отправился с государственным визитом в Югославию. В самолете, как всегда, мне положили прессу за этот день. И Шахназаров, уже успевший просмотреть газеты, сказал, что есть статья, которую мне стоило бы прочесть. Он имел в виду статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», опубликованную «Советской Россией».
После возвращения из Югославии предварительный обмен мнениями по поводу данной статьи произошел в кулуарах Всесоюзного съезда колхозников в один из перерывов. Во время чаепития в комнате президиума Воротников сказал, что статья Андреевой может служить «эталоном», другие дружно поддержали его. Я высказал несогласие с такой оценкой и предложил продолжить обсуждение на Политбюро. Заседание состоялось 24 и 25 марта и шло два дня, краткая запись дискуссии составляет 75 страниц. Процитирую наиболее любопытные фрагменты.
ГОРБАЧЕВ. Считаю необходимым продолжить начатый вчера разговор. Я имею в виду публикацию статьи Нины Андреевой в газете «Советская Россия». Это важно для нас, чтобы, как говорится, сверить часы и уяснить понимание проблем, которые выдвигает ход перестройки. Это нужно еще и потому, что впереди у нас ответственные задачи, предстоит принять важные решения.
Появление статьи Нины Андреевой стало возможным в условиях перестройки и гласности. Не исключено, что подобные материалы будут печататься и впредь. Но не факт публикации удивителен. Меня, например, взволновало то, что некоторые товарищи в Политбюро расценили эту статью как эталон, образец современной перестроечной публицистики. Мое несогласие с такой оценкой вызвало кое у кого непонимание. Поэтому считаю целесообразным обсудить возникшие вопросы обстоятельно. Такое обсуждение тем более необходимо, так как фактически все эти вопросы рассматривались на февральском Пленуме ЦК. Думаю, в моей речи на Пленуме акценты были расставлены, и она дает ясное представление о проводимой Центральным Комитетом политической линии.
Статья Андреевой носит фронтальный характер, не оставляет без внимания практически никаких вопросов, которые сегодня волнуют общество. Ее надо рассматривать как антиперестроечную платформу. В этих условиях непонятен призыв некоторых моих коллег перепечатать эту статью в других газетах. В общем, у нас появилось расхождение в оценке данной публикации и, видимо, неоднозначность в подходе к тому, что у нас происходит. Вызывает сомнение, что изложенный материал написан Андреевой — преподавателем химии Технологического института. Это подтверждают определенные выводы и информация, которая ей не доступна, ибо о ней знает сравнительно узкий круг людей.
Нужно прояснить наши позиции. Впереди XIX Всесоюзная партийная конференция, которая должна принять чрезвычайно важные решения как для партии, так и в целом для страны. Вот почему я призываю в товарищеской обстановке обменяться мнениями и высказать свои суждения по затронутым проблемам.
ВОРОТНИКОВ. Статья неординарная. И у меня есть свое суждение по поводу того, что многие печатные издания мажут дегтем Ленина, его соратников, чернят других людей. Видимо, эта попытка восстановить истину и привлекла интерес к статье в «Советской России». Мне показалось, что в ней дается отповедь клеветникам, и потому она произвела на меня позитивное впечатление. Разумеется, я не собирался ее брать на вооружение, во всяком случае, у меня нет никаких оппозиционных настроений. Видимо, следует спокойнее относиться ко многим вещам.
ЯКОВЛЕВ. Реакция на статью противоречивая. Кое у кого она встречена с одобрением, но в основном многие возмущаются ее публикацией. Как бы я оценил ее характер? Она, я думаю, антиперестроечная, начиная от заголовка и кончая всеми положениями и посылами. По тону статья явно претендует на некое программное звучание. Своим содержанием, тоном и пафосом статья ориентирована не на консолидацию и сплочение нашего общества на платформе перестройки, а на разделение, размежевание, противопоставление друг другу различных его групп и слоев.
ГРОМЫКО. Я думаю, что в вопросе, который сейчас обсуждается, нам надо понять друг друга. Мы обязаны сохранять единство. Суть перестройки, задачи, стоящие перед нами, и пути, на которых собираемся решать эти задачи, определены. Все это есть в решениях съезда, пленумов, заложено в докладе о 70-летии Октября. Мы обсуждали этот доклад и были едины в его оценке. Если разъединимся в таких вопросах, то это быстро расползется во все стороны.
ЛИГАЧЕВ. У нас есть все основания сказать, что в Политбюро сегодня есть не мнимое, а подлинное единство. И это я отношу к заслуге Михаила Сергеевича, который позволяет нам высказываться по всем вопросам. Мы можем говорить о том, что думаем, и уходим с заседаний Политбюро убежденными в правильности решений. Это первое.
Второе. Членам Политбюро, партии, как и всему народу, нужна перестройка. И мы несомненно привержены линии апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Что меня беспокоит сегодня? Это то, что многим фактам истории дается не точная, а иногда извращенная оценка. Не всегда дается объективная картина как героических, так и трагических страниц нашей истории. Есть органы печати, которые допускают перекосы, буквально гоняются за негативами и видят прошлое только в черном цвете. Даже в моменты великого подвига нашего народа некоторые писатели, кинематографисты пытаются внести элементы очернительства. Подобным фактам дана оценка в «Советской России». Это реакция на очернительство.
РЫЖКОВ. Статья Андреевой в «Советской России» касается глубинных вопросов нашего развития. Один из выводов, который может быть из нее сделан: а нужна ли нам перестройка? Может возникнуть и вопрос: не переступили ли мы порог гласности? Думаю, нет. Без гласности партия не сможет решать всех вопросов. Только информация, полная правда о прошлом и настоящем позволят вскрыть недостатки и преодолеть преграды, с которыми мы столкнулись. Гласность нужна не только в вопросах политики, истории, культуры, но и в области экономики, где остается много неясного, скрытого временем.
Очень важно, чтобы в Политбюро, в Центральном Комитете по отношению к идеологии был взвешенный подход. И непонятно, почему два члена Политбюро занимаются идеологической работой. Я имею в виду Лигачева и Яковлева.
ЧЕБРИКОВ. Единство — наше богатство. Если бы не было единства, не было бы мартовского, апрельского Пленумов ЦК 1985 года, не произошли бы перемены, которых мы достигли внутри страны и во внешней политике. Поэтому сегодняшний разговор я понимаю как еще один шаг по укреплению нашего единства. От средств массовой информации требуются большая ответственность, серьезность, понимание.
ЗАИКОВ. Разговор очень нужен. По существу, речь идет о ходе перестройки. Это школа для каждого. Я бы не хотел повторяться. Полностью согласен с теми оценками, которые высказал Яковлев.
ГОРБАЧЕВ. Кто из горкома дал указание эту статью изучать?
ЗАЙКОВ. В горкоме такого указания не давали. Во всяком случае, я об этом не знаю. В целом выступление «Советской России» представляет собой изложение жесткой позиции догматических, консервативных сил, не заинтересованных в перестройке, критически к ней относящихся.
ЩЕРБИЦКИЙ. Речь в статье идет не об отдельных фактах и личностях, а о принципиальных вопросах, связанных с перестройкой, с культом личности, с положением в нашем обществе. Выдвинут тезис о контрреволюционных нациях. Это не одной нации может нанести оскорбление. Причем это делает газета «Советская Россия» — орган ЦК КПСС. В статье содержится фактически отрицательное отношение к перестройке. Дискуссии в период перестройки — процесс нормальный, хотим мы или не хотим, они будут продолжаться. Но статья не очень-то дискуссионного характера. Должно быть, за этим стоит не только Андреева, а, скорее, какая-то группа, излагающая определенные позиции, причем позиции явно не наши.
СОЛОМЕНЦЕВ. Вызывает удивление, что статья напечатана в «Советской России». Вчера я еще раз внимательно прочитал ее. Конечно, она написана односторонне, не раскрывает процесса, который идет у нас, не показывает то положительное, что нами уже достигнуто в непростых условиях перестройки. У нас нет разногласий в отношении перестройки. Курс, который выработан ЦК партии, должен неукоснительно проводиться всеми нами.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Статья вредная, позиция обывательская. Это обыватель, который ловко собирает слухи, враг перестройки, обновления. Я думаю, вы правильно поставили вопрос: если это обычная публикация, переживание человека — ничего страшного. Иное дело, если это социальный заказ, мнение каких-то товарищей в Центральном Комитете, правительстве, каком-либо другом органе или областном комитете партии. Согласен, что сейчас самое главное для нас — единство. Но не любой ценой. Я всегда считал, что единство надо обеспечить на принципиальной основе. Нам придется на многие вопросы ответить, ответить и на такой, который задают все чаще: возможна ли настоящая демократия в условиях однопартийной системы? Вред статьи Андреевой заключается в том, что она ставит под сомнение все процессы, происходящие в нашей стране, на базе которых мы можем спасти социализм.
ЛУКЬЯНОВ. Скажу откровенно, такой обмен мнениями на заседании Политбюро меня глубоко волнует. Хорошо, что мы можем свободно обсуждать любой, самый сложный вопрос. Очень хорошо, что генератором в такой обстановке является сам Генеральный секретарь.
Я полностью согласен, что не надо впадать в истерику, драматизировать положение, но нельзя опаздывать, отдавать руль управления, упускать узловые вопросы политики. Мы находимся в самом начале движения, сняли самый верхний слой и демократии, и гласности, ко многим вещам подходим поверхностно. Думаю, XIX Всесоюзная партийная конференция все это продвинет дальше. Придется отказаться от многих стереотипов. Демократия — это дорога с двусторонним движением. И не надо, чтобы на этой дороге одна полоса была слишком широкая, а другая — слишком узкая. Здесь нужны мера и продуманность, а если говорить о регулировщике этих полос, то им должна быть партия.
ЯЗОВ. Хотел бы доложить, что единство в Вооруженных Силах — это их естественное состояние. Армия должна быть едина с народом и должна работать под руководством Коммунистической партии. Перестройка в армии идет нелегко, со скрипом, много чиновников, которые привыкли только командовать. Не могу сказать, что все то, что дается по телевидению и в прессе, хорошо влияет на воспитание людей. Можно было бы больше дать материала о тех героях, которые проявили себя в Афганистане. А по телевидению все четыре дня о Высоцком только и передавали запись. А что сделал Высоцкий такого, чтобы о нем все четыре дня говорить? Где бы я ни появлялся в воинских частях, мне с удивлением задают вопрос, какой подвиг он совершил? Мое мнение, Михаил Сергеевич, что мы должны руководить печатью…
Выступали все — Никонов, Слюньков, Демичев, Талызин, Долгих, Бирюкова, Разумовский, Бакланов, Маслюков.
ГОРБАЧЕВ. Статья представляет попытку после февральского Пленума поправить Генерального секретаря, решения Пленума ЦК. Она не может остаться без ответа в «Правде», серьезного и принципиального. Ее лейтмотив — «обеление» всего, что связано с культом личности. Тогда возникает вопрос: зачем перестройка?
Я приветствую, что товарищи к оценке статьи подошли под углом отношения к перестройке. Отступление от линии на реформы — самое большое предательство, какое может быть в наше время. Мы уже переломили в какой-то мере негативные тенденции, начали переводить страну на другие рельсы. Это величайшее дело. Как дальше решать задачи перестройки? Ведь и в прошлом было немало реформаторских попыток, но они завершались полумерами, половинчатыми решениями. Потому и не было результатов, на которые рассчитывали. Главное, на мой взгляд, не включали людей в эти процессы. Успеха можно добиться только через гласность, развертывание демократии.
Мы нащупали решающее направление, и надо идти по нему. Тот, кто сегодня под тем или иным благовидным предлогом будет атаковать гласность и демократию, тот будет оказывать плохую услугу перестройке.
Есть у нас люди, которые уже не могут включиться в перестройку. Мы не должны выбрасывать их из жизни. Даже там, где складывается острое положение, не следует свирепствовать, искать врагов. Тогда это гражданская война. Все переварится, переплавится в котле демократических процессов.
Мы должны были провести этот разговор, заключил я. Реакция на статью должна быть спокойной, но серьезной.
А вернувшись домой, еще долго не мог уснуть, размышляя об итогах этой дискуссии, наиболее примечательных ее эпизодах. С одной стороны, все поклялись в верности перестройке, присягнули единству. И это, конечно, очень важно, поможет с меньшими осложнениями пройти очередной этап реформ. А с другой — еще раз выявился эфемерный характер солидарности руководящего синклита. В рассуждениях некоторых коллег проскальзывали ностальгия по старому, внутреннее несогласие со многими нашими новациями. Некоторые уже не шли в ногу, а тащились через силу, усмиряя в себе «ретивое», лишь бы не оторваться от власти, связанных с нею благ. Но так, конечно, не может продолжаться до бесконечности. Раскол неизбежен. Вопрос лишь — когда?
На пути к партийной конференции
Идея проведения Всесоюзной партконференции прозвучала впервые на январском Пленуме ЦК 1987 года, а формальное решение на этот счет принял июньский Пленум того же года. Заключая его работу, я сказал: «Для нас, коммунистов, она станет, по существу, политическим экзаменом по главному предмету нашей жизни — перестройке. Всю нашу практическую работу… мы должны вести таким образом, чтобы сдать этот экзамен достойно и принести на конференцию хороший практический опыт, реальные результаты, извлечь уроки на будущее».
К весне 1988 года стало очевидным, что сопротивление обновленческим реформам нарастает и предстоящая конференция не будет «легкой прогулкой», станет полем пробы сил между реформаторским и консервативным крылом партии. А поскольку весь политический актив страны был в ней — то и всего общества. Тем большее значение приобретал вопрос, на какой платформе развернется подготовка к ней, какая сверхзадача будет одушевлять ее решения.
Назревало все подспудно. Мои оппоненты, почувствовав на февральском Пленуме, куда «гнет» генсек, всполошились и засуетились. А где суета, там всегда и ошибки. Так они «засветились». Сама того не желая, объективно нам помогла Нина Андреева. В этом смысле ей надо бы какой-то приз учредить или по крайней мере памятную доску — «За вклад в прояснение позиций».
Выполняя поручение подготовить редакционную статью в ответ на публикацию «Советской России», редактор «Правды» Афанасьев и его сотрудники написали первоначальный вариант. Но проект явно не дотягивал до «кондиции», не было в нем ни широты взгляда, ни глубины выводов. В дело включились Яковлев и Медведев с моими помощниками. Доработанный вариант разослали весьма узкому кругу. На заключительном этапе в редактировании текста принял участие и я. 5 апреля «Правда» статью опубликовала. Кажется, в тот же день ко мне зашел Лигачев. Чувствовал он себя довольно неуютно. Стал говорить, что непричастен к созданию статьи Андреевой, что нужно учинить проверку. Я остановил:
— Успокойся, не надо никаких расследований. Не хватало нам своими руками организовывать раскол в ЦК и Политбюро…
Должен напомнить, что ЦК мог даже отменить конференцию, по уставу это являлось его прерогативой. И если бы кто-то поднял «бунт на корабле», реформаторам не поздоровилось бы, большинство все-таки было не на их стороне. Теперь об этом можно прямо говорить. Горбачев, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе, Рыжков, Слюньков. Кто еще? Зайков, Разумовский — трудно сказать… Но огромный авторитет, связанный с положением генсека, и крепнущая поддержка в обществе курса на перестройку помогали удерживать контроль над ситуацией. Важно было использовать это, и мы засучив рукава взялись за подготовку конференции, до которой оставалось всего два месяца.
Где только не пришлось тогда говорить и слушать, убеждать и в чем-то убеждаться самому! На Всесоюзном съезде колхозников, встрече с представителями прессы и творческой интеллигенции, совещании заведующих отделами ЦК (28 марта). Везде я стремился решить двуединую задачу. С одной стороны, лучше понять состояние умов в различных слоях общества. А с другой — донести до возможно более широкой аудитории свои замыслы, понимание перспективы, включить людей в активное формирование политики.
Особо выделил бы «многосерийную» встречу с партийным «генералитетом», проведенную с 11 по 18 апреля. В три приема, чтобы создать непринужденную доверительную атмосферу, я провел беседы со всеми секретарями ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов. В общей сложности это больше 150 человек. От них в огромной мере зависела судьба партконференции, как, впрочем, и весь дальнейший ход дел. Я стремился найти общий язык с самым влиятельным слоем партии, заручиться его поддержкой, на худой конец — благожелательным нейтралитетом.
Что же слышал я в ответ на этих беседах? Были дельные, запомнившиеся выступления: Б.К.Пуго, бывшего тогда первым секретарем Компартии Латвии, кемеровского секретаря В.В.Бакатина, киевского — Г.И.Ревенко. Были речи серые, невнятные. На характере встреч еще сказывалась инерция лояльности по отношению к генсеку. Но у некоторых членов ЦК она уже перестала быть сдерживающим началом. Это проявилось, в частности, в выступлении секретаря Свердловского обкома Ю.В.Петрова.
— Мне понравилась статья Андреевой, — сказал он, — и я велел ее перепечатать в областной газете. Хватит расплачиваться за наше прошлое. Рабочие коллективы задают вопросы: до каких пор будем позволять все это?! — А когда заметил мою реакцию, бросил реплику: — Вы же сами требуете, чтобы говорили то, что думаем. Вот я и говорю…
Я не оставил без оценки такие рассуждения:
— Когда мы не знали, что происходило в прошлом, — одно дело. А когда узнали и узнаём все больше, двух мнений быть не может. Сталин — преступник, лишенный всякой морали. Для вас скажу: миллион партийных активистов расстрелян, три миллиона отправлено в лагеря. И это не считая коллективизации, которая затронула еще миллионы. Нина Андреева, если пойти по ее логике, зовет нас к новому 1937 году. Вы, члены ЦК, этого хотите? Мы должны думать о судьбе страны. За социализм? Да! Но за какой? Такой, как при Сталине, нам не нужен.
В ходе этих встреч я апробировал идею объединить при разделении властей должности первого секретаря и председателя президиума Совета — при том, что последний пост будет, естественно, выборным. Уж коли у нас одна правящая партия, то хоть таким образом поставить ее под контроль народа. По моему замыслу, такой вариант позволял осуществить более плавно, менее болезненно передачу власти Советам. С другой стороны, на выборах проверялась бы авторитетность партийного руководителя: получит мандат — будет чувствовать себя уверенней, нет — придется трудиться на другом поприще.
Надо сказать, эта идея вызвала острый спор и в партии, и в обществе. Одни налегали на то, что в случае совмещения должностей Советами опять будут командовать партийные секретари. Другие же, напротив, высказывали опасения, что это грозит перечеркнуть руководящую роль КПСС. На этот аргумент особенно упирали те, кто не без оснований опасался скверного для себя исхода выборов. Я призывал их, дабы этого не случилось, активно включаться в избирательную кампанию. Но это не вызвало энтузиазма. Ведь до сих пор они получали должности или лишались их по правилам номенклатуры, были всевластными в «дарованных вотчинах». Охота ли ставить все это под вопрос! К тому времени кое-где прошли альтернативные выборы, и даже некоторые из тех, кто считал свои позиции незыблемыми, оказались в результате тайного голосования забаллотированными.
Особое волнение у некоторых вызвало предложение ограничить двумя сроками занятие руководящих должностей. Последовал вопрос: «С какого времени начнется отсчет?» Страх потерять положение, обретенное многими недавно, читался на лицах.
В итоге откровенных бесед большинство поддержало практически весь комплекс идей, с которыми мы намеревались выйти на конференцию. Но меня не покидало ощущение, что не все секретари понимают новизну ситуации и смогут подготовить парткомы, коммунистов к работе в условиях свободных выборов и разделения властей. Действительно, многие из них, неплохие специалисты и организаторы, не сумели «вписаться в демократию». Что поделаешь, без ломки человеческих судеб не обходились никакие реформы. Я старался свести эти личные драмы к минимуму.
Тогда было много разговоров о том, чтобы на конференции провести серьезную перетряску кадров. Но я был против того, чтобы решить их на этом этапе. Кадровая проблема неизбежно стала бы в центре внимания делегатов, могла отодвинуть на задний план и даже поставить под угрозу принятие принципиальных политических решений. Да и эффект был бы, что называется, «разовый». Мой замысел состоял в другом — через конференцию открыть дорогу политической реформе, благодаря которой эти вопросы будут впредь решаться с обязательным участием народа, в результате свободных выборов. Так, собственно, и случилось.
Об организации подготовительной работы мы условились на заседании Секретариата (23 апреля), а через два дня я пригласил Слюнькова, Яковлева, Медведева, Лукьянова, Шахназарова, Фролова, Черняева, Болдина, Ситаряна, заведующего экономическим отделом ЦК Можина, Биккенина, и мы провели обстоятельный разговор о характере тезисов. С его содержанием были подробно ознакомлены журналисты и творческие работники, с которыми я встретился 7 мая. Много у меня в те дни было дел, но на первом месте стояла подготовка тезисов и доклада. Практически ежедневно приезжал в Волынское-2[12], где трудилась рабочая группа.
Уже 23 мая тезисы были представлены Пленуму ЦК. В прениях выступили 20 человек, документ оценили положительно, и это показалось мне добрым предзнаменованием. После учета поступивших дельных замечаний он был обнародован в «Правде» (27 мая) ровно за месяц до открытия конференции.
Последовал, без преувеличения, взрыв общественного мнения. Все средства массовой информации включились в обсуждение, газеты ввели соответствующие рубрики. До этого общество все-таки пребывало в ожидании, когда и куда «верхи» распахнут дверь. Теперь люди начинали верить, что весь сыр-бор затеян не зря, речь идет не об очередной штопке дырявого решета, а о коренном его преобразовании, переходе к принципиально иной политике. В воздухе запахло свободой.
Наряду с дискуссией напряженно следили за выборами делегатов на конференцию. Благодаря принятым мерам они прошли уже не так, как прежде, когда практически весь делегатский состав формировался орготделом ЦК. На сей раз коммунисты действительно выбирали, и немалую роль в этом сыграла бдительная пресса. А ведь не пришлось ничего придумывать, просто потребовать строгого соблюдения Устава КПСС.
Ну а подготовка доклада шла в обстановке какой-то подспудной тревоги — сказывались размежевание позиций в руководстве, в партии, во всем обществе и опасения реформаторских сил по поводу того, что номенклатура и на этот раз обернет дело в свою пользу, протащит в делегаты своих сторонников, которые похоронят реформы.
7 июня в Ново-Огареве я встретился с рабочей группой для обсуждения первоначального варианта доклада. Яковлев положил передо мной 150 страниц. Не хотелось никого обидеть, но, не спеша полистав этот пухлый фолиант, я не удержался от шутки: «Настоящая повесть пламенных лет. Правда, повесть есть, а пламени нет. И доклада нет». Материал нес на себе отпечаток и незавершенности, и разности стилей.
В конце концов доклад, адекватный моему замыслу, родился в трудах и долгих дискуссиях.
XIX партийная конференция
Конференция открылась 28 июня в Кремлевском Дворце съездов. Делегаты приняли предложение ЦК заслушать доклад Генерального секретаря ЦК по первым двум вопросам повестки дня: «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС, основных итогах первой половины двенадцатой пятилетки и задачах партийных организаций по углублению процесса перестройки» и «О мерах по дальнейшей демократизации жизни партии и общества».
Начало доклада звучало по-гамлетовски: «Как углубить и сделать необратимой революционную перестройку, которая по инициативе и под руководством партии развернулась в нашей стране, — вот коренной вопрос, стоящий перед нами… И от того, насколько мы дадим правильный ответ, зависит, в состоянии ли партия выполнить роль политического авангарда на новом этапе развития советского общества».
Такая постановка вопроса диктовалась реальностями того времени. Политика перестройки становилась делом миллионов, люди выходили из состояния апатии и отчужденности, набирал силу процесс очищения общественной атмосферы, отравленной длительным застоем- Но это лишь часть правды, в противном случае не было бы необходимости начинать доклад на такой драматической ноте. Другая часть заключалась в том, что механизмы обновления по-настоящему не заработали, порыв к свободе блокировался номенклатурным режимом. Наш перестроечный опыт, как и опыт предшествующих реформаторов, подводил к принятию кардинальных решений о проведении реформы политической системы.
О прошлом в докладе было сказано, что мы недооценили всей глубины деформаций и застоя минувших лет, ситуация в обществе оказалась более серьезной, чем представлялось ранее. Главное же было сосредоточено на анализе итогов трех перестроечных лет. Картина получалась тревожная, но выход я видел не в свертывании реформ или отступлении от взятого курса, а в их углублении.
Основные задачи формулировались так: осуществление радикальной экономической реформы, активизация духовного потенциала общества, реформа политической системы, демократизация международных отношений. Эта позиция была воспринята партийной конференцией, что подтвердил характер принятых решений. Дискуссия настолько захватила делегатов, что многие отложили домашние заготовки, рвались на трибуну со спонтанными выступлениями и репликами. Пожалуй, не было в партии такой открытой и острой полемики со времени первых ее послереволюционных съездов. Вдобавок — прямая трансляция. Страна была буквально прикована к приемникам и телевизорам!
Ну а я, можно сказать, оказался в роли капитана корабля в бушующем океане. «Корабль конференции» ложился то на левый, то на правый борт. Иной раз закладывало так круто, что казалось, штурвал вот-вот вырвется из рук. И чисто по-человечески, не скрою, я испытал удовлетворение, что сумел удержать ситуацию в руках, не сбиться с проложенного курса.
Открыл прения по докладу Бакатин. Его выступление отличалось взвешенностью, содержало дельные мысли о демократизации в экономической сфере. Он аргументированно поддержал идею совмещения высших постов в партийных и советских органах. В какой-то момент на конференции возникло своего рода соревнование — кто покрепче заденет стоящих повыше на иерархической лестнице. Формула первого секретаря Коми обкома Мельникова граничила с призывом к расправе, открытию новой охоты на ведьм: «Тот, кто в прежние времена активно проводил политику застоя, сейчас, в период перестройки, в центральных партийных и советских органах быть и работать не может. За все надо отвечать, и отвечать персонально» — так поставил он вопрос. Мысли вроде бы и правильные, но уж очень все это отдавало кликушеством. Я спросил его: «Может быть, есть конкретные предложения? А то мы сидим и не знаем, к кому это относится». Мельников ответил, что имеет в виду Соломенцева, Громыко, Афанасьева (редактора «Правды»), Арбатова и других.
В защиту Громыко поступила в президиум записка: «Андрей Андреевич Громыко — уважаемый человек в народе и партии. Жизнь и деятельность его посвящены нам. Мы же, народ, коммунисты, взвалили на его плечи очередную ношу. Принцип «кто везет, на того и валят» в очередной раз сработал. Мы же его «заездили». А сегодня товарищ Громыко отстал от жизни. Он свое дело сделал, его благородные дела в памяти народной. И не стоило бы с наскока обижать человека. Он уважаем и любим в народе». Оглашение записки вызвало в зале дружные аплодисменты.
Было много ярких, эмоциональных выступлений. «Сегодня действительно рубеж истории нашей жизни, — так начал свое выступление Михаил Ульянов. — Либо конференция выполнит волю и чаяния народа, страстно и давно желающего жить и работать в стране с четко выраженными законами, которые никому нельзя изменить, отменить, если они выражают интересы народа и утверждены волей народа. Либо опять будем вздрагивать от командного крика, не иметь ни малейшей гарантии от любых волево-приказных запрещений, изъятий, наказаний, беззаконий местного и не только местного покроя, вседозволенности бюрократии, всевластия партийного и хозяйственного аппарата, жившего до недавнего времени по купеческому принципу: что хочу, то и ворочу.
…Либо мы создадим такое положение, где демократия будет существовать как кислород для жизни, где будут цениться талант и труд, а не номенклатура и покладистость, где жизнь будут выдвигать наверх людей деятельных, головастых, самостоятельных, способных работать без понуканий и дерганий, либо будем опять, чтобы как-то жить, продавать наше богатство, искать виноватых и запрещать всякое свободомыслие…»
Он остро поставил вопрос о прессе, и я включился в разговор. Развернулся своеобразный диалог. Я напомнил известную мысль о том, что гласность — это разговор по существу, без «литературного наездничества». Надо дать возможность высказывать в печати различные точки зрения, тогда станет яснее весь спектр настроений, проблем, и можно будет на этой основе вырабатывать правильные решения. Нужно не заменять одну монополию другой, одну полуправду другой полуправдой. Нам нужна вся правда…В газетах и журналах могут легко, иногда походя, оскорбить человека. Разве это допустимо? Подобное надо решительно осудить на конференции. И в то же время сохранить гласность и критику, постоянно действующее активное общественное мнение. Без этого не решить стоящих перед нами задач. Главная беда прошлого в том, что народ долгое время был выключен из общественной жизни, выработки и принятия решений…
Некоторым ораторам не удавалось избежать самоотчетов. На такое выступление секретаря Московского горкома партии Белянинова зал реагировал раздраженными записками в президиум, а иной раз и далеко не поощрительными аплодисментами. В какой-то момент на трибуну «ворвался» московский рабочий со словами: «У меня не выступление, а, скорее, взрыв с места, потому что я не могу сидеть и наблюдать, как некоторыми выступающими буквально разбазаривается время…» И за две минуты изложил очень ценные предложения. Я его поддержал.
Истинное настроение большинства партийных функционеров проявилось во время «дуэли» двух писателей: Юрия Бондарева и Григория Бакланова. Оба выступления были встречены аплодисментами. Первое — одобрительными, второе — «обструктивными», вынуждавшими покинуть трибуну.
На консервативно-пессимистическую позицию Бондарева чуть позже отреагировал Святослав Федоров: «Когда товарищ Бондарев говорил, что мы взлетели и не знаем, куда сесть, он, может быть, и не знает, он писатель, а я, например, знаю. У нас цели ясны, и мы должны посадить свой самолет на прекрасный аэродром».
Во время выступления Бакланова мне пришлось дважды вмешаться, утихомиривая зал, терпеливо разъясняя, что демократия предполагает умение выслушать мнение каждого. То была высшая степень нетерпимости к иной позиции, идеологическая закомплексованность большей части делегатов. В заключительном слове я подчеркнул, что в пору гуманизации всех сторон нашей жизни важно учиться культуре критики, культуре полемики.
На конференции выявились первые признаки постепенно оформлявшейся правоконсервативной оппозиции. Об этом свидетельствовали напористые выступления ряда партийных функционеров. Не менее решительно высказывались радикально настроенные делегаты, в их числе Ельцин. В целом его выступление было направлено на поддержку перестроечных процессов по всем конкретным вопросам и, за исключением совмещения должностей, не носило конфронтационного характера. Особое внимание он уделил теме социальной справедливости, сделал акцент на привилегиях, заявив, что надо наконец ликвидировать продовольственные пайки для «голодающей номенклатуры», исключить и по существу и по форме слово «спец» (спецмагазины, спецполиклиники, спецсанатории и т. д.) из лексикона, так как «спецкоммунистов» у нас нет.
Эту тему потом Ельцин раскручивал вовсю. И вот парадокс, впрочем, не столь уж редкий в истории политики. В то время как мы с колоссальным трудом, преодолевая жесткое сопротивление номенклатуры, шаг за шагом ликвидировали необоснованные льготы, он сумел присвоить все лавры и создать себе имидж главного борца против привилегий. Въехав на этом коньке в большую политику и прорвавшись к власти, мгновенно позабыл свои гневные речи против «спецльгот», злоупотреблений, возможность учредить такие привилегии, какие и не снились коммунистической номенклатуре.
В конце Ельцин обратился к конференции с просьбой о своей «политической реабилитации». Поначалу зал неодобрительно загудел. Мне пришлось вмешаться и предложить дать ему высказаться, чтобы таким образом снять тайну со всей этой истории, о которой в партии ходили разноречивые слухи.
Выступление Лигачева было сердитым, тональность — консервативной, но зал встретил его одобрительно. Именно в этом выступлении прозвучали слова, ставшие крылатыми: «Борис, ты не прав».
По ходу конференции возник своеобразный водораздел между партийными работниками и представителями средств массовой информации. Критика в адрес газет и журналов, как правило, встречалась аплодисментами. В ряде выступлений прозвучали нотки ностальгии по старым, добрым временам, когда печать была тихой и ручной.
Бурно обсуждались проекты документов. (Комиссию по подготовке резолюций «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки», «О демократизации советского общества и реформе политической системы» возглавил я. Председателем Комиссии по подготовке проекта резолюции «О борьбе с бюрократизмом» избрали Лигачева, «О межнациональных отношениях» — Рыжкова, «О гласности» — Яковлева, «О правовой реформе» — Громыко.) И в комиссиях, и на конференции кипели страсти, особенно по вопросу разграничения функций между партийными и государственными органами.
Многие понимали, что речь идет фактически о передаче Советам реальной власти. Предусматривалось до конца года изменить структуру партийного аппарата, упразднив отраслевые отделы. Уже на осенней сессии Верховного Совета СССР рассмотреть комплекс вопросов, связанных с реорганизацией Советов. Рекомендовать в апреле 1989 года провести выборы народных депутатов СССР, а в конце года — Верховных Советов союзных и автономных республик.
В предложении совместить посты, выдвинув секретарей партийных комитетов председателями Советов, многие увидели «ход конем», направленный на сохранение главенствующей роли партийных секретарей. Мне пришлось дважды выступать по этому вопросу и в конце концов удалось убедить большинство делегатов. Речь ведь шла не о чем другом, как о намерении обеспечить по возможности спокойный, плавный переход от одной политической системы к другой. До сих пор спорят на эту тему, подозревают, что Горбачев пытался спасти партийную номенклатуру. Сущая ерунда! Не было у меня никаких других замыслов, кроме желания продвинуть политическую реформу. Опасения насчет того, как поведут себя партийные структуры, у меня были большие, и время показало их обоснованность. Но дело было сделано, и вернуть стрелки часов назад уже никто не мог.
Немало споров возникло при обсуждении резолюции «О гласности». Развернулась дискуссия о статусе газеты «Правда». Предлагалось ввести выборность редколлегии газеты и отчетность на съездах КПСС, считать «Правду» органом партии, а не только ЦК. Взвесив все «за» и «против», — а это была опасная затея, поскольку на том крутом повороте мы сразу могли оказаться в ситуации раскола, — конференция не приняла нововведений.
Нашла отражение в резолюции тема, звучавшая во многих выступлениях, — об ответственности прессы за публикацию недостоверных или задевающих честь и достоинство гражданина материалов. В то же время недвусмысленно было заявлено о недопустимости сдерживания критических выступлений средств массовой информации или преследований за критику. Предлагалось периодически публиковать в печати подробную информацию о всех доходах и расходах партии. Я такое предложение поддержал.
По ходу работы конференции неоднократно раздавались требования подробнее освещать деятельность высших органов партии. Аргументы приводились веские: чтобы исключить рецидивы культа личности, проникновения на ответственные посты перерожденцев, коммунисты должны знать, что происходит в Политбюро, каковы амбиции отдельных членов руководства. Просили, в частности, объяснить, как получилось, что на пост Генерального секретаря был избран смертельно больной не популярный в партии Черненко, «рассказать правду» о Гришине и Романове.
Оценивая итоги конференции, я сделал для себя вывод, что в КПСС нарастает дифференциация, сильно дает о себе знать критическое отношение к перестройке. Позже мы столкнулись, по сути дела, с прямым саботажем со стороны значительной части «секретарского корпуса» и партаппарата. Тем большее значение приобретали итоги конференции, как бы повышаясь со временем в цене. Она авторитетно закрепила курс реформ, «освятила» практически все выношенные нами идеи, узаконила график преобразований политической системы. Справедливо будет сказать: из XIX партконференции вышли все наши реформы.
Своей открытостью и свободомыслием конференция вызвала потрясение не только в стране, но и на Западе. Она показала, что отныне у нас голос народа — не пустой звук, его волей будет определяться выбор путей развития и формирование властных структур. Укрепился дух и поднялось настроение у всех искренних поборников демократических преобразований.
Сужу и по себе. Партконференция стала для меня своеобразной точкой отсчета. Появился как бы рубеж, который позволил говорить о том, что было «до» и что должно быть «после». В «до» остались колебания, боязнь оторваться от изживших свой век, но все еще не утративших ореола идеологических постулатов («Кумир поверженный — все Бог», это Лермонтов), отправиться в дальнее плавание с опасностью «бунта на борту». А в «после» следовало вложить огромные усилия, чтобы в полной мере использовать предоставленный конференцией редкостный в нашей истории шанс для настоящей реформы. Нельзя было терять ни дня, ни часа — время, нам отпущенное, было строго лимитировано.
«И пусть нам общим памятником будет…»
На двух заседаниях Политбюро (4 и 21 июля) обсуждались вопросы, связанные с реализацией решений партконференции.
Открывая заседание, я сказал, что мы допустим большую ошибку, если не обратим внимания на проявившееся на партконференции недовольство ходом экономической реформы, деятельностью министерств, положением в торговле, на транспорте и особенно продовольственным снабжением. Наша пропаганда помогла сформироваться в умах людей большим ожиданиям, а они не оправдываются. А какой накал вызывают в обществе очереди! Вся страна в очередях: в магазинах, ожидании автобуса, в различных конторах, за визами, справками. Люди убивают время, чтобы решить простой вопрос, измотаны, издерганы. И это перестройка! Отсюда вывод — самая активная работа должна быть сейчас направлена на развертывание радикальной экономической реформы и решение насущных вопросов жизни людей. В комплексе мер — продолжение работы по ликвидации привилегий в обслуживании номенклатуры.
Большой упор был сделан на правительственные ведомства, их неповоротливость и безответственность в решении этих проблем. Но тут возникла проблема взаимоотношений между отделами ЦК и Совмином. Я решительно поддержал Рыжкова в том, что надо отказаться от опеки советского аппарата со стороны отраслевых отделов партийных комитетов. Было решено до конца года реорганизовать партийный аппарат.
Крупный разговор развернулся по вопросам аграрной политики. Ни 1965, ни 1982 годы не дали решения сельскохозяйственной проблемы. Организационные меры, огромные средства, вкладываемые в сельское хозяйство, не принесли должной отдачи. Я выступил за новые подходы в аграрной политике.
— Нужны коренные экономические преобразования, и не только на заброшенных хуторах, в убыточных колхозах, а вообще в деревне. Пока не снимем все тормоза, ничего не будет. То, что Николай Иванович предлагает на отдаленное будущее, надо делать сейчас. Желает человек взять ферму в аренду — никто не имеет права отказать. Всякие «задания» по заготовкам допустимы только на добровольной основе, когда что-то предлагается взамен, то есть дело ведется экономически. Не приказ, а договор. Бюрократов к этому не подпускать. Думать, как быстрее двинуть аренду, индивидуальный труд. Пусть люди зарабатывают — в Нечерноземье, на Ставрополье, везде. Никонов все думает, что вопрос можно решить приказами сверху, одним выделением финансов и техники. А надо создавать атмосферу, в которой будет возможность действовать инициативно.
И еще — формировать общественное мнение, так как до сих пор на делового человека у нас смотрят как на рвача. В Китае людям просто дали землю, сказали: что хочешь, то и делай. И при всей их бедности за 4 года получили прибавку в 100 миллионов тонн зерна. Мы ничего не достигнем, если будем только горланить: надо, надо, надо! А вот наладим новые экономические отношения — и продукты появятся, и удовлетворение у крестьян, и людей столько не понадобится в сельском хозяйстве. План, который нам здесь представлен, не годится. С таким планом впору подавать в отставку. Обещать людям, что продовольственный достаток будет через 10–15 лет! Нет, надо за 2–3 года изменить формы труда на селе. Конечно, сельскому хозяйству, пищевой промышленности нужны машины, удобрения, ресурсы. Их надо находить, в том числе в оборонке. Мы услышали приговор народа на XIX партконференции — никто не может его игнорировать. В продовольственном вопросе у нас нарушена безопасность государства.
Перечитывая эти свои высказывания, укрепляюсь в мысли, что нельзя, ошибочно, если не преступно, мерить безопасность одной обороной да вылавливанием иностранных шпионов. История знает несчетное число примеров, когда вооруженные до зубов государства рушились из-за того, что народ, в особенности крестьянство, истощались поборами.
Реализации решений партконференции был посвящен специальный Пленум ЦК. При обсуждении доклада на Политбюро неожиданно возникла острая дискуссия в связи с резким выступлением Рыжкова в защиту органов управления, которые, как он сказал, «подавлены» прессой.
ГОРБАЧЕВ. Мы только начинаем реформы и продвигаемся недостаточно быстро. Общественное мнение еще не сформировалось, а потому бывают всплески, срывы. Но критику, в том числе в наш адрес, нельзя зажимать.
ЛИГАЧЕВ. Критику продолжать, но больше показывать позитивные изменения, что уже пошло в рост.
ВОРОТНИКОВ. Критиковать, но не унижать достоинства.
СОЛОМЕНЦЕВ. Развивать критику, бороться с бюрократизмом и без большого шума говорить о достижениях.
РЫЖКОВ. Я не против гласности, не был в числе тех, кто аплодировал удалению с трибуны Бакланова. Не против критики. Но против создания нездоровой атмосферы вокруг аппарата. Надо уже защищать органы управления.
Доклад на Пленуме (29 июля) я начал с напоминания, что на конференции прозвучало требование — не переминаться с ноги на ногу, а действовать решительно. Многих в партийных органах и управленческих структурах пугает проснувшаяся общественно-политическая активность. На словах они за перестройку — но с «карманной демократией»; за гласность — но с дозированной критикой; за обновление — но чтобы лично для них все оставалось по-старому. Механизм торможения хотя и надломлен, сохраняет силу.
В ходе дискуссии необходимость реорганизации партийных органов никто не оспаривал, вроде бы примирились с неотвратимым. Но у многих ощущалась тревога: не утрачивает ли партия своих позиций, не приходит ли конец ее руководящей роли? Вот ведь беда: по-прежнему в глазах партийных генералов эта роль отождествлялась с прямым командованием. Во многих выступлениях звучало настоятельное пожелание — при сокращении аппарата проявить заботу о кадрах. Пленум принял решение о реорганизации партаппарата в центре и на местах, образовал комиссию под председательством Генерального секретаря для подготовки предложений по реформе политической системы советского общества.
В докладе на этом Пленуме я высказался за подготовку предложений о разграничении компетенции Союза ССР и союзных республик. Хотя и с опозданием, но мы начинали серьезно браться за вопрос, который приобретет вскоре ключевое значение для судьбы союзного государства. Тогда же было решено обсудить на пленумах ЦК национальную политику и аграрный вопрос.
Заключил я Пленум так:
— Есть еще попытки подсчитывать, кто выиграл, кто проиграл от конференции. А по мне, пусть нам «общим памятником будет» выполнение ее резолюций.
Глава 13. Дела и раздумья
Что такое отпуск Генерального секретаря
1 августа я поехал в отпуск, как всегда, в Крым. Меня часто спрашивали: как я отдыхаю? Чем занят в свободное время? Попробую на примере лета 1988 года показать, что такое отпуск Генерального секретаря ЦК КПСС. Тем более он мало чем отличался от других во время моего пребывания на этом посту.
Летнее море в отличие от зимнего (вспоминаю январскую Пицунду) не очень-то располагает к работе. Жаркое солнце, благословенное море, — плавать я люблю, и долго, — возможность расслабиться, сбросить на время груз забот. Сидя на берегу, можно часами бездумно смотреть на водную гладь, слушать шелест волн, лениво процеживающих гальку.
Так день, два, а на третий уже возникает ощущение зря теряемого времени, тянет наверстать. И на этот раз я стал размышлять, что надо сделать в первую очередь.
Начал диктовать соображения по реорганизации партаппарата. Свои предложения к Пленуму по национальной политике послал Яковлеву, Слюнькову, Маслюкову, Разумовскому, Лукьянову, попросил их продолжить работу. Поручил Никонову, Маслюкову, Мураховскому, Марчуку и президенту ВАСХНИЛ А.Никонову представить концепцию Пленума по аграрной политике.
Но все это были текущие хлопоты. Расточительно тратить на них единственный месяц, когда ты не связан жестким распорядком, можешь отвлечься от частностей и, как говорят одесситы, «подумать за жизнь». По существу, на каждый очередной отпуск я заранее планировал какую-нибудь важную для себя мыслительную работу, требующую уединения и сосредоточения. В 1988 году актуальной темой было современное понимание социализма. Поскольку дискуссия на эту тему после конференции приобрела широкий характер, я задумал поначалу написать брошюру, но она так и не появилась. Однако небезынтересно вспомнить, как я тогда понимал эти проблемы. Вот выдержки из диктовки.
«Мне представляется, что сейчас эта брошюра нужнее, чем многое другое. Почему? Теперь перестройка разворачивается на многих направлениях. Вначале это был ряд последовательных шагов. Ввели гласность, приступили к демократизации общества, через эксперименты пришли к июньскому Пленуму ЦК, осознав необходимость радикальной экономической реформы. Остро встали проблемы нравственности. Иначе говоря, не все сразу было основательно, в комплексе, продумано. Реальная жизнь подводила к той или иной задаче, и мы брались за ее решение. Пытаясь найти корни явлений, характерных для застойной ситуации, возвращались в прошлое, анализировали его, извлекали уроки.
Это все были необходимые этапы, ибо если бы в апреле 1985 года мы поставили вопросы так, как поставили их на съезде, а потом на январском, июньском пленумах в 1987 году, февральском в 88-м и тем более на партконференции, — с нами бы не согласились, объявили прожектерами, просто изгнали бы из руководства.
В конечном счете, на основе проделанной многогранной работы, включив — с помощью гласности и демократизации, динамизации духовных процессов в обществе — весь народ в размышления о стране, ее прошлом, настоящем и будущем, мы смогли сформулировать, точнее сформировать теорию и политику перестройки.
Узловой ее пункт — вернуть человека как главное лицо в политический процесс, в экономику, в развитие духовной сферы общества. Продолжить и довести до конца работу, начатую революцией по преодолению отчуждения человека от средств производства, власти, культуры.
Примерный план брошюры представляется мне таким:
Первое. Проблема сопиалистичности. Сейчас, когда осуществляются крупные меры социально-экономического и политического характера, все чаще и острее возникает дискуссия в партии, да и в обществе, о социалистическом характере тех или иных наших решений, политических и экономических шагов. Внесение ясности в этот вопрос имеет актуальное значение. Не обойтись без «инвентаризации» политических представлений классиков марксизма-ленинизма, оценок опыта строительства социализма в СССР и других странах (хотя бы в принципиальном плане). Этот раздел надо завершить обобщением теоретических приобретений по этому вопросу уже в ходе перестройки.
Второе. Перестройка экономических отношений.
1. Преодоление отчуждения человека от собственности.
2. Демократизация производства. Реформа планирования и управления, кооперация и т. д.
3. Товарно-денежные отношения, рынок.
4. Децентрализация экономики.
5. Проблема социальной справедливости.
Третье. Демократия и социализм.
1. Реформа политической системы. Разделение властей, децентрализация власти, новая избирательная система, независимый суд.
2. Механизмы, обеспечивающие реализацию многообразных интересов населения в условиях однопартийной системы (гласность, свободные выборы, система контроля, критика и самокритика, новая роль общественных организаций и т. д.).
3. Правовое государство.
4. Демократизм многонационального государства.
Четвертое. Духовная сфера общества, перестройка на социалистических ценностях».
…Теперь я, умудренный опытом, существенно уточнил и дополнил бы план брошюры. Кто знает, может быть, достанет «пороху» все-таки вернуться к этому неосуществленному замыслу. Но в этом случае я расширил бы тему до «ориентиров развития в XXI веке». Один из итоговых выводов моей жизни в том, что будущее сложится из разных великих идей и сочетания соответствующих им общественных институтов — социалистических, демократических, либеральных и других с общим знаменателем — гуманизмом.
От теоретических размышлений то и дело отвлекала информация, поступавшая обильным потоком. Обеспокоили меня, не скрою, выступления Лигачева 5 августа в Горьком и 31-го — в Туле. Многое из сказанного там ставило под сомнение итоги партийной конференции, сильно отдавало доперестроечным догматизмом: по вопросам рынка, товарно-денежных отношений, характера собственности при социализме. Ну а относительно нового мышления высказывания звучали по-ли-гачевски непримиримо и категорично: «Мы исходим из классового характера международных отношений. Иная постановка вопроса лишь вносит сумятицу в сознание советских людей и наших друзей за рубежом».
На первый взгляд это был ответ министру иностранных дел, но целил Лигачев в генсека. А дело было так. В конце июля, буквально в канун Пленума, в МИДе состоялась научно-практическая конференция «XIX Всесоюзная конференция КПСС: внешняя политика и дипломатия». Выступая с докладом, Шеварднадзе заявил, что в свете концепции о приоритете общечеловеческих ценностей «иным содержанием наполняется философия мирного сосуществования как универсального принципа международных отношений. Новое мышление рассматривает его в контексте реалий ядерного века. Вполне обоснованно мы отказываемся видеть в нем специфическую форму классовой борьбы».
Надо сказать, доклад изобиловал идеями, по тем временам звучавшими радикально. И уж настоящей «крамолой» в глазах официальных идеологов стал тезис о том, что противоборство двух систем не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи.
На него и отреагировал Лигачев. Не остался в стороне от дискуссии Яковлев. Выступая 10 августа в Риге, он, без упоминания Лигачева, опроверг его суждения о роли рынка.
Мои опасения по поводу расхождений во взглядах среди членов руководства подтвердились, когда начались телефонные звонки. По поводу выступлений Шеварднадзе и Лигачева позвонили Чебриков, Лукьянов, Рыжков. «Доперестроечные» позиции Лигачева не остались незамеченными и на Западе. Посол США Мэтлок прояснял у наших международников «истинный смысл» выступления последнего в Горьком.
14—15 августа я продолжал диктовку записки о реорганизации партийного аппарата. С этим нельзя было медлить: начинались выборы в низовых звеньях партии. Как упоминалось в записке, еще на VIII съезде РКП(б) говорилось, что партия должна проводить свою линию «через Советы, умело, тактично, не так, чтобы наступать на ноги Совнаркому и другим учреждениям». Вот куда уходили истоки тех задач, которые пришлось решать в 1988-м. Мы как бы заново брались за то, что в условиях тоталитарного режима было прервано на десятилетия.
Я считал, что надо передать все функции непосредственного управления экономикой правительству. Кое в чем, однако, пришлось отступить — в частности, сохранить на переходном этапе, пока наберут силу Советы и правительственные органы, отделы аграрной политики и оборонный. Решено было создать правовой отдел, чтобы обеспечить надежный контроль за правоохранительными и силовыми министерствами.
Во время отпуска я задумал осуществить поездку в Красноярск. Экономическая конъюнктура складывалась неважно, росло недовольство медленными темпами преобразований, а на этом уже начали спекулировать радикалы, оседлавшие популизм для рывка к власти. Конечно, опасность популизма еще только проглядывала, но я ее чувствовал и считал долгом предостеречь людей. Показать им: часто то, что подается в привлекательных упаковках, обещания быстрых перемен рассчитаны на достижение совсем других целей. Серьезные проблемы не решить наскоком, волюнтаристскими методами. Мы знаем, к чему все это приводит.
Рабочие записи в крымском блокноте свидетельствуют о каждодневных разговорах с членами руководства.
В связи с публикациями в прессе по германо-советским отношениям накануне Второй мировой войны несколько разговоров было с Яковлевым. В частности, шла речь о статье Леонида Почивалова «Немцы и мы» в «Литературной газете», вызвавшей большой резонанс и у нас, и за рубежом, особенно в ГДР. Тогда же я порекомендовал Александру Николаевичу поехать в Латвию, и уже 13 августа он рассказал о результатах этой поездки. Потом состоялся разговор о просьбе Ярузельского по Катыни. Снова об обстановке в Прибалтике. В пометках есть пункт, касающийся моей просьбы побеседовать с Ю.Н.Афанасьевым, высказать ему наше мнение о том, что нельзя играть серьезными вещами.
Несколько раз звонил Разумовский, советовался по поводу подготовки документов к «политической осени». Рассказал, что на местах много неясностей по отчетно-выборной кампании в КПСС — надо дать в «Правде» ответы на них. Я согласился. В одном из разговоров Разумовский посетовал: «В Секретариате царит обстановка 30-летней давности».
С Рыжковым обсуждали вопрос о закупке зерна; он жаловался на одностороннюю позицию Лигачева и Никонова по проблемам АПК. Не преминул снова сказать о целесообразности оставить в ЦК только отделы общеполитического и общепартийного плана. Я согласился, что к этому мы придем. Но сейчас оборону и аграрную политику рискованно выводить из-под партийного контроля.
В это же время шла полным ходом подготовка к заседанию Комитета министров обороны государств Варшавского Договора в Праге и моему визиту на Кубу. Об этом мне пришлось не раз беседовать с Медведевым. Кроме того, я попросил его войти в контакт с экономистами, заняться подготовкой концепции по реформе ценообразования.
16 августа помечена беседа с Генеральным секретарем ЦК Компартии Чехословакии Милошем Якешем. Он поделился намерением создать комиссию с привлечением творческих сил, чтобы оживить работу ЦК, которая «очень забюрокрачена». Большая часть разговора была посвящена предстоящему совещанию в Праге.
Время отпуска быстро истекало…
Красноярские впечатления
5 сентября я вернулся в Москву, а 12-го отправился в Красноярский край. Удивительная поездка, давшая столько впечатлений! Везде: будь то затерявшаяся в предгорьях Саян деревушка Сизая или крупнейший в мире комбинат по выплавке цветных металлов в заполярном Норильске — интереснейшие встречи с людьми, на редкость откровенный разговор о жизни.
То, что я, едва вступив на красноярскую землю, услышал от жителей поселка Емельянове (во время короткой остановки на пути из аэропорта в Красноярск), оказалось, в сущности, общим мнением жителей края: «Перестройка нужна, но, к сожалению, начальство плохо перестраивается и все остается по-прежнему». В общем, с ходу я попал под обстрел, телевидение все это показывало, загудела не только страна, но и зарубежье: «Сибиряки, мол, устроили Горбачеву «баню».
Опять перекосы в планировании — гнали мощности, оставляя «на потом» социальную инфраструктуру. А что делать с этими мощностями без человека? Раньше многое делали за счет заключенных, теперь их численность значительно сократилась — другие времена. Местные власти всякий раз пасовали перед министерствами в социальных делах, и это обернулось тяжелейшими последствиями.
Во время беседы в филиале Сибирского отделения АН СССР я спросил первого заместителя председателя крайисполкома Абакумова:
— Как же так получилось? Чем занимался крайисполком?
— Мы сражались, — отшутился он.
— Как сражались, — продолжил я шутку, — если нет среди вас ни одного «погибшего»?
А когда в зале стихли оживление и смех, закончил:
— И ведь проиграли вы сражение полностью. Выход один — ставить вопрос ребром перед министерствами, вплоть до остановки производства. Если сейчас круто не повернемся к интересам человека, вложенные миллиарды пойдут по ветру.
Кстати, на той же встрече завязался у меня диалог о новых формах хозяйствования на селе с директором совхоза «Назаровский» Аркадием Филимоновичем Вепревым, человеком очень интересным и до крайности неудобным для местных властей. Не любили они его за то, что открыто говорил о бездарности руководства аграрным комплексом края. И на этот раз высказал свою точку зрения без обиняков:
— Что получается в Красноярском крае? Бурно развивается промышленность, причем строят, часто не зная зачем. Сельское хозяйство доведено до ручки. Таких совхозов, как наш, единицы. Но и они начинают хиреть, все валится. Ставили эти вопросы давно, а результат пока один — приклеили ярлык диссидентов.
Еще в бытность Косыгина Председателем Совета Министров СССР, кому-то в голову пришла идея разместить в южной части края комплекс предприятий энергетической, электротехнической, алюминиевой и других отраслей промышленности. Концентрация на маленьком пятачке более десятка заводов оказалась трудной для строительства и непродуманной с точки зрения заложенных там технологий. Это была авантюра, ибо требовалось огромное привлечение рабочей силы со стороны — все ведь делалось в малонаселенном районе. Вдобавок такая концентрация промышленности привела к огромной нагрузке на природную среду. Действовали как колонизаторы, изуродовали район. А какая там красотища! Кстати, у меня иногда возникал вопрос, и не только в Сибири: почему самые вредные производства стараются разместить в самых живописных природных уголках?
Беспрецедентный ущерб, наносимый природе, отразился и на судьбе малых народностей, веками считавших эту землю своей.
Вокруг Норильского комбината-гиганта практически была разрушена среда обитания аборигенов края. Растоптали не только землю, но и вековые устои жизни людей, превратив их в изгоев. На месте земли предков — мертвая зона, как после страшного стихийного бедствия. Поразительно — из прибыли комбината, составлявшей фантастическую по тем временам цифру миллиард сто миллионов рублей, не выделили десятка миллионов, чтобы обустроить жизнь малочисленньгх народов. И как было не понять выступление на встрече с трудящимися талантливого эвенкийского писателя Алитета Немтушкина: «Оставьте нам природу, без природы мы не выживем». Он даже обратился с просьбой создать по примеру США резервации для сохранения аборигенов и среды их обитания.
Да, не поездка, а головная боль. Все дни со мной был Олег Шенин, ставший недавно первым секретарем крайкома партии. На встрече с рабочими Надеждинского металлургического комбината в Норильске я затронул проблему аппарата управления. Сказал, что по стране он составляет 18 миллионов человек на 125–127 миллионов работающих. Из них 2,5 миллиона — в министерствах и ведомствах, остальные — на предприятиях. Некоторые из присутствовавших настроились весьма решительно на борьбу против чиновников. Когда я сказал, что один рабочий прислал мне письмо с предложением дать команду «Огонь по штабам!», послышались голоса: «Правильно!»
— Что же тут правильного? — спрашиваю. — Мы ведем перестройку и отвечаем за то, чтобы не расколоть страну на враждующие лагери, не сталкивать людей лбами. Известно и то, к чему «огонь по штабам» привел в Китае: 15 лет не могли разобраться в содеянном. Сегодняшние проблемы мы не можем решать методами 37-го года. Надо действовать через выборы, использовать гласность. Желание у всех одно: хочется побыстрее улучшить дело. Но надо делать так, чтобы не наломать дров.
Первый и самый общий вывод от поездки: люди меняются, укрепляются в перестроечных настроениях. И свою поддержку демонстрируют открыто. В Норильске генсека встречал весь город, народ молодой, открытый, настроенный наступательно. То, что еще недавно начальству сходило с рук, теперь подвергается критике.
Я теперь понял, почему письма идут не в крайком, а в ЦК. Люди ходят, обивают пороги контор, чиновники хамят, по пустяковым вопросам — волокита. В горкомах партии и в местных органах власти сидят божки. Какое может быть самочувствие у людей при виде всего этого? Норильск дает миллиардные прибыли государству, а в городе безобразное положение с коммунальным хозяйством, транспортом. В Кайеркане (рядом с Норильском) нет бани. И это на Севере! Что больше всего огорчало людей? То, что большинство местных кадров действуют так же, как три, пять, десять лет назад. С них, что называется, как с гуся вода. И не случайно в ходе выборов заменили тогда половину секретарей парторганизаций.
В те дни я услышал немало критических высказываний о продовольственном снабжении. А старожилы помнят минусинские яблоки, арбузы, помидоры, мед, сибирские калачи. В истории зафиксирован такой факт: на ввоз сибирского зерна в центральные районы устанавливались повышенные тарифы, ибо здешние земледельцы были весьма конкурентоспособными в центре России.
Было о чем подумать на обратном пути из Красноярска. Из головы не выходило: как же мы ведем дело, если в крае в два раза больше пашни на душу населения, чем по стране, а производят сельскохозяйственной продукции в три раза меньше? И народ бежит оттуда. Такая мощь — Сибирь, осваивать и осваивать! Но надо же наращивать производство сельхозпродуктов на месте. И почему на одно идут миллиарды, а на другое, без чего нельзя устроить жизнь, жалкие проценты?
Реорганизация аппарата ЦК
Перед поездкой в Сибирь обсуждалась моя записка о реорганизации партийного аппарата.
Члены Политбюро, занимавшие государственные посты, выступили за решительное освобождение аппарата ЦК от несвойственных функций (опеки обороны, внешней политики), а секретари (разве кроме Яковлева и Медведева) старались сохранить свои «наделы». Шло перераспределение власти в том же командном кругу. Мои планы уходили дальше — к политической реформе.
В деликатной форме я поставил вопрос о расстановке сил в руководстве в новой ситуации, намекнул, что готов внести предложения на этот счет. Записали: поручить Генеральному секретарю продумать вопрос о расстановке кадров в ЦК.
Я полагал, что кадровые изменения надо начинать с омоложения руководящего состава. Хотя при мне пришло много новых людей, все равно в ЦК преобладали люди почтенного возраста.
Кадровые перестановки — это драма и для перемещаемых, и по-человечески для генсека. Я решил лично переговорить с каждым, кого задевали перемещения. Почти все уходившие на пенсию достаточно хорошо понимали ситуацию, но их интересовала дальнейшая судьба, прежде всего материальная обеспеченность.
Что касается Громыко, в последнее время он очень сдал, подремывал на заседаниях. Все чаще отставал от течения жизни, высказывался невпопад, вызывая у других раздражение, иронические ухмылки. Это проявлялось и на заседаниях Президиума Верховного Совета.
По Демичеву вопрос созрел давно. В принципе его следовало решить еще моим предшественникам, но по непонятным причинам он автоматически «перекатывался» из одной команды в другую. Разговор у нас с ним был товарищеский: мы давно знали друг друга.
Еще одна фигура — Долгих. В связи с тем, что ни в комиссиях ЦК, ни в аппарате не оставалось вопросов, которыми он ранее занимался, я считал, что и он должен уйти на пенсию. Отдавая должное его профессиональным качествам, хочу сказать, что позиция Долгих в перестроечные годы всегда носила конформистский характер и скорее говорила о попытках адаптироваться к новым условиям, нежели о полной поддержке реформы. Мне представлялось нецелесообразным даже перемещение его на правительственные должности, да и «спроса» на него не было. Не подходил этот человек по своему стилю, менталитету для нового времени.
Уход на пенсию Соломенцева позволил пригласить на работу в Москву Бориса Карловича Пуго в качестве председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. В руководстве Прибалтика не была представлена, а из лидеров, которые там в то время были, мне он казался наиболее подходящим. Я знал его еще как секретаря ЦК ВЛКСМ. В своей республике он прошел, кажется, все ступени и в комсомоле, и в партии, и даже в госбезопасности. Человек цельный и порядочный.
Став кандидатом в члены Политбюро, Пуго неизменно занимал прогрессивную позицию. Да, он был требователен, любил порядок, но приверженностью к насильственным мерам не страдал.
Перемещение Воротникова на пост Председателя Президиума Верховного Совета Российской Федерации вытекало из решений конференции.
Не оставалось места в Секретариате ЦК для Бирюковой. Для своего времени Александра Павловна была женщиной смелой, толковой и деятельной. Воспитанница «Трехгорки», она пользовалась заслуженным авторитетом в профсоюзном движении. Вносились предложения рекомендовать ее председателем ВЦСПС, но в связи с тем, что в Политбюро не было никого из женщин, на XXVII съезде решили избрать ее секретарем ЦК. Теперь Бирюкова рекомендовалась на должность заместителя Председателя Совета Министров СССР по социально-культурным вопросам.
Лукьянова имелось в виду избрать первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР, освободив от обязанностей секретаря ЦК.
В связи с избранием Чебрикова секретарем ЦК встал вопрос о его преемнике. Не раз мне приходилось объяснять, как оказался Крючков на посту председателя КГБ. Были ведь другие кандидатуры в Комитете госбезопасности, и не только там. Тем не менее предпочтение я отдал ему. Почему? Исходя даже не из соображений профессионализма — профессионалы там были, наверное, и посильнее него. Здесь сыграло роль то, что Крючков многие годы был близким человеком Андропова.
Мое мнение по кандидатуре Крючкова поддержали Чебриков и особенно активно Яковлев. Они давнишние знакомые, и в тот момент особенно сблизились.
Реорганизация аппарата в ряде случаев заставляла делать выбор. К примеру, встал вопрос, кого поставить на международный отдел — Добрынина, Яковлева, Медведева? Тогда предпочтение я отдал Яковлеву как человеку, стоявшему ближе к новым функциям партии, и к тому же бывшему послу, руководителю ведущего академического института в области международных отношений. А на Медведева рассчитывал возложить руководство объединенным идеологическим отделом.
30 сентября на Пленуме ЦК я огласил заявление Громыко с просьбой об отставке с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР и члена Политбюро. Высказал теплые слова и добрые пожелания. Андрей Андреевич держался достойно. Сказал, что возраст — штука упрямая, с ним надо считаться. В некотором роде его своеобразным заветом на будущее стали слова о том, что он всегда верил в правоту марксистско-ленинской науки, считает перестройку единственно правильной политикой, обеспечиваемой идейным и политическим единством руководства. Незаурядный человек, сохранявший цельность и верность своему времени.
Пленум поддержал все предложенные мною кадровые перестановки. Слово с рекомендацией меня на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР произнес Лигачев, обосновывая это тем, что «и во внутреннем, и в международном плане Генеральный секретарь представляет наше государство». После шумной поддержки членов ЦК мне оставалось лишь поблагодарить всех и кратко сказать о своих намерениях.
В тот же день, 30 сентября, состоялось заседание Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, и, в связи с уходом на пенсию, Капитонова освободили от обязанностей председателя ЦРК.
1 октября состоялась внеочередная сессия Верховного Совета СССР. С прощальным словом выступил Громыко. Затем Зайков изложил предложение Пленума о Председателе. Постановили: «Избрать тов. Горбачева Михаила Сергеевича Председателем Президиума Верховного Совета СССР».
Вместо Демичева первым заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР по моему предложению был избран Лукьянов. Сессия утвердила ряд изменений в правительстве, в частности назначение Крючкова председателем Комитета государственной безопасности СССР.
Произведенная крупная перестановка вызвала серьезный резонанс у нас и за рубежом: что бы это значило? Лигачев возглавил комиссию по аграрной политике, и на том же направлении ему помогает Никонов. Яковлев выдвинут на международное направление, а Медведев вернулся в идеологию. Конечно, это не было простой рокировкой. Нужно было реагировать на ту часть общественного мнения, которая демонстрировала неприятие Лигачева в качестве куратора идеологической сферы. И на другую, тоже сильно себя проявившую, особенно в партии, — в неприязни к Яковлеву. Требовался маневр, который разрядил бы ситуацию.
Ставят иногда вопрос: а не надо ли было уже тогда распрощаться с Лигачевым? Такое решение сразу после конференции могло вызвать ненужное обострение ситуации накануне политической реформы. Да, часть общественного мнения не принимала Лигачева, считая его лидером правого крыла, по сути дела, скрытым противником перестройки. Но ни в одной демократической партии не может быть «одномыслия». Не забывал я и о том, что впереди у нас съезд, на котором и будет решаться судьба тех или иных течений. Словом, Лигачева надо было отодвинуть от идеологической работы, но сохранить в руководстве. Так и было сделано.
В новой структуре ЦК ослабла роль Секретариата, который, по существу, играл до этого роль «малого Совнаркома». Теперь за ним оставалось решение сугубо внутрипартийных вопросов. До меня доходили суждения, будто бы изменение роли Секретариата понадобилось Горбачеву для лишения власти Лигачева. Нет, на первом месте стояла задача изменить функции органа, дублировавшего функции и Политбюро, и правительства.
Работа все лечит
Чтобы не углубляться в обиды и не впадать в ипохондрию, надо, как говорят, не давать себе «передыху». По многолетнему опыту знаю: работа может вылечить все. Надо всех втягивать в дело, тогда и личные переживания отходят на второй план.
Написал это и вспомнил, что в моей политической карьере прослеживается интересная закономерность: в силу каких-то обстоятельств я всегда приходил на тот или иной пост в момент, когда меня не ждали. Да и для меня самого это часто бывало неожиданным. Вот некоторые тому подтверждения. В комсомол вступил я в феврале 1946 года. Меня избрали секретарем комсомольской организации Привольненской школы. Свою учебу пришлось продолжать в райцентре, в Красногвардейской средней школе. Она была сильной по составу преподавателей. Отлично помню комсомольское собрание осенью 1948 года. Битком набитый школьный зал — ведь поголовно все записывались в комсомол. Представитель райкома предлагает мою кандидатуру для избрания секретарем. Из зала голоса: «А кто такой Горбачев? Пусть встанет, поглядим». Встаю. «А-а-а!» Стал садиться, а в это время кто-то убрал стул. И я под общий хохот приземлился… на пол. Обычный школярский розыгрыш. Зато избрали тайно и практически единогласно.
В горком ВЛКСМ в Ставрополе я, можно сказать, свалился как снег на голову, меня мало знали. Тем не менее секретарем избрали. Неожиданно и для меня, и для них. А через 10 лет, вызвав прямо из отпуска, рекомендовали первым секретарем Ставропольского горкома, только теперь уже партии.
Но самое неожиданное — это избрание меня вторым секретарем крайкома партии, потом — первым. По критериям того времени слишком молод, каких-то 37–39 лет. Самый молодой в составе бюро и секретариата Ставропольского крайкома — и вдруг первый секретарь. Для всех это было неожиданным.
Тогда я подумал: надо незамедлительно задать темп работы, не читать мораль, не внимать стукачам, не выяснять, кто что сказал по моему адресу, а двигать дело. Оно захватывает. Все расставится по местам, и будет ясно, чего стоит каждый.
Начало положено
Пришла пора готовиться к Пленуму по политической реформе. 22 и 23 октября публикуются законопроекты об изменениях и дополнениях Конституции СССР и о выборах. На них обрушилась массированная критика со всех сторон. В тот момент в полном объеме проявилась идеологическая беспомощность партийной номенклатуры, ее неспособность разговаривать с людьми, вести спор с оппонентами. На площадях, где бушевали страсти, работники горкомов и райкомов просто боялись появляться. Выросшие в другой атмосфере, воспитанные в «инкубаторе», они панически боялись любой публичной дискуссии, открытого политического противостояния. И это выглядело особенно контрастно на фоне пропагандистской деятельности, развернутой демократами. Через 2–3 дня после публикации законопроектов, не ознакомившись с ними как следует, последние начали кампанию протеста. Действовали самоуверенно, даже нахально.
Юрий Афанасьев и его сторонники считали законопроекты просто камуфляжем, поскольку, мол, партия по-прежнему остается руководящим ядром системы. В этом духе трактовались соединение постов, выборы от общественных организаций. Проявлялось недовольство и в республиках, особенно в Прибалтике. Изменения в Конституции были восприняты там как еще большее усиление центра. Возникали и все более агрессивно действовали народные фронты. Усиливались сепаратистские настроения.
Все это вооружало аргументами противников реформ. И конечно, нервничал руководящий слой. Мои призывы учиться работать в условиях демократии, повторявшиеся от пленума к пленуму, оставались без внимания.
Листаю записи выступлений на заседаниях Политбюро — они полны беспокойства. Мы оказались неподготовленными к адекватному восприятию оппозиции, не знали, что это такое, как она действует. У нас ведь впервые появилась реальная оппозиция, причем радикального толка. И это уже повод для крика: «Караул, пожар, горим!» Получалось, открыв дорогу демократии, сами задыхались от мощного притока кислорода.
В прениях на Пленуме 28 ноября после моего доклада «О мерах по осуществлению политической реформы в области государственного строительства» ораторы били тревогу. Щербицкий отметил, что экстремистские националистические действия приобретают все более организованный характер. Фотеев (секретарь Чечено-Ингушского обкома партии) сказал, что сначала было «умиление перед гласностью», теперь же — растерянность. Мендыбаев (второй секретарь ЦК КП Казахстана) высказался за большую самостоятельность республик; затронув тему неформальных объединений, заявил, что нельзя проходить мимо антиобщественных высказываний и действий со стороны некоторых из них. Ректор МГУ академик Логунов сообщил, что на «комсомольской конференции в университете появилась фракция радикалов, их претензии были отвергнуты, но и представителя ЦК ВЛКСМ делегаты сняли с трибуны». Мироненко, первый секретарь ЦК комсомола, выразил мнение, что всем партийцам пора выбираться из окопов, ибо они отсиживаются, а жизнь идет мимо. Везиров, проработавший полгода первым секретарем ЦК КП Азербайджана, поставил вопрос ребром: «Если у нас речь идет о революции, то надо видеть и контрреволюцию».
Словом, тревожных констатации было предостаточно, и во многих отношениях для этого были серьезные основания. Но в целом Пленум не ударился в панику, скорее, звучали предостережения. Во всяком случае, предложенные нами преобразования практически без поправок получили «проходной» балл. Конечно, сыграло свою роль то, что они всецело соответствовали решениям конференции.
Заключая Пленум, я говорил о необходимости быть готовыми к работе и борьбе в новых условиях. На арену вышли самые различные силы, мы не можем считать всех подряд деструктивными. Главное — защитить перестройку — и от консерваторов, тормозящих демократический процесс, и от экстремистов и демагогов.
Над страной всходила заря новой демократической эры.
Думы мои, думы…
Заканчивался еще один год перестройки, насыщенный до предела работой и самыми разнообразными событиями, радостными и скорбными.
Помню, 9 декабря увидел в одной зарубежной газете крупный заголовок: «Горбачев: триумф и боль». Имелось в виду мое удачное выступление в ООН и жесточайшее по разрушительной силе землетрясение в Армении, происшедшее в тот же день, 7 декабря.
Время, к сожалению, шло значительно быстрее, чем задуманные нами реформы. Не давала покоя мысль: почему нет результатов, на которые рассчитывали, что задерживает, где резервы ускорения преобразований?
Жизнь обгоняла партию. Общество в целом оказалось более восприимчивым к новым идеям, чем «авангард». И чем больше нарастала активность народа, тем больше ощущалось это отставание. КПСС, в возможность обновления которой я все еще верил, на глазах теряла позиции. Наряду с растерянностью в партийных структурах уже в открытую проявлялось недовольство реформаторским центром.
О механизме торможения мы все время говорили, не упоминая партии. Наедине с собой я начал понимать, что он, этот механизм, — внутри нее, она не только отстает, но и сопротивляется изменениям, задевающим систему. А ведь именно партия была ее несущей конструкцией. Торможение шло в основном через аппарат — партийный, государственный, хозяйственный. А что такое аппарат — там ведь беспартийных было раз-два и обчелся. Покусившись на доселе незыблемые устои 18-миллионной рати чиновников, начав ее сокращение, я понимал, какой муравейник разворошил. Знал, что пощады от них не будет.
В борьбе с командно-административным режимом я рассчитывал на активность людей. Но и здесь не оставляло беспокойство. Нет-нет да и вспоминался один внешне не примечательный эпизод из красноярской поездки. В Норильске на улице пожилой человек сказал мне:
— Михаил Сергеевич, не хотелось бы говорить о мелочах — неудобно, но, к сожалению, приходится. Вот уже шесть лет, как насыпали вокруг нашего дома шлак с металлической стружкой, так все и осталось. Обувь режет, детей страшно во двор выпускать.
Вроде бы ничего особенного. Типичный случай. Но весь ужас в том и состоял, что типичный. Вот она система, во всем своем безобразии! Чтобы убрать территорию вокруг дома, надо челом бить Генеральному секретарю, высшему руководству страны, не меньше! Меня поразило и другое: граничащая с обреченностью беспомощность простого человека перед всемогущим чиновником. Сколько времени потребуется для обретения людьми внутренней свободы, достоинства? Без этого настоящей перестройке не бывать.
Норильчанину я посоветовал «основательнее трясти свое начальство, ибо без них, обыкновенных граждан, я никогда не смогу вытряхнуть бюрократов из удобных кресел». Но как скоро они созреют для гражданского поведения? Неужели покорное смирение навсегда поселилось в их душах? Нет, этого не может быть. Я был уверен, процесс демократизации разбудит народ.
После конференции мы почувствовали нарастание политической и социальной активности в обществе. Это прежде всего вылилось в возникновение сотен и тысяч неформальных групп, движений, по самым различным вопросам — с учетом специфики регионов.
Все более консолидировалась оппозиция. Консервативная, открыто заявившая о себе в марте. И радикальная, конструктивность которой, думаю, мы переоценили на ноябрьском Пленуме.
Как раз той осенью, в период обострения политической ситуации в стране, состоялось возвращение Ельцина к активной политической деятельности. После его ноябрьского выступления в Высшей комсомольской школе пошли интервью, широковещательные заявления с критикой законопроектов по Конституции и выборам. Он уже начинал примерять шапку лидера оппозиции и озвучивать громовым голосом и безапелляционным тоном разработки идеологов будущей Демроссии.
А 7 ноября я получил от него поздравительную телеграмму:
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Примите от меня поздравление с нашим Великим праздником — 77-й годовщиной Октябрьской революции! Веря в победу перестройки, желаю Вам силами руководимой Вами партии и всего народа полного осуществления в нашей стране того, о чем думал и мечтал Ленин.
Б. Ельцин
Иногда мне казалось, что значение перестройки лучше понимали за рубежом, чем в стране. Подтверждением тому явилась беспрецедентная по масштабам международная солидарность с жертвами землетрясения в Армении. Создавалось впечатление, что все страны наперегонки спешили помочь. Это было не только проявление человеческого сочувствия, но и акция политической воли.
И тут же поправлял себя, упрекая за несправедливость по отношению к соотечественникам. Разве все мои поездки не говорят, что наши люди горой за реформы. Их недовольство, все еще непреодоленная апатия идут от раздражения отсутствием на местах серьезных перемен. Значит, надо работать не покладая рук.
И я подгонял своих соратников, старался использовать все возможности «первого лица» по партийной и государственной линии, подстегивая отделы ЦК, аппарат Верховного Совета, Совмин, прессу… Вот строки из календарных записей конца 1988 года.
12 октября руководил совещанием в ЦК по вопросу арендного подряда. 24-го — встречался с молодежью Москвы и Подмосковья в связи с 70-летием ВЛКСМ. 4 ноября присутствовал на открытии в Москве первого инновационного коммерческого банка. 1 декабря беседовал с депутатами ВС СССР от Азербайджана и Армении по вопросу стабилизации обстановки в регионе. 7-го — выступал в ООН. 10-го — был в зоне землетрясения в Армении — Кировакане, Спитаке, проводил совещание в Ереване…
Стихия наложила трагический отпечаток на конец уходящего года. И все-таки я был оптимистом. Обращаясь к советскому народу по случаю нового, 1989 года, в частности, сказал: «Наступающий год не обещает быть и не будет беспроблемным. Серьезных дел и забот предстоит немало. Мы видим, что сегодня надо действовать с большей решительностью. Нельзя перехитрить жизнь, отсидеться на обочине. Мы не ждем и не обещаем «манны небесной», хорошо знаем, что груз нерешенных вопросов тяжел, дорога наша трудная. Но выбор сделан, курс перестройки проложен. Советские люди за перестройку, а это самая надежная гарантия того, что наш государственный корабль будет все увереннее набирать ход».
До первых свободных выборов народных депутатов СССР оставалось 85 дней.
Семья
Наша семья с переменами в моей политической карьере, а главное — в жизни страны, оказалась как бы в другой системе координат, потребовавших от нее немалого запаса прочности и моральной силы. Нелегко ей оказалось выстоять и выдержать все превратности и удары судьбы.
Сначала нам казалось, что, собственно, ничего сверхъестественного не произошло, нет необходимости ломать сложившийся семейный быт. Уже в первые дни говорили об этом и были согласны. У Раисы Максимовны есть чувство глубокой преданности семье, тому внутреннему миру, который нас связывает. «Мой дом, — как-то сказала она, — не просто моя крепость, а мой мир, моя галактика».
Систему человеческих отношений, укоренившуюся в московских верхах, мы так и не приняли, вернувшись в столицу в 1978 году. Наши представления на этот счет были другими. По крайней мере, понимание людских взаимоотношений не было отягощено мещанством, да и — допущу такое выражение — «московским провинциализмом». Я, конечно, имею в виду то окружение, среду, в которой оказались. В людях мы всегда ценили искренность, естественность, взаимную уважительность и способность понимать других.
Раиса Максимовна на своем опыте знала, что сослуживцы больше всего ценят товарищество и твое отношение к работе, как ты «тянешь лямку», выполняешь свои обязанности. А если надо выручать кого-то из коллег, тут не должно быть никаких исключений. Эти «нравственные максимы» передавались Ирине, впрочем, они целиком совпадали с собственными убеждениями дочери и зятя. У них была своя сверхзадача: стать профессионалами в своем деле. Тут, как известно, никакая протекция не поможет. Одно дело — получить должность, повышение, и совсем другое — стать квалифицированным специалистом. Так что настрой у них был хороший, здоровый. Мы это всячески приветствовали и еще хотели, чтобы, несмотря ни на что, они не прерывали занятия английским.
Все были согласны: ничего не менять, оставаться самими собой…
Ничего не менять? Жизнь, как всегда, не терпит схем. И в нашем случае новое житье-бытье семьи стало преподносить ежедневно новые вопросы и темы.
Мы продолжали жить на даче, которую заняли в 1981 году после моего избрания членом Политбюро ЦК. Избрание генсеком вызвало и здесь проблемы. Дело в том, что дача не позволяла разместить службы, связанные с обеспечением деятельности главы государства, каким де-факто являлся Генеральный секретарь ЦК КПСС. Читатель может спросить: но ведь были же дачи, на которых жили и работали Брежнев, Андропов, наконец, Черненко? Да, эти дачи никуда не исчезли, но в соответствии с решением Политбюро на них продолжали жить семьи умерших генсеков.
Чебриков предложил приспособить под резиденцию генсека одну из строящихся дач под деревней Раздоры. Внесли изменения в проект, включив «дом для расположения охраны», «узел стратегической связи», «вертолетную площадку», «помещение для транспорта и специальной техники». В главное здание добавили комнаты для приема гостей, проведения по необходимости заседаний Политбюро или совещаний, комнату для медперсонала. Переселилась семья на новую дачу через год — теперь там находится загородная резиденция Президента Российской Федерации.
Усилился контроль за медицинским и продовольственным обслуживанием, практически за всем, что поступало в семью и с кем она была связана. Словом, началась настоящая «жизнь под колпаком». А с другой стороны, нарастало внимание прессы. И это касалось не только меня, распространялось на Раису Максимовну, всех членов семьи. Часто мы собирались даже поздно ночью, чтобы накоротке обговорить возникшие срочные дела, события, впечатления. Не так легко оказалось оберегать свой дом для себя, открывать его дверь только для близких, сохранять очаг, чтобы он горел.
Уже в первые месяцы моего «генсекства» к Ирине и Анатолию стали поступать по месту работы обращения по разным вопросам от москвичей, приезжих, даже из-за рубежа. О злоупотреблениях местных властей, гонениях, преследовании за критику, с просьбами о помиловании, выделении жилья, помощи в лечении тяжелых болезней и многом другом. Появились «брошенные» мной жены, матери, дети. Потянулись и странные люди — с навязчивыми идеями, прожектами.
Ясно, что Ирина и Анатолий не имели никаких прав для того, чтобы решать проблемы. И чтобы откликнуться на обращения, советовали людям куда пойти, а в крайних случаях, когда дело не терпит, звонили в общий отдел ЦК и помогали встретиться с теми, кто может что-то сделать.
Все больше забот у нас к этому времени было о стареющих родителях. Моя мать, продолжавшая жить в Привольном, постоянно болела. Здоровье родителей Раисы Максимовны, живших в Краснодаре, тоже стало ухудшаться. Сказывались годы, то, что пришлось вынести их поколению. В июне 1986 года нас постигло тяжелое горе — умер отец Раисы Максимовны.
Максим Андреевич был человеком на редкость добрым, мягким, работящим и жизнелюбивым. Даже уйдя на пенсию, не захотел по примеру других просиживать днями на скамейке, «забивать козла» да судачить. Нашел посильную работу и каждый день шел делать дело — не важно какое. Неожиданно и для него, и для всех нас сдало сердце. Его поместили в кремлевскую больницу, поставили стимулятор сердечной деятельности, самочувствие Максима Андреевича улучшилось. Поправляясь, он сказал Раисе Максимовне: «Спасибо тебе, доченька, ты вновь подарила мне жизнь». Кажется, все образовалось, а вскоре его не стало: возвращался с прогулки и скоропостижно скончался на пороге дома. На похороны отца съехались все близкие.
В Краснодаре, где закончилась долгая трудовая жизнь Максима Андреевича Титаренко, покоится его прах. Спустя несколько месяцев по просьбе Раисы Максимовны над могилой соорудили надгробье. Добросердечные люди ухаживают за ней, и мы им за это безмерно благодарны.
Пришла беда — отворяй ворота: в августе 1986 года скончался отец Анатолия, наш с Раисой Максимовной ровесник. Погубил рак головного мозга. Самая квалифицированная помощь — академика-нейрохирурга Александра Коновалова — не помогла.
1987 год для семьи ознаменовался несколькими событиями. В январе исполнилось 30 лет Ирине. В марте она родила еще одну внучку, а в сентябре Ксения пошла в школу. Вот несколько ее суждений из дневниковых записей Раисы Максимовны:
«Михаил Сергеевич едет в Варшаву на продление договора. Ксюша, провожая его, просит: «Дедуля, сходи на могилу Анны Герман — обязательно».
«Дедуля, а кто ты в Кремле?»
«Рассказывает о занятиях хореографией: «Представляете, говорят: уберите живот, уберите попу. Живот можно убрать, а попу?»
«Бабушка Маруся и бабушка Шура долго будут у нас в гостях?» — «А что?» — «Когда у меня будет ребеночек, где же он будет за столом сидеть?»
Все же главное событие года — рождение второй внучки. Ирина хотела мальчика, думала назвать его Михаилом, но родилась девочка. Назвали ее Анастасией. Маленький удивительный человечек, принесший столько счастья.
1988,1989,1990 годы. События шли чередом — печальные и радостные, сменяя друг друга, как и в каждой семье. К этому ежедневно и ежечасно — хотели бы мы или нет — добавлялось то, что было связано с особым моим положением. Мои переживания, тревоги и заботы легли и на семью, близко воспринимавшую все происходящее и со мной, и со страной.
Жена генсека
Ничего не менять? Многое пришлось все же менять, делать то, чего раньше не приходилось делать. Прежде всего это касалось нас с Раисой Максимовной. Сами-то мы оставались теми же — людьми с уже сложившимися взглядами, отношениями между собой, стилем жизни. К 1985 году наш супружеский стаж составлял 31 год. Каждый из нас в студенческие годы сделал свой выбор, и этим определялось все. Нас связывали прежде всего супружеские отношения, но также и общие взгляды на жизнь. Оба исповедовали принцип равенства. Жили общими заботами, помогали друг другу всегда и во всем. Конечно, я не читал за Раису Максимовну лекции по философии, как и она не делала мою работу. Но мы знали, как обстоят дела друг у друга, радовались успехам и переживали неудачи каждого, как свои.
Жизнь наша оказалась отнюдь не легкой, но содержательной и интересной, выводила на широкие и разнообразные контакты с людьми. Приехав в Москву и столкнувшись «в верхах» с другим миропониманием, во многом чуждым нам, мы не стали подстраиваться, ломать себя, благо, столица способна и принять, и предоставить возможности для реализации разных человеческих привязанностей, потребностей. И мы чувствовали себя в московском климате совсем неплохо. Вот в таком виде, с таким взглядом на вещи «чета Горбачевых» предстала перед собственной страной и миром.
Мнение Раисы Максимовны в связи с избранием меня генсеком было определенным — она считала своим долгом, чем может, поддержать меня. Нам казалось это не только вполне естественным, но и необходимым. В тот переломный для нас момент надо было следовать нашему жизненному правилу — быть вместе.
Но появление генсека и его жены на людях вызвало в обществе резонанс, не меньший, чем политика перестройки.
А ведь по существу ничего сверхординарного не произошло. Все было просто и обыденно: рядом с генсеком в его поездках по стране, за рубеж, в протокольных мероприятиях, на всякого рода торжествах, наконец, на спектакле в каком-то театре или на художественной выставке была его жена. С позиции здравого смысла все выглядит вполне естественно. Но в нашем обществе это воспринималось как потрясение. И в хорошем, и в плохом смысле.
В ЦК шло много писем — огромное большинство с похвалой и поддержкой. Но были и такие, в которых выражалось недоумение, а то и возмущение появлением рядом со мной в разных случаях, в том числе в поездках, Раисы Максимовны: «Она что, член Политбюро?!» Самый простой ответ: «Да нет, жена!» Но как объяснить это людям, воспитанным в традициях домостроя и «борьбы с семейственностью»? Даже в моем окружении кое-кто кривился, хотя и приходилось терпеть. А некоторые, имевшие отношение к СМИ, советовали ограничить до предела, еще лучше снять полностью (в интересах, конечно, самого генсека) информацию, которая касалась его супруги.
Почуяв запах жареного, нажали на этот пункт западные центры психологической войны, чтобы дискредитировать советского лидера. Зарубежные радиоцентры заговорили о том, какие трудности Горбачеву создают попытки его супруги играть самостоятельную роль. Затем был запущен слух, что по Москве гуляет снятый скрытой камерой фильм о похождениях и пристрастиях жены генсека. К этой грязной возне подключились политические подонки в Москве, на Урале, в Сибири. В замыслы организаторов травли входило разжечь низменные чувства, вызвать неприятие перемен, недоверие к генсеку и его реформам.
Я видел переживания Раисы Максимовны по поводу этой напраслины, но советовал ей не обращать внимания. Она мужественно выдерживала нагрузки, несла «свой крест» и очень много сделала, чтобы поддержать меня в эти невероятно трудные годы. И не была просто статистом, тенью президента. Напротив, где было возможно, тактично делала то, на что у меня и времени бы не хватило, да я и не смог бы сделать это, как она.
В моих поездках по стране много времени занимали встречи и беседы с населением. Раиса Максимовна в них участвовала, а остальное время использовала по собственной программе. Хотя для нее всегда были интересны достопримечательности, памятники культуры, истории, предпочтение все-таки отдавалось знакомству с тем, как живут люди. Почти во всех поездках она бывала в семьях рабочих и домах крестьян, новых и старых микрорайонах, знакомилась с тем, как работают медицинские учреждения, службы быта, магазины, как выглядят городские и сельские рынки. Тут сказывались и природная любознательность, и профессиональный интерес социолога — ибо все годы своей работы она сочетала преподавание в вузе с исследованиями условий жизни людей. И диссертацию свою посвятила семейным и бытовым отношениям крестьянства.
Одной из тем, привлекавшей наибольшее внимание Раисы Максимовны, было положение женщины в обществе. На Украине, в Прибалтике, Узбекистане, Мурманске и других городах у нее было много встреч с женскими комитетами и организациями, по результатам которых потом нередко приходилось давать поручения. Профессиональная подготовка и жизненный опыт позволяли ей не просто передать мне реестр фактов и впечатлений, но и поделиться своими раздумьями, а часто предложить какие-то конкретные меры. В этом смысле она была незаменимым для меня «советником на общественных началах». Люди это видели, ценили.
Особое место в ее общественной деятельности занимал Советский Фонд культуры, родившийся в первые годы перестройки. Идея его создания принадлежала Яковлеву. Поддержав ее, я посоветовал обратиться к самым авторитетным нашим ученым, писателям, художникам, даже назвал некоторые имена. Яковлев же полагал, что успеху начинания в решающей мере будет способствовать, если Фонд возглавит Раиса Максимовна. Я пообещал с ней переговорить, она решительно отказалась, выразив в то же время готовность активно работать в нем на общественных началах.
Фонд родился. Выбор в качестве его председателя академика Лихачева, участие жены генсека, многих известных деятелей культуры придали ему высокий общественный статуй. Раиса Максимовна знала Дмитрия Сергеевича как специалиста по древнерусской литературе, имела с ним переписку и горячо ратовала за то, чтобы пригласить его возглавить Фонд.
Фонд начал набирать силу, оказывать благотворное влияние на развитие культуры в стране, на расширение связей с зарубежными культурными центрами. Его девизом стало: «Хранить, осваивать, приумножать, через культуру гуманизировать отношения между людьми». Под его эгидой родились многочисленные целевые программы: «Краеведческие уникальные исторические территории», «Возвращение забытых имен», «Великий шелковый путь», «Новые имена», «Сохранение и развитие культуры малочисленных народов» и, наконец, «Через культуру — к здоровью и милосердию».
Много сил, души вложила в деятельность Фонда Раиса Максимовна. Всячески поддерживала Лихачева. Ну а после августовского путча он вдруг бросился к президенту России и предложил перевести СФК под юрисдикцию РСФСР и создать на его базе Фонд культуры России. Кстати, второй, ибо существовал Всероссийский фонд культуры. Это делалось в то время, когда страна особенно нуждалась в сохранении целостности культурного пространства. Мы никак не могли понять, что движет академиком. И только недавно, читая его интервью «Комсомольской правде», нашли ответ в его словах о том, что «поэт должен быть возле трона». Удивительно! Казалось бы, что все то, что он делал и о чем говорил до сих пор, вся наша история свидетельствуют, что поэтам, и не только поэтам, надо всегда быть со своим народом. А тут — трон.
С особым чувством Раиса Максимовна занималась созданием Фонда Рерихов в Москве. Мы встречались со Святославом Николаевичем и его женой Девикой, племянницей Рабиндраната Тагора. Говорили о наших странах, близости их народов, не обошлось без обсуждения философских вопросов. Было приятно, что выдающийся наш соотечественник пристально следит за происходящими в Советском Союзе переменами, горячо их приветствует. Теперь уже нет в живых наших добрых друзей, они навсегда остались в наших сердцах.
Фонду культуры принадлежит честь возвращения в нашу жизнь понятия благотворительности. Много сделала для этого и Раиса Максимовна. Предметом ее особого внимания стала Центральная республиканская детская больница, где излечение проходят дети с тяжелыми заболеваниями со всех регионов страны.
После посещения Чернобыля, пораженных радиацией районов Белоруссии Раиса Максимовна вошла в правление созданной у нас ассоциации «Гематологи мира — детям», цель которой — лечение детей, страдающих лейкозом. Цитирую профессора Александра Румянцева: «Три года назад, когда еще существовал Союз, я написал письмо супруге президента Раисе Максимовне Горбачевой. В нем я поделился своими мыслями о положении в детской гематологии, о катастрофе в этой области медицины и предложил конкретный план… Через три дня я был приглашен к Раисе Максимовне. Состоялся откровенный разговор… В декабре поступил первый взнос. Он составлял 100 тысяч долларов». Это были мои гонорары, о которых сообщил ВААП. Положено было начало.
Потом, когда я уже оставил пост президента, мы с Раисой Максимовной не порывали с теми, с кем начали гуманное дело огромного значения. Через Фонд Горбачева вошли в контакт с гражданами многих стран, попросили их о помощи ради детей. Откликнулась общественность США, Германии, Австрии, Канады, Голландии и других стран. Результат — в начале 93-го в Москве открылось отделение трансплантации костного мозга, теперь здесь излечивают до 70 процентов детей, больных лейкозом.
Как я уже сказал, Раису Максимовну занимала женская проблематика. Она встречалась с сотрудниками редакций журналов «Работница» и «Крестьянка». Принимала участие в международных встречах женщин, в том числе в Московском конгрессе. Была в контакте с Зоей Пуховой, Галиной Семеновой, с директором Пушкинского музея Ириной Антоновой, Натальей Сац, Еленой Романовой, Ольгой Лепешинской, Нани Брегвадзе, учеными-академиками Натальей. Бехтеревой и Любовью Малой, доктором медицинских наук Мариной Рахмановой, режиссером Галиной Волчек и другими. И сейчас хранит десятки папок с письмами к ней, собирается обо всем этом написать. Когда это будет — не знаю.
Положение жены главы партии и государства обязывало проводить государственные приемы, посвященные Международному женскому дню. Раиса Максимовна постаралась, чтобы это были настоящие праздники для приглашенных женщин: с концертами, выставками, интересными встречами.
Много времени у Раисы Максимовны занимали протокольные дела, участие в приеме зарубежных руководителей. Нужно было осовременить наш протокол, который нес на себе налет старых традиций. Занимался этим, конечно, МИД, но и здесь ее наблюдения оказались полезными. С большой ответственностью Раиса Максимовна стремилась представлять свою страну, сопровождая меня в официальных визитах в различные страны за рубежом. Для нее, как и для меня, на первом месте было стремление с достоинством нести миссию, которую судьба на нас возложила.
Поэтому мы с удивлением, а то и возмущением, несогласием воспринимали всякие домыслы по поводу наших отношений, поступков, образа жизни. Для кого-то было странным и удивительным, что мы были вместе. Но так было всю нашу жизнь. У кого-то вызывали нездоровую черную зависть наша судьба, активность, даже внешний облик. Но такими нас «слепила» природа. Кому-то казалось, что наша жизнь — это чуть ли не сказка, сплошные наслаждения. А это был тяжкий, но счастливый труд, ибо нас вдохновляли высокие цели.
Осенью 94-го исполнился 41 год нашей свадьбы. Это совпало с драматическим развитием событий в России. Время не располагало к празднеству. Посидели, поговорили. И вспомнили, как после свадьбы мы встречали новый, 1954 год в Колонном зале. Гремела музыка. Нам так было хорошо, что ничего и никого вокруг не замечали. В какой-то момент нас так увлек вальс, что мы и не заметили, как остались одни. Да, грустно — годы уходят.
Глава 14. Политическая реформа
Выборы
Если попытаться коротко охарактеризовать смысл политической реформы, как она была задумана и проведена, то можно сказать, что это — передача власти из рук монопольно владевшей ею коммунистической партии в руки тех, кому она должна была принадлежать по Конституции, — Советам через свободные выборы народных депутатов. И вполне понятно, что успех или неудача реформы, особенно на ранних ее этапах, всецело зависели от отношения к ней самой КПСС, которая, по существу, должна была добровольно расстаться с собственной диктатурой. Это была дьявольски сложная политическая операция, болезненная и особенно тяжелая, можно сказать, со «смертельным исходом» для слоя партийной номенклатуры. «Отречение от престола» грозило ей постепенной утратой привилегий, которыми она пользовалась, переходом из разряда сильных мира сего в разряд обычных граждан.
Вполне понятно, что партийно-государственная бюрократия должна была встретить это нововведение в штыки. А поскольку в то время в ее распоряжении все еще оставались основные рычаги власти, было только два средства обеспечить успех реформы. Организовать мощное давление на партийно-государственную бюрократию со стороны большинства общества, решительно настроенного на радикальные перемены. А с другой стороны, ослабить сопротивление верхушечного слоя тактическими маневрами, отсекая наиболее консервативную его часть, втягивая в преобразование людей, способных мыслить по-новому. Без политического маневрирования могущественная бюрократия, формировавшаяся в рамках тоталитарной системы, никогда не позволила бы отобрать у себя власть.
Я хочу привлечь внимание читателей к этому обстоятельству, потому что именно оно было предметом частой и безжалостной критики по моему адресу со стороны демократов. Да и не только демократов, но и ближайшего моего окружения. Уж как меня ни укоряли, что я якобы остаюсь в глубине души партократом, не могу вырвать из сердца привязанности к людям из партноменклатуры, среди которых провел многие годы своей сознательной жизни, не в состоянии избавиться от присущих им стереотипов мышления. Сам я это оцениваю по-другому. Причина недостаточно быстрых кадровых решений в ряде случаев кроется в моем стремлении избежать «открытого бунта на корабле», который мог привести к поражению политической реформы уже на ранних ее этапах.
Пожалуй, вся эта материя нагляднее всего обнаруживалась в эпизоде с так называемой партийной сотней. И тогда, и сейчас я убежден в правильности того, что на 100 мест от КПСС были выдвинуты ровно 100 кандидатов. Нельзя было допустить, чтобы оказались забаллотированными некоторые члены тогдашнего партийного руководства. Это сразу перевело бы их в стан скрытых или открытых противников преобразований, могло серьезно осложнить обстановку. Не меньшие негативные последствия имело бы неизбрание в депутаты включенных в список для голосования Чингиза Айтматова, Святослава Федорова и других представителей творческой интеллигенции, активно поддерживавших перестройку.
Наша оценка показала, что, если бы в кандидатский список были внесены, скажем, 103–105 фамилий, наибольшее число «черных шаров» получили бы Лигачев, Ульянов и Яковлев. Будь список увеличен на 10 кандидатов, не прошло бы большинство членов Политбюро — Слюньков, Никонов, Медведев, Зайков, Примаков, а вместе с ними известные писатели — Чингиз Айтматов, Даниил Гранин. А дальше имели шансы остаться за бортом и Генеральный секретарь с Председателем Совета Министров СССР.
Кстати, каждому из них не стоило большого труда подобрать себе место, где ему было обеспечено доброжелательное отношение избирателей. Но это шло бы вразрез с замыслом, согласно которому партию как общественную организацию должны были представлять те самые 100 депутатов, избранные по партийному списку. Признаюсь, вначале и я сам колебался — как поступить? Но по размышлении пришел к выводу, что генсек должен идти в парламент не в личном качестве, а именно как руководитель партии.
И еще. Процедура выборов на январском Пленуме ЦК (1989 г.) не исключала возможности отвести или забаллотировать того или иного кандидата. Так что демократические принципы вовсе не были в данном случае попраны.
Раз уж речь пошла о «красной сотне», как ехидно окрестили ее в некоторых демократических изданиях, не могу обойти вопроса о прямом представительстве общественных организаций в парламенте, тем более что он долгое время был притчей во языцех. Критика, порой резкая, на этот счет шла оттого, что наши оппоненты не давали себе труда по-настоящему подумать над мотивами этого решения. Я же считал тогда его необходимым и остаюсь при этом мнении сейчас.
Разумеется, с точки зрения формальной «корпоративное представительство» по заранее выделенным квотам небезупречно. Депутатские мандаты в данном случае не проходят апробации народного волеизъявления. Но следует иметь в виду, что таким образом получила свои мандаты лишь сравнительно небольшая часть депутатского корпуса. Да и метод этот с самого начала задумывалось использовать в разовом порядке. Позднее соответствующая формула была откорректирована в Конституции.
Так что о каких-либо нарушениях демократических принципов говорить не приходится. Зато какие важные задачи удалось решить таким способом. Ведь надо отдавать себе отчет, что при том уровне политической культуры и всесилии номенклатурных кадров, которые существовали в то время, многие активные сторонники перестройки, особенно из числа научной и творческой интеллигенции, имели мало шансов быть избранными. Значит, парламенту нового созыва грозило оказаться не впереди, а позади быстро прогрессирующих политических воззрений общества, стать не тягачом, а тормозом реформ. Прямое представительство общественных организаций позволило ввести в депутатский корпус сравнительно небольшую, но чрезвычайно важную для становления будущего парламента группу влиятельных демократических деятелей, прошедших через списки профсоюзов, комсомола, женских организаций, творческих союзов и научных ассоциаций. Для наглядности приведу один пример. Едва ли нужно говорить о том, какую роль сыграл на съездах народных депутатов академик Сахаров. А избран он был от научных ассоциаций. Там же получили депутатские мандаты некоторые другие видные ученые, не прошедшие по основному списку Академии наук.
Помимо этого главного обстоятельства квоты для общественных организаций имели и другой важный смысл. В условиях, когда мы еще не подступали даже к формированию многопартийной системы, эта мера позволяла до некоторой степени «структурировать» будущий парламент. Конечно, депутатские группы общественных организаций не могли заменить партийные фракции, но на первых порах с ними связывались голос, настроение, воля того или иного социального слоя. Ну а с формированием Межрегиональной группы начали образовываться и зародыши будущих партий, вступающих в соперничество с КПСС.
Уже ход избирательной кампании показал, что мы оказались в совершенно незнакомой обстановке. Шла жесткая борьба за средства массовой информации, в особенности — за время в телевизионных программах. Развернулась острая, временами выходящая за грань приличия полемика в печати, на встречах с избирателями. Наружу выплыло и много горького, и много ранее неизвестного. У некоторых членов руководства все это вызывало раздражение и тревогу, панические настроения. Я же радовался, что нам удалось разбудить общество, сделать то, чего мы добивались все предшествующие годы перестройки, — включить народ в политику. Свободные выборы открыли много новых интересных людей, прояснили позиции социальных слоев, о которых, оказалось, у нас были весьма превратные представления.
Парадокс заключался в том, что среди депутатов оказалось 85 процентов членов КПСС (в старом составе Верховного Совета — примерно половина), а ее верхний, руководящий слой воспринял итоги выборов как поражение партии. То обстоятельство, что избиратели «посмели» отдать предпочтение «кому-то», забаллотировав таких деятелей, как, скажем, первый секретарь Ленинградского обкома, кандидат в члены Политбюро Ю. Соловьев, привело некоторых в состояние шока, воспринималось как конец света. Правящая элита настолько «приросла» к руководящим креслам, так была самоуверенна, что не допускала отрицательного для себя исхода голосования.
По завершении выборов мы собрались на заседание Политбюро (28 марта 1989 г.). Настроение у большинства было угнетенное, в воздухе висело — провал. Я оценил выборы как крупнейший шаг в осуществлении политической реформы, которую мы предопределили своими решениями. Через выборы общество выходит на новый уровень, устраняется разрыв между конституционными нормами и политической практикой. Власть приобретает в полной мере легитимный характер — это само по себе огромное достижение.
Говоря все это, я чувствовал, что далеко не все мои коллеги согласны с такой оценкой. Некоторые были настолько «заведены», что не могли себя сдержать по ходу моего выступления. В спокойном тоне я сделал замечание: «Если кому-то тяжело здесь находиться, можно и выйти». Не скажу, чтобы наступила гробовая тишина, но собрание сразу успокоилось. Партийная дисциплина взяла свое, хотя многие сидели хмурые.
Я продолжил свой анализ, отметив, что выборы прошли для партии успешней, с меньшими потерями там, где люди ощутили реальные плоды перестройки. На Северном Кавказе, Ставрополье, в центральночерноземных областях до 90 процентов голосовавших поддержали кандидатов, выдвинутых местными партийными органами. Сказалось и отношение к лидерам. Тем, кто пользуется уважением за внимание к нуждам людей, нетерпимость к негативным явлениям, избрание было обеспечено.
Общая же картина непростая. По итогам выборов мы должны оценить деятельность партийных и хозяйственных кадров. Особенно в Москве и Ленинграде, где мы столкнулись с неудовлетворенностью населения тем, как идет перестройка, решаются жизненные проблемы. Это серьезный сигнал для правительства и ЦК, не говоря уже о горкомах и райкомах.
Мы не имеем права отвергать с порога критику, которая раздавалась по адресу руководства в ходе избирательной кампании. Она ведь во многом справедлива. Тяжелое положение в экономике в немалой мере вызвано огромными расходами, которых требует ликвидация последствий аварии Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, затеянной не нами авантюры в Афганистане. А также и тем, что мы не сумели выбрать оптимальную экономическую политику, усугубили ситуацию на рынке, в финансовой сфере и только теперь начали во всем этом разбираться.
У людей плохое настроение не из-за происков «Огонька», «Московских новостей» или Ельцина. Многое могло бы выглядеть по-другому, если бы партийные и властные структуры на деле перестраивались, были ближе к людям, внимательней к их нуждам. На всех направлениях мы отстали, народ нас опережает, партии приходится оправдываться только тем, что она все начала.
Положение партии тогда не было безнадежным. Были и возможности, и запас времени, чтобы преодолеть психологический шок от расставания с незыблемой монополией власти. Добиться поддержки народа уже не ссылками на Октябрьскую революцию и Отечественную войну, а эффективной политикой, гарантирующей демократию, гражданские права, высокий уровень и качество жизни. Я верил, что такое преображение КПСС возможно. А как были настроены мои товарищи по партийному руководству, что их больше заботило?
«РЫЖКОВ. В Москве не из-за дефицита мяса Ельцину отдали 90 процентов голосов — мясо в столице есть. Мы получили страшное наследство, но и сами допустили ошибки. Ничто не потеряно, у нас сильная партия, сильное государство… Обращаю внимание членов Политбюро, что газеты ЦК выступают против ЦК.
ВОРОТНИКОВ. Не дать поколебаться тем из актива, кто не избран, чтобы они не почувствовали, что к ним изменилось отношение. Закон о выборах требует исправления. На местах также возмущены поведением средств массовой информации, которые формируют негативное отношение к партийным кадрам. Не прошли 14 командующих военными округами.
ЩЕРБИЦКИЙ. Рассмотреть в партийном порядке тех членов КПСС, кто в ходе избирательной кампании занимал антипартийные позиции.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Надо приветствовать всех избранных. От прошлого отмежевываться. Без этого не спасти авторитет партии. Выборы проходили на переходном этапе. Народ еще не получил материальных плодов перестройки, а то, что завоевано в области других ценностей, воспринимается неоднозначно. Мы не сумели использовать то, что завоевано в ходе перестройки, в частности достижения во внешней политике. Беспокоят выборы в республиках.
ЛИГАЧЕВ. Мы допустили серьезный политический просчет. Я имею в виду Прибалтику, там выбрали не тех. Перестройка вызвала противоречивую реакцию в обществе, отсюда голосование против партийных, хозяйственных и военных работников. Главная причина в том, какую позицию занимали средства массовой информации в отношении истории партии, партийной работы. Негативную позицию накапливали в сознании людей. Это очень опасно. Мы должны помнить, что в Венгрии и Чехословакии в 1968 году все начиналось со средств массовой информации… СМИ концентрируют критику на злоупотреблениях, на взятках. Это правильно. Но заодно шельмуют всех руководящих работников. Дисциплина в партии сейчас хуже, чем в беспартийной среде.
МЕДВЕДЕВ. Многое пустили на самотек. Секретари обкомов и райкомов боролись между собой за депутатские места. Преобладает критический настрой не в отношении перестройки вообще, а того, как она идет. Мы раскритиковали все в прошлом, но не преодолели элементов командно-административной системы. Не может быть такого, чтобы пресса думала одно, а народ другое. В Венгрии, Чехословакии был общий кризис, оттуда взялись и оппозиционные журналы. Хотя, согласен, пресса не должна поддаваться нездоровому настроению. С ней нужно работать.
СОЛОВЬЕВ. В Ленинграде все семь партийных руководителей, представители административных и военных кругов не прошли. Есть у нас противники, и мы их недооценили. Они работали по месту жительства, а мы лишь внутри коллектива. Не только некоторые средства массовой информации, но даже «Правда» и «Известия» нанесли удары по партийным руководителям, вели дело тенденциозно. Партию так измазали с головы до ног, причем все ее поколения, что это не могло не сказаться на настроениях избирателей. Избирательная кампания показала, что идет борьба за власть.
ЧЕБРИКОВ. Тех, кто потерпел поражение, сохранить и поддержать. В Армении пикеты были у избирательных участков, составлялись черные списки. Прибалты разъезжали по всей стране, агитировали против партийных кандидатов, аж до Якутска добрались.
ЗАЙКОВ. МГК и райкомы оказались в опале. Кто выступал в поддержку партийной платформы, сразу проигрывал. Значит, по существу, настроение было против власти. Райкомы не могут работать. Надо потребовать от средств массовой информации прекратить дискриминацию партаппарата. Имели место посягательства на флаг, на гимн. Появились трехцветные флаги. Коммунисты требуют съезда КПСС.
ПУГО. Нападок на партию много. Есть опасность, что итоги выборов начнут изображать как поражение КПСС. Надо не допустить, чтобы такая оценка стала гулять. Партийные организации не растут, идет отток из партии. Муссируется тема многопартийной системы. В Прибалтике народные фронты добились всего, чего хотели. Предстоит националистический август.
ЯКОВЛЕВ. Ни о каком поражении речи идти не может и не должно. 84 процента избирателей пришли голосовать, и избрано 85 процентов коммунистов. Это референдум за перестройку. Немножко мы испугались. На самом деле советский народ проголосовал против застоя и командно-административной системы, против бесхозяйственности и разгильдяйства. Выборы — демонстрация верности демократическому социализму и доказательство того, что в условиях однопартийной системы возможна демократия. Есть и враждебные силы. Не думаю, что голосование было против партии как таковой. У нас эмоциональное отношение к прессе. Меня больше беспокоит другое — когда газета по десять раз пишет об одном и том же, но никакой реакции со стороны партийных и других органов не следует.
РАЗУМОВСКИЙ. 30 секретарей обкомов и горкомов не прошли. В двухстах с лишним округах предстоят новые выборы.
СЛЮНЬКОВ. Идут нормальные процессы. Есть потери, тревога за партию. Мы дали возможность изображать дело так, что она виновата во всем. Средства массовой информации мало показывают положительного, что сделано в ходе перестройки. А перед выборами была задержана выдача зарплаты. С товарами особенно плохо было в эти дни.
МИРОНЕНКО. Нельзя политику обижаться на свой народ. Многие партийные комитеты оказались просто не готовы работать широким фронтом. Сказалась привычка командовать через орготделы, остались методы прямого руководства комсомольскими организациями со стороны райкомов.
ЛУКЬЯНОВ. Пятая часть секретарей партийных организаций не прошла. Замечен резкий рост уравнительных настроений. На этой волне паразитируют демагоги плюс идет массированная атака СМИ на партийное руководство, а теперь разговоры, что ЦК, мол, бросил партийные организации на произвол судьбы, отдал секретарей парткомов, обкомов на съедение демагогам. Существенно, что большинство военных голосовало против партийных секретарей. Надо поддержать тех, кто не прошел.
МАСЛЮКОВ. Надо настраивать людей на то, что неизбежны инфляция, рост цен, трудности с продовольствием, замораживание зарплаты. Чтобы оздоровить финансовую систему, нужны драконовские меры. И товары, хотя бы на 50 миллиардов. Машиностроение и оборонка на 40 процентов увеличили производство товаров для народа. Надо через год-полтора по отдельным видам решить эту проблему, и так обещать народу».
Думаю, этих выдержек достаточно, чтобы получить представление о настроениях тогдашнего руководства. Уже определились в его составе левое и правое крыло, хотя до прямой полемики и открытого разрыва еще далеко. Одни видят в выборах победу демократии, другие — поражение партии. У первых преобладает стремление двигать реформы вперед, у других все сильнее дает о себе знать ностальгия по прежним порядкам. Для одних критические выступления прессы — нормальное проявление гласности и повод для размышлений о допускаемых ошибках, для других — нетерпимое своеволие, клеветническая кампания антипартийных и антисоветских элементов.
Из своего заключительного слова приведу лишь одну выдержку: «Партия нарастила свой авторитет через политику перестройки не угрозой и страхами, а тем, что она пошла открыто к народу и сама вызвала критику на себя. Теперь надо завоевывать авторитет на другом этапе — когда решаются практические дела, и никаким «затыканием рта» его не завоюешь. Выборы показали, что перестройка нуждается в защите. Но защитить перестройку можно лишь ее углублением и развитием. Главное сейчас — практическое дело. Нельзя зацикливаться на самоанализе, предаваться «самоедству». Мы должны дать почувствовать людям, что реагируем на болевые моменты критики с их стороны и готовы действовать уверенно, спокойно. С этим идти и на съезд».
Авангард откатывается в арьергард
Все чаще звучала мысль, что выборы отразили новые реальности, КПСС отстает от жизни, а партийная номенклатура становится тормозом реформ.
Действительно, в своих поездках я все больше чувствовал, что управленческие и партийные структуры нажимают на тормоза. Перемены воспринимали как угрозу быть оттесненными от власти и делали все, что могли, чтобы этому помешать. В этом и был просчет: надо было менять стиль, делать дело, быть ближе к людям. А они продолжали править, отсиживаться в кабинетах. Копить злобу, поскольку мною было сказано в открытую на всю страну (а уж на закрытых встречах тем более): те, кто не хочет перестраиваться, идти в ногу с жизнью, останутся на обочине. Выборы показали, «по ком звонит колокол».
Признаюсь, я тяжело переживал то, что обнаружившееся «недомогание» партии перешло в неизлечимую болезнь. Будучи зачинщиком перестройки, видя главное дело жизни в демократизации нашего общества, я в то же время как Генеральный секретарь КПСС был обязан и искренне хотел, чтобы партия возглавила этот процесс, не становилась в оппозицию к нему. Казалось бы, для этого было сделано немало.
После XXVII съезда трижды сменился состав райкомов и горкомов, практически полностью обновились советские органы. После январского Пленума ЦК 1987 года произошла смена первых секретарей на альтернативных выборах, многие «старожилы» ушли на пенсию. Но у руля становилась вторая, третья или даже четвертая «команда», а дело шло по старинке. Так сильна была закваска. Так прочно вбивались в головы догмы марксизма в упрощенной сталинской интерпретации.
Выборы выявили, что авторитет КПСС упал сразу же, как только ее перестали бояться, поверили, что господство партии больше не подкрепляется насилием. С этого момента люди оказывали доверие коммунистам уже не как представителям могущественной властной структуры, а как личностям. Хороший ты человек, порядочен, умеешь работать — поддержим. Партийная масса стала отделяться от партийной бюрократии. И вот поразительный результат: в распоряжении местного начальства практически все газеты, радио, телевидение, транспорт, армия агитаторов, кабинеты, дома культуры… а оно сплошь и рядом терпит поражение от вчера еще никому не известных людей.
Я рассказал о почти единодушном мнении членов Политбюро — не делать оргвыводов из неудачи партийных руководителей на выборах. Но партийное товарищество или человеколюбие не могут долго противиться суровым жизненным реалиям. Приговор избирателей для многих оказался окончательным и не подлежащим обжалованию в ЦК. Даже при том, что Москва не требовала немедленной отставки провалившихся на выборах партработников, они вынуждены были один за другим уходить сами — по требованию коммунистов, под давлением общественности, из чувства самосохранения.
Встал вопрос и о серьезном обновлении состава Центрального Комитета. После XXVII съезда прошло не так много времени, но многие члены ЦК оказались уже вне активной деятельности, перешли на пенсию (из 303 членов ЦК — 84 пенсионера, из 157 кандидатов в члены ЦК — 27). С другой стороны, на руководящие должности было выдвинуто много людей, не входивших в высший орган КПСС.
Разумно было обновить состав ЦК за счет кандидатов, а также кооптации. Сначала я провел беседу с бывшими членами Политбюро (остававшимися в ЦК), потом встретился со всеми членами ЦК, вышедшими на пенсию. Изложил им ситуацию и деликатно, в форме совета, подвел к пониманию того, что нужно дать дорогу вновь пришедшим партийным руководителям и активистам. Должен сказать, «старики» встретили это с достоинством, никто не сетовал. Они и сами отдавали себе отчет, что пора уходить на покой. К тому же мы вовсе не хотели лишать этих людей, много поработавших на страну, участия в делах. Предполагалось включить некоторых в состав созданных при ЦК комиссий, привлекать других для совета, чтобы использовать богатый жизненный опыт и поддержать морально.
В общей сложности ушло 100 с лишним человек, и это позволило перевести в члены ЦК большую группу кандидатов. А вот с кооптацией ничего не получилось. Лигачев и другие стали убеждать меня, что она неприемлема, в условиях развивающейся демократии надо строго соблюдать принципы, это будет отрицательно воспринято коммунистами и т. д. Признаюсь, у меня к тому же не было уверенности, что мы сумеем сделать правильный выбор — начнутся споры в Политбюро, каждый постарается продвинуть своих фаворитов.
Короче, решили отказаться от кооптации, и это, конечно, была ошибка. Тогда ведь и можно, и нужно было ввести в состав ЦК принципиальных сторонников курса на углубление реформ, сделав таким образом решительный шаг к перестройке самой партии. Во всяком случае, резко изменилось бы соотношение прогрессивных и консервативных сил в высшем партийном органе, иной была бы атмосфера на пленумах.
Обсуждалась перед Пленумом и целесообразность коллективной отставки Политбюро с последующим избранием нового руководства. Рыжков не то что выступил с таким предложением, а просто предупредил, что этот вопрос может быть поднят и Генеральному секретарю надо быть готовым. Я считал, что сейчас не время для рискованных экспериментов. При тогдашнем составе ЦК было бы наверняка избрано более консервативное Политбюро. В нем не было бы Яковлева, Медведева, наверное, Шеварднадзе, не исключено, и генсека.
Пленум состоялся 25 апреля.
Речь об отставке Политбюро на Пленуме не заходила, а вот тревожные настроения партноменклатуры выразились в полной мере. Прямой или косвенной темой выступлений были, разумеется, прошедшие выборы. У одних просто прозвучало разочарование их итогами для партии и себя лично. Другие говорили об этом в явно обвинительном тоне по адресу руководства, которое «довело до такого безобразия» своими экспериментами с демократией. Самым резким было, пожалуй, выступление Александра-Мельникова — заведующего строительным отделом ЦК. У меня было о нем мнение как о человеке думающем и волевом, склонном к нововведениям. Может быть, эти оценки и были верны в общепринятой тогда системе координат, но они, увы, утратили силу в радикально изменившихся обстоятельствах.
Ведь и немало других партийных руководителей выглядели отчаянными новаторами в 70-е годы. Поэтому Брежнев и Капитонов предпочитали «засылать» их подальше от Москвы, а с приходом Андропова и Горбачева этих «возмутителей спокойствия» начали призывать в руководство партией. Но постепенно стало обнаруживаться, что их новаторство носит, так сказать, внутрисистемный характер, не смеет выйти за установленные пределы и поставить здравый смысл выше догмы.
Честно скажу, я слушал Мельникова с удивлением и досадой — как раз потому, что не ожидал от него такой, позволю себе грубоватое выражение, твердолобости. Правда, он еще не набрался духа обвинить меня и моих соратников в предательстве — в этом наши фундаменталисты будут упражняться несколько позднее. Но прозрачно обвинил руководство в том, что оно ведет партию к краху, поскольку изолировано от народа и занято прожектерством, не знает, чем живет страна, что делается на местах. Это прямо перекликалось с тем, что говорил Лигачев на Политбюро, — думаю, что и выступление Мельникова было подготовлено не без участия Егора Кузьмича. Позднее он этим занимался (в духе худших старых традиций) основательно, чтобы организовать критику генсека «снизу».
Перед Пленумом, на Политбюро, было решено дать более подробную, чем обычно, информацию о его работе. А тут мне пришло в голову, что как раз сейчас надо довести до общества полный «расклад сил» в партийном руководстве: пусть люди знают, кто есть кто. Это не было внезапным импульсом, я давно склонялся приподнять завесу секретности, отделявшую власть от народа. В данном же случае позиция ретроградов в ЦК меня подтолкнула внести предложение о полной публикации дискуссии на Пленуме.
Послышались голоса одобрения, но было заметно, что большинство встретили это без восторга. Не только потому, что агрессивно выступавшим секретарям не очень хотелось попасть «на язык» демократической прессе. Для многих это было равнозначно отказу от одной из наиболее важных привилегий партийной верхушки. Но и выступить против никто не посмел. Была, правда, внесена поправка: опубликовать с комментарием. Нет, возразил я, без всяких комментариев, пусть люди сами думают, да и пресса откомментирует. Мой расчет оправдался: в обществе увидели реальную картину положения вещей в ЦК КПСС и в какой обстанбвке приходится работать генсеку.
Как водится, итоги Пленума обсуждались на заседании Политбюро. Все оценили их положительно, хотя было очевидно, что определившиеся в составе руководства группировки вкладывают в свое одобрение неоднозначный, если не полярный смысл. Лигачев предложил даже организовать в партии кампанию по обсуждению итогов Пленума, явно рассчитывая приструнить сторонников «демократической платформы», укрепить дисциплину, под которой прежде всего понималось безусловное послушание партийным лидерам и аппарату. А вот Шеварднадзе, выражая удовлетворение «состоявшимся на Пленуме прямым разговором», добавил, что ушел с него с чувством серьезной озабоченности. «У нас не сформировались кадры новой формации. Настроение партийного актива настораживает, его надо менять. Мы не услышали серьезной, продуктивной программы действий. Не было конструктивных планов, кроме одного-двух выступавших. Все валили на центр, на перестройку. Неформалы опережают кадры, они ведут конкретную работу со школьниками, студенчеством, даже с националистами. Идет реальная политическая борьба, а наши работают с картонными активистами. Общество настроено радикально. Надо спорить, доказывать, или придется сажать. Вот требуют исключать тех, кто выступил как-то не так, а это же тысячи людей!..»
Выступил с пространным заключением и я. Предстояло ведь с этим составом руководства готовить XXVIII съезд, а это требовало если не «благостного» идейного единства (такого не было никогда, тем более теперь), то, по крайней мере, согласия о программе действий на ближайший период. Я и постарался ее сформулировать в общих чертах, исходя из того, что уже было продумано в плане подготовки к Первому съезду народных депутатов. И подчеркнул, что для партии сейчас главное — помогать решению практических проблем, овладеть новыми методами, «идти в народ», на митинги, не отсиживаться в кабинетах, учиться работать в условиях демократии.
«Перешагнув» через Пленум, надо было двигаться дальше, готовиться к незаурядному событию в жизни страны — Первому съезду народных депутатов после первых свободных выборов. Спустя два дня после Политбюро, 27 апреля, я собрал «узкий круг», чтобы еще раз продумать все детали. Тут ведь дело не сводилось к написанию речей, нужно было выступить с концепцией формирования новой власти. И не просто заготовить проект закона, который будет, как в прежние времена, без всяких «выкрутас» единодушно проголосован «дисциплинированными депутатами». Мы уже знали, что с самого начала придется столкнуться с напористой оппозицией, которая воодушевлена своим несомненным успехом на выборах и будет рваться в бой. А как поведет себя основная масса депутатов — полной ясности не было.
Уж не помню, кто первым об этом сказал, но все поддержали: отныне съезды народных депутатов, а не съезды КПСС становятся главными политическими форумами, определяющими жизнь страны. Это был крутой поворот, настоящая смена вех, за которой должна последовать постепенная замена старых институтов власти, да и ее символики.
Рождение парламента
25 мая 1989 года. 10 часов утра. Кремлевский Дворец съездов заполнен до предела. Сцена, как всегда, украшена огромным панно с портретом Ленина. Множество знакомых лиц в партере, в ложах для дипломатов и журналистов. Жужжат телекамеры, все рутинно и привычно. Новшество: члены Политбюро сидят среди других народных избранников. А те из них, что остались без мандатов, — среди гостей, как простые смертные. И открывает съезд не Генеральный секретарь ЦК КПСС или Председатель Президиума Верховного Совета, а председатель Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов В.П.Орлов.
Но все же пока еще мало что изменилось.
Это впечатление закрепляет вступительная речь Орлова. Председатель Центризбиркома говорит о новых явлениях старым слогом. Звучат стандартные «возвышенные» выражения: «Широкая, невиданная доселе гласность», «Бурный рост политической активности трудящихся», «Перестройка стала общенародным делом, советские люди высказались за ее дальнейшее углубление», «Выборы стали шагом принципиального значения, продвинули наше общество по пути, намеченному XXVII съездом партии и XIX Всесоюзной конференцией КПСС», «Народ видит в партии Ленина силу, способную сплотить советское общество», «Более мощного общенародного референдума в пользу Коммунистической партии, ее курса на обновление у нас еще не было».
Сидя в первом ряду, я слышу сзади, где расположились депутаты от Москвы, шорохи, перешептывание, люди явно начинают раздражаться, не такого начала ожидали от открытия съезда. Корю себя за то, что не придал значения этой немаловажной детали. Но особенно задумываться над всем этим не пришлось. Едва только объявлено открытие Съезда народных депутатов, как течение его пошло уже не по заготовленному сценарию. Первое незапланированное выступление: на трибуне врач из Риги В.Ф.Толпежников, и зал встает, чтобы почтить память погибших в Тбилиси. Эмоциональная сцена сразу переводит стрелки политического времени в новое измерение. Теперь уже все отдают себе отчет, что наш государственный корабль, долгие годы пришвартованный к одному и тому же причалу, тронулся в неизведанное плавание.
А курс ему прокладывали не только «лоцманы» со Старой площади и Кремля. Это выявилось уже при обсуждении повестки дня. Оппозиция устами своего лидера Сахарова потребовала сменить порядок обсуждения названных в ней вопросов: сначала отчетный доклад Председателя Президиума Верховного Совета, обсуждение ситуации в стране, а потом уже выбор нового главы государства и состава Верховного Совета.
Вот что сказал тогда Андрей Дмитриевич: «Я неоднократно в своих выступлениях выражал поддержку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. Этой позиции придерживаюсь и сейчас, поскольку не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной. Но это я не вижу в данный момент. Моя поддержка носит условный характер. Я считаю, что необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов, потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех выборов на данном съезде, в том числе и выборов Председателя Верховного Совета СССР. Я говорю слово «кандидатов», хотя считаю вполне возможным, что других кандидатов не будет. Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим именем связано начало процесса перестройки и руководства страной на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть наша позиция».
Бросается в глаза известная противоречивость: с одной стороны, Сахаров признает, что других кандидатов в этой обстановке может и не быть, а с другой — настаивает на том, чтобы сначала выслушать мой отчет и дать ему оценку. В первый момент мне подумалось, что это продиктовано стремлением с самого начала ввести работу законодательного органа в русло твердой демократической процедуры. Но, поразмыслив над позицией наших радикалов, я пришел к выводу, что здесь гораздо существенней другой мотив — навязать свою программу действий.
Догадываюсь, что, пребывая в состоянии эйфории после первого своего большого успеха на выборах, основатели демократического движения, еще недавно ходившие в прорабах перестройки, были раздосадованы, а в некотором роде и оскорблены тем, что я не откликнулся на их призывы. Должно быть, они рассуждали примерно так: «Хватило его на первый рывок, и только». Во всяком случае, мне этого отказа не простили, и очень скоро я почувствовал это по остроте и неприличию нападок на себя по всякому поводу и без повода.
А между тем дело было, конечно, не в ограниченности моей программы или приписываемой мне личной нерешительности как политика. Идя на самые крутые преобразования, я ни на минуту не допускал, что в их результате, упрощенно говоря, на смену господства «красных» придет господство «белых». Весь смысл реформ виделся мне как раз в том, чтобы покончить с самим принципом классовой диктатуры, окончательно закрыть семидесятилетний раскол нашего общества. Вырвать корни глубокого гражданского конфликта, создать конституционные механизмы, при которых отношения между социальными слоями и людьми выясняются не с помощью мордобоя и кровопролития, а через политику.
Кроме того, нельзя забывать, что я был Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии. Миллионы людей доверили мне этот пост, и было бы непорядочно, нечестно, даже, если хотите, преступно перебежать в другой лагерь. И тогда, в качестве Председателя Верховного Совета, и позднее, будучи уже президентом, я считал делом принципа продвигать реформы не путем насилия одной части общества над другой, а путем консенсуса. На худой конец, приемлемого для основных политических и социальных сил компромисса.
Стихийное «партийное структурирование» съезда началось задолго до его начала, практически сразу же после выборов. С одной стороны, сгруппировались радикально настроенные депутаты от интеллигенции, главным образом московской и ленинградской. Организационным зародышем этой фракции стал «Мемориал», позднее она назвала себя Межрегиональной депутатской группой, а затем из нее выросла «Дем-россия». Признанным вождем этой партии на первых порах был А.Д.Сахаров, а главным идеологом Г.Х.Попов. И если в первые дни работы съезда межрегионалы на вопросы дотошных журналистов отвечали о своих программных целях уклончиво, то вскоре, если мне помнится, Попов публично признал, что они рассматривают себя в качестве оппозиции. Правда, при этом не декларировали, по отношению к кому конкретно. Но гадать не приходилось, поскольку КПСС оставалась правящей партией.
Парадокс состоял в том, что значительная часть депутатов, вошедших в Межрегиональную группу или тянувшихся к ней, ходивших на ее заседания, не оформляя официального своего членства, состояли в КПСС. За исключением Сахарова, членами партии были практически все лидеры межрегионалов: Попов, Афанасьев и другие. Так что разделение на правящее большинство и оппозицию в парламенте произошло на очень «размытой» основе, и это доставило массу неудобств. Це-ковский аппарат, да и большинство членов руководства не сразу осознали, что нам придется действовать в совершенно новых обстоятельствах, нужно переучиваться, решительно отказываясь от прежних правил игры. Некоторые исходили все еще из традиционного представления о «блоке коммунистов и беспартийных». Рассуждали так: среди депутатов в процентном отношении подавляющее большинство членов КПСС. Раз так, достаточно установить строгую партийную дисциплину для проведения любых решений Центрального Комитета. И отделы, недолго думая, предложили собрать съехавшихся в Москву депутатов, тщательно проинструктировать и напомнить, что их партийный долг — голосовать по указаниям ЦК.
Не тут-то было. Еще до того, как депутаты выехали в Москву, обнаружилась неудача попыток инструктировать их в республиканских ЦК и обкомах партии. Члены КПСС, избранные в противоборстве с «официальными кандидатами», попросту не откликались на приглашение местного партийного начальства «сверить часы» перед съездом. Более успешными были аналогичные мероприятия на союзном уровне. 3 мая в Моссовете я встретился с депутатами от Москвы. Со мной были Зайков, Лигачев, Воротников, Яковлев, Медведев. Задавали множество вопросов самого различного толка.
Но вот попытка собрать партийную фракцию КПСС оказалась явно неудачной. Надо признать, что ущербным был изначально сам замысел. Ведь если бы мы параллельно с заседанием съезда созывали партийную фракцию, работа высшего государственного органа приобрела бы чисто формальный характер, свелась к утверждению директив, вырабатываемых ЦК и Политбюро.
Поэтому я начал «спускать на тормозах» эту затею. Правда, тогда не исключали, что позднее можно будет организовать нечто вроде клуба депутатов-коммунистов. Такие попытки предпринимались, однако и из этого ничего путного не получилось. Все дело было в том, что партия наша никогда не была в полной мере коллективом единомышленников. При первом же веянии свободы, принесенным перестройкой, в ней громко, иной раз даже воинственно заявили о себе различные, в том числе полярные, политические течения.
Но стержнем борьбы, развернувшейся на съезде, стало не противостояние «послушно-агрессивного большинства» (так окрестил четыре пятых депутатов Ю. Афанасьев) с демократическим меньшинством во главе с «межрегионалами».
Сахарову на его предложение по повестке дня ответил депутат Е.Н.Мешалкин из Новосибирска, директор Научно-исследовательского института патологии и кровообращения. Сославшись на то, что сам академик и его соратники не видят альтернативы кандидатуре Горбачева, предложил сначала провести выборы Председателя Верховного Совета, а затем слушать его доклад. Приступили к обсуждению кандидатов на этот пост, и сразу же на первый план выдвинулся вопрос о возможности совмещения постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Верховного Совета СССР. Сейчас эта тема может показаться неактуальной. Тогда это было более чем серьезно. Страна едва избавилась от тоталитарного режима, и буквально все, за исключением закоренелых сталинистов, боялись, чтобы не произошло новой концентрации власти в одних руках. Многие не без основания говорили, что, зная Горбачева, не ждут от него сюрпризов для молодой демократии, которую сам он пестует. Но лучше все-таки застраховаться, мало ли кто может прийти к руководству завтра.
Короче, В. А. Логунов, бывший тогда заместителем главного редактора газеты «Московская правда», предложил, чтобы я сложил с себя обязанности генсека. При этом сослался на то, что в ходе предвыборной кампании было много публикаций и писем граждан в пользу такого решения. Ему возразил В.П.Хмель — строитель из Ангарска, предложивший «голосовать за Михаила Сергеевича Горбачева и за совмещение постов Генерального секретаря и Председателя Верховного Совета». Дальше последовало много коротких выступлений, в которых наряду с поддержкой политики перестройки и похвалой в мой адрес были и критические замечания, советы, пожелания. Много потом судачили о выступлении Чингиза Айтматова. Некоторые его собратья из творческой интеллигенции усмотрели в его речи чуть ли не попытку возродить печально памятную традицию восхваления начальства. Не думаю, чтобы это было справедливо. Кажется, у Маяковского я вычитал фразу: «так боялись прослыть подхалимами, что крыли начальство матом». Вот и у нас, настолько опротивело всем воспевание достоинств Брежнева, что вошло в хороший тон поругивать лидера. Я, впрочем, старался не обращать на это внимания.
Все же позволю себе привести одну выдержку из выступления Айтматова и, честное слово, совсем не потому, чтобы польстить таким образом самому себе. Просто мне кажется, что он с его писательским даром сумел найти точные слова для характеристики того, что у нас произошло. Напомнив, что Верховный Совет с первых дней своего существования оказался у нас «под непосильным прессом авторитарных режимов, низведших роль высшего законодательного органа к формальному придатку партаппарата», он сказал далее:
«Но вот пришел человек и растревожил спящее царство. Пришел он не откуда-нибудь со стороны, а возник в недрах самой этой системы, возможно, как шанс выживания через обновление, ибо с точки зрения исторического состояния застойный период, подобно снежному кому, все больше накапливал в себе разрушительную силу инерции и консерватизма, опасную как для самого общества изнутри, так и для окружающего внешнего мира. Этот человек волею судеб пришел к руководству как нельзя вовремя. Конечно, следуя по стопам предшественников, он мог и не утруждать себя, мог спокойно восседать торжественно в президиумах, зачитывать с трибун писанные секретарями тексты, и все катилось бы по накатанной дорожке. Но он отважился, казалось бы, на невозможное — на революцию умов при сохранении социалистического устройства общества… Он отважился вступить на путь социального обновления и стоит на нем на крутом ветру перестройки».
В отношении «крутого ветра» Айтматов был куда как прозорлив. Впрочем, тогда были еще только первые дуновения. Выдвижение мое прошло гладко, все проголосовали «за», было лишь четверо воздержавшихся. Не обнаружилось и сколько-нибудь серьезных соперников. Самовыдвижение А.М.Оболенского не было принято всерьез большинством депутатов. Он, скорее всего, заручился обещанием «межрегионалов» отдать за него свои голоса. И надо сказать, весь этот эпизод не делает чести оппозиции. Можно было бы понять, если бы она выдвинула в конкуренты Сахарова или Ельцина, на худой конец, популярных тогда Попова и Афанасьева, все-таки эти деятели были известны. Но голосовать за избрание на высший пост в государстве абсолютно никому не известного человека было крайней безответственностью, делом в общем-то постыдным.
А оппозиция не решилась в тот момент оспаривать пост председателя, поскольку подобная попытка была заведомо проигрышной. Поэтому и Ельцин, кандидатура которого была названа Бурбулисом, взял самоотвод. Его, кстати, настойчиво просил об этом депутат А.Крайко.
Правда, выступление Ельцина было двусмысленным. Он напомнил о решениях XIX партийной конференции о совмещении должностей и майском Пленуме ЦК, который рекомендовал Горбачева на пост Председателя Верховного Совета. Сказал и о том, что сам воздержался при голосовании моей кандидатуры, дав понять, что будет выполнять решения Пленума, «поскольку он за перестройку». А в заключение сообщил, что со вчерашнего дня он безработный и мог бы, «работая серьезно и признавая перестройку, согласиться на какое-то предложение».
Итоги голосования объявил председатель счетной комиссии академик Ю.А.Осипьян: за Горбачева — 2123 бюллетеня, против — 87. Таким образом, я был избран Председателем Верховного Совета 95,6 процента голосов, принявших участие в голосовании.
Сердечно поблагодарив съезд, я вернулся к себе в кабинет на Старой площади, где уже ждали помощники, чтобы договориться о докладе. Были, естественно, поздравления, но думали, что сколько-нибудь существенного изменения в моем государственном статусе не произошло. Ну, был Председателем Президиума, стал «просто» председателем. Сам я хорошо понимал значение свершившегося.
Не принесли особых неожиданностей выборы Верховного Совета. В целом на тот момент они были оптимальными. В составе ВС оказалось немало людей, ставших профессиональными парламентариями, сумевших наладить законодательную работу. С этой точки зрения союзный Верховный Совет намного превосходил российский. Во всяком случае, именно этот состав заложил традиции нового парламентаризма у нас в стране и создал правовую базу проводимых радикальных преобразований.
Правда, съезд отклонил кандидатуры некоторых депутатов, которые значились в «прорабах перестройки». Это вызвало бурю негодования в рядах межрегионалов, грубые нападки со стороны контролируемых ими печатных изданий. Усматривали в случившемся козни номенклатуры, возрождение прежней практики дирижирования Советами и т. д. Во всем этом, однако, не было ни грана правды. Если бы даже партаппарат и попытался действовать прежними методами, ему это вряд ли удалось бы. Не таким уже был настрой депутатов. И то, что они забаллотировали наиболее «голосистых» представителей Межрегиональной группы, следует объяснить прежде всего неприятием того высокомерия и откровенных грубостей, с какими некоторые деятели этой группы третировали депутатов из провинции, из районного звена, от станка, с поля.
Что говорить о провинциалах, если досталось и вновь избранному Председателю Верховного Совета: меня обвинили в «манипулировании большинством» за мои старания так вести заседания, чтобы все имели возможность высказаться, а парламентская полемика не переросла бы в потасовку.
Сигнал к ней подал Афанасьев со своим «сталинско-брежневским Верховным Советом». За ним в том же духе выступили Попов, Адамович, а в ответ, не менее яростно, большая группа оскорбленных депутатов. С обеих сторон приводились серьезные, веские аргументы, но к ним в запале добавляли и всевозможные резкости. Урезонивая расходившихся ораторов, я призывал обратить внимание на содержательные доводы, имевшиеся в выступлениях межрегионалов. Что же касается причины их агрессивного тона, то об этом лучше всех сказал тот же Мешалкин, объяснивший выступления Афанасьева и Попова неудовлетворенностью их положением на съезде, тем, что они оказались в меньшинстве, а рассчитывали, что, «как на митингах в Лужниках, они смогут нас всех поднять и немедленно смести все, что им мешает стать во главе съезда».
Скажу откровенно, я считал полезным избрание Ельцина в Верховный Совет. На майском Пленуме он сказал много таких вещей, под которыми я был готов подписаться. Другой вопрос, что за политической программой просматривались непомерные притязания. В результате тайного голосования Ельцина все же забаллотировали. Вот тогда-то депутат из Омска юрист Алексей Казанник предложил передать свое место в Верховном Совете Ельцину. Завязалась оживленная дискуссия, в основном по юридическому аспекту этого необычного шага. В конце концов «рокировка» состоялась.
Новшества
В съездовской суете и суматохе невозможно было проводить заседания Политбюро, но мы встречались неформально накоротке во время перерывов. В комнате, примыкавшей к сцене, подавали чай, кофе, там можно было, так сказать, на ходу обменяться мнениями. Все ощущали происходящую коренную перемену в привычном порядке вещей. Раньше — поговорили за чаем, и гуськом за генсеком на сцену. А теперь — председатель на сцену, остальные — в зал. Будучи людьми дисциплинированными, коллеги по ПБ не подавали виду, что чем-то недовольны. Но я-то ощущал их плохое настроение. Да и как иначе, если всем уже было ясно, что время партийной диктатуры истекло, утверждается новый политический режим.
Собственно, это и составило стержневую мысль моего доклада об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. Первая часть носила традиционный характер: оценка положения в народном хозяйстве, в социальной сфере, финансах и т. д. В других разделах я попытался наметить программу глубоких реформ.
В том, что касалось экономики, ставился вопрос о необходимости радикального обновления отношений социалистической собственности и становления полнокровного рынка. Высказывалось мнение, что главными действующими лицами в экономике должны стать предприятия, концерны, акционерные общества и кооперативы. «Для решения общих задач и координации усилий они, видимо, пойдут по пути создания на добровольной основе объединений союзов и ассоциаций, к которым перейдут функции хозяйственного управления, выполняемые ныне министерствами… Такой подход не означает принижения роли государства, если, конечно, не путать его с министерствами, а хозяйственное управление — с государственным руководством. Последние избавляются от функции непосредственного вмешательства в оперативное управление хозяйственными единицами и сосредоточиваются на создании общих нормативных рамок и условий для их деятельности».
Главный смысл политической реформы я определил как реализацию вновь выдвинутого исторического лозунга «Власть Советам!». Реконструкция представительных органов, всемерное расширение их прав и полномочий, безусловное подчинение им аппарата — первое условие возвращения Советам реальных рычагов власти и управления.
Они остаются по сей день нерешенными. Более того, под искусственным предлогом, будто советская форма народного представительства порочна в своей основе и связана исключительно с тоталитарной диктатурой партии, Ельцин в октябре 1993 года подверг разгрому не только и не столько конкретные Советы по всей стране — от Верховного до районных и поселковых. Он разгромил саму представительную власть, или, говоря другими словами, народовластие. Навязанная им Конституция предусматривает настолько убогие и урезанные права и местных представительных органов, и Федерального собрания, что это, разумеется, пародия на демократию. В стране под видом президентской республики восстанавливается на деле даже не конституционная, а абсолютная монархия. Не приходится гадать, что подобная система в конце XX века и при достигнутом уже уровне политической культуры не может долго просуществовать. Она неизбежно вызовет растущее сопротивление, пока народ не восстановит нормальную демократическую республику. И дай Бог, чтобы это произошло без жертв, как в феврале 1917 года.
Что касается сферы национальных отношений, то надо признать: в то время мы еще не были готовы выдвинуть по-настоящему глубокую программу реформы, включающую преобразование унитарного государства в действительно федеративное. Но общее направление было определено. Это — существенное расширение прав союзных и национальных республик, гармонизация отношений между ними и Союзом.
При изложении внешней политики были подтверждены принципы, которые вытекали из нового политического мышления: ориентация на ликвидацию ядерного оружия, недопустимость применения силы и угрозы силы, ставка на диалог и переговоры с целью установления баланса интересов как единственный способ решения международных проблем.
В дискуссии по докладу было высказано немало предложений и дополнений к изложенной мною программе. Но должен сказать, каких-то принципиальных возражений против нее не было. Зато достаточно сильный критический огонь депутаты сосредоточили на практической деятельности властей предержащих. Смысл их наставлений сводился примерно к следующему: «Вы предложили нам неплохую программу, с ней нельзя не согласиться, но эти слова, задачи и призывы мы слышали многократно, а перестройка идет медленно, дела в стране пока ухудшаются. Теперь у нас создана новая политическая система, давайте же ускорим преобразования и в первую очередь решим насущные экономические и национальные проблемы».
Это свое «послание» исполнительной власти, партии, народу, да и самому себе, съезд закрепил во многих постановлениях.
По моим представлениям были назначены Председатель Совета Министров (Рыжков), высшие должностные лица судебной системы, создана Конституционная комиссия. Казалось бы, тогда сложились необходимые предпосылки для того, чтобы по-настоящему крупно двинуть вперед перестройку, переломить негативный ход событий. Почему же этого не получилось, почему наше движение вперед не ускорилось, а в некоторых отношениях началось топтание на месте?
Думаю, причина в том, что дезинтеграционные процессы опережали формирование новых институтов власти и управления. А набиравшая силу радикально-демократическая оппозиция, развернув борьбу против центра и центризма, начала систематически подрывать фундамент власти на путях циничного популизма и разжигания националистических спекуляций. Я не раз буду еще возвращаться к этой теме.
Два классика: Леонов и Сахаров
В напряженные дни Первого съезда исполнилось 90 лет Леониду Максимовичу Леонову, и я, испросив приглашение, съездил к нему на квартиру, кажется, на улице Герцена. Там готовились к небольшому застолью, собрались члены семьи, близкие. Это была моя вторая встреча с Леоновым.
В тот день я застал его в активной форме. Меня поразило, как внимательно он следит за всем происходящим на съезде, в курсе предшествовавших ему дискуссий. Даже нюансов, которых я не знал, потому что для этого надо было читать все журналы и газеты или неотрывно сидеть у телевизора. Суждения его отличались глубиной, философской масштабностью.
— Я все время пытаюсь понять, — говорил Леонов, — от чего наши трудности. И вот к чему прихожу. То, что вы затеяли в рамках перестройки, это ведь движение к новым формам общества. Это то, что определит жизнь страны на ближайшие столетия. А люди живут сегодня, у них много острых проблем. И это противоречие между далеко идущими замыслами и нынешней действительностью создает такую атмосферу. Удивляться нечему, да и деваться некуда. Надо цель не терять, но одним светлым будущим не обойдешься.
Это было близко к моим мыслям. Мы и на конференции партийной говорили о том, как важно видеть долговременную цель, не забывая о неотложных проблемах, не принося настоящее в жертву будущему, на чем свихнулись многие революционеры и реформаторы.
С чистым сердцем сказал Леонову, что разделяю его опасения, сам об этом много думаю, стараемся не отрываться от земли. Конечно, от философских бесед до политической практики далеко.
Леонид Максимович говорил, как много значит для нашей культуры гласность. Появилось, конечно, немало мути (не помню точного слова: за смысл высказываний ручаюсь), но, надо надеяться, со временем все встанет на свои места, разум возобладает. Особенно критически отозвался он о так называемой масскультуре, прямо-таки нашествии пошлости и дурного вкуса в прессе и на телеэкране.
Кое-кто распространял слухи, якобы Леонов, признанный глава русской писательской школы, является вдохновителем «славянофильской братии», занимающей крайне консервативные, даже шовинистические позиции. Из наших бесед я вынес совсем другие впечатления. Человек такого ума и культуры не мог опуститься до примитивного национализма, все его суждения были проникнуты гуманизмом. Но при этом он не избегал резких оценок негативных явлений и в жизни, и в политике, и в литературе.
Да что говорить, среди славянофилов есть такие, кто клянет перестройку, отвергает, по существу, всякие перемены. А Леонов не только свой авторитет на это поставил, но и помогал осмыслить трудности, противоречия, которые приходилось преодолевать. Скажу честно, меня поддержка классика вдохновляла.
Посидели у него часа полтора, вышли на улицу, а там, в переулочке, который соединяет улицы Воровского и Герцена, собрались люди. Была сердечная встреча, спрашивали о съезде, делились мнениями, кто-то даже совет дал:
— Михаил Сергеевич, не поддавайтесь ни правым, ни левым, они доведут до беды.
О ключевых эпизодах работы Первого съезда, его месте в политической реформе я рассказал. Но не могу не сказать о том эмоциональном напряжении, которое вызвала финальная сцена этого форума. Она связана с человеком, который был, бесспорно, самой яркой личностью на съезде, — академиком Сахаровым.
Я, разумеется, слышал об опальном ученом, который смолоду был великим патриотом, а потом «скатился» до диссидентства и антисоветчины. Вместе со всеми возмущался, что он, как сообщали газеты, советует американцам не соглашаться на наше предложение принять обязательство о неприменении ядерного оружия. Да мало ли было других «предательских» поступков, которые пропаганда приписывала Сахарову, используя те или иные его высказывания.
Газеты умалчивали о попытках лишить его звания академика и противодействии этому его коллег. В партийной верхушке их позицию осуждали как проявление «круговой поруки». В разговорах выражали удивление долготерпением руководства, которое терпит «гнусные» заявления мятежного академика и выслало его «всего лишь» в Горький, вместо того чтобы выставить за границу. Впрочем, негодующие успокаивались, когда им напоминали, что Сахаров является носителем сверхценной информации. Не приходило в голову, что если б он решил передать ее на Запад, то нашел бы способ.
У меня иной раз возникали сомнения: может быть, все дело в том, что работники ЦК, которые «ведают наукой», не нашли правильного подхода, не сумели объяснить ошибочность его позиции. Это ведь крупный ученый, важно, чтобы он работал для страны, за таких надо бороться, как боролись в первые послеоктябрьские годы за Павлова, Сеченова, Тимирязева и других корифеев русской науки.
Но, разумеется, это были мысли мимоходом, ни с кем я ими не делился, да и никто моим мнением до поры до времени не интересовался. Впервые серьезный разговор о Сахарове состоялся у меня с Петром Леонидовичем Капицей. С ним я встречался два или три раза в санатории им. Орджоникидзе в Кисловодске, где он с супругой проводил свой отпуск. Каждая встреча была для меня настоящим праздником. Академик Капица был потрясающе интересным собеседником, доброжелательным и естественным в общении.
Как-то вечером я нанес «визит вежливости» Капице и его супруге. Шел обычный разговор. А поскольку в тот момент в прессе живо обсуждались демонстративные шаги Сахарова, возникла и эта тема. И вот от Капицы, Нобелевского лауреата, одного из авторитетнейших ученых мира, я услышал неожиданные суждения. Весь этот шум вокруг Сахарова, сказал он, в значительной мере спровоцирован неадекватной реакцией со стороны руководства. В том, что относится к физике, это, несомненно, талант, крупнейшее явление, но он не искушен в политике, далек от жизненных реалий. Кроме того, у людей, связанных с закрытыми темами, формируется своего рода комплекс неполноценности, ощущение, что их талант, мысли, взгляды остаются как бы невостребованными обществом, находятся «за семью печатями».
Короче, Сахаров написал письмо руководству. А письмо оставили без внимания, кажется, поручили отделу науки рассмотреть. И это, рассуждал Капица, вызвало обиду, искусственно породило «проблему Сахарова».
Должен сказать, что, критически отзываясь о руководстве, которое так пренебрежительно повело себя по отношению к виднейшему ученому, Петр Леонидович упрекнул и Сахарова за излишние амбициозность и тщеславие.
Став Генеральным секретарем, я счел вызволение академика из ссылки одной из важных своих забот и добился устранения этой несправедливости. Ну а первая моя встреча с ним произошла на форуме, из которого родился Фонд за выживание и развитие, возглавленный Е.И.Велиховым и, кстати, ставший в 91-м году одним из учредителей Фонда Горбачева.
Велихов и его коллеги сидели за круглым столом в Екатерининском зале Кремля. Я пожал всем руки, сел, а рядом со мной или через одного человека сидел Сахаров. Воспользовавшись этой встречей, он в присутствии западных ученых повторил свои требования — положить конец преследованию за инакомыслие и освободить узников совести, передал мне обращение и список. Я взял бумаги и заверил, что они будут самым доброжелательным образом рассмотрены. Сообщил, что после нашего с ним телефонного разговора мною уже даны поручения Чебрикову незамедлительно заняться этим вопросом.
После возвращения Сахарова в столицу президент Академии наук А. Александров при моем поощрении стремился не только создать ему условия для нормальной научной деятельности, но и обеспечить положение в научном мире, соответствующее его заслугам. Речь шла о введении Андрея Дмитриевича в состав президиума Академии наук СССР. Но это оказалось непростым делом. Ученые, с одной стороны, не позволили исключить его из академии — прежде всего, чтобы не создавать прецеденты. А с другой — многие из них осуждали его политические взгляды и выступления. Попытались не пропустить его и в народные депутаты. Но в конце концов, «со второго захода», он был избран.
Позицию Сахарова в нашем парламенте я оценил бы как преимущественно конструктивную. Он поддерживал и лично Горбачева, хотя, как сам говорил, «условно». Это означало — последовательно идти путем реформ, не уступать правым. При том, что руководствовался Сахаров самыми благородными намерениями, был он политиком «по вдохновению», идеалистом, не всегда точно взвешивал реальные возможности, а также последствия своих действий. Он заявлял о своей приверженности социализму и Советской власти, очищенным от тоталитаризма.
На поступки Сахарова влияло и его окружение, в котором наряду с искренними почитателями и учениками были просто искатели покровительства. Не обходилось без попыток использовать авторитет признанного вождя демократов в интересах той или иной группировки. Но трудно заподозрить, что он был винтиком в чьих-то руках. В этом смысле, между прочим, сам он высказывался о Ельцине, к которому относился негативно, но считал, что без него демократам не обойтись.
Что касается роли Сахарова на съезде, то я бы упомянул три момента. Прежде всего — и это, пожалуй, самое важное — его заявление с требованием принять декларацию о том, что съезд берет на себя всю полноту власти. Преследовалась цель таким образом как бы дезавуировать, «обесточить», лишить властных полномочий и функций все существующие органы, прежде всего партийные. Тут явно просматривалось намерение свести счеты с режимом и одним ударом покончить с монопольным господством КПСС.
Был в этом выступлении некоторый элемент театральности, поневоле напрашивалась параллель со II съездом Советов, принявшим знаменитый Декрет о власти. Но я далек от мысли подозревать Сахарова в расчете встать в «историческую позу». Может быть, такой расчет был в головах у его советчиков.
Предложение Сахарова с самого начала не имело шансов быть принятым. Но оно к тому же выглядело нелогичным с юридической точки зрения. Согласно изменениям, внесенным в Конституцию, Съезд народных депутатов СССР уже получил статус высшего органа власти. Какой же смысл было объявлять об этом вторично?
При том, что требование объявить о «взятии съездом власти» не прошло, я не видел ничего плохого в самом факте его выдвижения. Оно напоминало и партии и обществу, что начинается новая эра, когда нормы Конституции перестанут быть пустым звуком, а Советы всех ступеней должны реально брать на себя управление страной. А вот дальнейшая повышенная активность Сахарова на съезде начала вызывать досаду, прежде всего за него самого. Уж очень часто рвался он к трибуне, неразборчиво, по пустяковым вопросам расходовал свой авторитет. Порой возникало впечатление, что кто-то сознательно подставляет академика, чтобы принизить его роль.
У меня отношение к нему было самое доброе. Казалось, это уже «новый Сахаров», неразрывно связанный с Горбачевым, вместе с ним олицетворяющий перестройку. А если так, то обесценение его авторитета в какой-то мере обесценивает и нашу политику реформ. Конечно, я не обязан был безоговорочно воспринимать все, что исходило из «демократического угла», но не хотелось и отклонять одни за другими идущие оттуда импульсы. Это могло навести на мысль о необъективности, о том, что председатель склоняется на сторону ретроградов. Но, видит Бог, я всячески хотел продемонстрировать беспристрастность, а Андрей Дмитриевич то и дело «подставлялся», все труднее удавалось мне утихомирить разбушевавшийся зал.
В один из дней съезда я долго работал после заседания в своем кремлевском кабинете. Обговаривали вопросы, которые надо обсудить, план действий на завтра. Выхожу, а мне офицер охраны: «Вас Сахаров ждет в зале заседаний». Уже 10 вечера, действительно, рядом со сценой, в полутьме, при погашенных люстрах, знакомая согбенная фигура.
— Андрей Дмитриевич, что же это такое, уже поздно, я не знал, что вы здесь находитесь.
— Ничего, я решил ждать до победного.
Начали разговаривать. Подробности трудно воспроизвести, но в целом беседа была неплохой. Обменялись мнениями о ходе съезда. Я сказал, что при всех трудностях дело движется, решения принимаются. У него оценки были более критичны: засилье консерваторов на съезде отражает состояние общества, но демократы действуют активно, свою миссию выполнят.
— Я обеспокоен опасностью реванша номенклатуры, — продолжал академик. — Они и на вас жмут. Утверждают, будто у них есть данные, под угрозой публикации которых вас заставят делать, что велят.
— Какие данные, что вы имеете в виду?
— Что вы брали взятки.
— Ну а вы сами что думаете, верите в это?
— Я — нет, но они говорят… — И смотрит на меня со смущенным видом.
А это все ельцинское, гдляновское влияние — именно из этого угла подбрасывают такую информацию. Ему и не хочется верить, но возникает внутреннее беспокойство: что же такое Горбачев на самом деле? И вот решил остаться, рискнул спросить меня напрямую, глядя в глаза. Явно, это его собственное желание, не то чтобы кто-то «уполномочил».
В последующие дни мы не раз вступали с ним в контакт по разным поводам. Я всегда старался дать ему возможность высказаться. Неудобно было видеть его в очереди за микрофоном. Седой человек, выдающийся ученый. Не могу избавиться от впечатления, что кто-то дирижировал Сахаровым, постоянно вызывая его из зала.
Третий эпизод связан с появлением Сахарова на трибуне при закрытии съезда.
Зал уже был раздражен и настроен против него, особенно в связи с его высказываниями о действиях наших военных в Афганистане. Окружение подбросило ему «жареные факты», а он, не потрудившись проверить, использовал их в одном из интервью, что вызвало острейшую реакцию съезда. Он был явно растерян. И хотя последнее выступление, как я полагаю, было попыткой восстановить свой престиж, помимо этого, личного мотива, был и политический расчет его окружения: Сахаров должен закрыть съезд своим напутствием, так сказать, тактическая находка «межрегионалов».
Но его стремление попасть на трибуну вызвало жесткое сопротивление депутатов. Все-таки я настоял предоставить ему пять минут. Съезд только под моим давлением согласился. Он начал говорить, явно повторяя то, о чем уже говорил десять дней назад. Пошла шестая или седьмая минута, я напомнил Сахарову:
— Андрей Дмитриевич, время истекло.
Сахаров не слушает и продолжает говорить. Я еще и еще раз прошу его заканчивать выступление. И когда наконец микрофон был выключен, Сахаров воздел руки к небу как жертва произвола. Поднялся дикий шум, часть депутатов и публики бурно его приветствует, выражая возмущение председателем. Словом, ловко разыгранное представление, которое должно показать стране, как беспардонно власти обращаются с заслуженным человеком. Чего от них ждать после этого!
И все же, при всех этих инцидентах, которые я объясняю воздействием на Сахарова не очень щепетильных людей из его окружения, завершу тем, с чего начал: он внес конструктивный вклад в работу Первого съезда, в становление у нас парламентской системы.
Да разве этим только измеряются его заслуги перед Россией! Одним из первых он выступил за демократию и свободу, обновление социализма и подлинную власть Советов. Такова была суть и созданного им проекта Конституции, который Андрей Дмитриевич передал в Конституционную комиссию. Мы хотели использовать многие точные формулы, написанные, между прочим, рукой не юриста, а физика.
Так получилось, что Первый съезд накрепко связан в моей памяти с двумя выдающимися соотечественниками: писателем Леоновым и ученым Сахаровым. Они очень разные, представляют как бы две ипостаси, два лика русской интеллигенции. И было бы диким упрощением повесить на них привычные ярлыки: один — государственник, другой — демократ. Оба они классики в своем деле. Оба и демократы, и гуманисты, и патриоты. Но каждый по-своему, у каждого своя главенствующая идея, свое пристрастие, свой угол зрения. И оба заслуживают нашего почитания, а главное — понимания.
Партия в раздумьях
Спустя несколько дней, 19 июня, мы обсуждали итоги съезда на Политбюро. Были дельные выступления, попытки серьезно осмыслить происшедшее. Но надо всем превалировала тревога: нажим на партию усиливается. Как всегда, сетовали на органы массовой информации, в том числе партийную печать. Говорили об обострении межнациональных отношений.
Чем, пожалуй, было необычно это заседание — на нем проявилось сближение позиций Рыжкова и Лигачева. До этого у них были острые споры по поводу полномочий. Премьер резко возражал против мелочного вмешательства цековского аппарата в свою епархию, возмущался тем, что референты со Старой площади без его ведома дают указания министрам. Секретарь ЦК, в свою очередь, цитировал Ленина: «Ни один вопрос не решается без ведома Центрального Комитета». Поскольку они сидели по правую и левую руку от меня, временами я ощущал своего рода вольтову дугу, и приходилось призывать коллег к спокойствию.
Но вот когда мы начали разворачивать политическую реформу, стычки между ними стали сходить на нет. Мимоходом я обратил внимание, что коллеги не задевают друг друга. Даже порадовался этому, не давая себе труда подумать, в чем дело. А тут вдруг бросилось в глаза: бывшие недоброжелатели говорят в унисон. И, хотя не сразу, понял, в чем дело. Соперничество за руководство хозяйственной сферой отошло на задний план, политическая реформа однозначно решила этот вопрос в пользу премьера. Зато приобретала все большую остроту полемика между последовательными реформаторами и «охранителями» в партии. Рыжков не был консервативен по духу — я уже говорил, что мы с ним начинали «рука об руку». Однако на определенном этапе засомневался, оробел. Да и мощная атака демократов против правительства, нападки прессы толкали его вправо. На этой почве он и начал сближаться со своим вчерашним соперником. Они дружно ругали прессу, демократов, сепаратистов, тревожились тем, что партия теряет власть. Им вторили другие.
Да что греха таить, и у меня были противоречивые ощущения. С одной стороны, безусловное удовлетворение тем, что реформа «пошла», создан новый парламент и это не декорум всевластия партии, а настоящее собрание избранных народом представителей. С другой — настораживали чрезмерные претензии радикалов, их бешеный натиск, стремление получить все сразу, и прежде всего отбросить партию от власти. Стратегическая установка на ликвидацию монопольного господства КПСС, вернее, партгосаппарата была правильна. Но тактически было целесообразней осуществить передачу власти Советам не рывком, а плавно, постепенно, чтобы не потерять управляемости страной и не дать тем самым повода «партократии» обвинить во всем перестройку.
Этими мыслями я призвал коллег отложить переживания по поводу личного своего положения и посмотреть на происходящее с широких позиций перестройки как революционного процесса. Первый съезд народных депутатов — это большой успех: сформированы дееспособные высшие органы власти, достигнуто согласие по основным направлениям политики на предстоящий период.
Я предложил провести обсуждение итогов съезда на совещании первых секретарей. Это было важно, чтобы освободиться от болезненного восприятия, не поддаться унынию. Съезд означал реальную передачу власти на высшем уровне, дальше этот процесс пойдет на республиканском и местном уровне, и будет он не менее болезненным. Нужно в короткие сроки решать эти проблемы, помочь Советам стать на ноги. Надо подготовить общий анализ прошедших выборов и внести новые предложения по избирательному закону. Требует доработки и обогащения наша экономическая программа. Необходимо и здесь продвигаться через реформу, а не накладывать на нее узду. По-настоящему заняться решением национальных и межнациональных проблем.
Защитить партию может только она сама, перестраивая свою работу, закончил я. Было решено провести совещание секретарей и отчеты в парторганизациях. Там, где надо, заменить руководителей, форсировать подготовку Пленума по проблемам национальной политики, готовиться к созыву внеочередного съезда.
Совещание секретарей открылось 8 июля 1989 года. Были рассмотрены практически все проблемы, вокруг которых бушевали страсти в стране: и события в Тбилиси, и секретный протокол Молотова — Риббентропа к советско-германскому пакту 1939 года, драматически отозвавшийся на судьбе Прибалтийских республик. И все-таки в центре съезда с первого до последнего дня оказалась тема партии, ее роли в обществе и государстве, ответственности за прошлое и настоящее.
Нельзя было делать вид, будто ничего не произошло. Напрашивался основательный разговор по всему комплексу вопросов, связанных с перестройкой работы партии. Всем было ясно, что совещание явится определенным рубежом в развитии КПСС, да и общества. Партия продолжала оказывать огромное воздействие на жизнь страны.
Я представил совещанию весьма критичный доклад с предложениями о деятельности партии в контексте новой ситуации. Позволю себе воспроизвести из него несколько ключевых тезисов, а уж потом скажу, что я сейчас об этом думаю.
«Съезд — это крупное продвижение на путях перестройки. Положено начало реальной передачи всей полноты государственной власти в руки Советов, созданию новой демократической модели, включению народных масс в решение общегосударственных вопросов. Тем самым политическая реформа нашего общества из области идей, разработок и планов переводится в плоскость практики, становится жизненной реальностью.
…В фокусе съездовской дискуссии оказался вопрос о партии. В этом есть своя логика, ибо перестройка политической системы, полновластие Советов немыслимы без изменения роли партии в обществе. Не может быть обновления общества без обновления самой партии. Партия оказалась под огнем критики не случайно. Выборы народных депутатов показали — кредит доверия, завоеванный ею разработкой революционной платформы обновления, не бесконечен. В чем причины поворота в общественном сознании в сторону острого критического отношения к партии? Нередко можно слышать мнение, что это связано с волной критики, односторонних выступлений нашей прессы, разоблачением прошлых ошибок и извращений. Но только этим или даже главным образом этим объяснить перемены в общественном мнении невозможно.
И здесь мы подходим к тому, что, по моему мнению, составляет суть вопроса. Перестройка в партии существенно отстает от движения общества по пути демократизации. На этой почве возникает реальная угроза потери партией лидирующей роли в обществе. Среди работников партийного аппарата — растерянность, неуверенность в своих действиях, неумение быстро ориентироваться в обстановке, боязнь проявить инициативу. Что это, кризис партии? Нет, не партии, а ее прежних функций, устаревших методов и стиля работы. Партия была встроена в административно-командную систему управления обществом, жила по ее законам. И не просто встроена, а, по сути дела, возвышалась над всем, контролировала все процессы государственной, хозяйственной, идеологической жизни, подменяя и подминая всех и вся, давая непререкаемые установки и команды государственным и хозяйственным органам, общественным организациям. Такая система не нуждалась в политических методах, отдавая предпочтение командным. Партийные комитеты и партийные работники отучились вести диалог с людьми, завоевывать их доверие, вести за собой силой убеждения, силой аргумента.
Сейчас иная общественная ситуация. Не командовать государственными, хозяйственными органами и общественными организациями, а идти в массы и работать с ними, выдвигать смелые идеи, разъяснять их людям, действовать открыто, смело опережая события, — вот что сегодня требуется от партийных комитетов.
Нередко можно слышать голоса из радикальных кругов о том, что партия якобы должна отказаться от власти, превратиться в закрытую секту или дискуссионно-просветительский клуб. Ни тот ни другой вариант не подходит для КПСС, которая является правящей партией и политической организацией.
Сама перестройка в партии должна осуществляться на демократической основе. Та борьба мнений, необходимость которой мотивирует многопартийность, должна быть обеспечена в рамках самой партии. Для этого нужно создать все возможности, в том числе уставные. Сохраняя единство по принципиальным вопросам, стратегическим целям, необходимо обеспечить широкое сопоставление взглядов, выдвижение альтернатив, разных подходов к решению той или иной проблемы.
В ходе работы Съезда народных депутатов СССР звучала мысль о том, что Советы выше ЦК КПСС. Подобная постановка вопроса, при которой партия фактически противопоставляется Советам, неправомерна. В действительности, Советы и партия с точки зрения их места в политической системе СССР находятся в разных плоскостях. Если Советы принадлежат к числу государственных институтов, то КПСС — общественно-политическая организация. Поэтому рассуждать о том, кто из них выше, это значит пренебрегать сколько-нибудь серьезной постановкой вопроса. Партия есть партия, парламент есть парламент.
…Изменение в обстановке побуждает уточнить позицию в вопросе совмещения должностей секретарей партийных комитетов и председателей Советов. Решайте эти вопросы сами в республиках, областях, городах, в районах. Председателем Совета может стать любой депутат, обладающий общепризнанным авторитетом, независимо от занимаемого поста и партийной принадлежности».
В заключение я высказался за приближение сроков очередного съезда КПСС, на котором можно было бы обновить Программу партии, принять новый Устав, обсудить основные направления развития на следующую пятилетку. Предложил готовить общепартийную дискуссию о роли КПСС в жизни общества.
Время, когда достаточно было одной работоспособности и добросовестного отношения к делу, уходило в прошлое. Если партия хотела сохранить влияние и тем более оставаться у власти в условиях демократии, она нуждалась не только и не столько в умелых администраторах, сколько в политических деятелях. И надо сказать, такие уже заявляли о себе. Вот и ответ тем, кто удивляется, что иные бывшие секретари успешно возглавляют области и республики, действуя в качестве демократических лидеров. Не происки номенклатуры стоят за этим (хотя и такое бывает), а ум, талант руководителя и, конечно, способность освоить новые жизненные реалии.
Первые баталии в Верховном Совете
Всякий, кто взялся за написание воспоминаний, — а теперь, похоже, пишет их чуть ли не каждый второй — знает, как трудно сделать выбор между хронологическим и проблемным подходом. Помучился над этим и я. Так и тянет рассказывать все по порядку. Да и проще. Но тогда остаются «оторванные концы», приходится, вопреки логике материала, постоянно прерываться и перескакивать с предмета на предмет.
Особенно нелегко с экономикой и политикой. Они настолько слитны, что в реальной жизни практически неразделимы. Редко какое политическое решение не имеет экономической подоплеки, и наоборот. Но ничего не поделаешь, отложу пока в сторону дискуссии вокруг экономической реформы — о них речь пойдет особо. Продолжу рассказ о политической реформе.
Первый съезд народных депутатов создал новый Верховный Совет. Это был фундаментальный шаг на пути формирования парламентаризма. Но на фундаменте, как известно, надо строить здание. А у нас не было еще ни четкого плана, ни многих «деталей конструкции». Регламент, процедура, структура палат и комитетов, права и обязанности Президиума, роль председателя, статус депутатов, порядок подготовки и прохождения законопроектов — все это вроде не составляло особого секрета, но требовало тем не менее освоения. Началась трудная работа, порой нудная. Больше организаторская, чем политическая.
При всем том, что за свою жизнь мне пришлось немало просидеть на заседаниях Верховного Совета, теперь, когда мы сотворили новый, и смею сказать, настоящий парламент, начинать пришлось с азов.
По существу же, работу начали как раз с избрания председателей палат. На Совет Союза Велихов от имени Совета Старейшин предложил Примакова. Не открою большого секрета, сказав, что вопрос этот предварительно обсуждался на Политбюро. И не только потому, что мы еще не отошли от заведенной практики — всякое серьезное кадровое назначение проводить сначала на высшем партийном уровне. Но и потому, что Евгений Максимович был кандидатом в члены Политбюро и, естественно, должен был получить от него согласие на новое назначение. Я пригласил его на трибуну отвечать на вопросы. Из его короткого вступительного слова хочу обратить внимание на один пассаж: «Верховный Совет и наша палата должны, безусловно, быть на страже интересов советских людей в процессе перестройки. И суть здесь в том, чтобы обе палаты осуществляли реальный контроль над деятельностью исполнительных органов. Эти функции, конечно, не были свойственны прежнему Верховному Совету. Сейчас мы создаем новый Верховный Совет, новый парламент, который должен и по-новому работать».
Так все мы тогда понимали задачу политической реформы — обеспечить реальный контроль представительных органов над правительством. И при этом, разумеется, не открывали Америки.
Примакову задали много вопросов, касающихся не столько его лично, сколько предстоящей работы Верховного Совета, — какие законы следует принять в первую очередь, как будут работать комитеты, и комиссии. Отвечал он толково, уверенно. Затем о нем хорошо отозвались несколько депутатов, приветствовали и сам факт, что председателем палаты избирается академик. В результате избран он был почти единодушно, всего при трех воздержавшихся. Тут же я уступил ему место, и он повел заседание. Приступили к обсуждению вопроса о комитетах и комиссиях — сколько их должно быть, как оптимально распределить между ними функции контроля за различными сферами деятельности. Пожалуй, особенно оживленная дискуссия возникла в связи с необходимостью углубления и правовой защиты гласности. Чуть ли не с первого дня работы нашего союзного парламента возник тот же вопрос, который станет в 1993 году предметом ожесточенной схватки.
Интересно, помнит ли А.А.Собчак свое тогдашнее выступление? Он говорил, что «сейчас именно средства массовой информации нуждаются в особом депутатском контроле». А Б.Н.Никольский — главный редактор ленинградского журнала «Нева» — напомнил предложение сделать прерогативой съезда или Верховного Совета назначение главного редактора газеты «Известия» и председателя Гостелерадио СССР. Через три года попытки депутатов вернуть Верховному Совету учредительские права над «Известиями» и хоть как-то влиять на политику телевидения с помощью наблюдательных советов будут приняты в штыки и объявлены «покушением на свободу слова». А вот то, что президент и его команда сделали средства массовой информации рупором своей партии, всячески притесняют оппозиционные издания, — это ничего, это нормально.
6 июня избирали Председателя Совета Национальностей. Выдвинутая, опять-таки по решению ЦК, кандидатура Р.Н.Нишанова, бывшего первым секретарем Компартии Узбекистана, была, в общем, встречена благожелательно. Но ему пришлось начать с рассказа о возникшей как раз в предыдущие дни конфликтной ситуации с турками-месхетинцами в Фергане.
Рафику Нишановичу я симпатизировал. Мне нравились его неизменное спокойствие, юмор, некоторая философская отстраненность от мелочей жизни — все то, что привычно связывалось с понятием восточной мудрости. Умение ладить с людьми, гасить стычки пригодились ему на посту Председателя Совета Национальностей. Я бы сказал даже, что Нишанов — прирожденный спикер, если бы не одно качество, которого ему недоставало. Это решительность, умение в нужный момент разрубить гордиев узел. Дипломат в нем брал верх над политиком. И получалось иной раз, что на заседаниях нашей «Национальной палаты» шла многодневная дискуссия, в том числе по процедурным вопросам, а в это время в нескольких точках Союза полыхали конфликты на этнической почве. Депутатский корпус мог бы (и обязан был!) активно содействовать их умиротворению. Не хочу брать на душу грех: некоторые комитеты и отдельные депутаты проявляли инициативу, ездили в «горячие точки». Но Совет Национальностей и его председатель как орган высшей власти, ответственный за эту сферу, не проявил себя в должной мере.
Разумеется, эту критику я отношу прежде всего к себе как Председателю Верховного Совета.
Нишанову при избрании пришлось «покрутиться», пожалуй, больше, чем Примакову. Его тоже «проэкзаменовали», выясняя, что он думает о равноправии наций, возможности использовать родной язык, способах урегулирования межнациональных конфликтов. Но вопросы чаще задавались не столько для того, чтобы получить на них ответ, сколько для изложения позиции по острым темам. И некоторых депутатов, настроенных на жесткую полемику, явно не устроили спокойные, уравновешенные суждения Рафика Нишановича, его примирительный тон.
В конце концов Нишанов был избран председателем палаты убедительным большинством.
На другой день на совместном заседании палат я огласил заявление Совета Министров СССР о сложении полномочий. Само по себе это — рутинное явление, но в наших условиях такой акт был существенным элементом политической реформы. Он подчеркивал намерение скрупулезно следовать конституционным нормам и, если говорить по существу, с самого начала поставить правительство под контроль парламента.
Во вступительном слове я дал не просто положительную характеристику Рыжкову как государственному деятелю, бывшему одним из инициаторов перестройки, но тепло отозвался о его нравственных качествах, демократичности, склонности к новаторству. Говорилось все это от души. Я тогда был убежден, что творческие возможности Николая Ивановича далеко не исчерпаны и реформаторский порыв не погас под влиянием обострившихся к тому времени экономических и социальных проблем. Собственно, о самих этих проблемах в моем выступлении было сказано в самой общей форме — не все сделано, как задумано, допущены серьезные просчеты.
И вот эта-то фраза не осталась без любопытных последствий. Дело в том, что кто-то из депутатов с места попросил Рыжкова разъяснить, о каких именно «серьезных просчетах» идет речь. А отвечать Председатель Совета Министров начал с того, что, по его мнению, «в принципиальном плане Совет Министров, претворяя в жизнь экономическую стратегию нашей страны, которая была выработана на XXVII съезде партии и на XIX партийной конференции, просчетов не допустил. Что касается отдельных положений, которые развивали эту стратегию, то, оценивая сегодня пройденный путь, мы действительно видим некоторые просчеты, которые отрицательно сказались на развитии народного хозяйства и на некоторых процессах, усиливших социальную напряженность в нашем обществе».
Таким образом, я говорил о серьезных просчетах. Николай Иванович предпочел отрицать наличие принципиальных просчетов. Вроде бы прямого разногласия здесь нет. Но оно назревало. О расхождениях в оценке хода наших экономических преобразований я уже рассказывал в связи с июньским Пленумом ЦК 1987 года и судьбой принятых им решений. Не мог не понимать этого и Рыжков. Но, видимо, положение главы правительства, крайне обостренное самолюбие и обидчивость, свойственные этому незаурядному руководителю, не позволяли более жестко отозваться о допущенных ошибках. А между тем решения по всем крупным хозяйственным вопросам принимались ведь коллективно на Политбюро. В их обсуждении участвовали министры, видные специалисты, ученые, чуть ли не в полном составе отделение экономики Академии наук. Да и в обществе они были поначалу встречены с энтузиазмом.
Это я говорю не к тому, чтобы хоть в малейшей мере снять ответственность за ошибки, допущенные на первом этапе экономической реформы. Нет, просто я думаю, что сидевшее во всех нас старое мышление еще не давало возможности предвидеть все последствия принимавшихся новых, оригинальных решений. Мы заглядывали вперед, как бы высовываясь из окон, оставаясь туловищами в «старой квартире». А значит, и поле обзора было ограничено. Но уже к середине 1989 года и особенно в следующем, 1990 году многое прояснилось. Стало возможным и необходимым двигаться вперед не на ощупь, не методом проб и ошибок, а разработав и приняв целостную программу экономической реформы.
Утверждение Рыжкова на посту Председателя Совета Министров СССР вылилось в длительную и содержательную дискуссию по вопросам экономической стратегии. Положение в народном хозяйстве было достаточно сложное, хотя, конечно, еще далеко от того глубокого кризиса, точнее сказать, трясины, в которую завели его последующие эксперименты по методу шокотерапии или даже шокохирургии. Нараставшие требования регионов, социальных слоев и профессиональных групп были тогда связаны не столько со спадом жизненного уровня, сколько с большими ожиданиями на быстрое его повышение. «Революция ожиданий» вызвала своего рода потребительский ажиотаж. Все торопились застолбить свои претензии к власти, которые раньше просто не смели предъявлять. А та, разумеется, была не в состоянии удовлетворить их. В то время даже самые трезвые и осторожные экономисты еще не пришли к печальному заключению: чтобы провести структурную перестройку экономики и выйти на уровень развитых стран, понадобится не год-два, а 15–20 лет.
В прениях по докладу Николая Ивановича приняли участие многие депутаты; почти все республики и области поспешили рассказать о своих бедах и сделать заявку на свою долю государственного пирога. Но наряду с традиционными, знакомыми по прежнему Верховному Совету просьбами и пожеланиями было высказано немало интересных предложений. Экономическая реформа еще не принесла ничего путного на практике, зато начала давать некоторые дивиденды в общественном сознании, выталкивая на поверхность людей инициативных, думающих, изобретательных.
Рыжков был назначен Председателем Совета Министров при 9 голосах против и 31 воздержавшемся.
Председателем Комитета народного контроля вместо СИ. Маня-кина был выдвинут Г.В. Колбин. Тут возник любопытный эпизод. Депутат Л.И. Сухов спросил, не подойдет ли на эту роль Ельцин. К тому времени у меня состоялась беседа с Борисом Николаевичем, я предложил ему возглавить комитет ВС по вопросам строительства и архитектуры. Он обещал подумать, но фактически предпочел взять на себя функции лидера оппозиции в парламенте. Короче, мне не пришлось вдаваться в подробности, поскольку сам Ельцин поддержал кандидатуру Колбина. Председателем Верховного суда избрали Е.А.Смоленцева, Главным государственным арбитром СССР Ю.Г.Матвеева и Генеральным прокурором СССР А.Я.Сухарева. Вопросы им задавались «въедливые». Отвечали они в целом удачно.
Дальше последовали выборы председателей комитетов и комиссий, выработка процедуры и регламента. А параллельно начался длинный марафон обсуждения состава правительства. Сначала шли заместители Председателя Совмина — Маслюков, Воронин, Абалкин, Бирюкова, Гусев, Догужиев, Каменцев, Лаверов. Затем Шеварднадзе открыл длинный список министров, членов коллегии прокуратуры, Верховного суда и других высших должностных лиц, подлежавших утверждению Верховным Советом СССР.
Продолжалась эта процедура с конца июня до последних чисел августа и, откровенно говоря, изрядно всех нас измотала. Рыжков жаловался в Политбюро, что невозможно заниматься делами, приходится день за днем просиживать на заседаниях парламента, где («реже по делу, чаще, чтобы показать себя в телевизоре или покуражиться») какой-нибудь слишком грамотный депутат старается «посадить в лужу» опытного министра. А с другой стороны, многие депутаты жаловались, что руководство не хочет менять «колоду», упорно протаскивает через парламентские слушания многих сановников, которые себя давно исчерпали, неспособны работать по-новому.
Думаю, рациональное зерно было у тех и других. Наверное, мы недостаточно решительно подошли к смене кадров, выдвижению новых людей, заявивших о себе к тому времени. С другой стороны, и депутатский корпус ведь не был в состоянии достаточно квалифицированно провести проверку называвшихся кандидатур. А что касается целесообразности самой процедуры утверждения практически всего состава Совмина, то, хотя она и отняла уйму времени и немало попортила нервов, я все-таки остаюсь при убеждении, что это было необходимо. Ведь в первый раз в нашей стране было создано правительство, по-настоящему ответственное перед парламентом, прошедшее легитимацию.
Сразу же после утверждения на должности в правительстве ряд народных депутатов (Абалкин, Лаверов, Мостовой, Матвеев) подали заявления о сложении депутатских полномочий. Это было сделано в соответствии со статьей 96 Конституции СССР. Вспоминая этот эпизод, я невольно сопоставляю его с указом Президента России, разрешающим совмещать звание депутата с министерскими и иными постами в органах исполнительной власти. На недоуменные вопросы граждан обслуживающие президента юристы разъясняют, что здесь нет ничего оригинального, в некоторых странах это разрешено, поскольку тем самым лучше подчеркивается подчиненность правительства парламенту. При этом «забывают», что согласно новой Конституции в России создается не парламентская, а президентская республика. Члены правительства назначаются главой государства и всецело перед ним ответственны.
Главное даже не в этом. Мы едва высвободились из пут тоталитарной системы, в которой Политбюро и примыкающий к нему узкий слой облекал себя высшими партийными, правительственными и парламентскими полномочиями. Это полное слияние формировало своего рода знать, составлявшую опору «трона», то есть поста генсека. Вот почему для нашей страны имело принципиальное значение разделение властей и, безусловно, связанный с ним запрет на одновременное участие в законодательном и исполнительном корпусе. Теперь опять все вернулось на круги своя. Остается надеяться, что ненадолго.
Шахтеры и большая политика
Закончив с формированием правительства, Верховный Совет принял план законодательных работ. Прежде всего нужно было подготовить и принять закон об изменениях и дополнениях к Конституции СССР, чтобы создать правовые основы для ряда крупных, так называемых органических, законов и всей прочей деятельности парламента.
Следующий блок проблем был связан с рассмотрением вопросов стабилизации экономического положения страны и осуществления реформ. Имелось в виду, в частности, принять законы об аренде и арендных отношениях, о единой налоговой системе в СССР, о республиканском и региональном хозрасчете. Наиболее сложной и масштабной целью явилась подготовка закона о собственности и обновление законодательных актов о земле и землепользовании.
Решающее воздействие призван был оказать блок законов, устанавливавших новые отношения между гражданином и государством, реально обеспечивающих политические свободы и гражданские права, идейный и политический плюрализм. К ним, в частности, относились законы о печати и других средствах массовой информации, об общественных объединениях граждан СССР, о правах профессиональных союзов, о свободе совести и религиозных организациях. А 14 июля этот перечень актов был пополнен еще одним проектом, внесенным правительством и ВЦСПС, — о порядке разрешения коллективных трудовых споров. В последний момент жизнь внесла поправку. По-существу, потребовалось отложить на время иные заботы и безотлагательно, в форсированном порядке готовить закон, регулирующий забастовки.
В Польше прежняя система зашаталась, когда силезские шахтеры поддержали гданьских портовиков, начались стачки, локауты, голодовки. Думаю, то же можно сказать и о нас: быстрое разрушение просуществовавшего 70 лет общественного устройства началось с волнений шахтеров — одного из самых крупных и боевых отрядов рабочего класса, на который, по идее, опиралась Советская власть. Есть, однако, существенная разница между тем, как развивались события в Польше и в Советском Союзе. Там горняки поднялись против партийно-государственной номенклатуры, еще не помышлявшей о реформах. У нас их протест стал возможен в результате начатых сверху перемен, а удар огромной силы пришелся рикошетом по самим реформаторам.
На заседании Верховного Совета 19 июля 1989 года Каземирас Уо-ка, председатель Союза рабочих Литвы, прислал мне записку: «Михаил Сергеевич, Союз рабочих Литвы тоже против дестабилизирующих забастовок, но произошло это потому, что были условия рабочим организоваться; иного пути борьбы с местной мафией нет. Надо дать рабочим организоваться, и забастовок будет меньше».
Я сказал тогда, что поддерживаю эту идею. «Мы должны опираться во всей работе на ведущую, решающую силу нашего общества — рабочий класс, на его организованность, ответственность, приверженность социализму и политике, которую мы сейчас осуществляем в рамках перестройки. Но мы не можем игнорировать то, что рабочие в последнее время остро ставят перед нами вопросы… Может быть, настало время создавать какие-то комитеты в помощь перестройке, против саботажников перестройки?»
В Кемерово, где был в тот момент основной очаг забастовочного движения, рабочие вели себя ответственно, по распоряжению забастовочных комитетов были закрыты магазины, продающие спиртное. Рабочий класс демонстрировал высокую организованность и вместе с тем высокую требовательность. У него были на то все основания. Комиссии, направленные по линии ЦК и правительства в районы угледобычи, докладывали, что из года в год, из десятилетия в десятилетие не выполнялись решения, касавшиеся строительства жилья, благоустройства городов и поселков, снабжения населения.
Устарела, далеко отстала от мирового уровня техника добычи угля, особенно шахтным способом. Крайне тяжелый труд в условиях перманентного риска не получал достойного вознаграждения. Нужно было принимать безотлагательные меры. С этой целью, в частности, Слюньков ездил по моему поручению в Кузбасс, вел переговоры с лидерами горняков и привез развернутые предложения.
Словом, я хорошо понимал причины, вынуждавшие шахтеров на крайнюю форму зашиты своих интересов, и никогда не позволял себе упрекнуть их за это. Но факт состоит в том, что недовольство рабочих умело использовалось радикалами в борьбе за власть. Их никоим образом не смущало, что остановки на многие месяцы огромных районов угледобычи лишали страну миллионов тонн ценного энергетического сырья, ставили под угрозу работу смежных отраслей, в первую очередь металлургии. Все это пагубно отражалось на быте людей. Эмиссары Межрегиональной группы, фактически сложившейся уже в партию, начали сновать по всей стране, подстрекать к забастовкам железнодорожников и рабочих других отраслей. Это был в полном смысле слова удар в спину, сыгравший роковую роль в судьбе перестройки.
Ельцин и его соратники знали, не могли не знать, что у правительства нет возможности в короткие сроки, обозначавшиеся в шахтерских ультиматумах, удовлетворить все требования, как бы справедливы они ни были. Наглядное тому свидетельство: зимой 1993/94 года после двух лет полновластия радикалов вновь начались забастовки в районах угледобычи, поскольку почти все обещания и посулы, данные шахтерам ельцинистами, остались невыполненными. В профсоюзах и стачечных комитетах не забыли уроков, преподанных Беллой Денисенко и другими агитаторами. Так что не стоит удивляться, когда наряду с экономическими требованиями выдвигаются и политические: отставка правительства, досрочные перевыборы президента. Поистине, что посеешь — то и пожнешь. Говорю это без всякого злорадства. Потому что в 1993—1994-м, как и в 1989-м, забастовки обошлись стране и народу дорогой ценой.
Но вернусь в 1989 год. 24 июля я имел возможность проинформировать Верховный Совет о протоколе, который был подписан Слюньковым, первым зампредом Совета Министров Ворониным и председателем ВЦСПС Шалаевым с председателем забастовочного комитета Кузбасса Авалиани и его заместителями. Достигнутые соглашения правительство готово было распространить на другие угледобывающие районы. Прежде всего, конечно, на Донбасс, Воркуту.
Очень трудно мы выходили из тяжелого кризиса, который стал, может быть, самым серьезным испытанием за все четыре года перестройки.
Забастовки шахтеров были в центре внимания Верховного Совета, идущих на нем дискуссий. Выступая на сессии Верховного Совета, В.И. Колесников, заведующий кафедрой Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта, сказал: «Вот мы говорим, что у нас рабочий человек хозяин, но вы мне скажите, есть ли в истории случай, когда бы хозяин бастовал? Нет. Значит, здесь что-то не так». Бригадир слесарей Новокуйбышевского нефтехимического комбината В.А.Леончев так определил суть проблемы: «Рабочий человек больше не может и не хочет мириться с кабальной системой управления наших производств, системой труда. Мы долго молчали, терпели, подмятые командно-бюрократической системой. Но этому пришел конец. И забастовочное движение шахтеров — это предвестник краха системы».
Ну и, наконец, я позволю себе воспроизвести отрывок из обращения забастовочных комитетов городов Инты и Воркуты. «Забастовки шахтеров носят объективный, перестроечный характер, являются признаком наступающего кризиса административно-командной системы, не способной удовлетворить интересы трудящихся. Выступление шахтеров мы расцениваем как поддержку перестройки и предостережение тем, кто хочет, чтобы все оставалось по-старому». Предельно ясное свидетельство того, что рабочий класс перестал считать существовавшую систему своей, категорически ее отвергает. Этот сигнал был послан в первую очередь партии, которая продолжала править страной от имени рабочего класса. Но наши фундаменталисты до сих пор не сумели его расшифровать, все еще по-детски удивляются тому, что рабочие оказались равнодушны к судьбе КПСС. А в новом политическом раскладе немалая их часть отдает голоса даже не вновь возникшим социалистическим и социал-демократическим, а правым партиям и течениям.
Далее в обращении говорилось: «Мы понимаем, что, выставляя экономические требования, должны помнить: экономика страны находится в глубоком кризисе. Сегодня государству трудно будет найти средства для того, чтобы удовлетворить все наши требования. Но экономическая самостоятельность нам должна быть предоставлена… Мы устали ждать решение наболевших проблем от пятилетки к пятилетке. Именно этим вызвано то, что вынуждены пойти на крайнюю меру — забастовку. Настал момент, когда решения всех предъявленных требований нельзя откладывать ни на секунду».
Процитирую и требования шахтеров Печорского бассейна, изложенные тем же Лушниковым: «1) Действительно передать власть Советам, землю крестьянам, фабрики рабочим. 2) Отменить выборы в Верховный Совет СССР от общественных организаций. 3) Отменить статью в Конституции СССР о руководящей и направляющей роли партии. 4) Проводить прямые и тайные выборы Председателя Верховного Совета СССР, председателей местных Советов, начальников городских, районных отделов Министерства внутренних дел на альтернативной основе. 5) Отменить практику лишения слова депутатов на сессиях, съездах народных депутатов СССР путем голосования. Каждый депутат имеет право голоса, независимо от мнения большинства». Требования один к одному повторяли программу радикалов, и писались они под их диктовку в Москве.
Советы
Став у власти осенью 1991 года, радикалы развернули мощное наступление на Советы, объявив их цитаделями тоталитарной системы. А затем, воспользовавшись событиями 3–4 октября 1993 года, фактически смели с лица земли всю советскую систему, все представительные органы. Кое-где Советы отказались самораспускаться, но в конце концов их принудили к этому силой.
В чем же дело? Действительно ли советская форма не годится для демократии? Такое допущение опровергается уже тем, что до поры до времени у радикалов никаких претензий к Советам не было. Напротив, Сахаров и в своем проекте Конституции сохранил эту форму, и на Первом съезде народных депутатов СССР предложил принять декрет о передаче всей власти Советам. Больше того, именно через Советы, благодаря им Гавриил Попов был избран председателем Московского Совета, Анатолий Собчак — Ленинградского, а Борис Ельцин — Верховного Совета России. В то время из этого лагеря не доносилось никакой хулы по адресу советской формы демократии. Да и какие могли быть у того же Ельцина претензии к Верховному Совету, если депутаты, не подумав о последствиях, послушно и даже с энтузиазмом приняли Декларацию независимости России, разрушавшую союзное государство, ратифицировали Беловежское соглашение, дали президенту дополнительные полномочия для проведения экономической реформы, согласились, чтобы он возглавил правительство и целиком сформировал его по собственному разумению.
Повод для недовольства возник тогда, когда депутатский корпус, по крайней мере большинство его, убедившись в пагубных последствиях для государства и народа «шокохирургии», стал сначала робко, а затем все смелее выражать несогласие с этим. Вот тогда и ополчились на Советы, тогда и начался конфликт между исполнительной властью и органами народного представительства, закончившийся для последних полным разгромом.
Остается, однако, вопрос: совместима ли эта форма с парламентской? Если поставить его конкретнее: можно ли сочетать советский принцип с принципом разделения властей, на котором держится система парламентаризма? И ответ должен быть положительным. По крайней мере, опыт, накопленный за недолгое время существования нового нашего парламента, подтвердил возможность совмещения этих двух принципов государственности.
Противники его обычно выдвигают такой довод: полновластие Советов никак не может сочетаться с разделением властей. Но это либо непонимание, либо сознательное искажение сути дела. В немалой мере оно связано с несовершенством самого понятия. Верховная власть действительно не подлежит никакому разделу. Она должна быть цельной и единой, иначе следовало бы предположить, что в государстве будет двоевластие, троевластие, возможно одновременное проведение нескольких политических курсов. То есть все то, что свойственно кратковременным периодам смуты и завершается крахом одной системы, установлением другой.
Всегда должен существовать орган, за которым признается верховенство. И весь смысл буржуазных или демократических революций в том и состоял, что они отобрали высшую власть у монархов и наделили ею законодательные собрания как органы народного представительства. Именно парламенты являются носителями высшей власти в демократических государствах. Это правило, естественно, распространяется и на наш Верховный Совет.
Но признание верховенства за органами народного представительства не исключает возможности разделения функций власти. Парламент сосредотачивается на главной задаче государственного управления — законодательстве. Текущую управленческую работу осуществляет правительство. А правосудие и решение юридических споров возлагается на суд. При этом жизненно важные вопросы, касающиеся судеб государства и народа, прав граждан (объявление войны, заключение мира, бюджет, налоги), остаются за парламентом.
Так что полновластие Советов никоим образом не мешает разделению функций власти или, как принято говорить, разделению властей. И расправились радикалы с Советами просто потому, что не нашли у депутатского корпуса поддержки своей политике.
В чем есть известная доля правды у критиков советской системы? Советы, как всякое вообще народное собрание, вече, дают возможность для митинговщины, усложняющей, а то и парализующей принятие и исполнение решений. Эта болезнь присуща и парламентам, которые марксисты презрительно именовали говорильнями. Я бы сказал, что она излечима. Противоядием служат точные процедуры и регламенты работы выборных органов, а главное — высокий профессионализм депутатского корпуса.
Об этом я также говорил в своем заключительном слове: «Мы пытались привнести в работу Верховного Совета СССР максимум профессионализма, не в ущерб связи с массами, выйти из митинговых форм обсуждения вопросов. И это, как мне кажется, в основном тоже удалось. Найден вариант постоянно действующего высшего законодательного, исполнительного и контролирующего органа власти… В его работе уйма недостатков и слабостей, но он изо дня в день на глазах у миллионов людей, наблюдающих за его работой, прибавлял обороты, повышал компетентность, демонстрировал углубленный подход к решению проблем».
У меня было основание отметить такое важное новшество, связанное с работой первой сессии Верховного Совета, как взятие под парламентский контроль внешней политики. Ведь в прошлом не было даже намека на такую возможность. Поначалу было не до международных вопросов, занимали больше внутренние дела. Но уже начали вноситься депутатские запросы по тем или иным аспектам внешней политики, после дискуссии ратифицировано несколько международных актов.
Раскрою один секрет. На первых стадиях наших переговоров с американцами по вопросам разоружения то и дело приходилось выслушивать от них ссылки на трудности в конгрессе: мы, мол, в правительстве готовы пойти на тот или иной вариант, да вот сенаторы не пропустят. На этом основании требовали от советской стороны уступок. И у нас во внутреннем кругу как-то всерьез обсуждали: не стоит ли выставить американцам аналогичный довод, организовав критические выступления против готовящихся соглашений в Верховном Совете? Потом эту идею отвергли, поскольку все равно никто не поверил бы, что это всерьез, не инсценировка. А главное — опасались показать «дурной пример»: чего доброго, войдут во вкус и начнут всерьез критиковать нашу внешнюю политику.
Теперь же парламент начал брать под свой контроль международную политику. В скором времени дала о себе знать и консервативная реакция на крупные внешнеполитические меры, осуществлявшиеся в соответствии с новым мышлением. Шеварднадзе все чаще требовали к ответу, и мы с ним вполушутку, вполусерьез говорили, что ввели демократию себе на голову.
Некоторые политологи и историки до сих пор ставят мне в вину, что в заключительном слове по итогам первой сессии я негативно отозвался о создании Межрегиональной группы: «По существу, речь идет о попытке придать некую организационную форму естественному различию во взглядах и подходах к проблемам общественного развития. Не приведет ли такое искусственное размежевание к противостоянию по конкретным вопросам, которые приходится решать нашему Верховному Совету, не усложнит ли тем самым выполнение задач, которого от нас ждут избиратели, советское общество?.. Если дело у нас общее, если все мы считаем своим высшим долгом вывести страну из кризиса на путях перестройки, поднять уровень материального и духовного благосостояния народа, обновить наш социалистический и общественный строй, раскрыть его богатый потенциал, — если в этом мы согласны, то мы всегда договоримся. Думаю, депутаты согласятся с тем, что нам надо идти именно этим путем: путем объединения сил и укрепления взаимного доверия. Это ни в коей мере не отрицает возможность отстаивания принципиальных взглядов. Прошедшие дни работы Верховного Совета уже наглядно показали, что плюрализм мне-* ний не может быть препятствием для единства действий».
Заявление о возможности договориться было встречено аплодисментами. Едва ли можно оспорить мысль о желательности дружной работы в период, когда страна переживает трудные времена. Но, конечно, от этого отдавало известным неприятием политического плюрализма. У депутатов, вошедших в состав Межрегиональной группы, были уже свои цели, отличные от других. Да и в остальной депутатской массе намечалась дифференциация. Это было естественным отражением множественности социальных интересов в обществе, которая категорически не признавалась при тоталитарном режиме, а с его демонтажем неизбежно должна была себя проявить. Ну а за выявлением групповых (или классовых) интересов должно было последовать формирование движений или партий. Собственно говоря, образование Межрегиональной группы и было первым шагом к этому.
Должен заметить в свое оправдание, что у меня не было поползновений запретить, разогнать межрегионалов или попытаться разрушить эту группировку путем каких-то интриг. Более того, со многими из них у меня были и остались хорошие отношения. Очень скоро из факта возникновения этого зародыша партии радикалов были сделаны правильные выводы. Мы начали думать, что повышению эффективности действия нового парламента послужат не бесплодные попытки добиваться искусственного единства всех депутатов, а образование групп или фракций и их деловое взаимодействие. Конечно, речь еще не заходила о партийном структурировании парламента. Но первые шаги в этом направлении начали делать уже на следующей сессии.
Глава 15. Власть перемещается со Старой площади в Кремль
Законодательные будни
А вот на второй сессии Верховного Совета, состоявшейся с 25 сентября по 28 ноября 1989 года, основное место было отведено законодательной работе.
В отличие от первой сессии, я намного реже председательствовал на заседаниях Верховного Совета осенью. В то же время я был в курсе всего, что там делалось. А в особо важных случаях, как, например, при рассмотрении вопроса об экономической самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии, председательствовал сам.
Поделюсь своими впечатлениями о главных событиях сессии, так или иначе способствовавших продвижению реформ.
За два месяца Верховный Совет принял закон об аренде и арендных отношениях в СССР, закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). Одобрил в первом чтении или передал для всенародного обсуждения законопроекты о собственности, о земле и земельных отношениях, о пенсиях, об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства, о печати и других средствах массовой информации, об основах законодательства, о судоустройстве, о языках и гражданстве и многие другие.
Один этот перечень показывает, что речь шла не о каком-то штопанье нашего законодательного полотна, заполнении его прорех. Нет, это было законотворчество, сравнимое по своему значению с такими вехами истории России, как создание уголовного уложения при царе Алексее Михайловиче, правовые реформы Петра I и Александра II, пересмотр всей системы права после Октябрьской революции. Я сейчас оставляю в стороне оценку мотивов и последствий, говорю только о масштабе проделанной работы. Она затронула все ключевые сферы общественного и государственного устройства. Было положено начало коренной реформе нашего права, а через него — всей системы общественных отношений в стране.
Конечно, мероприятия подобного масштаба не осуществляются с налета. То, что за 2–3 месяца удалось «изготовить» неплохие законы по многим основополагающим вопросам, объяснялось в значительной мере наличием солидного «портфеля». Четыре предшествующих года преобразований или приступов к ним, «замаха» на них не прошли даром. Практически по всем капитальным вопросам у нас уже было более или менее сложившееся представление, как следует обновлять жизнь, на каких основах. А во многих случаях к этому добавлялся и практический опыт. Думаю, всем этим и объясняется то, что многие законы, разработанные в то время, с незначительными уточнениями были восприняты в республиках.
Считаю необходимым рассказать о заседании, на котором обсуждалось постановление об экономической самостоятельности Прибалтийских республик. Все, конечно, прекрасно понимали, что дело здесь не только в экономике, рассматривается вопрос огромного значения для всей будущности Советского Союза. И хотя прибалты были пионерами, мало кто сомневался, что такой же самостоятельности не сегодня-завтра потребуют другие союзные, а возможно, и автономные республики. Фактически отрабатывалась модель преобразования нашего сверхцентрализованного унитарного государства в реальную федерацию или конфедерацию.
Все это достаточно четко просматривалось уже в докладах председателя комитета Верховного Совета по вопросам экономической реформы В.М.Вологжина и Ю.Х. Калмыкова, ставшего впоследствии министром юстиции России (тогда — заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, законности и правопорядка). Он, в частности, сказал, что комитет отверг требования объявить землю и другие природные ресурсы исключительной собственностью соответствующих республик, о безвозмездном переходе в их собственность всех союзных предприятий и объектов, а также о действии на их территории союзных законов только после того, как они ратифицированы местными парламентами. К этим спорным моментам в последующем добавился еще один — о сохранении за союзным правительством права устанавливать налоги и иные платежи в союзный бюджет.
Эта «триада» — законы, собственность, налоги — стала предметом ожесточенных дискуссий в процессе всей дальнейшей работы по преобразованию государственного устройства СССР. Многократно обсуждали мы этот вопрос с руководителями республик на заседаниях Совета Федерации, а затем Государственного Совета СССР. Но хотя основные баталии вокруг федеративной или конфедеративной модели были впереди, практически все основные аргументы «за» и «против» уже прозвучали в связи с переходом Балтии на экономическую самостоятельность.
Казимира Прунскене, поддержав формулировку согласительной группы по вопросу о собственности, настаивала, чтобы отчисления в госбюджет для выполнения общесоюзных функций производились республиками на основе «одноканальных платежей, установленных по соглашению между Верховными Советами республики и Союза». Что же касается политической стороны проблемы, она подчеркивала: «Федерализм не может быть самоцелью. Это лишь средство для выживания, для повышения жизнеспособности и качества жизни человека, народа, сообщества. Не федерация объединяет народы, а они образуют сообщество и выбирают конкретный путь федерализма».
С тех же позиций выступал тогдашний Председатель Совета Министров Эстонии И.Х.Тооме, заявивший, что центральные ведомства блокируют всякое продвижение к реальной экономической самостоятельности республик. «Нас, — говорил Тооме, — упрекают в том, что мы политизируем вопрос об экономической самостоятельности. Мы не хотим его политизировать. Но он политизируется в других местах и здесь, в Москве, тем, что многие министерства, госкомитеты и ведомства, начиная с Госплана СССР, по сути дела, не выполняют решения, которые были приняты в июле вами, уважаемые депутаты[13]. Мы постоянно натыкаемся на стену глухого противостояния людей, почувствовавших угрозу своей власти, своему всесилию. Этим и только этим объясняется упорное стремление не включать обсуждаемый сегодня вопрос в повестку дня сессии, навязать нам те основополагающие принципы: полусамостоятельности, полухозрасчета и четверть самофинансирования, которые были нами уже дважды отвергнуты при обсуждении законопроекта об общих началах руководства экономикой и социальной сферой в союзных и автономных республиках».
А вот в том, что касалось политической стороны вопроса, тут депутаты из Прибалтики явно лукавили, пытаясь убедить, что у них на уме нет никаких далеко идущих планов, одно стремление получить возможность для инициативной работы и показать хороший пример всем остальным. Они всячески открещивались от сепаратистских намерений, подчеркивали, что полная хозяйственная самостоятельность республик приведет к сплочению, как говорил тот же Тооме, «на основе не административно-бюрократической системы, а общности коренных интересов всех наших народов, то есть на основе функционирования подлинно демократического, правового и именно тем сильного государства».
Настойчивое стремление прибалтийских руководителей вырвать себе намного больше прав, чем у всех остальных, не лишаясь в то же время преимуществ, связанных с принадлежностью к мощному народно-хозяйственному комплексу страны, вызывало растущее подозрение и противодействие. Прежде всего многие были недовольны тем, что прибалты как бы получают особые привилегии, считали, что переход на экономическую самостоятельность должен быть осуществлен единовременно и на основе общих принципов экономической реформы.
На том заседании, о котором я сейчас рассказывал, страстей было хоть отбавляй. Каждое меткое слово, афоризм прибалтийских депутатов встречались аплодисментами симпатизировавших им коллег из Грузии, Армении, Межрегиональной группы. Другая часть зала — ее было большинство — дружно поддерживала своих ораторов. То и дело подавались гневные реплики с мест, ободрительный смех или шиканье.
В один из моментов, когда страсти накалились и ораторы начали бросать друг другу угрозы и обвинения, мне пришлось вступиться: «Пока ход дискуссии не обещает оптимального решения, которое отвечало бы интересам всего Союза. Подходы «лоб в лоб» и «стенка на стенку» — это не стиль, не метод работы Верховного Совета СССР. Они вообще не годятся для нашей сегодняшней общественной жизни. Я хотел бы, чтобы мы слышали друг друга. Я имею в виду выступления, в которых прозвучали ультимативные нотки. Подобное здесь неприемлемо.
Верховный Совет должен двигаться по принципиальному пути: мы за Федерацию, но преобразованную, наполненную содержанием в том, что касается суверенитета, прав и обязанностей, экономической самостоятельности и т. д. Давайте искать. Обсуждаемый сегодня законопроект — важный шаг на пути этих поисков».
Предоставил сразу после своего выступления слово Назарбаеву, а он построил его умело, на конкретных примерах, с цифрами показал необоснованность притязаний прибалтийских руководителей получить льготы фактически за счет других республик.
«Ломать не трудно, построить сложнее, — говорил Назарбаев. — Можем ли мы вот так, легко и просто разрушить наш федеративный дом? Ежегодно Казахстан вывозит в другие регионы страны различных ресурсов более чем на 9,5 миллиарда рублей. Вместе с тем республика получает, в том числе из Прибалтики, около 40 процентов готовой продукции, комплектующих изделий, оборудования. Исходя из объективных законов развития экономики, число связей по кооперации будет неизбежно расти, по крайней мере, в арифметической прогрессии. Отсюда возникает необходимость укрепления стыков, взаимосвязей обособленных хозяйственных звеньев. Без этого нельзя повышать эффективность производства, качество. Иначе можно легко прийти к развалу экономики. Именно на такой путь, нам кажется, может привести нашу Федерацию вынесение на обсуждение Верховного Совета документов, представленных прибалтийскими товарищами».
Назарбаев привел цифры, свидетельствующие, например, что на поставках в Эстонию шерсти, хлопка, металла, зерна, меди, продуктов основной химии, растениеводства Казахстан теряет 4 миллиарда рублей ежегодно. Если бы он вывозил эти товары на мировой рынок, то мог бы получить за них компенсацию, значительно превышающую стоимость того, что поступает в республику из Эстонии.
Вот ведь что интересно: все руководители или почти все в то время отдавали себе отчет, чем грозит обернуться разрыв хозяйственных связей. Я не уставал говорить об этом до последнего момента. И все же в декабре 1991 года сепаратисты довели свою подрывную работу до трагического финала — распада СССР.
В той дискуссии, о которой я сейчас рассказываю, руководители Прибалтийских республик в конечном счете согласились внести существенные поправки в свое толкование «триады». Были найдены компромиссные формулировки, позволившие парламенту принять соответствующий закон и ввести его в действие.
На той же сессии прозвучала речь, которая с высоты наших сегодняшних знаний была фактически прологом к Беловежской пуще. В то время как казах Назарбаев вразумлял прибалтов о необходимости сохранения связей в рамках целостного народно-хозяйственного комплекса страны, Ельцин, напротив, посетовал на то, что статус экономической самостоятельности не получила первой Россия и она к этому даже не готова. Это была его первая заявка на роль «выразителя» интересов России.
27 ноября Верховный Совет вернулся к вопросу об экономической самостоятельности Прибалтики. Состоялась очень интересная, квалифицированная дискуссия с участием Абалкина и Рыжкова. Страстей опять-таки было предостаточно, особенно вокруг вопроса о суверенитете. К тому моменту Прибалтийские республики уже приняли декларации на этот счет, а Президиум Верховного Совета признал их неконституционными. Накануне сессии я несколько раз встречался и вел долгие беседы с И.О.Бишером, В.А.Пальмом, К.Прунскене, Ю.Р.Бо-ярсом, А.В.Горбуновым, и мы в конце концов пришли к согласию в том, что необходимо безусловное признание союзных законов по вопросам союзной компетентности. Иначе говоря, эта чрезвычайно деликатная и острая проблема могла найти решение (и в конечном счете нашла такое решение в проекте Союзного договора) с помощью четкого распределения полномочий. Но эта работа была еще впереди.
О представительстве общественных организаций
Осень 1989 года выдалась тревожной. Заметно, по крайней мере, по тогдашним нашим представлениям, сокращалось производство, очищались полки в магазинах. То и дело возникали ситуации «товарного голода», когда из продажи на несколько дней полностью исчезали табачные изделия, сахар и т. д. К этому надо добавить обострение межнациональных проблем.
В этой ситуации важно было стабилизировать обстановку и обеспечить тем самым возможность продолжения политической реформы. Ключ к этому лежал в социально-экономической сфере, проблемы которой и оказались в центре Второго съезда народных депутатов СССР. В сложившихся тогда обстоятельствах особое значение приобретал доклад Председателя Совета Министров СССР «О мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходах к разработке 13-го пятилетнего плана». Он долго готовился, тщательно и придирчиво обсуждался и стал предметом длительных, острых прений на съезде.
Своими мыслями на этот счет я поделюсь, когда поведу речь об экономической реформе. А здесь нужно сказать о теме, которая составила «нерв» всей политической дискуссии, стала предметом ожесточенной полемики.
Это — представительство общественных организаций. На первый взгляд может показаться странным, почему хотя и существенный, но отнюдь не генеральный вопрос занял умы депутатов, побудил их несколько дней упражняться в красноречии. Причина в том, что за этой темой маячила другая, действительно фундаментальная, — о роли КПСС. Вопрос об отмене статьи 6 Конституции, закреплявшей практически монопольное господство Компартии, встанет на следующем съезде. В декабре же 1989 года была проведена своеобразная артподготовка.
Каков был наш замысел, когда шли на первые выборы. Имелось в виду депутатский корпус на две трети сформировать на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, а одну треть мандатов предоставить посланцам общественных организаций. И таким способом, при отсутствии многопартийности, обеспечить более полное выражение в нем позиций и взглядов всех основных социальных слоев, групп и общественных движений. Речь шла о своего рода учредительном собрании, призванном создать новый государственный порядок.
Помимо прочего, нужно было постараться, чтобы в составе депутатского корпуса была как минимум некая активная, инициативная часть, способная задать тон по-настоящему творческой и критической дискуссии. В противном случае съезд, при всех структурных изменениях, лишь повторил бы то, что делалось до того на заседаниях Верховного Совета.
Ну и, наконец, нужно принять во внимание, что мера эта с самого начала задумывалась как временная, нечто вроде стартера, предназначенного завести мотор реформ, после чего самому заглохнуть. Разумеется, в тот момент это не афишировалось, ибо так можно было дискредитировать идею и обесценить ее в зародыше. Но смею заверить, что именно это имелось в виду. Когда же осенью 1989-го вновь развернулась по этому вопросу дискуссия и даже было внесено предложение не иметь представительства общественных организаций в республиках, то я, как, впрочем, и другие члены руководства, считал, что не произойдет ничего страшного, если это предложение будет принято. Было решено: пусть сами республики решат этот вопрос.
Второй съезд народных депутатов запомнился и печальным событием — смертью Андрея Дмитриевича Сахарова. Съезд почтил его память, прервал работу, и народные депутаты присоединились к огромной процессии, проводившей в последний путь этого выдающегося ученого и гражданина. А в зале с тех пор осталось незанятым кресло, на котором в дни заседаний всегда лежал букетик цветов…
«Сахаров и ему подобные»
В самом конце съезда произошел и такой эпизод. Ко мне подошел Алесь Адамович, которого я знал хорошо как писателя, общественного деятеля, гуманиста, неистового борца против ядерной угрозы. Он высказал сожаление, что не смог выступить на съезде, и передал мне текст речи. Раиса Максимовна сохранила его в нашем архиве. Работая над мемуарами, я вновь перечитал выступление Алеся и решил его полностью включить в свою книгу.
«Алесь АДАМОВИЧ.
«Сахаров и ему подобные»… — так выразился один из ораторов Первого съезда народных депутатов во время печально знаменитого «антисахаровского митинга большинства», иначе не назовешь то заседание.
Кто же это «ему подобные»? Выступавший имел в виду кого угодно, но, конечно же, не Горбачева. А вот в общественном сознании современного мира именно эти имена все чаще ставятся рядом. Нет, не по обязательному сходству позиций: они нередко дискутировали по острым вопросам, когда раскалывалось мнение беспокойного первенца перестройки — Съезда народных депутатов.
Но если иметь в виду их, Сахарова и Горбачева, исключительную роль в процессе перестройки — в этом они действительно «подобные».
Именно Сахаров, как никто у нас, прокладывал пути перестройке, формулировал основы нового мышления и нового чувствования, подталкивал политиков в сторону моральных решений в делах международных и внутренних. Интеллектуально и морально перестройка вызревала под сильнейшим воздействием этой личности.
И именно Горбачев сделал назревшую в обществе потребность политической реальностью, а новое мышление — государственной политикой. И вызволил из брежневской ссылки того, кто так нужен был набирающему силу процессу.
История, судьба уготовили Сахарову тяжелейшие испытания, но под конец жизни одарили его заведомо победоносной ролью: выражать чистую, незамутненную политической конъюнктурой истину правового и гуманитарного обновления.
С Горбачевым история и судьба распорядились в несколько иной последовательности: именно взятое на себя бремя перестройки сделало политическую жизнь его по-новому сложной, трудной. Испытанием не только воли, взглядов, но и натуры. Вот о последнем, о натуре, хотя об этом у нас не принято рассуждать, пока политик на арене, пока он фигура действующая, — о ней и пойдет речь. В связи с вещами, конечно, более поддающимися определению, уловимыми.
Когда Михаил Горбачев и Рональд Рейган встретились в Рейкьявике и не сумели договориться о том, как остановить сползание мира в ядерную пропасть, различная реакция двух лидеров на этот печальный факт впервые заронила мысль: миролюбие Горбачева более чем политика, система взглядов, в этом — его натура. Не будь это так, не выдержать бы Горбачеву глухого сопротивления его усилиям двух закостеневших в милитаристском недоверии и оцепенении структур, их и нашей.
Но отчего то, что так здорово сработало, срабатывает в масштабах всего мира, почему не получается у себя дома? Кто и что тут виной: история, традиция, ситуация, конкретная политика, какие-то ошибки, просчеты? Скажу сразу: я не в состоянии ответить на этот вопрос достаточно определенно. Но хотя бы поставить его.
Оценивая положение в стране и действия лидера перестройки, кое-кто уже рассуждает: да, он начал, спасибо, но на данном этапе надо бы действовать решительнее и жестче. А он то ли не умеет, то ли не хочет. Чтобы действовать решительнее, я тоже прикидываю: хорошо бы, пора! А вот что жестче?.. Тут надо еще подумать. И не только потому, что в истории нашей слишком замешено все было именно на жесткости, насилии, прямой жестокости. А к чему пришли?
Говорят, что можно и разумно обходиться с механизмом насилия. А уж если надо, то и кровь пролить: без этого большая политика никогда не делалась, не обходилась. Вот даже Хрущев от этого не ушел — в Венгрии, в Новочеркасске. Защищая, думалось ему, социализм. История уже оценила случившееся. Подавил-то, оказывается, революцию, а не контрреволюцию (в Венгрии). И кровью залили попытку новочеркасских рабочих подтолкнуть его же перестройку в сторону политических преобразований. (То, что сегодня шахтеры сделали, делают.) Ну а Брежнев, тот сдуру задушил в самой колыбели — в майской Чехословакии 1968 года — и нашу тоже надежду на хоть какое-то обновление впадающей в маразм системы.
Не в искупление ли прежних кровавых дел (о предшественниках, вроде Сталина, уже и не говорю) история распорядилась дать нам в лидеры человека, который всем поведением своим говорит: «Лучше я уйду, но крови не пролью. И стучать кулаком не буду». Хотя иногда и стукнет, когда уж очень просят, прямо-таки умоляют, когда истосковавшись: ну как же без этого, не обойди милостью! Пусть и по нам, но главное, по ним стукни!
И вот вопрос: а возможно ли в нашей стране что-либо сделать с такой натурой, психологией, философией поведения — без хорошего кулака? Да просто не поймут этого, а то и уважать перестанут. Вот как Сталина уважали!
Не расценят ли (и не расценивают ли) многие как слабость принцип личного демократизма и нежестокости в стране, приученной самой историей совсем к другим типам лидеров?
Но почему даже Рейган не расценил очевиднейшую уступчивость в делах, очень даже рискованных, как слабость, даже проклятые империалисты не решились воспользоваться этим нам во вред, а тоже взялись добросовестно, как клопов, давить свои «першинги»? А уж про то, как относятся к «Горби» народы других стран, даже напомнить невозможно, не впадая в невольный грех как бы подхалимажа.
Загадка, да и только. Там вон как срабатывает ставка Горбачева на ненасилие. Внутри же: как бы совсем другие мы люди, народы. Или страна действительно в таком тупиковом положении, что «по-хорошему» из него уже не выйти?
Не знаю. Но признаюсь: так не хотелось бы, в плане даже историческом, потерять единственного лидера, отвергнувшего принцип, метод кулака и жестокости, чтобы приобрести в его лице или в ком-то другом еще одну разновидность нам столь знакомых «мясников» и «лесорубов», от которых люди отлетали, как щепки. Так и хочется попросить: не поддавайтесь нам, Михаил Сергеевич, ни на шантаж справа, ни на укоры слева — действуйте решительнее, может быть, увереннее, но именно своими методами и средствами! Человеческими. Так хочется стать наконец людьми.
И потом, успех-то все-таки потрясающий, даже уникальный. Случайно такой прийти не может. Без одного выстрела, а наоборот, гася их, выстрелы (в Афганистане и других регионах), без единой угрозы «сокрушительно ответить». Без всякой демонстрации военных мускулов так повернуть всю мировую политику в пользу собственному народу, а может быть, и историю повернуть, как не удавалось, даже проливая моря крови, никому, — разве это не убеждает, что принцип примирения и учета общих интересов сегодня самый верный, а может быть, и единственный путь к общему спасению? И действует он необъяснимо безотказно.
Но только не внутри страны. Тут даже либералы уже предлагают лидеру перестройки и обновления тогу… диктатора. Мечтая, правда, о просвещенном диктаторе. О холодном огне, о горячем льде.
А может, действительно «кадры решают». Очень уж заметно различие «команд»: внешнеполитической и, так сказать, «внутренней». Именно вторые так настороженно, а то и открыто неодобрительно относятся к приоритету общечеловеческих ценностей над классовыми. Так стоит ли удивляться, что они и в населении будут разжигать «классовую зависть» к тем, кто хотел бы жить лучше, работая лучше? И не станут они поспешать с радикальными законами о собственности, земле, печати.
Вообще с теми, кто составляет «команду» или «команды» лидера перестройки, много непонятного. Исчезают фигуры одиозные, еще с брежневских времен, народ аплодирует Горбачеву. А потом разводит руками, когда видит, кого берут на смену. Или все из одной «корзины», как объяснил мне один знающий человек, не очень-то повыбираешь? А то вот еще: известный всем своей решительностью человек уверенно пообещал руководить нами еще пять лет. Так и хочется попросить: а нельзя ли пятилетку за два года? Но посмотришь на новые, восходящие кадры, на площадях рвущие по-моряцки, по-пролетарски обкомовские дубленки на груди и предлагающие себя на место тех, — задумаешься. Те, по крайней мере, никого уже обмануть не могут. А у этих запас слов и демагогии, и цинизма побогаче.
Короля делает его окружение. И лидера — тоже. Какого лидера перестройки, обновления может делать в глазах народа подобное окружение? Лишь подрывать его авторитет.
Обновление партии необходимо. Но за счет ли этих? Время покажет, найдется ли внутренняя демократическая энергия, чтобы совершить прямо-таки вулканический выброс из самых глубин партии — туда, наверх, к Горбачеву.
Съезд народных депутатов высказывал беспокойство: соберемся снова, а нам из ЦК скажут: мы отозвали нашего депутата — вашего Председателя Верховного Совета. Нас, мол, он не устраивает. Предлагались различные поправки к Конституции, чтобы оградить страну от таких неожиданностей, а Председателя Верховного Совета от аппаратного давления. И они действительно нужны, такие гарантии от своеволия партаппарата.
Когда президент защищен будет и руки не будут связаны для радикальных политических и экономических реформ, а у народа, у страны, в свою очередь, будут гарантии от чрезмерной единоличной власти (нужны, нужны нам в ближайшем будущем прямые всенародные выборы президента, наделяющие его твердой властью, но и строго ограничивающие сроком и народным волеизъявлением, а также действительно работающий нормальный парламент!), когда придем к этому, возможно, обнаружим, что мы лучше, чем сами о себе склонны думать. Что нам нужен вовсе не грохающий перед носом кулак, а как раз то, что все еще не умеем ценить сегодня. Не будем думать о себе слишком плохо, раз среди нас могут рождаться, быть такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров.
Декабрь 1989 года».
Эта пресловутая 6-я статья
Кто-то, кажется Бертольт Брехт, сказал: власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Основной признак абсолютной власти — это отсутствие конкурентов. Когда стоящие у кормила государства могут делать все, что им вздумается, не оглядываясь на несуществующую или придушенную, не смеющую рта раскрыть оппозицию. Брехт имел в виду единоличного правителя, но эта формула одинаково пригодна и для политической партии, которая устраняет всех соперников и стремится навечно закрепить свое господство. Как бы ни были справедливы идеи, которыми она вдохновляется, разумна ее программа, сильна оказанная ей вначале поддержка народа — раньше или позже происходит неизбежное перерождение революционной партии в консервативную.
Об этой опасности, кстати, предупреждали Ленина Плеханов, Роза Люксембург, Карл Каутский и другие деятели рабочего движения. Полемизируя с ними, вождь Октября отнюдь не отрицал такой опасности. Он, однако, считал, что «победивший пролетариат», его «политический авангард» сумеют ее избежать за счет широкого привлечения к управлению народных масс, внутрипартийной демократии, критики и самокритики и т. д. При этом, как мне кажется, Ленин исходил из того уровня политической культуры, который был свойствен ему самому и его окружению. Сомнения стали одолевать его очень скоро. Уже в статьях 1921–1922 годов на одно из первых мест выходит тревога в связи с быстрым обюрокрачиванием партийного чиновничества, грозящим коммунистам оторваться от народа. Но достаточно сильного противоядия этой болезни, увы, найти и применить не успел.
Наш опыт, как, полагаю, и опыт других компартий, достаточно убедительно показал, что никакие выдумки и ухищрения, включая допуск фракционности, не могут служить надежной гарантией против обюрокрачивания, окостенения. Конечно, это не относится к массе рядовых членов. Речь идет о руководящем слое, очень быстро вошедшем во вкус власти и готовом на все, чтобы с ней не расставаться. За 70 лет этот слой воспроизвел несколько поколений партийно-государственной элиты, определяющей чертой сознания которой была уверенность в своем естественном и неотчуждаемом праве быть всегда у власти. Примерно так же чувствовали себя в свое время дворяне. Иные наследники знатных родов до сих пор считают, что революции, отстранившие это сословие от власти, были делом незаконным и несправедливым. Так и сейчас некоторые бывшие члены ЦК и секретари обкомов не могут простить Горбачеву того, что в результате перестройки они лишились своих «наделов».
Но если я был уверен, что на благо народу и самой Компартии, по крайней мере миллионам рядовых коммунистов, пойдет ликвидация монополии КПСС на власть, то и раньше, и сейчас не считал, что это нужно сделать в один момент. Что КПСС следует как бы подписать отречение от престола и дать возможность захватить его тем молодцам, которые уже в 1988 году стали выходить на митинги с полотнищем: «Партия, дай порулить!».
В 1989 году, когда страну уже изрядно раскачивали сепаратистские движения, действия народных фронтов и атаки демороссов на центр, в «Литературной газете» появилась статья двух молодых социологов Игоря Клямкина и Андраника Миграняна, суть которой сводилась к тому, что радикальные экономические реформы могут быть успешными только в том случае, если они совершаются под надежным щитом сильной авторитарной власти. В то время, когда общество было заряжено идеей демократии, многие восприняли это как своего рода эпатаж.
Такая постановка вопроса для меня и моего окружения не была неким откровением. Мы отнюдь не были простаками, чтобы не понимать, что нельзя проводить сколько-нибудь существенные преобразования, не имея в руках рычагов власти, способности преодолеть неизбежное противодействие задуманным реформам. Этот вопрос основательно обсуждался еще в канун XIX общепартийной конференции КПСС. И расчет тогда был сделан на то, что «щит», необходимый для реализации реформаторских замыслов, будет обеспечен постепенным переходом власти из рук партийного в руки выборного государственного руководства, фигурально выражаясь — со Старой площади в Кремль.
Опять-таки мы отдавали себе отчет, что власть — это не предмет, который можно передать из рук в руки. Важно не потерять ее в дороге, где-нибудь в районе ГУМа или Министерства финансов[14]. Трансформация власти — это сложнейший общественный процесс, сопряженный с неизбежным сопротивлением тех, кому пришлось с ней расстаться, и требующий определенной готовности новых сил, принимающих на себя ответственность за управление страной. Невооруженным глазом было видно, что Советы не готовы в полном объеме выполнять функции полновластия. У них нет для этого необходимой структуры, достаточного числа профессионально подготовленных кадров, опыта. А главное — уверенности, что именно за ними остается отныне последнее слово, не нужно бегать и спрашивать согласия на каждый шаг в райком или обком партии. Короче, нужно было время, и немалое, для «вхождения во власть».
Конечно, вопросы такого рода решаются иначе в условиях насильственных революций. Там не до маневров — разогнали старое правительство, на другой день заседает новое, пусть даже не имея никаких навыков, необходимых знаний. Но ведь в том-то и дело, что мы видели в перестройке не насильственную революцию, а мирный процесс реформ, исключающий катаклизмы и связанные с ним разрушения производительных сил общества, бедствия и страдания людей. Требуется величайшее искусство, чтобы оптимально выбрать момент передачи власти. Сделать это только тогда, когда она будет использована свободно избранными представителями народа для углубления демократизации, продолжения реформ, направленных на создание правового государства, социально ориентированной рыночной экономики и т. д.
К величайшему сожалению, нам не удалось завершить эту решающую операцию в оптимальный момент.
А теперь постараюсь воспроизвести ход событий. В принципиальном плане решение об отказе КПСС от монопольного положения со всеми вытекающими отсюда последствиями (многопартийная система, допуск политической оппозиции и др.) было принято еще XIX общепартийной конференцией. Но если другие элементы политической реформы, прежде всего свободные выборы и создание парламента, предполагалось осуществить без промедления, то переход к многопартийности «планировался» как следующий этап реформы. Его не собирались откладывать в долгий ящик, но и торопиться намерения не было. Мы провели много часов в дискуссиях на эту тему, и все принимавшие в них участие сходились на том, что партия должна оставаться гарантом стабильности до тех пор, пока новая политическая структура не заработает достаточно эффективно. Сроки при этом, естественно, не назывались, а в размышлениях, прикидках считалось, что протянется не менее двух-трех лет, прежде чем окрепнет парламент и сложатся нормальные условия для формирования многопартийной системы.
Хочу привлечь внимание читателей к тому, что в то время никто еще не осмеливался бросать прямой вызов партийному руководству обществом. Самые отчаянные «бунтари» рассуждали об идейном и политическом плюрализме с обязательной оговоркой об «авангардной роли КПСС». Таким образом, партия по собственной инициативе отказалась от бесконтрольного владения властью и изъявила готовность бороться за нее на общих основаниях с другими политическими организациями и движениями. Вряд ли нужно доказывать, что это был момент огромного переломного значения, ознаменовавший разрыв с большевизмом. Причем добровольное «отречение от власти» было делом не только генсека и узкого руководящего коллектива в лице Политбюро, но получило официальное одобрение высших представительных органов КПСС — сначала конференции, а затем и съезда. А вот выдержать более или менее рациональный темп на этом участке реформы не удалось.
Кампания за отмену 6-й статьи была, в сущности, первой крупной политической акцией нарождавшейся оппозиции. Шла она под лозунгом немедленной отмены статьи 6 Конституции СССР 1977 года, звучавшей так:
«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР».
Обладая к тому времени полностью или частично рядом печатных изданий, используя возможности своих приверженцев на радио и телевидении, радикалы добились того, что это требование стало рассматриваться широким общественным мнением как главное условие развития по пути перестройки. И наоборот — всякое противодействие исполнению этого требования, какими бы аргументами оно ни обосновывалось, объявлялось с порога ретроградством, потугами партократов сохранить свое господство над страной, помешать демократизации государства. Конечно, в этом была большая доля правды. Но подобная максималистская постановка вопроса резко сократила, пока вовсе не свела на нет возможность плавного перехода от одной политической системы к другой.
Поначалу еще можно было как-то урезонивать тех, кто требовал немедленной отмены статьи 6, говоря им, что партия сама встала на этот путь, уже приняла официальное решение, возврата к старому быть не может, нужно, однако, подготовить Советы к выполнению во многом новых для них функций и т. д. Но по мере того как в обществе раскалялось подогреваемое печатью «революционное нетерпение», эти доводы все меньше слушали. А затем с подачи агитаторов, направленных в шахтерские районы (по опыту большевиков в борьбе с царским режимом), забастовщики начали добавлять к экономическим требованиям и политические, начиная все с той же 6-й статьи Конституции.
В стратегическом плане активная позиция радикальных демократов и поднятая ими общественная волна за идейный и политический плюрализм, многопартийность соответствовали замыслу перестройки. Но чрезмерная агрессивность, стремление «пришпорить» события угрожали перевести ее из русла контролируемых перемен в русло жесткой конфронтации. Этому я, естественно, не мог сочувствовать.
Помню, у нас было долгое и бурное обсуждение этого вопроса на Политбюро накануне июньского Пленума ЦК 1989 года. Дебатировался, в частности, вопрос: пойти на отмену статьи 6 или согласиться лишь на ее корректировку? Никто тогда в нашем «верховном синклите» не рисковал выступать с радикальных позиций. Сошлись на необходимости внести изменения, а вот вокруг формулы этих изменений спор был достаточно острый. Уже обозначившаяся консервативная группа (Лигачев, Никонов, Щербицкий) высказывалась за поправки косметического характера, не затрагивающие исключительного положения КПСС в нашей политической системе. Активные сторонники реформ (Медведев, Шеварднадзе, Яковлев) им возражали — не столько по существу, сколько ссылаясь на «непроходимость» данного варианта. Ну а те, кого можно было отнести к центристам в Политбюро (Рыжков, Воротников, Слюньков, Чебриков), предлагали формулировки, рассчитанные на «проходимость» при сохранении за партией того, что мы связывали с понятием «политического авангарда».
Перебирая в памяти вносившиеся тогда предложения, нельзя не прийти к выводу, что все это были паллиативы, не решавшие проблемы. Любая корректировка статьи 6 не создавала конституционных гарантий для формирования многопартийности, не меняла прежнего политического порядка. На основе этих корректировок могли у нас появиться разве что такие же «вторичные» несамостоятельные партии, как в ГДР, Чехословакии, Польше, Китае, где они действовали в качестве дополнительных к профсоюзам и комсомолу «приводных ремней» и входили в состав руководимых коммунистами народных или национальных фронтов.
До Третьего съезда народных депутатов СССР этот вопрос практически постоянно присутствовал в ходе всех дебатов на партийных форумах. В марте 1990 года Пленум ЦК решил в качестве законодательной инициативы внести на съезд предложения по статям 6 и 7 Конституции. Значение происшедшего, пожалуй, лучше всех выразил в своем выступлении Фролов: «То, о чем мы сейчас говорим, лишь формально обозначается как изменение 6-й и 7-й статей Конституции страны. На самом же деле (и это еще раз говорит в пользу того, почему это нужно было сделать на завершающих этапах политической реформы) это же, товарищи, в буквальном смысле переворот, завершение, полное завершение изменения политической системы».
11 — 14–16 марта с двумя перерывами состоялся Пленум ЦК.
Характерно, что и на Пленуме ЦК, как и на Съезде народных депутатов, не было сколько-нибудь серьезной дискуссии по этому вопросу: сформулированная нами поправка по статье 6 более или менее устраивала всех, была на тот момент подходящим компромиссом.
Но не менее важным было и то, что в связке со статьей 6 оказались другие разделы Конституции, в которые вносилось положение об учреждении поста президента.
Были, правда, перед самым голосованием предприняты попытки убрать из текста упоминание о Компартии, но они не прошли. И 6-ю статью приняли в следующей редакции: «Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами».
Как видно, законодатель вполголоса признает возможность создания других политических партий и в то же время еще не решается не выделить Коммунистическую. В полном смысле слова половинчатое решение, но от этого не менее революционное.
Первый Президент СССР
То, что вопрос о статье 6 рассматривался вкупе с предложением реконструировать высшую государственную власть, учредив впервые в отечественной истории пост президента, конечно же, не был тактическим маневром, рассчитанным на то, чтобы «фуксом» протащить компромиссную формулировку. Поправка к статье 6 и дополнение Основного Закона статьей 127 находились в органической взаимосвязи. Первая означала, что наше государство перестает быть однопартийным, в известном смысле даже теократическим, в нем вводится один из главных принципов демократии — идейный и политический плюрализм. Второе означало признание другого не менее важного принципа демократии, а именно — разделения властей.
Правомерно ли «увязывать» президентскую форму правления с этим принципом? Думаю, да. Дело в том, что Монтескье, признаваемый главным автором этой идеи, исходил из задачи ограничить всевластие монарха, сохранив при этом достаточно сильную власть, способную обеспечить целостность государства и нормальную жизнедеятельность общества. То и другое достигается распределением функций в высшем эшелоне власти. Глава государства (президентская республика) или правительства (парламентская республика) осуществляет исполнительные и распорядительные функции, но не может принимать законов, что является прерогативой парламента, и вершить правосудие, чем должны заниматься органы юстиции.
И все-таки, каюсь, не сразу пришел я к мысли о необходимости увенчать нашу новую политическую структуру должностью президента. Больше того, решительно отклонял доводы некоторых своих соратников и специалистов, выступавших с соответствующим предложением. При этом напирал на то, что основой нашей политической системы и после реформы остается система Советов, с которой президентский пост плохо сочетается, был бы для нее чужероден. Может быть, в будущем, убеждал я своих оппонентов, мы придем к этой форме, а сейчас вполне достаточно существенного новшества — замены Председателя Президиума Верховного Совета Председателем Верховного Совета. Это само по себе расширяет возможности главы государства, наделяет его, кстати, и многими чисто президентскими полномочиями. В то же время он остается во главе Верховного Совета и, значит, будет работать над законами вместе с депутатами, глубже сознавать свою ответственность перед народными избранниками.
Но, увы, буквально через несколько месяцев я убедился, что допустил ошибку. Исправно просидев на первой сессии Верховного Совета на председательском кресле, старательно вникая во все детали процедуры, регламента, работы комитетов и комиссий, понял, что просто невозможно физически сочетать непосредственное руководство парламентом с другими функциями.
И не только в этом дело. Пожалуй, еще более существенно то, что законодательная и исполнительная власти требуют разных подходов. Это вовсе не значит, что они должны находиться между собой в состоянии перманентной перебранки или даже «войны», как это пошло у нас последнее время. Но им следует контролировать друг друга, присматривать друг за другом, а в избранном нами варианте такая возможность исключалась. Тем самым обесценивалось одно из преимуществ конструкции разделения властей.
К сожалению, с опозданием стал мне ясен и еще один, может быть, главный довод. Как порой ни совершенны создаваемые теоретиками и политиками государственные конструкции, они могут не заработать, если не найдут понимания и опоры в политической культуре общества и психологии народа. За многие десятилетия у нас сложился своего рода культ Политбюро и генсека, требующий беспрекословного подчинения исходящим от них приказам и указаниям. То, что этот авторитетный источник власти, который и почитали и которого страшились, как бы иссяк, сразу же отразилось на государственной дисциплине. Тем более что функции его перешли Верховному Совету, который, по глубоко укоренившемуся представлению, был у нас сугубо парадным, декоративным органом. Что это новый парламент действительно властвующий, поверить было очень непросто, по крайней мере сразу. И точно так же большинству граждан, не искушенных в политических определениях, нелегко было уловить сколько-нибудь серьезную разницу между Председателем Президиума Верховного Совета и просто Председателем.
Словом, вводить пост президента надо было и по причинам чисто психологического свойства. Одновременно укреплению авторитета высшей власти служило создание Совета Федерации и Президентского совета — этого своеобразного эквивалента Политбюро в новой политической системе. Такое решение созрело еще осенью 1989 года, но оно довольно долго обсуждалось во внутреннем кругу, затем советовались со специалистами, после чего группа юристов (Шахназаров, Кудрявцев, Топорнин и другие) засела по моему поручению за подготовку необходимых документов, прежде всего проекта закона об изменениях в Конституции СССР. И вот вместе с предложениями по статьям 6 и 7, а также ряду других они вносятся на рассмотрение внеочередного съезда. Доклад по этому вопросу сделал Яковлев.
Одним из первых в прениях выступил Назарбаев: поддержав учреждение президентского поста и мою кандидатуру, он в то же время недвусмысленно высказался за применение той же модели в республиках, чтобы «снять уже наметившиеся противоречия между идеей президентства и стремлением республик к расширению своей самостоятельности». Иными словами, в республиках молниеносно уловили, что центральная власть укрепляется, и, не желая поступаться обретенной самостоятельностью, решили воспользоваться моментом, чтобы на всякий случай обезопасить себя. Опытный и хитрый политик, лидер Казахстана, можно сказать, повел беспроигрышную игру.
Не буду скрывать, в мои расчеты, конечно же, не входило создание президентских постов в союзных республиках. Это наполовину обесценивало все приобретения, которые мы связывали с повышением авторитета центральной власти. Соглашаясь дать Москве дополнительные прерогативы, республики тут же требовали «своей доли». Но делать было нечего. Попытка оспаривать разумность такого подхода могла лишь возбудить страсти и привести к тому, что изменения в Конституции не получили бы требуемого квалифицированного большинства. Поистине тогда (в который раз!) я убедился, что политика есть «искусство возможного».
Но главная атака, как и следовало ожидать, последовала из демократического лагеря. А глашатаем выступил все тот же ректор Московского государственного историко-архивного института, автор формулы об агрессивно-послушном большинстве съезда Афанасьев. Начал он с явной передержки — якобы речь идет «об узаконивании чрезвычайной власти определенного человека, в данный момент — Михаила Сергеевича Горбачева». А поставив вопрос в такой искаженной форме, начал затем задавать риторические вопросы: нуждаемся ли мы все в этом, нуждаются ли в этом перестройка, все граждане Советского Союза, нуждается ли в этом сам инициатор перестройки? И сообщил, что Межрегиональная депутатская группа провела собрание и приняла решение, сводящееся к тому, что она отрицательно относится к введению поста президента и выступает против его избрания на съезде.
Вообще мне часто приходило в голову одно сравнение. Во Французской революции на крайне левом фланге выступала группа Эбера-Ру, которую прозвали «бешеными». Вот и у нас объявились такие «ультрареволюционеры». Но Афанасьев явно лидировал, разве что в паре с Юрием Черниченко. Может быть, секрет в том, что, будучи специалистом как раз по Французской революции, он вдохновился образом неподкупного Робеспьера и подсознательно претендовал на аналогичную роль в перестройке? По Фрейду — это случается.
Доводы Афанасьева были опровергнуты многими депутатами. Предметнее всего это сделал, пожалуй, академик В.И.Гольданский. «Конечно, — сказал он, — было бы лучше избирать президента на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, как это предлагается делать в дальнейшем. Но сегодня у нас просто нет на это времени. Сегодня речь идет, выражаясь медицинскими терминами, о срочной необходимости реанимации, а не о санаторном лечении. Я полностью отвожу высказывание о том, что создание поста президента обусловлено стремлением Горбачева к абсолютной личной власти. По сути дела, он получил именно такую абсолютную власть пять лет назад, когда стал Генеральным секретарем ЦК партии. Было бы нелепо предполагать, что, всецело посвятив свою деятельность в эти пять лет слому той административно-бюрократической системы, Горбачев решил сейчас захватить в свои руки власть в новой ипостаси».
Эту тему поднял и представитель профессиональных союзов А.А.Коршунов: «У нас почему-то, к сожалению, является признаком хорошего тона как можно больше грязи вылить на руководителя, на строй, на кого угодно. Но все-таки, вспомните, какую ношу взвалил он на себя, взвалил по собственной инициативе и, я должен прямо сказать, не при всеобщем одобрении административного, партийного аппарата в его высших эшелонах. Нам это теперь известно из выступлений, которые звучали на пленумах ЦК, такие выступления были и на XIX партконференции, и здесь, в этом зале, часто звучала ностальгия по прошлому, по твердой руке. Не позавидуешь нашему нынешнему председателю: со всех сторон уже много лет идут на него в атаку швондеры от власти и шариковы от рабочего класса. Да, в обществе нарастает неуверенность, неверие в перестройку и неверие в своего лидера. И должен сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев тоже повинен в этом. Повинен в том, что непоследовательно и не до конца доводил всегда им же самим начатое дело. Но, дорогие товарищи, мы должны сделать свой выбор, тяжелый выбор, но необходимый. Либо страна неминуемо придет к развалу, к разрухе, либо все-таки мы попытаемся еще раз ввести ее в нормальное человеческое и государственное русло».
Я прошу извинения у читателей за обильное цитирование, но уж очень драматический сюжет развернулся на том заседании, причем имеющий отношение не только к моей персоне, а к будущему перестройки, к судьбе страны. Некоторые высказывания того периода прямо перекликаются с тем, что происходит у нас сейчас. Вот например, как рассуждал Н.Т.Добежа (Чобану), молдавский писатель. Многие из нас, говорил он, находятся в этом зале благодаря Горбачеву, а сейчас настал наш черед помочь Михаилу Сергеевичу, «защитить» Горбачева от Горбачева. Концентрация огромной власти в руках одного человека представляет собой опасность для процесса демократизации нашего общества, который связан с именем Горбачева. Мы ему доверяем, но кто уверен, что через четыре года или девять лет не придет тот, кто захочет создать в СССР социализм царского покроя? Вот чего мы должны опасаться. Да, стране трудно. Существует опасность возврата к диктатуре, резко падает дисциплина, все мы живем в постоянном напряжении, никто никого не слушает. Иными словами, чтобы поправить дела, нам нужен «царь». Пусть он называется по-иному — Генеральный секретарь, председатель партии, — важно не это, а то, что мы вдруг осознали, что нам необходим «батюшка», которому можно пожаловаться на урядников или наместников, который распустил бы в случае необходимости Думу и т. д.».
Правда, звучит более чем актуально? А из дальнейшего выступления молдавского писателя стало видно, что в союзных республиках опасаются, как бы пост президента не дал возможности центру отобрать у них ту самостоятельность, какую приобрели они благодаря перестройке. Поэтому и поддержка создания президентского поста лишь при условии, что в Президентский совет войдут 15 вице-президентов, которые будут председательствовать в нем поочередно. Иначе говоря — одна из первых моделей Содружества.
Свою, несколько специфическую точку зрения изложили и народные депутаты, избранные от автономных республик, автономных областей и округов. Они обратились к съезду с заявлением, в котором акцент делался на праве наций на самоопределение, самостоятельное определение автономиями своего политического статуса и защиту малочисленных народов. Центральным политическим условием автономных республик стало их равноправное с союзными республиками участие в Совете Федерации.
В какой-то момент стало очевидно, что подавляющее большинство депутатов поддерживает учреждение президентского поста и избрание первого президента на съезде. После этого дискуссия сосредоточилась главным образом на вопросе, может ли президент оставаться во главе партии. Преобладал здесь не формально юридический, а политический подход. Мало кто сомневался, что Горбачев будет избран первым президентом, и, значит, приобретало существенное значение, будет ли это сопряжено с его уходом с поста Генерального секретаря ЦК Компартии Советского Союза.
Что касается аргументов против обязательного разделения высшего государственного и партийного постов, то их было предостаточно. Прежде всего ссылка на то, что подобного требования нет в других конституциях, а на практике главы многих государств сохраняют за собой руководство политическими партиями. Что же касается главного довода межрегионалов, они считали, что президент-де будет править от имени Политбюро и выполнять его решения.
В конце концов поправка к статье 127, запрещающая президенту возглавлять политические партии, не набрала квалифицированного большинства и была отклонена. Но по итогам голосования было видно, что за нее голосовали как «межрегионалыцики», так и «партийные фундаменталисты», у которых уже появилось желание сменить генсека — ясно для чего. Объединившись, правое и левое крыло дали в совокупности 1303 голоса, но поданных против 607 хватило не пропустить поправку.
Затем внимание переключилось на весьма существенные детали предлагавшихся изменений к Конституции. Речь шла о точном формулировании права президента вводить чрезвычайное положение, о том, у кого должна быть «ядерная кнопка», о полномочиях и составе создаваемых вновь Совета Федерации и Президентского совета. После тщательного обсуждения всех этих проблем поправки были приняты, и съезд приступил к рассмотрению кандидатур на пост президента.
Депутат В.А.Ивашко, бывший тогда первым секретарем ЦК Компартии Украины, а позднее избранный заместителем генсека ЦК КПСС, сообщил, что на состоявшемся два дня назад Пленуме ЦК на пост Президента СССР единогласно выдвинут Горбачев. Добавил, что на случай его избрания Пленум высказал ряд пожеланий.
Поддерживая кандидатуру «инициатора перестройки», выступавшие увязывали с этим потребности представляемого ими электората. Заместитель председателя колхоза с Белгородчины Г.С.Походня заявил: «Выдвигая эту кандидатуру, мы хотели бы Михаилу Сергеевичу дать свой наказ, так как не полностью согласны с тем отношением к аграрным вопросам, которые до сего времени было и у него и у правительства». Маршал В.Г.Куликов, поддержав мою кандидатуру по поручению ветеранов войны и труда, подчеркнул, что президент, являющийся Верховным Главнокомандующим, должен сделать все, «чтобы армия занимала то место, которое ей положено занимать в Союзе Советских Социалистических Республик». Было много и других выступлений с намеками или умеренной критикой.
А за этими «цветочками», как водится, пошли и «ягодки». Одним из самых резких было выступление известного в стране человека Т.Г. Авалиани, в то время работавшего заместителем директора объединения «Киселевскуголь» в Кемеровской области. Он обвинил меня и в нерешительности, и в метаниях, и в том, что я натравливаю «одно крыло народа на другое». Не менее резко высказались по моему адресу Куценко, Щелканов («бешеные» правые + «бешеные» левые).
Преобладала, однако, в выступлениях поддержка моей кандидатуры. Для меня дороже всего было услышать доброе слово глубокоуважаемого мной калмыцкого поэта Кугультинова. Назвав меня человеком, «который уже дал нам половину того, что должен иметь каждый, — свободу», Давид Никитович сказал так: «Михаил Сергеевич Горбачев помнит еще, что такое штурвал комбайна. Он не забыл, что такое нулевой трудодень, как морочат, как терзают крестьянина. Он не забыл, что такое рабочий, что такое настоящая истинная справедливость».
Рыжков и Бакатин, чьи кандидатуры были выдвинуты, взяли самоотводы. Мне крайне не хотелось остаться единственным кандидатом, и, честно говоря, я рассчитывал, что межрегионалы все-таки выдвинут если не Ельцина, то кого-то другого из своих предводителей. Скажем, Попова или Афанасьева. Но этого не произошло. И не только потому, что у любого соперничающего кандидата не было тогда практически никаких шансов на победу. В других обстоятельствах это не помешало бы демократам выставить кандидата, чтобы иметь возможность поагитировать за свою линию и подтвердить верность принципу не допускать безальтернативных выборов. И причина ясна. Это — стремление всемерно принизить легитимность моего президентства: мол, мало того, что избран съездом, так еще на безальтернативной основе. Фактически эти люди заранее давали понять, что примириться с волей большинства они не намерены и будут продолжать беспощадную борьбу за власть.
1329 голосов — за, 495 — против — с таким результатом я был избран президентом и сразу обратился к съезду с небольшой речью, в которой постарался дать ответ на тревоги, прозвучавшие со съездовской трибуны.
Исполнение президентского мандата я связал с твердым намерением продолжать политику перестройки.
Отвечая тем депутатам, которые опасались, что президентство может породить узурпацию власти, я сказал, что для таких опасений нет оснований: «Гарантия тому — сама Конституция, на страже которой стоят теперь мощные, обладающие реальными правами высшие представительные органы государственной власти — Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР… Гарантия тому — и ставшая у нас реальностью гласность, политический плюрализм».
Глядя с сегодняшней исторической вышки, можно сказать, что это были вполне серьезные доводы. Неудавшаяся попытка узурпации власти в августе 1991 года, а затем удавшаяся — в декабре того же года свидетельствуют, что опасность исходила не от широких полномочий президента.
Вечером того памятного дня, после закрытия заседания съезда, мне пришлось часа два-три принимать поздравления от депутатов, выслушивать их просьбы, пожелания, советы. Не обошлось без нескольких коротких интервью советским и зарубежным корреспондентам. А затем, когда в зале уже погасили свет, поднялся к себе в кабинет, где меня ждала Раиса Максимовна. Были еще помощники — Шахназаров и Игнатенко. Подняли бокалы, выпили кофе, отметив этим новый мой статус. А я задавал сам себе вопрос: изменилось ли что-либо в моем положении?
Огрехи новой структуры
Представьте себе военачальника, окруженного штабом, маршалами и генералами, но не имеющего в своем распоряжении армейских частей. В таком положении может оказаться высшая государственная власть, если она лишена возможности опереться на сеть властных управленческих органов на местах. В какой-то мере в таком положении мы оказались после Третьего съезда. У нас был президент, был штаб (Совет Федерации и Президентский совет), но не было опоры внизу. Вроде бы никто прямо не оспаривал прерогатив верховной центральной власти, однако импульсы, от нее исходившие, не получали энергичной встречной поддержки.
Приняв правильное решение о введении института президентства, мы, по сути дела, остановились на этой начальной стадии, не продумали вопросы до конца. Ведь достаточно широкие права были и у Председателя Верховного Совета плюс то преимущество, что он мог подкрепить свою линию авторитетными постановлениями высшего законодательного органа. А плюсы президентской системы, и значительные, могли обнаружиться при условии создания соответствующего механизма. Здесь мы действительно заколебались, действовали непоследовательно. Уже при обсуждении намечавшихся изменений и в моем окружении, и в еще большей мере на Политбюро, голоса разделились.
Теория теорией, а практика, живая политика всегда имеет решающее слово. Так получилось и на сей раз. Больше всего помешало последовательному введению президентской республики беспокойство нашего правительства за свои полномочия. У Рыжкова и его соратников возникло опасение, что Совет Министров хотят унизить, отодвинуть на задний план, превратить в «совнархоз». С этим они решительно не хотели согласиться. А у меня в то время не было ни достаточных оснований, ни тем более намерений ссориться с Николаем Ивановичем. Я по-прежнему ценил его опыт хозяйственника, прошедшего школу Госплана, не сомневался в приверженности реформам и рассчитывал работать с ним дальше.
С другой стороны, убедительно звучали и доводы советников, что президенту не следует взваливать на себя непосредственно бремя руководства экономикой. Проблем невпроворот, а отвечать за каждый пустяк придется ему.
Короче, тогда решили, что функции Совмина не будут пересматриваться. И в этом, на мой взгляд, было заложено большое противоречие.
Другая серьезная недоработка, что ли, состояла в том, что одновременно с институтом президентства мы не создали достаточно мощной судебной власти, вместо полноценного Конституционного суда (или наделения соответствующими полномочиями Верховного суда) мы учредили Комитет конституционного надзора.
Были основания ожидать, что Комитет конституционного надзора займет достойное место в нашей государственной жизни и поможет решать актуальные проблемы. Однако месяц шел за месяцем, а его не было сльпнно. В лучшем случае принимались решения по малозначимым вопросам или выносились весьма двусмысленные вердикты, допускавшие прямо противоположные толкования. Остряки шутили, что решения ККН требуют для своего истолкования пифий, толковавших изречения оракула. Много было жалоб на пассивность Комитета, но я не считал для себя возможным вторгаться в эту сферу, потому что вполне серьезно относился к принципу разделения властей.
И колебания со статусом правительства, и недоработки с судебной властью не идут, конечно, ни в какое сравнение с тем, что явилось главной причиной низкой эффективности президентской системы. Это, как я уже говорил, развернувшийся сразу же после принятия Верховным Советом России Декларации независимости парад суверенитетов. За ним последовала так называемая война законов. Республики соглашались признавать только те союзные законодательные акты, которые будут одобрены их парламентами. Центральная власть кардинально подрывалась.
Становилось очевидным, что нам не удастся ограничиться латанием Конституции, надо идти на заключение нового Союзного договора и соответственно менять всю государственную структуру. Таким образом, едва совершив одну достаточно радикальную реконструкцию, мы были поставлены перед необходимостью приступить к осуществлению другой.
Глава 16. Национальная политика: трудный поиск
Глубокие корни
Сейчас, когда я пишу эти строки, невыносимо горько видеть, что происходит с моей страной. Межнациональные конфликты переросли в войны, сотни тысяч беженцев вынуждены покинуть свою землю, дом, могилы предков. Бравые «стратеги» позируют на фоне пылающих городов. И самое тревожное — безразличная реакция на все это большинства общества.
Что же произошло с нами?
Не хочу искать оправданий. Политики, взявшие на себя ответственность за реформы, обладали немалым опытом в сфере межнациональных отношений, знали, что они нередко приобретают острый характер. Любые ссылки на неведение были бы несерьезны. Имел такой опыт и я. Рассказывая о своих истоках и корнях, о Ставрополе, я отметил особенности этого края. Взаимоотношения людей различных национальностей, их совместное проживание составляли часть той реальной жизни, какой я жил, были таким же неотъемлемым ее элементом, как земля, вода, воздух, хлеб, входили в мое сознание чуть ли не с молоком матери.
Соприкасаясь с культурой, традициями, особенностями быта и человеческих отношений десятков народов, проживающих на Кавказе, я знал, как важно бережно, деликатно относиться к этой тонкой материи. Защищать ее и от спонтанной вспышки националистических страстей, и особенно — от злонамеренной политики разжигания межнациональных распрей ради чьих-то корыстных интересов и амбиций.
После изгнания оккупантов с Кавказа и территории нашего края были насильственно переселены, отправлены в изгнание, на «поселение в Сибирь» калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы. Карачаевцев выселили с территории края за три дня! Молва доносила до нас — за сотрудничество с немцами. Действительно, факты коллаборационизма определенных групп с оккупационными властями были. Власовцы, бендеровцы, полицаи. Были и в моем селе.
Но при чем здесь дети, старики, фронтовики, среди которых немало героев? Вернувшись с войны, они вынуждены были искать близких в Казахстане, Средней Азии, Сибири, многие из которых погибли в пути, не нашли сил выжить, лишенные всего на свете — от крыши над головой и имущества до Родины.
Будучи секретарем крайкома комсомола, я участвовал в возвращении калмыков и карачаевцев в родные края. Правительство, местные власти принимали тогда специальные решения по обустройству возвращающихся семей, строительству домов, созданию новых предприятий, чтобы дать им возможность получить работу. Расселяли и за пределами тех мест, где они жили раньше. В вузах Ставропольского края установили квоты для поступления на льготных условиях детей из карачаевских семей. Помогали создавать высшие учебные заведения в местах их проживания. Делалось многое, чтобы помочь людям вернуться в нормальную жизненную колею, забыть прошлое.
Но горечь оставалась и присутствовала еще многие годы. Малейшее ущемление при решении вопросов представительства в Советах или партийных органах, на руководящих должностях воспринималось более чем болезненно. Налаживать межнациональные отношения — что дерево растить. Даже непреднамеренное невнимание или упрощение порождало обиды и волнения, а столкновение людей разных национальностей на бытовом уровне быстро превращалось в острый конфликт. Так было в Зеленчукской станице, в Карачаевске, в других местах. Я усвоил тогда урок: самое элементарное противоречие на национальной почве разгорается мгновенно. Забывая все, что их еще вчера соединяло, не думая о том, что им все равно жить вместе рядом, разбегаются по разные стороны баррикад. Возникают отчуждение, ненависть, и невероятно трудно потом остудить головы.
Многообразие народов, культур — это одновременно и многообразие религий: мусульмане, буддисты, христиане всяких оттенков — старообрядцы, баптисты. Ставрополье было в числе регионов, подвергавшихся критике за недостатки в борьбе с религиозным влиянием. Дело доходило до абсурда. Умер кто-то из руководящих работников, с ним официально прощаются. Траурная процессия трогается в путь, и вдруг на пути большая группа людей его национальности вместе с родственниками и близкими забирают гроб и везут в аул, где покойный родился. Если и не увозят, то хоронят на мусульманском кладбище по мусульманскому обряду. Сложное положение: идти — не идти на похороны? Многие устранялись. Некоторые шли с риском получить нагоняй: занимаешь беспринципную позицию, поощряешь. В большинстве случаев мы «закрывали глаза», если только это не приобретало демонстративного характера, масштаба общественного явления. Тогда уже нельзя было не реагировать.
Две разные точки зрения существовали на строительство мечетей и церквей. Одни утверждали, что таким образом будет поощряться религиозность, другие доказывали, что именно запрет стимулирует ее. Действительно, количество незарегистрированных религиозных общин, особенно мусульманских, намного превышало число зарегистрированных, действовавших открыто. Собирались они тайно и тем самым становились как бы в оппозицию строю. Запреты не мешали существованию полуподпольных сект.
Изучая колхозный быт в сельских, казачьих, национальных районах, Раиса Максимовна собрала интересный материал. Значительная часть молодых и среднего возраста людей не исповедовали какую-либо веру, но, проявляя уважение к отцам и дедам, отдавали дань традиции. Такое я наблюдал и в своей семье. Обе бабушки, Василиса и Степанида, отличались религиозностью. Дед Андрей тоже был верующим, а дед Пантелей, коммунист, считал для себя обязательным уважать верующих. Мы же, «партийные кадры», выполняя инструкции ЦК, вели нажимистую антирелигиозную пропаганду, сплошь и рядом нарушая конституционную свободу совести. Как религиозные ордены свирепо обращали «еретиков» в свою веру, так и наши идеологи вели беззаветную борьбу с религией, без всякой нужды порождая недовольство среди простых людей.
Проблемы были, отсутствие демократии не позволяло их обсуждать, тем не менее они прорывались. Применение принудительных мер исключалось, но непререкаемый авторитет КПСС и страх перед властью в конце концов срабатывали. Договаривались со старейшинами, с интеллигенцией, находили компромиссы. Другого пути не было.
Тяжелое нам передали наследство. Кроили границы как хотели — тому прирезать, у того отнять. Создали сдвоенные республики, причем иногда соединяли не кровно-родственные, близкие друг другу народы, а наоборот. Даже когда был один народ, как в Адыгее, земля нарезалась так, что закладывались конфликты. Старый принцип римлян: разделяй и властвуй!
Главное, республики и национальные автономии были жестко привязаны к России. Существовал институт вторых секретарей, которые всегда были славянами. При возникновении национальных споров и претензий Сталин рассматривал их как проявление антисоветчины, а посему не тратил время на разъяснения и увещевания. И все же с проблемой, скажем, Карабаха так и не мог справиться: она регулярно возникала каждые десять лет. Да только ли Карабаха?
Мой жизненный опыт питал убеждение, что возможен лишь один путь — сотрудничество! Насильственное подавление бесперспективно, так как проблемы остаются. Это показал и весь мировой опыт — европейских стран, Индии, Китая, Канады, Соединенных Штатов. Силой можно «загнать вглубь» противоречия, возникающие на этнической почве, не позволять им выходить на поверхность. Но при первом же удобном случае они всплывут и могут принести много раз больше головной боли.
Мины межнациональных конфликтов были заложены десятилетия, а иногда столетия назад.
Мало сказать, что корни большинства конфликтов уходят в прошлое. Нужно признать и то, что некоторые из них возникли уже после Октябрьской революции. Национальная политика, проводившаяся партией на разных этапах, принесла и многие бесспорные достижения, и огромный ущерб. В этой сфере, как и в других, наследие большевизма неоднозначно.
До революции Ленин и большевики подходили к национальному вопросу ортодоксально, как правоверные марксисты. Когда разразилась революция 1905 года, присоединенные или присоединившиеся к России страны и народы не ставили вопроса об отделении. Об автономии — да. И Ленин придерживался этого лозунга. Лишь после мировой войны и Октябрьской революции, убедившись в неодолимом стремлении многих народов бывшей Российской империи к обретению самостоятельности, он сформулировал принцип: признание права наций на самоопределение, вплоть до отделения, и строительство федерации равноправных республик.
Так появилась федерация — единственно возможный способ сохранить целостность государства. Она стала результатом новой интернационалистской политики революционного правительства.
Ленинская концепция федерации предполагала возможность многовариантного, «асимметричного» вхождения в ее состав: от сохраняющих большую степень независимости национальных государств (в нынешней терминологии их можно было бы назвать «присоединившимися») до областной и районной автономии. В первые годы после Октября в стране существовали пять с лишним тысяч национальных районов, позволяющих даже численно незначительным национальным меньшинствам сохранить себя, свой язык, обычаи, культуру.
Сталин круто изменил этот курс. Он не посягнул на заложенный Лениным федеративный принцип государственного устройства, но «интерпретировал» его по-своему. По мере того как центральная власть чувствовала себя все более уверенно, у республик — союзных и автономных — отбирались реальные полномочия, и в конце концов их самостоятельная государственность была низведена до уровня обычного местного самоуправления. Разве что сохранилась пышная символика. Таким образом «вождь народов» превратил Союз в сверхцентрализованное унитарное государство и в глазах партии остался верен ленинским заветам, чему он придавал большое значение. Партия ведь и шла за ним, и отдала ему предпочтение перед Троцким, потому что большинство в ней считало Сталина «продолжателем дела Ленина».
Сталин и его соратники кроили границы, распределяли природные ресурсы и угодья, размещали производство. Это относилось к России, которая никогда раньше не существовала в границах, определенных для Российской Федерации. К Казахстану, в пределы которого были включены огромные территории, населенные преимущественно русскими. Это относится к конфигурации других республик — например, Грузии и Абхазии, Армении и Азербайджана. Все делалось с расчетом, чтобы они не могли и помыслить себя вне Союза.
Словом, советский опыт должен быть критически переосмыслен, но нельзя ошибочно, односторонне его оценивать. Не отражал ли он некоторые объективные потребности, свойственные нашему и, может быть, даже будущему веку? Люди, нации понимают, что без интеграции невозможно поднимать благосостояние и идти в ногу со временем. Но при этом отвергают интеграцию, доводящую до национального нивелирования.
Годы перестройки заставляли меня все больше задумываться о неизбежном многообразии форм национальных автономий, особенно для малых национальных общностей. Побывав, например, в Красноярском крае, я вплотную столкнулся с тем, как драматически сложилась судьба малочисленных народов Севера, осознал, что нужно принимать срочные меры, чтобы окончательно не «затоптать» их. Каждый народ, даже самый малочисленный, со своим языком, культурой, традициями неповторим. Растворение его в другом, более сильном и крупном, — невосполнимая потеря.
Жизнь показывает правоту многих идей, заложенных в организацию нашего великого союзного государства. Сложение, объединение усилий позволило каждой нации и обществу в целом резко ускорить свое развитие. Сегодня, когда он распался, вернее «четвертован» сепаратистами, идея Союза не умерла, ибо выражает объективную общественную реальность и потребность, остается оптимальным выбором для народов вновь образованного содружества.
Национальное брожение
Много потерь в решении национального вопроса связано с нашим запаздыванием, а то и ошибочными решениями. И немудрено. Ведь пришлось пройти путь от традиционной позиции до формирования политики, направленной на преобразование бюрократического унитарного Союза в демократическую федерацию суверенных государств.
Можно выделить три ступени развития наших взглядов на национальный вопрос и практических действий в этой сфере общественных отношений.
Вначале мы исходили из утвердившейся десятилетиями практики. Именно в таком духе действовали, когда возникла острая ситуация в Алма-Ате и других районах Казахстана в связи с выступлениями против смены руководства республики.
Недавно я прочитал воспоминания Кунаева. Он пишет, что в Казахстане не было брежневского застоя, республика развивалась динамично. Приводит соответствующие цифры. Однако что стояло за ними, какая реальность?
Казахский лидер сумел извлечь немалую выгоду из чрезмерного, даже по застойным взглядам, возвеличивания Генерального секретаря, подобострастного к нему отношения. Брежнев, в свою очередь, выделял и опекал Казахстан как собственную «вотчину». Но уже при первых шагах гласности там стали обнаруживаться проблемы и перекосы, вызывавшие большую тревогу.
Не думаю, что Казахстан был серьезно поражен болезнью национальных конфликтов. А вот раздражение и недовольство в связи с преобладанием одной из местнических общин, «клана джусов», имели место. Невооруженным глазом было видно, какие преимущества извлекала ближняя и дальняя родня «первого» из его положения не подлежащего критике республиканского самодержца.
Ко мне поочередно заходили секретари обкомов, потом побывала группа секретарей ЦК Компартии Казахстана, казахов и русских, во главе со вторым секретарем О.С.Мирошхиным. Давали понять, что дела в республике неладные.
В свою очередь, Кунаев сам стал жаловаться на «смутьянов», попросил встречи. Смысл его рассуждений состоял в том, что осложнение обстановки в Бюро ЦК связано с интригами премьер-министра Назарбаева, который рвется к власти. Кунаев крайне негативно характеризовал его, все время повторял:
— Это опасный человек. Его надо остановить.
А в конце концов обратился с просьбой переместить его на другую работу в Москву либо отправить за границу по линии Министерства иностранных дел.
Отношения у нас с Кунаевым, как я уже говорил, были нормальными, и я решил говорить в открытую:
— Должен вам, Динмухамед Ахмедович, сказать по-товарищески. Ко мне заходила группа ваших секретарей ЦК. Они другого мнения о причинах нынешней ситуации. Считают, что вы допускаете серьезные просчеты в кадровой политике, поощряете земляческие, родственные связи, покрываете людей, которые должны нести ответственность за злоупотребления, встали на путь гонения неугодных. Раз вопрос стоит так, считаю, что наш разговор с вами надо продолжить на заседании Политбюро с приглашением всех членов Бюро ЦК Компартии Казахстана.
— Да нет, не надо, — поспешно ответил он. — Буду уходить…
— Ну что же, в такой ситуации, — заключил я, — это, наверное, правильный шаг. Вы проявили бы мудрость и реализм.
Естественно, возник разговор о возможном преемнике. Кунаев не назвал ни Камалиденова, ни Ауельбекова, ни тем более Назарбаева.
— Михаил Сергеевич, — сказал он, — сейчас некого ставить, тем более из местных казахов. В этой сложной ситуации на посту первого секретаря должен быть русский.
Думаю, с его стороны это был продуманный шаг, рассчитанный прежде всего на то, чтобы не допустить избрания Назарбаева. Их отношения предельно обострились, хотя в прошлом Кунаев относился к нему покровительственно. Да и Назарбаев не оставался в долгу. Но позднее премьер стал проявлять большую самостоятельность. А когда он вскрыл факты значительных расходов, в том числе валюты, на всякого рода «неделовые» и незаконные траты, то и вовсе стал опасен для «первого».
После неоднократных обсуждений с членами Политбюро мы остановились на кандидатуре Г.В.Колбина. Предложение об его избрании было поддержано и в Бюро, и на Пленуме ЦК Компартии Казахстана. Но в свете последующего развития событий думаю, что мы все-таки совершили ошибку. Мы находились в начале перестройки, а действовали в какой-то мере старыми методами.
Последствия нашего решения оказались совсем не теми, на которые мы рассчитывали. 17–18 декабря 1986 года в Алма-Ате начались беспорядки. Сначала в студенческих кругах Алма-Аты, потом перекинулись на другие районы. В какой-то момент ситуация приобрела драматический характер. Была применена сила.
25 декабря Политбюро приняло вполне традиционное решение, нацеленное не столько на то, чтобы разобраться в причинах происшедшего, извлечь отсюда урок для себя, сколько на то, чтобы преподнести урок Казахстану, а заодно и другим. Руководствовались сложившимися представлениями, что все идет в русле единства и дружбы, единственная опасность — возникающие спонтанно вспышки национализма. И объяснялись они не существованием реальных проблем, а пережитками прошлого, влиянием внешних сил.
Завершая разговор на Политбюро, я сказал, что «у нас нет оснований ставить под сомнение интернационализм казахского народа». Эти слова были сразу же опубликованы в Казахстане и как бы успокаивали. Тем не менее в тексте постановления сохранилось упоминание о казахском национализме. Этот пункт был в дальнейшем отменен, а Назарбаев в 1989 году настаивал даже на исключении самого термина. Но «слово не воробей», история не поддается исправлению. И дело, конечно, не столько в самих терминах, сколько в необходимости крайне взвешенного, аккуратного обращения с деликатной «национальной материей».
Национальная проблема, заложенная еще в сталинский период, встала перед нами в середине 1987 года. В условиях гласности и демократизации организованные и решительные формы приняло движение крымских татар. Как известно, после освобождения Крыма в 1944 году все проживавшее там татарское население было насильственно перемещено в лагерные поселения на Урале, в Сибири, Средней Азии. Как и в других аналогичных случаях, делалось все крайне жестоко, погибли тысячи людей.
В 1955 году советские власти отменили лагерное содержание. С начала 60-х годов крымские татары стали организовывать демонстрации, требовать возвращения в Крым. В те годы, да и в последующем их публичные протесты встречали решительные меры отпора — политические, идеологические, административные.
В июле 1987 года три дня проводились непрерывные демонстрации у Кремлевской стены с требованием полного восстановления в правах и возвращения в Крым.
По поручению руководства с делегацией крымских татар встретились Громыко и министр внутренних дел. Громыко сообщил, что создана комиссия по этому вопросу во главе с ним. При всей остроте ситуации действия с обеих сторон носили политический характер. Это давало возможность искать приемлемое для всех решение. Хотя протесты и демонстрации продолжались.
В начале 1988 года комиссия, во взаимодействии с украинскими властями, сообщила о возможности возвращения части татар в места их прежнего проживания. Такое решение шло навстречу требованиям татар и вместе с тем исходило из того, что возрождение национальной автономии невозможно. Крым за это время был заселен прежде всего русскими и украинцами. Численность населения увеличилась в несколько раз по сравнению с довоенной. Люди прожили там не одно десятилетие, все созданное на полуострове за это время сделано их руками. Необходимо было смотреть на ситуацию с учетом исторических перемен.
Встречный уважительный шаг был сделан, но вожди национального движения стояли на своих максималистских требованиях. Они создали атмосферу психоза среди своих соотечественников, заставили многих, нашедших пристанище в Средней Азии и не помышлявших о новом переселении, продать дома и двинуться в Крым. Несколько тысяч человек собрались на территории Краснодарского края, бесконечные митинги вызывали протесты местного населения. Власти предприняли меры по поддержанию общественного порядка, не прибегая к арестам, насильственным действиям.
Тогда же Громыко заявил, что все крымские татары получат разрешение на возвращение в Крым. Но комиссия подтвердила отказ вернуть статус автономной республики крымских татар. Была ссылка и на то, что нынешнее административно-территориальное деление страны закреплено Конституцией. Позднее, летом 1989 года, идея автономии возникла вновь, но в другом варианте. При обсуждении этого вопроса в Верховном Совете СССР многие депутаты предлагали проработать вопрос о создании Крымской автономной области (то есть не национальной).
Читатель знает о том, как развивались события: о спорах России и Украины по поводу Черноморского флота и статуса Севастополя, референдуме за создание республики Крым, избрании первым его президентом Юрия Мешкова, его программе преодоления экономического кризиса и решения политических проблем. Она включает и намерение идти навстречу законному стремлению крымских татар вернуться на историческую родину. И вместе с тем — отклоняет максималистские требования. Все жители этой прекрасной земли, все граждане молодой республики должны на равных участвовать в управлении ею. Что ж, это справедливо.
Проблемы реабилитации, восстановления прав репрессированных народов — тех же крымских татар, немцев Поволжья, балкарцев, чеченцев, калмыков, ингушей и других — требовали очень продуманного и взвешенного подхода. Было ясно, что без учета изменившейся демографической обстановки и выработки демократического согласия затрагиваемых сторон стабильно решить их не удастся. Историю нельзя вернуть назад. Нужно отправляться от сложившихся реальностей. Попытка действовать волевым нажимом, поспешность и односторонность могли посеять ветер, и пришлось бы пожинать бурю.
Приметы национального брожения появились в 1987 году в Прибалтике. Впрочем, оно там и не прекращалось, только появлялось подспудно. Основная причина — недовольство русификацией региона, угрожавшей превратить латышей и эстонцев в национальные меньшинства в их собственных республиках. Бурно шло строительство новых предприятий, возникала необходимость приглашать на работу жителей из других мест. Проводилось это в рамках всесоюзной системы набора рабочей силы, как в Сибири, на Урале, в Средней Азии. За короткий исторический срок произошел значительный сдвиг в национальной структуре населения. Местные власти, кстати, сами тому способствовали, добиваясь выделения капиталовложений. Литовское руководство «выколотило» много средств для мелиорации земель и переустройства деревни, латвийское — на развитие индустрии, в Эстонии — на то и другое.
В результате удельный вес эстонцев в Эстонии уменьшился до 60 процентов, латышей в Латвии — до 50 процентов. Раздавались жалобы на принудительное изучение русского языка, тогда как живущие там русские практически не прилагали усилий для изучения латышского или эстонского. Оставляю вопрос о принудительности, но проблема на уровне человеческих отношений действительно существовала. Очень остро встали в этом регионе экологические проблемы в связи с перегрузкой моря, рек, земли, воздушного бассейна.
Ко всему этому добавлялось замалчивание подлинной истории вхождения стран Прибалтики в СССР. В августе 1987 года в связи с годовщиной заключения советско-германского пакта о ненападении умножились требования опубликовать секретные протоколы, определившие судьбу этих стран, восстановить справедливость по отношению к жертвам массовых депортаций.
Как всегда бывает, чувство «национальной угнетенности» искусно разогревалось сепаратистскими кругами. Разумеется, тогда еще никто не заикался об отделении от Союза, но почву для этого начали готовить загодя — появились публикации националистического толка, начали культивировать антирусские настроения. 18 ноября — день объявления независимости Латвии в 1918 году — демонстративно отметили как национальный праздник. В тот день тысячи латышей, игнорируя предупреждения властей, провели шествие и возложение цветов к памятнику Свободы в Риге. Толпа была рассеяна, а организаторы демонстрации, видимо, на это и рассчитывали, чтобы взбудоражить общественное мнение.
В Литве аналогичные события произошли 16 февраля 1988 года в связи с 70-летием независимости. Состоялся молебен, прошли публичные демонстрации. Учтя уроки латвийских событий, власти действовали похитрее, и замысел организаторов полностью не удался. Нечто подобное произошло и в Эстонии.
Повторюсь: на первоначальном этапе мы, несомненно, понимали, что реформы проводятся в многонациональной стране и без учета интересов проживающих в ней наций и народностей нельзя рассчитывать на успех. И все-таки оставались во власти традиционных подходов, не подошли еще к пониманию масштабности назревших в этой сфере проблем. Не сделав необходимых уроков из событий первого периода, упустили время и опоздали. Как удар колокола напомнил об этом Нагорный Карабах.
Карабахский взрыв
В феврале 1988 года население Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (85 процентов — армяне) потребовало перевести ее в состав Армянской ССР. Решение было принято областным Советом и сразу же поддержано многотысячными демонстрациями и митингами в Армении. Проходили они организованно, без эксцессов. Шли с плакатами в поддержку перестройки и гласности. Правоохранительные органы лишь поддерживали порядок, никаких других мер не предпринимали, да и не могли с этим людским морем.
Ответную резкую реакцию это вызвало в Азербайджане, где тоже прошли массовые митинги под антиармянскими лозунгами.
В феврале Политбюро рассматривало вопрос о Нагорном Карабахе. Разумовский сообщил, что 12 февраля в Степанакерте собрание партийных и хозяйственных руководителей высказалось за присоединение к Армении. 13 февраля прошел митинг. Были названы и два лица, которые «будоражили публику», — сотрудник института Госплана из Еревана Мурадян, инструктор обкома Карапетян. Поступила информация о позиции руководителей республик. Багиров настаивал, чтобы центр подтвердил и гарантировал неизменный статус НКАО. Демирчян выступал за то, чтобы рассмотреть обращение областного Совета НКАО в Верховных Советах Азербайджана, Армении и Советского Союза. Стало ясно, что спор Баку и Еревана вокруг Степанакерта решать придется Москве.
Рыжков сказал, что «действовать надо конституционно». Чебриков высказал мнение, что нужен не один шаг, а несколько: провести совместное заседание, послать из Москвы людей, к которым прислушиваются. Сообщил, что события отзываются в других республиках. В Эстонии растет настроение за выход из Союза, Таджикистан обсуждает свои претензии на Бухару и Самарканд.
Моя точка зрения была: проблему нужно решить политическими средствами. Заявить, что ЦК считает недопустимым любое изменение границ. Подготовить предложения экономического, социального и культурного порядка по Нагорному Карабаху. Пусть армяне и азербайджанцы соберутся вместе, сами решат, мы примем любое их решение. Подключить к их дискуссиям русскую интеллигенцию, рабочих. Было решено направить в обе республики представителей Политбюро для помощи местному руководству. В Баку выехали Лигачев и Разумовский, в Ереван — Яковлев и Долгих. В их задачу входило установить контакты, успокоить людей.
Главным в тот момент было вернуть спокойствие, не довести людей до отчаяния, не допустить, чтобы демократию повернули в свою пользу национал-экстремисты. 26 февраля я обратился к народам Азербайджана и Армении с призывом проявить сознательность, ответственность, благоразумие. В обращении говорилось, что мы не уклоняемся от откровенного обсуждения различных предложений. Но делать это надо спокойно, в рамках демократического процесса и законности.
Обращение способствовало некоторой нормализации обстановки. В Ереване прекратился беспрерывный массовый митинг, успокоенные люди разошлись по домам.
Я старался наладить диалог, нащупать пути к компромиссу, который был, по моему твердому убеждению, единственным выходом из ситуации.
В эти дни произошла моя встреча с поэтессой Сильвой Капутикян и журналистом Зорием Балаяном. Присутствовал на беседе Г. Шахназаров.
Разговор был долгим. Я дал возможность собеседникам подробно изложить предысторию вопроса. Спор вокруг Карабаха уходит, как принято говорить, в седую старину. Испокон веков на этой плодородной земле жили бок о бок два народа, она переходила из рук в руки, столетиями была во власти Персии. Но преимущественно ее населяли армяне. Сразу после революции едва не сбылась их давняя мечта о воссоединении с матерью-родиной. Но, дав сначала согласие на это, тогдашний руководитель Азербайджана Нариман Нариманов вскоре взял его обратно. В последующем вопрос поднимался не раз, в том числе после войны, но так и не нашел решения.
Подробно говорили обо всем этом Капутикян и Балаян, показывали мне тщательно собранные документы, географические карты, исторические справки. А потом стали рассказывать, как притесняют армянское население Карабаха, изолируют его от Армении, разрушают памятники старины. Фактически речь идет о целенаправленном стремлении выжить армян из области, как это удалось сделать в Нахичеван-ской АССР, — там после революции преобладало армянское население, теперь — 95 процентов азербайджанцев. Продолжается наступление ислама на христианство — так охарактеризовал все это кто-то из моих гостей.
Ну а потом я взял слово и тоже подробно изложил позицию руководства. Суть ее в том, что законные и справедливые чаяния армян НКАО должны быть удовлетворены, но без перекройки национально>-территориального деления, способного породить в стране цепную реакцию, стать началом кровопролития.
— Подумайте, — убеждал их я, — какими могут быть последствия разгорающегося конфликта. Он неизбежно приведет к изгнанию почти 500 тысяч армян, проживающих сейчас в Азербайджане, и 200 тысяч азербайджанцев, живущих в Армении. Огромная масса людей будет обречена на лишения и страдания. Самим фактом своего существования она приведет к усилению нетерпимости. Предотвратить беду — наш общий долг и прежде всего святая обязанность интеллигенции обеих республик. А между тем та и другая нередко занимаются разжиганием страстей.
Сильва Капутикян возразила:
— Это ренессанс национальных чувств, какое тут может быть поджигательство!
— Что же, — ответил я, — в искренности ваших чувств не сомневаюсь. Уверен, что и многие другие действительно болеют за судьбу армянского народа. Но есть и те, кто уже манипулирует национальными чувствами.
Забегая вперед, скажу, что все так и случилось. Именитую интеллигенцию, интеллектуалов Армении бесцеремонно оттеснили на задний план. То же произошло в Азербайджане, Грузии и других республиках. Через год, когда собрался Первый съезд народных депутатов СССР, Капутикян еще распространяла свои заявления, потом ее не стало слышно. А дело взяли в свои руки напористые и нахрапистые сипы.
Шахназаров был такого же мнения: важно не подливать масла в огонь, не накалять страсти, это может обернуться непредсказуемыми последствиями. А ведь сам он выходец из Нагорного Карабаха, и род его, кйязей Шахназаровых, известен.
Эта встреча не осталась без последствий. На другой день Балаян переслал подготовленные по моей просьбе предложения о мерах первой срочной помощи НКАО. Там был 21 пункт — строительство дорог, жилья, восстановление церквей, возможность принимать передачи Ереванского радио, издание книг на армянском языке, открытие в Степанакерте университета и другие. Я связался с Рыжковым:
— Николай Иванович, посылаю тебе предложения по Карабаху, постарайся учесть как можно полнее.
— Конечно, Михаил Сергеевич, вопрос жизненный для всей страны, тут нельзя экономить.
Через два дня из Совмина прислали проект постановления, предусматривавший выделение 400 миллионов рублей на неотложные нужды НКАО. Поначалу это произвело сильное впечатление, но через два-три месяца стали поступать сигналы, что республиканские власти по-своему распорядились выделенными из центра средствами, только небольшая их часть доходит до адресата. Пришлось направлять комиссии, проверять.
Основные пожелания все-таки были учтены. Но будь это сделано десять лет назад, проводи Алиев правильную интернационалистскую линию, — можно было предотвратить катастрофу. В 1988 году уже было поздно.
События нарастали как снежный ком. Дело дошло до насильственных акций, пиком которых стал кровавый погром в Сумгаите 27–29 февраля. В этом индустриальном центре, где скопилось большое число азербайджанских беженцев, группы с участием уголовных элементов, явно подстрекаемые, врывались в дома, расправлялись с армянскими семьями.
Трагический итог подвела Прокуратура СССР, сообщившая (22 марта): погибло 30 человек, пострадало 197, арестовано 42.
В Сумгаит направили войска. Безоружные солдаты пытались образумить озверевших хулиганов. Многие курсанты пострадали, некоторые остались инвалидами. Но если бы у них были автоматы, думаю, последствия могли быть еще более тяжелыми.
Нас нередко упрекали за «проявление слабости». А когда во избежание дальнейшего кровопролития пришлось ввести милицейские силы и воинские части, мы снова оказались под огнем критики, теперь уже — за применение силы. Разумеется, правительство должно было поступить именно так. Чрезвычайные меры определялись чрезвычайными обстоятельствами. То же самое сделали бы в любом демократическом государстве.
Резня в Сумгаите вызвала всеобщее возмущение, все были потрясены. Вместе с тем в мусульманских республиках дало себя знать сочувствие единоверцам. События грозили выйти из-под контроля, перерасти в религиозный конфликт.
Вопрос о НКАО рассматривался на внеочередном заседании Политбюро 3 марта. Я отметил, что ситуация проходит через переломный этап, мы опоздали с Сумгаитом, недооценили возможные последствия.
— Могут потребоваться защитные меры, — сказал я, — чтобы не допустить гибели людей, как случилось в Сумгаите. Главное — политические методы. Однако власть должна быть властью. И когда нужно ее употребить, надо употреблять вовремя. Закон должен торжествовать.
Я потребовал незамедлительно привлечь виновных к строгой уголовной ответственности, принять меры, чтобы «не выплеснулась стихия». Но исключить «кавалерийские наскоки», решать вопросы в контакте с армянскими и азербайджанскими товарищами, чтобы еще больше не наломать дров.
Еще до трагических событий, ознакомившись с мнением специалистов, я составил достаточно полное представление об истоках конфликта. Вспомним, что пережили армяне от персов, турок. Можно ли стереть из их памяти геноцид 1915 года, когда турки вырезали полтора миллиона армян, а два миллиона рассеяли по всему свету? В свое время обратились они к России не из любви к царю, а в надежде на спасение. Пошли к русскому народу под крыло.
Но и у азербайджанцев в Карабахе свои корни. Еще Ленин, понимая всю сложность данной проблемы, поручил разобраться в этом вопросе и найти решение Чичерину, наркому по иностранным делам. Конечно, присутствовал там и внешний аспект, но, думаю, определяло выбор понимание того, что лучше разобраться в сложном национальном споре может искусный дипломат.
Те, кто ведал тогда национальными делами, в первую очередь Сталин, не справились с ситуацией, не хватило тонкости. Решение было найдено далеко не идеальное. За десятилетия в автономной области накопилось немало трудностей и проблем. Азербайджанское руководство относилось к населению Карабаха далеко не в духе ленинского подхода, а иногда просто не по-человечески. Возникли проблемы языкового, культурного порядка, допускались серьезные нарушения в кадровой политике. В условиях гласности все это вскрылось. Вот и заварилась каша. Характерно, что ни в Нагорном Карабахе, ни в Азербайджане, ни в Армении не выдвигалось антисоветских, антисоциалистических лозунгов, никто не ставил вопроса о выходе из Советского государства.
В обеих республиках многие высокопоставленные должностные лица замарали себя коррупцией. Когда же началась перестройка и они почувствовали, что кресла под ними шатаются, именно эти элементы попытались спровоцировать этнические конфликты. Национальные чувства людей стали предметом нещадной эксплуатации. Карабах в их руках оказался миной, заложенной под перестройку.
Вот мои слова на этот счет:
«Давайте посмотрим на самих себя. За три года ЦК получил 500 писем о ситуации в Нагорном Карабахе. Обратил ли кто на это внимание? Нет! Была рутинная бюрократическая реакция: мол, не поделили что-то между собой армяне и азербайджанцы… Надо глубоко вникнуть в причины. Перестройка привела в движение большие внутренние силы, начали вскрываться застарелые нарывы. Возрождаются национальные чувства, а вместе с ними и национальный экстремизм. ЦК должен был изучать, исследовать проблемы».
Было решено: 1. Изложить наши оценки ситуации в прессе.
2. Генеральному секретарю выступить по телевидению. 3. Рассмотреть вопрос в Президиуме Верховного Совета СССР. 4. Опубликовать сообщение Прокуратуры по ходу расследования событий в Сумгаите. 5. Административным органам решить вопрос о дислокации войск в «горячих точках», но без введения комендантского часа.
Азербайджанским и армянским руководителям снова было сказано: «Договаривайтесь». Однако договориться они не смогли. Вновь вернули вопрос нам: пусть, мол, выносит решение Москва. Тем более что после Сумгаита армянская сторона отказывалась верить Азербайджану.
На заседании Политбюро 6 июня я высказал предложение, что кто-то в эшелонах власти республик подзуживает, разжигает страсти.
— Единственное, с чем мы никогда не согласимся, — это поддержать один народ в ущерб другому. Пусть нас на этот счет не шантажируют. Мы не позволим, не должны ни в коем случае допустить, чтобы истину искали через кровь! — Это было сказано в июне 1988-го.
В обстановке невероятного давления на депутатов сессия Верховного Совета Армянской ССР постановила дать согласие на вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении и обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой рассмотреть данный вопрос. Двумя днями позже сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР приняла решение о неприемлемости передачи НКАО Армении и о мерах по ускорению социально-экономического развития области. 25 июня проходят митинги в Степанакерте — население возмущено тем, что местная печать не сообщает о решении Совета НКАО о выходе из состава Азербайджана.
Напряженность стремительно росла. Не прекращались митинги и забастовки в Степанакерте. 6 июля — блокада аэропорта в Ереване. Сессия облсовета в НКАО вновь принимает решение «о выходе», в Баку вновь объявляют его незаконным.
Возникал вопрос: каков выход? Громыко видел его в привычном средстве: «Появится на улице армия, и сразу будет порядок». Чебриков возразил. Яковлев предложил на год взять «управление НКАО в Москву». Шеварднадзе высказался за немедленное придание НКАО статуса автономной республики. Лигачев попытался синтезировать все эти идеи: «Уже сейчас 20 тысяч беженцев. Люди без крова. Если статус республики для НКАО не поможет — ввести войска, демонтировать заводы, распустить партийные организации, исполкомы, наводить порядок».
Я поддержал предложение об автономной республике. Но этот вопрос должны были решить сами конфликтующие стороны.
18 июля состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. Пригласили все стороны, дали возможность высказаться. Заседание транслировалось по телевидению, чтобы всем были ясны занимаемые позиции. Нашу позицию — центральной власти — поддержало большинство.
Я спрашивал:
— Как вы хотите решить проблему, победить любой ценой? Армения хочет добиться включения Нагорного Карабаха в состав своей республики, Азербайджан — не намерен допустить это, не отступит ни на миллиметр. Но ведь это нереально! Надо найти компромисс, который устроил бы всех. Победа может быть только общей. Нельзя решать вопросы, когда идут стенка на стенку. Это политический тупик. Сумгаит, другие события вокруг Нагорного Карабаха уже наложили глубокий отпечаток на отношения двух народов, потребуется время, чтобы это хоть как-то сгладилось. Но и сейчас надо идти навстречу друг другу, искать компромисс.
На заседании были высказаны предложения усилить гарантии жителям Нагорного Карабаха, чтобы исключить повторение случившегося. Ведь и в прошлом было много обещаний, но они обернулись пустым звуком, обманом, по сути дела. Я предложил сформировать в рамках Совета Национальностей специальную комиссию для рассмотрения высказанных предложений. Такая комиссия была создана и проделала полезную работу. Сильное впечатление произвело на меня выступление Расула Гамзатова. Он предложил передать Нагорный Карабах под временное управление союзным органам. Впоследствии такое же предложение выдвинула комиссия Совета Национальностей.
20 июля было опубликовано постановление Президиума, которое еще раз подчеркнуло, что изменение границ невозможно. 26 июля ЦК партии и Президиум Верховного Совета принимают решение направить в НКАО А.И. Вольского для организации и координации выполнения принятого решения. Но нормализации обстановки не происходит. 21 сентября вводятся особое положение и комендантский час в Степанакерте и Агдамском районе.
После осенней сессии Верховного Совета СССР 3 декабря произошла моя встреча с депутатами СССР от Азербайджана и Армении, руководством обеих республик и НКАО. В ней участвовали Рыжков, Слюньков, Чебриков, Лукьянов, Разумовский. Я сказал:
— Еще один шаг — и пропасть. Вы, авторитетные избранники двух народов, просто обязаны сесть за круглый стол, вместе подумать, как выбраться из тупика…
Сегодня я еще больше уверен, что нигде национальный вопрос не удастся решить силой. У нас на Северном Кавказе царизм десятилетиями вел войны, создавал систему крепостей, поселения казаков, наказывал, громил, уничтожал — ни к чему хорошему все это не привело. Результат дало лишь налаживание торговли, сотрудничества между людьми, заключение союза с правящими элитами и старейшинами, приближение их к царскому двору, почести и привилегии. Своеобразное новое объединение возникло после Октября. При всем несовершенстве этого союза сохранялся какой-то баланс интересов.
Процесс умиротворения крайне осложнился, и в этом сыграла свою роль общественная атмосфера, складывавшаяся в стране, в Верховном Совете СССР и России. По сути дела, проявились две позиции. Одна сводилась к тому, что, мол, в момент возникновения конфликта, особенно после Сумгаита, надо было решительно ударить по «зачинщикам» смуты в НКАО и подавить его в зародыше.
Смысл другой позиции: поскольку народ Карабаха хочет воссоединиться со своей Родиной, а мы признаем право наций на самоопределение, почему бы этого не сделать? Ведь Нахичеванская автономная республика входит в Азербайджан, хотя и отделена от него армянской территорией. Точно так же можно решить вопрос с НКАО.
На каком-то этапе показалось, что решение возможно: дать Карабаху, как Нахичевани, статус автономной республики при сохранении в составе Азербайджана. Был момент, когда это предложение вот-вот могло реализоваться. Но как раз в это время в Ереване Верховный Совет принял решение о принятии НКАО в состав Армении, и все рухнуло. Рухнуло из-за внутреннего противоборства, ибо там уже разворачивалась борьба за власть, за смену правящей элиты. К власти рвалось Армянское общенациональное движение, образовавшееся на базе комитета «Карабах».
В этой связи возник еще один вариант, который прозвучал и на заседании Политбюро: с помощью вооруженных сил, центральной власти сохранить статус-кво. Иными словами, в пользу Азербайджана, но все-таки не руками азербайджанских экстремистов, а силами законной власти. Я опрашивал своих коллег: хорошо, введем президентское правление, а дальше? Вразумительного ответа не получал.
Очень уж сильны были настроения в пользу «наведения порядка». Отстаивать свою позицию в такой ситуации было непросто. Тем не менее я придерживался ее с начала и до конца, хотя и не удавалось обойтись в экстремальных случаях без строго лимитированных жестких мер.
В этот период, в 1987–1988 годах, я стремился выработать единый демократический подход к межнациональным спорам. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вовсе не заслонил других, казалось бы, более спокойных по формам проявления, но не менее значимых процессов, набиравших силу в Прибалтике, Молдавии, Грузии, зарождавшихся в Средней Азии и на Украине. В различных регионах все чаще ставились вопросы о языках коренных национальностей, экономическом суверенитете, расширении прав. В противовес русификации нередко впадали в другую крайность, внося дух конфронтации в массовое сознание. Но вопрос о выходе из Союза в 1987 году не ставил никто, кроме, может быть, крайних экстремистских групп типа «Ассоциации независимости Эстонии», группы Я. Барканса в Латвии и некоторых националистических группировок в Литве. Не ставился он открыто и осенью 1988 года, когда в республиках образовались народные фронты.
Но если не удавалось добиться гармонизации интересов, где следовало искать выход? Терпеливо и настойчиво содействовать достижению компромисса, а главное — менять сами условия, породившие конфликт. Я считал, что межнациональные проблемы могут быть по-настоящему решены только в общем контексте экономической и политической реформы. К концу своей деятельности на посту президента не сомневался, что сохранение и обновление Союза могут удержать мир. Была выдвинута формула: сильный центр — сильные республики. Другие говорили иначе: сильные республики — сильный центр. Пусть так, это мало что меняет. Ведь новый центр предполагалось формировать на иной основе, с иными функциями. Он должен был заниматься общими вопросами — безопасностью, согласованием основ экономической и социальной политики, координацией внешней политики, поддержанием порядка на границах и т. д. И, конечно, играть третейскую роль, когда возникают конфликты.
Прибалтика… и другие
С середины 1988 года и вплоть до 1990-го динамика межнациональных процессов нарастала, а в авангарде их, как и следовало ожидать, оказалось наиболее уязвимое звено Союза — Прибалтика.
1 октября 1988 года открылся учредительный съезд Народного фронта Эстонии. Спустя неделю образован Народный фронт Латвии. В том же месяце в Литве прошел учредительный съезд «Саюдиса». На первом этапе (примерно до середины 1989 года) фронты были еще надпартийными объединениями, включавшими представителей самых различных слоев. В них входило много горячих сторонников реформ, отнюдь не настроенных на отделение. Но поскольку партия стояла в стороне, воспринимала настороженно или враждебно всякие национальные проявления, эти движения возникали как альтернатива ей. Их знаменем стали самые острые вопросы, волновавшие общество, и потому фронты быстро обогнали партийные организации по влиянию.
Они ставили вопрос об утверждении родного языка в качестве официального языка данной республики, восстановлении национальных гимнов и флагов 1918 года, ограничении миграции, реальной самостоятельности республик. Кстати, в соответствии с формулами их Конституций и Основного Закона СССР. Все это в целом оставалось в русле идей XIX партконференции — без выдвижения требования о выходе из Союза.
В таком понимании происходивших там процессов убеждало меня и рассказанное Яковлевым. В начале августа 1988 года я рекомендовал ему поехать в Прибалтику, надеясь, что это поможет лучше понять, что там происходит.
Яковлев высказался за то, что нам не следует выступать с позиции осуждения народных фронтов; хотя там есть всякие силы, нужно сотрудничать с ними. В Прибалтику полезно съездить Рыжкову, поскольку недовольство связано прежде всего с нерешенностью экономических вопросов. Деятельность союзных министерств воспринимается как колонизаторская. Целесообразно направить в республику председателя Комитета государственной безопасности и министра внутренних дел, чтобы на месте разобраться, как действуют подведомственные им органы, насколько их деятельность адекватна политике перестройки.
Подытоживая, Яковлев заверил, что «все прибалты за перестройку, за Союз». Этот оптимизм успокаивал, но показался мне чрезмерным. Первые признаки опасности, угрожавшей Союзу, я почувствовал именно тогда. Правда, всего лишь как симптом, как один из вариантов развития событий, который мы в состоянии исключить.
Положение Прибалтийских республик в Союзе имело свою специфику. С 1939 года считалось, что они добровольно вошли в состав СССР. Но гласность позволила всем узнать, как это было на деле. Да, решения принимались парламентами этих государств, не наблюдалось взрывов массового недовольства. Но нельзя сбрасывать со счетов, что для них была реальностью фашистская опасность, «присоединение» происходило на основе секретного соглашения с Германией и в условиях фактической оккупации Красной Армией.
Несомненно, что трудовые слои и левые партии с энтузиазмом поддержали этот акт. Но утверждать, что он был итогом народного волеизъявления, по меньшей мере спорно. Своеобразие ситуации заключалось и в том, что все прошедшие с той поры полвека существовали правительства Прибалтийских государств в изгнании, а Запад не признавал законность их присоединения к Союзу.
Эти обстоятельства стимулировали стремление вернуть независимость. Но главным мотивом, находившим широкий отклик, причем даже у части некоренного населения, было убеждение, что Балтия «обирается Союзом» и, обретя волю, будет жить на порядок лучше. Не без доли высокомерия рассуждали о превосходстве в производительности труда, отвлекаясь от того, что оно достигнуто за счет огромных союзных капиталовложений. При участии направлявшихся сюда из России и других республик квалифицированных специалистов и рабочих. В немалой мере благодаря даровому топливно-энергетическому сырью.
Были люди, понимавшие, что разрыв связей лишит всех этих преимуществ. Но на уровне обыденного сознания бытовало тем не менее мнение, что «другие живут за счет прибалтов». С этим я столкнулся в Эстонии, где побывал в феврале 1987 года. Тогда я сказал, используя данные межотраслевого баланса:
— На два с половиной миллиарда вы отправляете продукции из своей республики, а получаете… на три.
Первую часть этой фразы слушали с удовлетворением, тем более что для маленькой республики цифры звучали внушительно. А вот окончание привело их в шоковое состояние.
Повторяю, стремясь к получению максимальной свободы, до какого-то момента вопроса о полном разрыве прибалты не ставили. В большей мере их заботило сокращение относительной доли коренного населения. Интеллигенция первой забила тревогу, что по прошествии нескольких десятилетий народ полностью потеряет свою идентичность, государственность. Она считала, и не без оснований, что Союз не позволит переломить тенденцию и осуществить резкие меры по ограничению негативных для коренного населения демографических процессов. К тому же, думаю, был большой расчет на то, что Запад, в особенности Скандинавские страны, примут их в свои объятия.
В августе 1988 года прибалтийские власти, извлекая уроки из опыта предшествующего года, официально разрешили проведение публичных собраний в связи с 49-й годовщиной советско-германского пакта. Состоялись массовые демонстрации, открыто выдвигались националистические лозунги.
Конфликтная ситуация сложилась осенью. 16 ноября Верховный Совет Эстонской ССР принял закон об изменениях в Конституции республики и Декларацию о суверенитете, вступавшие в противоречие с союзной Конституцией. Президиум Верховного Совета СССР вынужден был 18 ноября объявить эти решения, ставившие союзные законы в зависимость от их одобрения республикой, антиконституционными и недействующими.
На том заседании Президиума я старался умерить страсти, но в категорической форме заявил о неприемлемости эстонского решения. Тогда впервые прозвучало слово «кризис»:
— Разумно ли толкать к замкнутости, к обособлению, когда ведущими тенденциями в мире стали интеграция, межгосударственное разделение труда, международная кооперация, создание единого рынка? В Западной Европе идут к тому, от чего некоторые горячие головы у нас хотят отказаться. Это — архаизм, неграмотно и вредно. Если бы мы встали на путь разъединения, это замедлило бы развитие и привело к огромным потерям, отразилось бы и на материальном благосостоянии, и на духовном развитии. Такой подход идет вразрез со всем ходом нашей перестройки, экономической реформой, линией на демократизацию общественной жизни.
В Указ по моему предложению был внесен следующий пункт: «Считать целесообразным в рамках следующего этапа политической реформы разработать на основе конституционных норм систему мер и государственно-правовых механизмов… для обеспечения политических, социально-экономических интересов союзных республик, расширения и защиты их суверенных прав в Союзе ССР». Тогда я полагал, что надо четко держаться намеченного поэтапного плана реформы политической системы.
Конечно, сама проблема была крайне непростой, в чем мы убедились при обсуждении в феврале 1989 года в комиссиях Верховного Совета СССР «Общих принципов перестройки руководства экономикой и социальной сферой в союзных республиках на основе расширения их суверенных прав, самоуправления и финансирования». Дискуссии порой достигали накала.
Документ, подготовленный Советом Министров и одобренный ЦК, был вынесен на обсуждение весной 1989 года. И вызвал очередной взрыв недовольства в Прибалтике. Мы опять не объяснили заранее, что речь идет лишь о первом этапе политической реформы. Общественность трех республик восприняла его как окончательный ответ центра на их требования о самостоятельности, паллиатив, или полуотказ. Запоздалые разъяснения по этому поводу слушали вполуха и всерьез не принимали.
В марте 1989 года публикуются предвыборные тезисы Народного фронта Эстонии с требованиями реализовать решение Верховного Совета республики о суверенитете, существенно изменить отношения собственности, создать новые институты власти на базе народных движений. В тех условиях исключительно важна была позиция партии. Однако она просто не умела работать в условиях демократии. Партийные лидеры, привыкшие заниматься хозяйственными делами, растерялись, когда понадобилось действовать политическими методами.
Партийные органы с самого начала отнеслись к новым движениям с подозрением, хотя там уже было немало коммунистов. В ЦК тоже преобладал взгляд на них как на детище сепаратистов и националистов. Такие элементы во фронтах действительно были, но нельзя было сводить к этому оценку массовых движений. Не удосуживаясь глубоко и серьезно проанализировать новое явление, впадали в панику.
Настолько номенклатура привыкла к удобному для себя монотонному течению жизни, что малейшие перемены вызывали панические настроения. Кооперативы — паника. Самостоятельность предприятий — паника. Экологические требования «зеленых» — паника. И уж совсем безоглядная паника с началом политической реформы. Мне все чаще приходилось говорить на эту тему:
— Ничего не надо драматизировать… Впервые мы занимаемся политической реформой такого масштаба. И у нас не должно быть заботы, как при этом объегорить свой народ. Сами призвали его к переменам, к переосмыслению всей своей жизни. Если появится что-то негодное, неприемлемое, будем и это обсуждать, опровергать, отвергать. А то мы вроде напуганы.
Неформальные организации были, что называется, с порога объявлены оппозиционными. Но ведь и с оппозицией надо взаимодействовать. Однако тянули с этим в расчете: может быть, сгинут, исчезнут как дурной сон? Если бы уже на первых порах возникло сотрудничество между партийными организациями и неформальными объединениями, выборы народных депутатов в 1989-м могли бы интегрировать партию и народные фронты в общий политический процесс. Но так не случилось, партия проморгала этот начальный этап, и во всех Прибалтийских республиках фронты выиграли выборы народных депутатов СССР.
Ободренные примером, стали действовать более решительно аналогичные организации других республик. В июне был создан Народный фронт Грузии, в мае — движение «Бирлик» в Узбекистане, в сентябре — украинский РУХ. В Молдавии, Ереване неформальные движения проводили несанкционированные митинги. Прибалты, как более опытные и организованные, снабжали их идеологическими материалами, пытались наладить координацию.
Рассказывая коллегам о своей поездке на Украину (февраль 1989 года), я говорил, что там «есть национальный вопрос, особенно принимая во внимание роль реакционной эмиграции от Петлюры до Банде-ры. Но в народе сильны интернационалистические привязанности. Поэтому глашатаям «самостийности» приходится ездить за допингом в Прибалтику. Этим «искровцам» пожара так и не удалось разжечь, даже костры не воспламеняются. Народ не принимает их претензий, особенно рабочий класс».
Был ли я тогда не прав, не приукрашивал ли ситуацию? Такое впечатление сложилось тогда после поездки, думаю, оно отражало настроения трудящихся Украины. Но вот активность, организованность экстремистов, их жажду любым способом, пусть даже ценой ухудшения жизни людей, прорваться к власти, манипулирование святым чувством любви к своей нации — все это я, видимо, недооценивал.
Началась мощнейшая эскалация действий Народных фронтов. Все больше стали брать верх сепаратистские тенденции. И подстегнули их не только процессы, происходившие в Прибалтике, но и тбилисские события апреля 1989 года. Когда я прилетел из Лондона, мне прямо в аэропорту сказали, что в Грузию введены войска для охраны «объектов». Разбираться на ходу в деталях было трудно, но, почувствовав, «что-то назревает», я поручил Шеварднадзе и Разумовскому выехать в Тбилиси и прояснить ситуацию. Эта поездка, однако, была отложена, поскольку на другое утро грузинское руководство проинформировало, что положение стабилизируется. А в ночь с 8 на 9 апреля разразилась гроза.
Последующие дни были всецело заполнены усилиями не допустить эскалации, по возможности свести к минимуму последствия столкновения на центральной площади грузинской столицы. 20 апреля Шеварднадзе, только что вернувшийся в Москву, доложил Политбюро о положении в республике. Слушая его, я все время возвращался к мысли: политические методы наши кадры считают проявлением слабости. Главный аргумент у них — сила. Членам ЦК надо было выйти к народу, но они предпочитали сидеть в бункере. Сколько ни говорили мы до этого о работе в условиях демократии, а всерьез, оказывается, никто не принял. И дошло до трагедии. А ведь в ноябре 1988 года в Тбилиси назревало нечто подобное как реакция на проект конституционных поправок. Тогда я попросил Шеварднадзе в течение ночи накануне открытия сессии Верховного Совета СССР договориться с земляками, объяснить им происходящее. Обратился к грузинской общественности с устным посланием, оно было услышано и понято. Ответ вылился в мощную эмоциональную реакцию: люди радовались, обнимались, плакали. Грузины — люди гордые, с развитым чувством достоинства, но чрезвычайно высоко ценят дружбу и уважительное отношение.
Вставал и другой вопрос. Чтобы принимать правильные решения, нужно иметь точную и правдивую информацию. А я, читая шифровки, сразу же видел интересы того или иного ведомства, у каждого из которых была своя «правда». Из Тбилиси внятная информация вообще вовремя не поступала. А ведь в таких вопросах не семь, сто раз надо отмерить, прежде чем отрезать.
Когда речь зашла об участии армии, я резко сказал Язову:
— Дмитрий Тимофеевич, запомни навсегда и сегодня же отдай приказ: отныне без решения высших инстанций участие армии в гражданских делах запрещено.
Взорвался на том заседании Рыжков:
— Мы — члены Политбюро, я — глава правительства, узнаём о событиях из газеты «Правда». Куда это годится! Командующему армией в Грузии кто-то дает указание из Москвы, а правительство — ни слухом ни духом, ничего этого не знает! И Михаил Сергеевич — Председатель Совета Обороны, Генеральный секретарь — не знал. Как же так?
Сколько мне пришлось выдержать «испытующих взглядов», слышать прямых упреков, что-де генсек знал обо всем, что предпринималось грузинским руководством. В марте 1994 года Гавриил Попов в одной из публикаций заявил: никогда не поверю, что Горбачев не знал.
Попов может не верить — это меня не волнует. А вот многочисленным моим друзьям-грузинам могу сказать с чистой совестью: решение было принято без согласования со мной. Возмутителен факт, что войска были брошены против граждан, а Верховный Главнокомандующий был в неведении относительно этого ЧП.
Эхо тбилисских событий, болезненно отозвавшееся во всех регионах, еще долго негативно сказывалось на всех наших попытках гармонизировать межнациональные отношения в стране.
18 мая Верховный Совет Литвы, как бы солидаризируясь с Эстонией, принял поправки к Конституции, согласно которым законы СССР действуют после утверждения их Верховным Советом республики. Были приняты также Декларация о государственном суверенитете, закон об основах экономической самостоятельности, обращение к Съезду народных депутатов и правительству СССР с требованием осудить тайные сделки между Советским Союзом и гитлеровской Германией 1939–1941 годов, объявить их незаконными и не имеющими силы с момента подписания.
В тот же день Верховный Совет Эстонии принимает решение перейти на республиканский хозрасчет с 1 января 1990 года. И как в Литве — постановление об отношении к пакту Молотова — Риббентропа.
Все это происходило накануне открытия (25 мая) Первого съезда народных депутатов СССР. Сообщения из Прибалтики вызывали огромное беспокойство, давали аргументы противникам каких бы то ни было перемен в руководстве. Занервничала даже часть реформаторов.
Незадолго до Съезда народных депутатов СССР на заседании Политбюро рассматривался вопрос о политической ситуации в Прибалтийских республиках. В ходе обсуждения вопроса я счел нужным сказать:
— Наша слабость в том, что партия опять отстает. У меня нет недоверия ни к одному из первых секретарей ЦК компартий всех трех республик в главном — отношении к Союзу, социализму, перестройке. Реальная ситуация накладывает отпечаток на их деятельность, и наши рекомендации сводятся к тому, что нынешнюю политику и практическую деятельность надо наполнять новым содержанием. Если нужны новые формы собственности — хутора, фермы, там, где это действует и полезно, надо соглашаться. Идти на аренду. Поточнее определиться с народными фронтами, чтобы не отбрасывать их, не смешивать с крайним крылом тех же фронтов. Отсекать надо экстремизм, а не зачислять в этот разряд все народное движение. В народных фронтах надо работать и делать это явно, а не за спиной. Власть употреблять, когда нарушается закон.
Помню реплику Пуго:
— Не все потеряно. Нужно быть очень осторожным в оценке ситуации, чтобы не довести ее до того, когда все действительно будет потеряно…
Все лето 1989 года национальные проблемы держали общество в напряжении. В июне произошли кровавые столкновения и погромы в Фергане. В Прибалтике сепаратисты разжигали антирусские настроения. 6 августа в Эстонии был принят закон о выборах в местные органы власти, которым вводился ценз оседлости. На крупных предприятиях республики начались забастовки.
27 августа, когда я был в отпуске в Крыму, печать опубликовала Заявление ЦК КПСС «О положении в республиках Советской Прибалтики». Оно вызвало неоднозначную реакцию и, можно сказать, привело к результатам, противоположным задуманному. Черняев сообщил мне 30 августа о телефонном звонке В.Вяляса, который заявил, что эстонцы весьма болезненно восприняли тональность документа, многие в знак протеста стали сдавать партбилеты. «В Эстонии за исключением экстремистов никогда не ставился вопрос о выходе из Союза. Не верят, что М.С. видел или принимал участие в этом заявлении. Не могут смириться с тем, что от него мог исходить документ такой тональности. Руководство республики, — сказал он, — сожалеет, что не было предупреждено об этом шаге».
Вне зависимости от того, какую роль сыграл я в создании этого документа, должен признать, что и сам поддался эмоциональной реакции на события. Наши не всегда удачные шаги и хроническое запаздывание осложняли обстановку. Все сильнее ощущалась потребность в радикальном обновлении национальной политики с учетом новых реалий.
Запоздавший Пленум
Сначала мы намеревались Пленум ЦК КПСС на эту животрепещущую тему собрать в июне 1989 года. Но, рассмотрев представленные материалы, пришли к выводу, что нужен более глубокий документ. Пришлось поручить это своей «рабочей группе» и отложить разговор до сентября.
Пауза была слишком велика. Взбудораженное общество ждало разъяснений, и я решил выступить с этим по телевидению (2 июля). Обратившись к гражданам, призвал осознать опасность и проявить ответственность, решать любые проблемы на основе демократического обсуждения и терпимости. «От правильного решения вопроса межнациональных отношений, — говорил я, — в значительной степени зависят спокойствие и благополучие людей, судьба перестройки, если хотите, — судьба и целостность нашего государства».
В чем виделся ключ к решению накопившихся проблем? На первое место ставились права человека, преобразование Советской Федерации. Одновременно я считал нужным предупредить против крайностей. «Думая о перестройке Федерации, мы не можем не считаться с реальностями, сложившимися за столетия, особенно в годы Советской власти. Народы прошли большой путь развития, сложился единый народно-хозяйственный комплекс. Разрывать эти связи — значит резать по живому. Нельзя в поисках лучшего становиться на путь разрушения созданного».
К августу закончилась работа над тезисами, положенными в основу опубликованного 17 августа проекта платформы КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». В ней подчеркивалась постоянная потребность в радикальном обновлении национальной политики, а основными ее задачами назывались:
— преобразования в Советской Федерации, наполнение ее реальным политическим и экономическим содержанием;
— расширение прав и возможностей всех форм и видов национальной автономии;
— обеспечение равных прав каждому народу;
— создание условий для свободного развития национальных культур и языков;
— укрепление гарантий, исключающих ущемление прав граждан по национальному признаку.
Впервые был поставлен вопрос о разработке и подписании нового Союзного договора. Добавлю, что в проекте указывалось на роль России как консолидирующего начала всего Союза и предлагалось решить проблемы правового статуса РСФСР. Платформа с некоторыми уточнениями была принята сентябрьским Пленумом ЦК, и я берусь утверждать, что это незаурядный документ, в котором с учетом и отечественного и мирового опыта дается осмысленная трактовка актуальных проблем национального развития и межнациональных отношений.
Но недаром в народе говорят: «Дорого яичко к Христову дню». При всей ценности принятых на Пленуме решений они сильно запоздали. Это была, в частности, и расплата за старые подходы, увлечения коллегиальностью, по большей части — мнимой. Дел было невпроворот, подготовку затянули, потеряли драгоценное время.
При всем разнообразии и остроте постановки проблем их решение виделось в рамках Союза. Тогда и надо было начинать работу по созданию правовой базы реформирования Союза, проработку Союзного договора. Мы же приступили к консультациям по разработке договора только в конце 1989 года.
Начало 90-го ознаменовалось новым обострением армяно-азербайджанских отношений, что привело к армянским погромам в Баку, «исходу» армян из города.
Вопреки имеющим место фальсификациям по поводу введения войск в Баку в январе 1990 года я должен сказать, что только чрезвычайные обстоятельства вынудили ввести чрезвычайное положение. Эта мера была направлена на предотвращение еще большего кровопролития. События разворачивались так:
13 января вечером в городе Баку группами хулиганствующих элементов были спровоцированы беспорядки и бесчинства, приведшие к человеческим жертвам.
15 января Бюро ЦК КП Азербайджана рассмотрело неотложные меры по нормализации обстановки в Баку. В принятом решении отмечалось, что преступные силы, ведущие дело к дестабилизации обстановки в республике, открыто перешли к практической реализации своих замыслов. Воспользовавшись резким ухудшением ситуации в НКАО и приграничных с ней районах, они накалили страсти в Баку, толкнули часть людей, беженцев из Армении, на противоправные действия. В ходе беспорядков и бесчинств в Баку 13 января от рук преступников погибли люди, главным образом армяне, имелись десятки раненых. Совершены погромы жилищ. Требовались экстренные меры.
Власти стремились восстановить порядок. Но внутренние распри и раскол парализовали их деятельность и способность контролировать ситуацию.
В Баку были направлены от Президентского совета Е.Примаков и от ЦК КПСС А.Гиренко. От них стала поступать крайне тревожная информация о развитии обстановки в Азербайджане. Бесчинства охватили республику, буквально сметены были органы власти в 18 районах, уничтожены пограничные сооружения на двухстах километрах границы с Ираном.
Верховный Совет республики в обстановке нарастающего морального террора оказался неспособным принимать решения.
19 января было опубликовано Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР «К народам Азербайджана и Армении». Указом Президиума Верховного Совета СССР в Баку с 20 января вводилось чрезвычайное положение. Организаторы беспорядков, отказываясь подчиняться Указу, всячески препятствовали действиям войск, введенных в Баку, что привело к новым жертвам.
20 января я выступил по Центральному телевидению с оценкой ситуации и разъяснением действий руководства страны.
Эта акция по-разному оценивалась и оценивается. По мнению одних, чрезвычайное положение введено с опозданием, других — его вообще не надо было вводить. Отвечая первым, следует сказать, что союзные власти не могли это делать через голову руководства республики и сделали тогда, когда работа республиканских органов была парализована. А тех, кто считал ошибкой введение чрезвычайного положения, могу заверить, что в той обстановке могло произойти непредсказуемое — надо было остановить эскалацию насилия.
Да, горько, очень горько, что в январе 90-го оборвалась жизнь многих бакинцев, кем бы они ни были по национальности. Но не останови тогда насилие, жертвы оказались бы во много раз большими. Усвоены ли уроки января 90-го? Сомневаюсь: тому подтверждение азербайджано-армянская война.
Урок, который я вынес из всей этой трагической истории: власть не в состоянии обойтись без применения силы в экстремальных обстоятельствах. Но эта акция должна быть оправдана абсолютной необходимостью и ограничена строго взвешенной мерой. Подлинное же решение проблемы возможно лишь политическими средствами.
Россия открывает «парад суверенитетов»
После выборов в республиканские парламенты вопрос встал в совершенно иной плоскости. Республики не проводили пленумов ЦК, вопросы сразу выносились на сессии Верховных Советов и принимались государственные акты о суверенитете и независимости. То, что было сделано до середины 1990 года, приходилось начинать заново и на другой основе.
Завершался первый этап массовых движений. Он обозначился усилением центробежных тенденций как в прибалтийских, так и в ряде других республик. В Прибалтике даже «правоверные» стали играть на струне суверенитета и независимости. И так втянулись, что путь назад оказался отрезан. Сложилась такая общественная атмосфера: хочешь участвовать во власти — присягай суверенитету.
В том накале страстей, когда витала иллюзия, будто независимость чуть ли не назавтра обеспечит «сладкую жизнь», с трудом воспринималась аргументация здравомыслящих. Играл роль и эмоциональный настрой, стремление заменить надоевших, обанкротившихся руководителей новыми людьми.
Победив на выборах, фронты превратились, по сути дела, в политические партии, почувствовали вкус власти, стали действовать более самоуверенно, с широким применением социальной демагогии. Началось расслоение в компартиях, они раскололись на «промосковские» и «национальные» части. В «национальные» перешли партийцы в основном социал-демократической ориентации, стремившиеся идти в ногу с господствовавшими в обществе настроениями. Лидеры, вступившие на этот путь, готовили почву для создания сильных левых партий в будущих независимых государствах. Думаю, они уже тогда не исключали возможность отделения и-учитывали это в своих планах и действиях.
Между тем вновь избранные парламенты в республиках Прибалтики и назначенные ими правительства стали принимать юридические акты, означающие не что иное, как подрыв Союза.
Мы были привержены определенным принципам национальной политики и не могли отрицать право наций на самоопределение, вплоть до отделения. Оно было записано и в Конституции. Но надо было сделать все возможное, чтобы показать народам катастрофические последствия этого шага. И если он все же окажется неизбежен — процессу «развода» придать индивидуальный характер, свести к минимуму ущерб, который он грозил произвести. В короткие сроки в Верховном Совете СССР был подготовлен и принят закон, определявший процедуры и порядок выхода. Во-первых, на основе референдума. Во-вторых, при переходном периоде в 4–5 лет, в ходе которого решаются вопросы — территориальные, экономические, оборонные, имущественные, прав человека, определяются будущие основы и принципы взаимоотношений, границы.
В беседах с прибалтами я подчеркивал: право на самоопределение вплоть до отделения — неотъемлемое суверенное право, но старался убедить, что отделение противоречит интересам народов. Самостоятельность, перераспределение полномочий, децентрализация — да. Но при сохранении сотрудничества и взаимодействия. Бессмысленно критиковать федерацию, так как ее у нас не было, мы жили в унитарном государстве. Давайте сперва поживем при федеративном устройстве, говорил я, а уж потом определимся.
С этим органично перекликалась наша позиция по вопросу о партии. Уже открыто обсуждалась необходимость широкой автономии компартий республик в федеративном государстве при сохранении КПСС как целостного политического организма. Конечно, я говорю сейчас о национальном составе, оставляя в стороне возможное и даже неизбежное размежевание между ортодоксами и реформаторами.
Теперь скажу о том, что явилось решающим фактором распада СССР, опрокинуло все мои усилия сохранить Союз в преобразованном виде.
Прибалтийские сепаратисты задолго до Ельцина доказывали необходимость «суверенизации России», ратовали за создание Российской компартии. Они понимали, что это ключевой момент: если Россия «клюнет» на это, да еще взыграет русский национализм, — Союзу конец. Подливали масла в огонь и радетели самостийной Украины. Вспоминаю хитроумные «братские» выступления Бориса Олейника: «Почему Россия должна обладать меньшими правами, почему у нее не должно быть политических институтов, как у других?» Русские благодушно откликались: вот настоящий друг и брат.
Словом, пытались «завести» Россию, после чего все остальное, как говорится, становилось «делом нехитрым». Но как ни старались, это не удавалось, натыкаясь на несокрушимый интернациональный дух народа. Референдум 17 марта 1991 года показал, что подавляющее большинство граждан России твердо стоит за Союз, соглашаясь на его преобразование.
Но у «отделенцев» из Прибалтики и других республик нашлись единомышленники в России — Демроссия, открыто взявшая курс на расчленение союзного государства. Ей удалось найти деятеля, согласившегося ради высшей власти пойти на попрание воли своего народа. Свою долю ответственности за печальный итог внесла партноменклатура республики. Недовольная реформаторским крылом, курсом руководства КПСС, не сумев понять, во что ее втягивают, депутаты-коммунисты в российском Верховном Совете (за исключением трех-четырех человек) проголосовали за Декларацию о суверенитете, забившую первый гвоздь в гроб союзного государства. В августе 1991-го значительная часть номенклатуры поддержала ГКЧП, дав тем самым толчок дезинтеграции.
Надо сказать, что процесс возрождения национального самосознания в России имел свои серьезные особенности. На первом этапе (1988–1989 гг.) ставился вопрос о восстановлении справедливости по отношению к репрессированным народам. Автономии требовали большей самостоятельности в решении вопросов экономики, культуры, языка. Поднималась тема равноправия субъектов Российской Федерации. Малые народы обратили внимание на смертельную угрозу среде обитания.
Первой реакцией на события в Прибалтике, Молдове, Закавказье стало возмущение попытками ущемить права проживающих там русских и русскоязычных граждан. А рассуждали так: «Мы им помогали создавать индустрию, обзаводиться своими кадрами, щедро делились всем, что имели, а теперь они уходят, разваливая державу, лишая ее на Севере и Юге выхода к морю». У военных вызывала опасения возможность развала созданной круговой линии обороны. Патриотически настроенные представители творческой и научной интеллигенции были глубоко обескуражены проявлением национального эгоизма и антирусскими высказываниями своих вчерашних друзей.
Валентин Распутин, известный русский писатель, выразил эти настроения, сказав на I Съезде народных депутатов СССР: если все так недовольны Россией, хотят списать на нее все грехи, то, возможно, ей следует самой выйти из Союза? Помню тот момент: Распутин уже прошел к своему месту, а зал, стоя, продолжал аплодировать. Глубокой обидой, овладевшей на какое-то время русским народом, воспользовались ельцинисты, навязав России свой сепаратистский курс и добив Союз в декабре 1991-го.
Обвинения России и русских были не только обидны, но и несправедливы. Командно-административная система действовала от имени русского народа, но ее нельзя было отождествлять с русской нацией. Русские пострадали от нее не в меньшей степени, а то и прежде всего. И все же… Если вирусом обиды, комплексом недооцененности заболевает такая республика, как Россия, то в наших конкретных условиях это означает разрушение ядра всего государства, его костяка, основы, несущей конструкции.
На Съезде народных депутатов, в Верховном Совете России, в правительственных кругах с первых же дней идея возрождения России обладала сильным привкусом изоляционизма. Она получила обоснование и в среде научной интеллигенции. Довольно широко ходила в обществе записка группы ученых, в которой доказывалось, что идет большая перекачка средств и ресурсов из России в республики через союзный бюджет. Союзное государство представлялось инструментом перераспределения, отнимающим у россиян то, что ими производится, что достигается интенсивной, форсированной эксплуатацией природы за счет потомков. Обосновывался вывод: распорядившись в собственных интересах тем, что имеет, Россия через 3–4 года войдет в группу самых процветающих государств. Так сформулировал это и Ельцин. Знакомая песня о том, что не производительность, не технологии, а новое распределение «спасут» Россию. И тем не менее этот аргумент сработал сильнее любых других доводов.
Именно под лозунгами — равенство, суверенитет, национальное возрождение — проходили выборы в Верховные Советы республик. Мало кто из претендентов в депутаты республиканских парламентов вспоминал о Союзе. Все обещали землякам защищать и никому не уступать свое. Шло расшатывание Союза.
Реформирование нашего огромного государства действительно требовало децентрализации, перераспределения полномочий между центром и регионами. Но республиканские и местные элиты постарались окрасить эту необходимость в гипертрофированно тревожный цвет «национального выживания» и выдвинули безответственный лозунг: «Берите столько суверенитета, сколько проглотите!». Сработало!
Понимал ли я тогда важность российской проблемы? Несомненно. Но вмешательство в ход предвыборной кампании, агитация против Ельцина противоречили бы начатой политике демократизации, хотя людей, способных с ним конкурировать, можно было выдвинуть. Однако и это не было сделано.
Я выступал открыто перед депутатами I Съезда народных депутатов РСФСР против избрания Ельцина Председателем Верховного Совета, так как предвидел — с его приходом станет нарастать конфронтация между союзным центром и Россией. Знал уже, что человек этот по характеру разрушитель, «таран», как охарактеризовал его бывший помощник по прессе П.Вощанов.
Зафиксированные в Декларации о государственном суверенитете России принципы и положения могли стать основой работы над новым Союзным договором. Но были в ней заложены также разрушительные начала. В частности, положение о том, что «действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается республикой на своей территории». Некоторые тезисы были не только юридически неправомерны (противоречили действующей Конституции, принятому в апреле 1990 года закону о разграничении полномочий Союза и республик), но содержали огромный взрывной заряд. Российская Федерация фактически заявила о намерении действовать по своему произволу, не считаясь с Союзом. В акции, направленной прежде всего против центра, закладывались диктат и неуважение к остальным республикам.
Вопросы о действии актов Союза ССР на территории республики, о владении, пользовании и распоряжении ее национальными богатствами, о дипломатическом представительстве, несомненно, могли стать предметом будущих переговоров. Но вновь избранные власти не считали себя связанными какими-то обязательствами и не собирались с кем-то обсуждать эти вопросы. Словно Союза и вовсе не было. Словно сама РСФСР не была его стержнем. Уникальный случай в истории!
Я уверен, что если бы не роковой шаг России, Союз можно было сохранить. В пользу этого говорит, в частности, следующий эпизод. В марте 1990 года новое руководство Литвы демонстративно объявило о независимости республики. На Съезде народных депутатов этот шаг был соответствующим образом оценен и дано поручение президенту, Верховному Совету, правительству страны во взаимодействии с властями Литвы прояснить весь комплекс вопросов. Ряд предприятий по собственной инициативе начал сворачивать связи с республикой, ограничивать поставки энергоносителей. В Вильнюсе начали чувствовать, что не все идет так, как они рассчитывали, и начали размышлять над сложившейся ситуацией.
4 мая И.Т. Фролов передал мне содержание беседы с видным ученым Вильнюсского университета, приехавшим в Москву по поручению руководства ЦК КПЛ, а также Ландсбергиса. Литовское руководство выражало готовность вступить в диалог с представителями центра, имея в виду, что решения, принятые Верховным Советом Литвы после 11 марта, могут стать объектом обсуждения и приостановления. Декларация независимости Литвы может рассматриваться Союзом как акт в значительной степени символический. Литва не будет возражать против интерпретации этого акта, согласно которой речь идет о статусе республики как «ассоциированного члена обновленного Союза ССР». В то же время конкретная реализация должна быть итогом поэтапного процесса, согласованного с Союзом.
Это была подходящая основа для поиска взаимоприемлемого решения. Прибалтийские республики в силу исторических и других особенностей могли бы пользоваться в Союзе особым статусом. Кстати, именно во время поездки в Литву я высказался о возможности дифференцированных связей с центром в рамках Союзного договора.
Однако «суверенизация России» сорвала поиск новой формулы отношений с Прибалтийскими республиками в реформированном Союзе. Она вызвала цепную реакцию принятия аналогичных документов всеми союзными, а затем и автономными республиками. Начался «парад суверенитетов». И единственным средством воспрепятствовать развалу Союза стала неотложная подготовка нового Союзного договора.
Глава 17. Партия и перестройка
КПСС начала реформы
В тенденциозной историографии перестройки часто можно встретить утверждение, якобы КПСС чуть ли не с самого начала была в оппозиции к реформам, делала что могла, чтобы им помешать. Разумеется, в партии были замшелые консерваторы, не желавшие никаких перемен; настороженно отнеслись к преобразованиям партбюрократы, почуявшие в них угрозу для своих интересов. Но большинство коммунистов осознавало необходимость глубокой перестройки существовавших порядков. И именно КПСС как организация выступила инициатором реформ.
Мне не раз приходилось слышать возражение: это не партия, а группа демократически настроенных и критически мыслящих лиц. Такие люди появлялись на всех этапах. Одних преследовали, другие подчинялись правилам игры. Система подверглась серьезной, хотя и незавершенной реформе благодаря XX съезду, предпринимались попытки ее реформирования и позднее, в том числе в начале брежневского периода. Но ведь сам факт, что партия постоянно генерировала группу или слой потенциальных реформаторов, что этот слой от раза к разу действовал все смелее и мог опереться на более широкую поддержку внутри КПСС и в обществе, повторяю, сам этот факт доказывает, что КПСС как правящая организация при всем ее консерватизме и идеологической зашоренности все-таки выносила великую реформу.
На самом «верху» оказалось несколько человек, убежденных в необходимости реформ и готовых взять на себя огромный риск — начать не какой-то косметический ремонт, а капитальное преобразование предельно централизованной, бюрократизированной, идеологизированной системы, которая успела укорениться за семь десятилетий. Те члены партийного руководства, которые вместе со мной начали это предприятие, были связаны с различными регионами, общественными слоями, политическими течениями, группировками в партии. Они знали, что в КПСС и в обществе сильны настроения в пользу обновления. Отсюда рождалась уверенность, что наше начинание не обратится донкихотством, найдет поддержку. Словом, перестройка не была однодневной агиткой, выигрышным лозунгом. Страна ее выстрадала.
Нужно видеть и то, что шансы на успех «перестроечное движение» могло иметь только при условии, что оно зародилось именно в партии. Выступи с подобной инициативой любые другие официальные или неофициальные образования, она была бы обречена на неудачу, отторгнута «политическим ядром» общества, принята за диссидентское покушение на существовавший порядок.
То есть то, что возникало в лоне партии, шло от ее руководства, ортодоксы еще кое-как переваривали, хотя воспринимали с настороженностью. А уж если бы это с самого начала пошло откуда-то со стороны — не позволили бы и шага шагнуть, задушили бы в зародыше.
А между тем общество к тому времени уже напоминало паровой котел. Альтернатива была такая. Либо сама партия задает тон процессу перемен, которые постепенно охватывают другие слои общества. Либо сохраняется без изменений, консервируется прежняя система. И тогда становится неизбежен взрыв колоссальной силы. Нужно учитывать также и то обстоятельство, что реформировать систему, то есть постепенно ее переделывать, могла только сила, державшая в руках рычаги власти.
Мы начали с концепции реформ. Важно было запустить «двигатель перемен» и «доехать» до того пункта, с которого уже невозможно было развернуться назад. На этот счет у нас были уроки всех предыдущих попыток реформ. Я имею в виду Хрущева, Косыгина, не забываю «шестидесятников», отдаю должное Сахарову, всему диссидентскому движению. Все это были по-своему подготовительные этапы начатых нами преобразований. Они оставили свой след если не в структурах, то в умах.
Можно сказать, вошло в моду укорять меня за медлительность и приписывать всевозможные колебания по принципу «шаг вперед, два шага назад». А ведь если скрупулезно восстановить в памяти ход событий, то, начиная с апрельского Пленума 1985 года, мы ни разу не сменили направление политики и все время продвигались вперед по пути реформ. Пусть не всегда одинаковым темпом, с перерывами. Но не было такого, чтобы отступили от намеченных целей на демократические преобразования.
Не сразу копали достаточно глубоко, сперва только рыхлили почву, рассчитывая получить небывалые всходы. Но уже тогда затрагивались вопросы собственности, товарно-денежных отношений, новых форм хозяйствования. Замысел приобретал более четкие очертания по ходу движения, в результате приобретения опыта. Движение же происходило не само по себе и не волей одного генсека, а на основе дискуссий и принятия решений официальными органами правящей Коммунистической партии.
Если смотреть по этим «партийным вехам», история перестройки выглядит примерно так.
Первый этап — от апреля 1985 года и до XXVII съезда КПСС в 1986 году. Начало всегда труднее. Постепенно мы освобождались от привычных идеологических стереотипов, делали первые попытки разобраться в том, какое общество создали, как оно соотносится с ленинскими представлениями, какое место занимает в мире. Заглянули в собственную историю, постаравшись увидеть ее не в искривленном зеркале. Начали выстраивать план обновления общества в рамках социалистического выбора.
За этим, можно сказать, философским этапом последовал этап организационный, когда вырабатывались уже программы экономической, политической и правовой реформы, принимались меры по их воплощению в жизнь. И здесь каждый шаг вперед определялся партией, решениями ее руководящих органов. Напомню: январский Пленум 1987 года, на котором прозвучала мысль о необходимости пересмотреть устаревшие представления о социализме и была предложена программа радикальных мер по демократизации общества и государства. Июньский Пленум того же года, подвергший критике командно-административные методы управления экономикой и высказавшийся за радикальную экономическую реформу. Февральский Пленум 1988 года, проходивший под девизом: «Революционной перестройке — идеологию обновления». Наконец, XIX Всесоюзная конференция КПСС, решения которой послужили основой для перехода от философской концепции перестройки и первых практических действий по «методу проб и ошибок» к полномасштабной и глубокой реформе всех сторон общественной жизни. Прежде всего к проведению первых после 1917 года свободных выборов в парламент.
Таким образом, всякий беспристрастный исследователь должен признать, что партия не только была двигателем преобразований, но фактически еще до официальной отмены Съездом народных депутатов статьи 6 Конституции СССР согласилась отказаться от своего монопольного положения в обществе.
После того как собрался Первый съезд народных депутатов, власть начала переходить в руки Советов. Партия, как и полагается в демократическом обществе, уже не располагала возможностью директивно определять развитие страны, должна была действовать политическими средствами. Она все еще оставалась единственной мощной политической силой, организованной во всесоюзном масштабе. Но, лишившись привычных командных функций, многие партийные комитеты почувствовали себя выбитыми из колеи.
Начался самый тяжелый для партии этап поисков своего места в обновляющемся обществе. Перед коммунистами встал в полном смысле судьбоносный для партии вопрос: способна ли она реформироваться? Из сросшейся с государством, во многом бюрократической структуры превратиться в массовую демократически организованную партию левых сил? Стихийно началась общепартийная дискуссия, поднялась волна критики в адрес руководства, резко увеличилось число людей, покидавших партийные ряды. Единство КПСС начало постепенно подтачиваться и разрушаться сепаратистскими движениями в республиках.
КПСС и в это тяжелое для себя время продолжала оказывать огромное влияние на ход событий. На июльском Пленуме 1988 года обсуждались вопросы реализации решений XIX партконференции. Сентябрьский Пленум был посвящен совершенствованию структуры партийного аппарата. В январе 1989 года Центральный Комитет утвердил политическую платформу КПСС на выборах. В марте выступил с новой аграрной политикой, главной целью которой стало возвращение крестьянину положения хозяина на земле. Значительным событием стал сентябрьский Пленум того же года, принявший платформу «О национальной политике партии в современных условиях». А на Пленуме, состоявшемся 5–7 февраля 1990 года, была одобрена платформа ЦК КПСС к XXVIII съезду партии «К гуманному демократическому социализму».
Надеюсь, читатель не посетует на эту «партийную хронологию». Напоминая о партийных форумах, я хотел подчеркнуть, что политическая жизнь в партии не затухала. Будучи избранным Президентом СССР, я вовсе не собирался, как утверждают сейчас некоторые, «бросать партию на произвол судьбы». Если бы у меня действительно было такое намерение, то проще всего было его осуществить, уйдя с поста генсека, чего, кстати, от меня настойчиво требовали демократы. Но именно сознавая свою ответственность перед КПСС, миллионами коммунистов за судьбу реформ, я считал своим долгом сделать все возможное, чтобы партия, пройдя путь внутренней демократизации, возродилась и заняла достойное место в новой политической структуре. На вопрос, удастся ли решить эту задачу или верх возьмет консервативная часть аппарата, должен был дать ответ досрочно созванный XXVIII съезд КПСС. А своего рода увертюрой к нему стал I съезд коммунистов России.
Второе пришествие РКП
С весны 1990 года, после первых свободных выборов в парламенты республик, когда партия почувствовала, что она отторгается на обочину развивавшихся в обществе и государстве процессов, усилилось недовольство реформаторами, деятельностью ЦК КПСС, ставилась под сомнение перестройка. А тут еще нарастали трудности в экономике, появились перебои со снабжением. Когда Рыжков объявил о предстоящем повышении цен, консервативная верхушка партии решила, что наступил подходящий момент для реванша. Спор у них шел разве что об одном: что выгоднее, имеет больше шансов на успех — заставить генсека отказаться от курса на перестройку, вернуть все к прежнему состоянию, или убрать его, добиться замены. Конечно, эти замыслы не афишировались. Опытные политиканы не хотели прослыть ретроградами, чувствовали, что народ не примет лозунг возврата к старым порядкам. Поэтому каждый свой шаг обосновывали стремлением активнее и плодотворнее вести перестройку.
Как раз в это время радикальные демократы успешно сыграли на лозунге «независимости» России, добились с его помощью немалого числа депутатских мест в новом Верховном Совете республики и избрания своего лидера председателем парламента. Очевидно, некоторые партийные вожаки усмотрели в этом неплохой пример для себя: если демократы сумели использовать «российскую карту», так почему бы и нам не сделать того же.
Сначала на партийных собраниях, потом на пленумах райкомов и обкомов, в печати начал ставиться вопрос о необходимости создания собственной партии российских коммунистов. Доводы были вполне серьезные: почему у всех республик есть свои компартии, свой ЦК, а у россиян нет? Это несправедливо ставит их в неравное положение. ЦК КПСС, занятый делами всей партии, не может уделять достаточно внимания республиканским заботам. Пошло-поехало! Сначала в порядке постановки вопроса, затем требования «партийных масс». И чуть ли не ультиматум.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что вся эта затея была спекулятивной. В то время как ее зачинщики видели в этом в некотором роде легальный способ создать сильный противовес реформаторскому центру и повести партию по своему пути, многие рядовые коммунисты откликались на идею самостоятельной РКП так же, как на лозунг независимой РСФСР. Короче, здесь была реальная, а не мнимая проблема.
Я много размышлял над этим, обсуждал в узком кругу со своими коллегами, возвращаясь к истории вопроса, к ленинской позиции на этот счет. Все мы понимали, что ведь неспроста и не спонтанно было решено когда-то создать именно такую партийную структуру. Отдельное, самостоятельное существование руководящего центра коммунистов, находящихся на территории России (а это две трети партии), создавало постоянную угрозу раскола. Между тем партия мыслилась как самая мощная объединительная сила страны. Ее интернационалистская идеология должна была гарантировать против распада, служить залогом целостности. Вот почему, создавая Союз, то есть, по идее, государство федеративное, Ленин был категорически против такого же решения применительно к партии.
По существу, мы оказались в положении, когда должны были решать этот вопрос заново. На этот раз у нас за плечами был долгий опыт истории, когда при сохранении формально федерации существовало не просто унитарное, а сверхцентрализованное государство. Теперь же речь шла о том, чтобы ликвидировать разрыв между формой и содержанием, идти к настоящей федерации. Выходило, что создание Российской компартии становится объективно неизбежным. Однако настал ли для этого подходящий момент, не следует ли приступить к решению этой задачи после преобразования государственности на основе нового Союзного договора? И наконец, самый существенный вопрос: не станет ли воссоздаваемая РКП инструментом антиреформаторских сил, своего рода оплотом борьбы против ЦК КПСС, где, плохо ли, хорошо, но все-таки тон задавали решительно настроенные на углубление реформ генсек и его сторонники?
К тому времени и в составе Политбюро обозначилась дифференциация позиций. Те, кто разделял мнение о необходимости углубления перестройки, были в глазах остальных либералами. Другие же, считавшие, что достигнут допустимый предел преобразований, числились в консерваторах. Дискуссии разгорались по многим вопросам. И хотя в конце концов принимались все-таки общие, согласованные решения, это не снимало различий во взглядах.
Такое различие почти сразу же дало о себе знать и по вопросу о Российской компартии. Энергичным сторонником ее создания стал Лигачев, ссылавшийся на то, что движение в ее пользу уже захватило массы коммунистов. В какой-то мере это соответствовало действительности, хотя, повторяю, и до сих пор не могу отделаться от подозрения, что кампания в пользу РКП была в значительной мере инспирирована.
У всех была на памяти попытка как-то решить «российскую проблему», предпринятая еще при Хрущеве. Тогда создали Бюро ЦК КПСС по РСФСР со своим аппаратом. Оно просуществовало несколько лет, пока не было признано, что структура эта нежизненная, порождает ненужное дублирование функций партийного руководства. Тем не менее, поскольку ничего лучшего не придумали, решили использовать этот опыт с надеждой, что в новых условиях он окажется более успешным. На Пленуме в декабре 1989 года было создано Российское Бюро
ЦК КПСС под председательством генсека, в которое вошли Воротников, Власов, Манаенков, Прокофьев, Гидаспов и ряд других лиц. Но собиралось оно редко и пользы особой не принесло. Тут была и моя вина — разрывался между многими заботами.
А главное, создание Бюро в парторганизациях встретили с откровенным неудовлетворением, приняли за попытку обойтись полумерой и погасить движение за образование РКП. Волна таких настроений нарастала, причем напор на руководство шел главным образом со стороны «фундаменталистских» кругов. Ими двигал и чисто прагматический интерес. Многие члены ЦК КПСС, выбитые перестройкой из привычной обстановки и неспособные «вписаться» в новые условия, рассчитывали воспользоваться этим шансом, чтобы вновь всплыть на поверхность.
Вопрос многократно обсуждался на Политбюро, и с учетом нарастающего давления снизу все-таки пришлось согласиться с выделением Компартии России. А после того как приняли это решение, фактически пустили дело на самотек. «Российское движение» оказалось в руках сложившейся к тому моменту контрреформаторской фракции в партийном руководстве. Это отчетливо проявилось уже на совместном заседании Российского Бюро ЦК и Подготовительного комитета. В своем вступительном слове я без обиняков сказал об опасностях, связанных с формированием РКП. Глуше говорилось об этом в докладе Манаенкова. Выступавшие соглашались, что нельзя допустить, чтобы вновь созданная Компартия России стала оппозиционной по отношению к КПСС организацией, стоящей на догматических позициях. В то же время ссылались на то, что «коммунисты настроены однозначно», «трудно противостоять напору», за которым стоят национальные обиды, горечь за ущемленное по сравнению с другими республиками положение партийных организаций. Прозвучали и намеки на то, что РКП поможет отстоять социалистические ценности, а подразумевалось на самом деле восстановление монопольного господства партии.
Заключая дискуссию, я подчеркнул, что российский вопрос — это центральный вопрос перестройки, от него зависит все остальное. И возник он не на пустом месте, а на почве реальных трудностей в развитии России, допущенных здесь ошибок, да и активизации национальных движений в других республиках. Но его хотят использовать, на нем спекулируют и Косолапое, и Ельцин. Встанем на путь российского изоляционизма — погубим и Союз, и Российскую Федерацию.
Словом, не лежала у меня душа к этому предприятию, с самого начала я предчувствовал, чем оно может обернуться. А поскольку противостоять общему давлению действительно было невозможно, думал о том, как хотя бы свести к минимуму негативные последствия.
Конференция коммунистов России открылась 19 июня 1990 года. Поскольку она проходила всего лишь за две недели перед XXVIII съездом КПСС, после долгих дискуссий решили отдельных выборов не проводить, уполномочить делегатов, избранных от партийных организаций России. Тем самым сразу повышался статус конференции. Она приобретала значение своего рода генеральной репетиции съезда. А учитывая, как я уже говорил, что коммунисты России составляли большинство в КПСС (62 процента), то в определенной степени предрешала его исход.
В президиум были приглашены представители государственного руководства: союзного — Лукьянов, Рыжков; российского — Ельцин, Силаев. Формирование органов конференции прошло спокойно. Правда, когда начали обсуждать повестку дня, слово взял первый секретарь Киселевского горкома КПСС Кемеровской области Авалиани и огласил предложение изменить статус конференции, преобразовав ее в первый, учредительный съезд Российской компартии.
Это не было чем-то неожиданным, вопрос, по сути дела, был предрешен. Состоялся краткий обмен мнениями, и в конце концов решили выслушать доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, а уж затем договориться о порядке дальнейшей работы. Одновременно договорились дать слово представителям сформировавшихся к тому времени Демократической платформы и Марксистской платформы в КПСС. Само по себе это свидетельствовало о том, насколько далеко продвинулась демократизация партии. Ничего подобного она не знала с 1921 года, когда было покончено со всеми — организованными и стихийными — проявлениями инакомыслия.
Возникла дискуссия вокруг предложения пригласить на съезд в качестве гостей группу рабочих. Дело в том, что среди делегатов оказалось ничтожно малое число рабочих, их оттеснили секретари парторганизаций. Конференция и, естественно, съезд превращались в форумы партийных функционеров преимущественно районного и городского звена. Таков был результат выборов, в ходе которых партаппаратчики организовали мощное давление, попросту сами себя и делали делегатами. Я был за то, чтобы дать мандат представителям рабочего класса с правом совещательного голоса. Так, в общем, и решили. Они, между прочим, и на Российской конференции, и на съезде КПСС «задавали жару», даже выделились в своего рода секцию.
Любопытна история доклада. Задолго до конференции была организована группа по подготовке материалов. Затем на Политбюро решили, что выступить следует генсеку. Откровенно говоря, только на совете представителей делегаций узнал, что есть альтернативный доклад. Поначалу согласился было с предложением распространить его среди делегатов в письменном виде. Но что-то меня насторожило. Взял домой, прочитал и убедился, что написан он совершенно с других позиций. Пришлось отказаться от идеи «распространения», сказать, что использую этот материал как один из источников для подготовки своего доклада.
Я считал своей задачей сказать на конференции примерно то же, что и на съезде КПСС, четко определить свою линию, чтобы делегаты знали: вот моя позиция. Тем более кто-то тогда в прессе «сетовал»: Горбачев, мол, «круглит», предпочитает общие фразы, даже говоря о противниках перестройки, не называет имен. У нас ведь такая культура, причем прежде всего в партии: всякого, с тобой несогласного, объявить врагом, выбросить вон, а то еще лучше — огреть кирпичом.
Начав с того, что вся предшествующая дискуссия привела к выводу о целесообразности образования Коммунистической партии Российской Федерации, я тут же подчеркнул: «Следует исключить любые формы противопоставления России Союзу ССР, а Компартии Российской Федерации — КПСС. Все наши помыслы и действия должны соизмеряться с исторической реальностью, быть предельно взвешенными. Произнося слово «Россия», мы должны всегда держать в памяти слово не менее сокровенное — «Союз». Считаю необходимым об этом откровенно сказать в самом начале работы нашей партконференции, определив тем самым важнейшие условия ее конструктивной работы.
…Решительно не могу согласиться с теми, кто ищет спасения России в обособлении, замкнутости и даже выходе из Союза ССР. Может, кто-то думает, что Россия вне Союза будет развиваться успешнее. Это не более чем иллюзия.
…Нам нужно хорошо различать все околороссийские шевеления, отчетливо отделить здоровые настроения в пользу создания Компартии России, продиктованные действительными проблемами и потребностями республики, от спекуляции на российских проблемах во имя достижения целей, чуждых и самой России, и партии, и стране».
Вторая главная тема, обозначенная в докладе, — перестройка.
«На XX съезде была сказана правда, которая потрясла нашу страну, социалистическое сообщество, мировое коммунистическое движение. То, что мы узнали тогда о сталинщине, было оскорблением идеалов, которыми вдохновлялись поколения, которые двигали людей на революцию, великие стройки, защиту Родины, восстановление разрушенной страны. Потрясение было огромным. Казалось, естественным следствием должны были стать глубокие общественно-политические преобразования. И хотя нельзя сказать, что с тех пор ничего не менялось, к сожалению, надежды именно на глубокие преобразования не оправдались. Хуже того, преступления постепенно стали называть ошибками, реформы подменялись совершенствованием той же бюрократической системы, идейные искания заменялись перелицовкой сталинских учебников. Все это породило незаживающие язвы и в обществе, и в душах людей, отравляло идейную жизнь, отягощало международные отношения. А дальше логика политической борьбы вела от недомолвок к замалчиванию прошлого, от осуждения Сталина к рецидивам его реабилитации в тех или иных формах. Неизбежным результатом всего этого стали политическое бессилие, застой во всех областях».
Сказав о необходимости и неизбежности перестройки, я коротко охарактеризовал, что удалось сделать за прошедшее время, не ушел от оценки допущенных промахов, промедления с решением назревших проблем. Центральная из них — переход к социально ориентированной рыночной экономике. «Высказываются различные суждения на этот счет, особенно по срокам, формам, тактике, и мы должны быть открыты для любых предложений. Неприемлемо лишь одно — возврат к командно-административной системе. Это было бы просто бедой, тупиком для страны.
Поскольку прошлая наша история и нынешние преобразования напрямую связаны с деятельностью партии, вполне понятно, что она оказалась в фокусе идущих в обществе дискуссий. Звучат голоса: КПСС должна покаяться и уйти с политической арены. Провокационная суть таких требований очевидна. И лучшее, чем могут ответить на это коммунисты, — продолжить начатые по инициативе партии реформы».
Я откровенно, прямо и твердо высказал свою позицию по этому вопросу:
«Мы должны недвусмысленно заявить, что КПСС без всяких оговорок, недомолвок и компромиссов отвергает идеологию и практику сталинизма, растоптавшего духовные и нравственные идеалы социализма. Она решительно выступает за полновластие Советов, народовластие, отказывается от властных и хозяйственных функций, от притязания на монополию, от любых попыток идеологического принуждения. Поддержки общества в реализации социалистических ценностей партия будет добиваться убеждением, политической работой в массах, участием в парламентской дискуссии, деятельностью в рамках Конституции и законов».
Запомнились многие выступления в развернувшейся по докладу и содокладам дискуссии.
Лысенко, сделавший содоклад от Демократической платформы, высказался за партию, которая должна отказаться от любых политических привилегий и завоевывать авторитет своей работой в народе. А догматические и реваншистские настроения наиболее полно отразились в содокладе так называемого Инициативного съезда. Яростным было выступление Валерия Ивановича Ладыгина, машиниста локомотивного депо Забайкальской железной дороги. Чувствовалось, что над текстом основательно поработали опытные пропагандисты. Под аплодисменты он поставил вопрос, что необходим отчет ЦК КПСС на XXVIII съезде партии за проваленные пять лет перестройки. («Пусть историки занимаются прошлым, а нам нужен отчет за нынешние дела».) И в этом контексте выдвинул идею, которая потом получила поддержку на XXVIII съезде КПСС, — заслушать на съезде персональные отчеты членов Политбюро.
Самое интересное состояло в том, что делегат Ладыгин должен был, выполняя волю своих товарищей, зачитать наказ XXV конференции Читинской областной парторганизации, а в нем, в частности, содержались такие призывы к съезду — отбросить личные и групповые амбиции, консолидироваться, содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, создавать правовое, демократическое общество, гарантирующее полное развитие человеческой личности, уважение к правам человека, основным свободам. Цитирую дословно: «Ваш долг не разжигать страсти; искать пути согласия, а не конфронтации; не чернить нашу историю, а знать и уважать ее, чтобы взять все лучшие страницы и достижения, достойные уровня жизни». Делегат зачитал подготовленное ему выступление, а текст наказа областной конференции передал в президиум. Ладыгина использовали фундаменталисты, про своих же товарищей он забыл.
Особенно острым неприятием реформаторской политики отличалось выступление Мельникова — первого секретаря Кемеровского обкома, выдвиженца Лигачева. Его оценки были явно рассчитаны на эмоциональную реакцию зала. «Две недели осталось до XXVIII съезда партии, партия бурлит, страна на грани социального взрыва, а руководство ЦК и Бюро ЦК КПСС по Российской Федерации, как мы видим, живет в другом измерении. При нашем попустительстве партию обвиняют во всех грехах, валят на нынешних коммунистов ответственность за все черные и белые пятна истории, безликую мафию, коррупцию. При целенаправленном содействии ближайшего окружения Генерального секретаря мы постепенно вползаем в новый, пусть в непривычной, демократической форме, культ отдельной личности. Не умаляя всемирного признания Михаила Сергеевича Горбачева как лидера КПСС и страны, отдавая должное уважение его личным достоинствам, обязан в духе партийного товарищества предостеречь и оградить его во имя нашего общего дела и большой конечной цели от этой хронической, к сожалению, для нас болезни». В заключение Мельников заявил: партийная конференция Кузбасса приняла 1 июня подавляющим большинством голосов резолюцию о недоверии ЦК и Политбюро, потребовала отставки всех его членов.
Просматривалась скоординированная позиция первых секретарей обкомов. И у этого хора были дирижеры, определены цели для поражения. Четко выполнил задание «по стрельбе» Полозков: «Многие наши трудности — результат не только деформации социализма во времена культа личности, волюнтаризма и застоя, но и ошибок в ходе перестройки, особенно идейного разброда в партии, который Александр Николаевич Яковлев безобидно назвал определенной неопределенностью. Теперь-то все мы видим, как дорого приходится расплачиваться за это состояние. Непоследовательность, уступки по принципиальным вопросам, все новые и новые обещания, запаздывание с принятием серьезных решений, неумение вовремя устранить ошибки свидетельствуют об отсутствии у руководства нашей партии ясной программы действий по обновлению социализма».
Звучали и другие голоса. Секретарь Обнинского горкома партии Калужской области Скляр дал отповедь тем, кто, по его словам, хочет, что называется, «списать на Горбачева все долги». «Надо видеть, — подчеркнул он, — плюсы и минусы нашей работы. Среди коммунистов много сторонников Генерального секретаря, убежден, что немало их и в других партийных организациях».
Дело было, разумеется, не только и не столько в отношении к генсеку, сколько в способности партийной массы понять необратимость перемен и необходимость коренным образом реформировать саму партию, без чего ей угрожало откатиться на обочину политической жизни. Я уже говорил, что состав делегатов не был адекватным отражением настроений, господствовавших тогда в парторганизациях. Большинство мандатов обеспечили себе профессиональные партработники и другие категории «номенклатуры». Но при всех этих обстоятельствах консерваторам и ретроградам в партийной верхушке было непросто навязать свою волю конференции и последовавшему за ней съезду.
Первой пробой сил стал выбор лидера Российской компартии. Мы обсуждали этот вопрос на Политбюро, советовались с секретарями региональных партийных комитетов. При противоречивом отношении к самому факту создания Компартии России было общее понимание, что возглавить ее должен один из ведущих деятелей КПСС. Но выбор был невелик. На совещании представителей делегаций, которые должны были выдвинуть согласованное предложение по кандидатуре первого секретаря, я назвал прежде всего Валентина Александровича Купцова, бывшего тогда заведующим отделом общественных организаций, членом Секретариата ЦК КПСС и Российского бюро. У меня сложилось впечатление о нем как о человеке ясных убеждений, расположенном к демократическим реформам, способном чувствовать новизну и соответственно действовать.
Назвал я и О. Шенина, которого считал тогда искренним сторонником перестройки. Были предложены кандидатуры Полозкова, Бакатина и некоторые другие. Полозков взял слово для самоотвода, но своеобразного. Сказал, что, поскольку не услышал своего имени среди кандидатов, названных генсеком, не видит иной возможности, как отказаться. У него прозвучала не просто обида, а намек на то, что к нему проявляется предвзятое отношение. В самом деле, совсем недавно конкурировал с Ельциным на выборах Председателя Верховного Совета России, едва не выиграл, так кому же быть лидером РКП! Его, можно сказать, распирало самомнение, и уж, конечно, не приходило в голову, что большинство из тех, кто на Съезде народных депутатов отдал голос Полозкову, голосовало не столько за него, сколько против Ельцина.
Поскольку вопрос возник, я пояснил свою позицию, сказав, что ценю энергию Полозкова, его преданность работе, опыт руководства Краснодарской парторганизацией. Но мне думается, в случае выдвижения на пост первого секретаря ЦК РКП его известные всем взгляды будут не объединять, а раскалывать компартию. Мы же на первый план ставим задачу консолидации.
Договорились выходить с кандидатурой Купцова. На другой день я доложил об этом делегатам. Было выдвинуто еще несколько человек. Начали обсуждать. Неплохо выступил сам Купцов — спокойно, скромно; хотя, может быть, ему недоставало «огонька». Неплохое впечатление оставил О.И. Лобов, бывший в ту пору секретарем ЦК Компартии Армении. Бесцветным было появление на трибуне Шенина. А вновь названный в числе кандидатов Полозков сказал, что, раз партийная организация оказывает ему доверие, он считает непозволительным настаивать на самоотводе. В первом туре победителей не оказалось, а во втором секретари таки обеспечили избрание Ивана Кузьмича[15].
Так с достаточной ясностью проявилась расстановка сил. По существу, впервые были отвергнуты предложения, исходившие от генсека и поддержанные представителями делегаций. Купцов поплатился не за себя, основательные претензии к нему вряд ли мог предъявить кто-нибудь. В данном случае номенклатура решила поставить у руля человека, который будет твердо отстаивать ее интересы.
Худшие мои опасения подтвердились. Итоги российского съезда произвели тяжкое впечатление на общество. Возникла «реакция отторжения», особенно со стороны партийных организаций в сфере науки и культуры, в инженерно-технической среде. Посыпались заявления о нежелании войти в состав РКП, выход из партии, неуплата членских взносов. Иначе как «полозковской» РКП не называли. Консервативное реноме лидера переносилось на всю организацию, изначально лишая ее авторитета. Своего рода нарицательным стало понятие «полозковщины».
Самого Ивана Кузьмича это, естественно, мучило, но мне трудно было его поддержать, да и сам он все меньше ориентировался на генсека. В одной из откровенных бесед сказал: «Жалею, что не послушался вас, теперь мне надо уходить». И признался, что это Лигачев «в ту ночь» посоветовал ему не снимать свою кандидатуру.
Впрочем, для меня не было секретом, кто из-за кулис верховодил номенклатурной верхушкой. Было ясно, что с тем же придется столкнуться на XXVIII съезде. Между тем на Политбюро был поставлен вопрос, не отложить ли его открытие. Причем на этом сошлись Лигачев и Яковлев, их поддержал Рыжков. Одним нужно было дополнительное время, чтобы поработать с делегатами и укрепить их на позициях российского съезда. Другие опасались повторения происшедшего на российском съезде — на сей раз в масштабе всей партии.
Я склонялся провести съезд в назначенные сроки. Его давно ждали, приблизили дату проведения по требованию парторганизаций, отсрочка вызвала бы у коммунистов крайнее раздражение. Но главное — нельзя было затягивать неопределенное состояние, грозившее перейти в самораспад КПСС. Только съезд мог консолидировать ее на основе новой платформы. Конечно, был риск, что дело закончится расколом, но выбора не оставалось. Было решено переговорить с руководителями крупнейших партийных организаций и в течение одного-двух дней узнать их мнение. Мнение единодушное — съезд откладывать нельзя.
Вот до чего была взвинчена обстановка российским съездом! Но, как говорят, нет худа без добра. Во-первых, было уже ясно, с чем нам придется столкнуться на съезде. Во-вторых, что еще важнее, крайне негативная реакция в партии и стране на ретроградные, антиреформаторские тенденции в руководстве вновь созданной РКП серьезно насторожила многих делегатов.
Вероятно, свою роль сыграли и опасения, возникшие у коммунистов республик, что численно преобладающая в КПСС РКП будет навязывать им свою волю. Вообще, выделение РКП сыграло такую же роковую роль в судьбе КПСС, какую сыграло в судьбе Советского Союза провозглашение Декларации независимости России и вся последующая антисоюзная политика Демроссии во главе с Ельциным.
Разногласия нарастают
Борьба между двумя течениями в партии — реформаторским и консервативным — вначале развертывалась вокруг платформы к XXVIII съезду. Дискуссии по этому вопросу шли вплоть до принятия платформы.
Просматривая свои записи того времени, вновь убеждаюсь, что, хотя в партийном руководстве еще не выявилась прямая оппозиция начатым нами преобразованиям, разногласия нарастали и размежевание в будущем становилось неизбежным.
Вот некоторые детали, дающие представление о настроениях в Политбюро. Рыжков высказался за фактическое признание многопартийности, предложил взять на себя инициативу внесения конституционных поправок по статье 6. Лигачев выступил за сохранение авангардной роли КПСС. Крючков высказался против превращения партии в парламентскую, за сохранение в качестве ее идейной основы марксизма-ленинизма, ориентации на «сочетание классовых и общенациональных интересов». Жаркие споры разгорелись вокруг родившейся тогда идеи преобразования КПСС в Союз коммунистических партий с учетом предстоящих реформ в СССР. Проект документа все же одобрили и, как водится, поручили доработать с учетом обсуждения.
А между тем в печати начали появляться другие проекты — Московской и Ленинградской парторганизаций, Демократической платформы в КПСС и т. д. Возникла идея направить письмо партийным организациям с предложением ввести общепартийную дискуссию в организованные рамки, взяв за основу документ, подготовленный Политбюро. Члены ПБ снова собрались для разговора. Яковлев был против: «Опять хотим загнать всех в одно идеологическое стойло». Остальные, особенно Лигачев, считали, что руководство обязано остановить «идейный разгул» и «очистить» партию от уже сформировавшихся в ней фракций. Имелась в виду, разумеется, Демократическая платформа, хотя еще большую активность проявляли фундаменталистские группировки Нины Андреевой, Тюлькина и др. По сути дела, с фракционной программой выступил руководимый Ю.А. Прокофьевым МГК партии.
Это-то и побудило меня поначалу поддержать идею письма. Но первый его вариант, рожденный в недрах оргпартотдела, был зубодробительным, в стиле 30-х годов: в нем предлагалось партийным комитетам исключать коммунистов и распускать целые организации, которые не захотят следовать линии ЦК. Фактически это была директива к «чистке» партии. С этой идеей наши ортодоксы носились и раньше, а теперь сочли момент подходящим, чтобы изгнать инакомыслящих.
В создавшейся ситуации я поручил Медведеву, своим помощникам поработать над письмом. В конце концов оно приобрело достаточно взвешенный характер, не запугивало карами и отлучением, а взывало к консолидации в это трудное время. И все же меня мучили сомнения, стоит ли направлять письмо. На заседании Политбюро 9 апреля я даже высказал мысль, что, может быть, вместо него послать телеграмму. Но большинство высказалось за письмо. А Лигачев настаивал еще на обсуждении платформы Пленумом ЦК КПСС. Расчет был явно на то, чтобы еще до съезда разделаться с внутренней оппозицией и обезопасить правящую партократию от случайностей.
Мое заключение было кратким: направить письмо и опубликовать его. Пленум не нужен, не надо подставлять ЦК под удар и устраивать «охоту на ведьм». От размежевания, очевидно, не уйти, но прежде сделать все возможное для консолидации возможно большего числа коммунистов на основе платформы.
Так и поступили. А в результате, что называется, «не угодили» ни ортодоксам, ни демократам. Первые ворчали: что это за «письмишко», хватит уговаривать демократов, гнать их надо в шею. А интеллигенция расценила письмо как призыв к расправе с зачатками инакомыслия. Мол, опять Политбюро за старое, никак не могут повернуться лицом к партийным массам. Словом, в глазах демократической части общества это был проигрыш, хотя направление письма было все-таки меньшим из двух зол. Это позволило не созывать специального Пленума ЦК, на котором наверняка были бы приняты жесткие меры против «еретиков».
Вспоминаю, что на одном совещании тогдашний начальник Главного политического управления Советской Армии Лизичев счел необходимым доложить, что «выявлено» столько-то сторонников Демократической платформы, столько-то исключено из КПСС. В таком ключе выступали и другие. А между тем в интеллектуальных кругах общества реакция на платформу КПСС была довольно «кислой», говорили, что, хотя этот документ и свидетельствует о поиске новых подходов в теории и политике, он уже не отвечает духу времени, обрекает партию на отставание.
Впрочем, в ходе подготовки съезда платформа была радикально переработана, от первоначального текста не осталось в целости ни одного абзаца. На съезд был представлен уже другой документ, естественно, с другим названием, он рассматривался как программное заявление самого партийного форума.
Большое влияние на всю подготовку XXVIII съезда оказывали крупные события, происходившие в то время в стране. И прежде всего преобразование политической системы, введение института президентства и избрание президента.
Тогда вновь встал вопрос о разделении постов, и, хотя этого требовала не только оппозиция, настойчиво уговаривали многие из моего окружения, я все же считал нецелесообразным отказаться от руководства партией.
— Поймите, друзья, — говорил я им, — мне работы и на одном посту хватает с головой. Но сейчас необходимо обеспечить взаимодействие институтов легитимной власти с ролью КПСС как правящей партии. Иначе возникнет двоевластие, а затем, как уже было в нашей истории, партийная номенклатура опять возжаждет поставить под свой прямой контроль государственные структуры. Новый генсек захочет стать Председателем Верховного Совета, все вернется на круги своя.
— Короче, — заключил я, — время для ухода с поста генсека еще не пришло. Для этого нужны два условия. Государственная власть должна укрепиться настолько, чтобы был невозможен возврат к монопартийной диктатуре, а сама КПСС — преобразоваться настолько, чтобы навсегда отказаться от подобных поползновений и действовать в качестве парламентской партии.
Кого-то я убедил, кого-то не очень. Но до сих пор считаю, что ошибки тогда не допустил. Другой вопрос, вызвавший большие споры, — как избирать президента. В личном плане для меня тогда было бы желательным пойти на прямые выборы всенародным голосованием. Исхода я не боялся, думаю, был бы избран, хотя оппозиция слева и справа уже раскручивала антигорбачевские настроения. Но меня смущала нараставшая в обществе дестабилизация. Еще одна избирательная кампания в условиях, когда уже намечались выборы в республиках, могла окончательно расстроить систему управления. Это мнение разделяли практически все в Политбюро, Совмине, руководители республик.
Многие сейчас спрашивают: почему я не пошел на то, чтобы получить мандат от народа? На этом, дескать, Ельцин сыграл. Но у меня не было комплекса неполноценности, считал, что избрание съездом обеспечивает достаточную меру легитимности. Во многих странах ведь глава государства избирается парламентом.
На подготовку XXVIII съезда влияло и то, что происходило в рамках реформирования Союза. Вставал, в частности, вопрос, как быть с Литовской компартией, объявившей себя независимой от КПСС. Решение приобретало значение прецедента для других компартий союзных республик. В этой связи важно было так сформулировать положения нового Устава, чтобы, с одной стороны, КПСС не превратилась в политический клуб, не разорвалась на клочья, как лоскутное одеяло, а с другой — обеспечивалась самостоятельность ее республиканских отрядов, демократизация всей структуры. Из «ордена меченосцев», каким партия по существу оставалась весь период своего пребывания у власти, она превращалась в действительно демократическую организацию сторонников социализма.
В острых дебатах решались вопросы структуры центральных органов партии. Предлагались и президиум, и исполком, но большинство настояло на политбюро. Стремились любой ценой сохранить традицию, причем не хрущевскую, а сталинскую и брежневскую. Полагали, что сохранение названия как бы предопределяет сохранение функций, хотя на деле они были уже совсем другими.
Далее встал вопрос о лидере. Я выступал за «председателя», но опять-таки пришлось уступить большинству, пожелавшему сохранить генсека. Вот с чем я уже не мог согласиться — с предложением оставить в силе порядок избрания Генерального секретаря Центральным Комитетом. Чтобы он уверенно себя чувствовал, его должны избирать сами представители коммунистов, делегаты съезда. Тем самым сводилась к минимуму возможность для всяких «дворцовых переворотов» в партии.
Новое, фактически федеративное строение партии придавало иной характер формированию Политбюро — не личностный, а представительский. Первые секретари ЦК компартий республик становились ех оШсю членами Политбюро. Оставались генсек, его заместитель, несколько ведущих секретарей, руководящих отделами — организационным, идеологическим, экономическим, международным. В какой-то мере и здесь представительство.
Во многом по тому же принципу должен был отныне формироваться состав ЦК. Это уже отражало новую роль компартий, их самостоятельность. В то же время я добивался, и к этому съезд отнесся с пониманием, что должна быть квота для предложений генсека по кандидатурам общесоюзного значения.
Еще до съезда был предрешен уход из состава руководства ряда членов Политбюро, прошедших со мной весь путь с 1985 года или избранных по моей рекомендации позднее. Откровенно говоря, это резко ослабляло демократическую прослойку в партийном руководстве. Но делать было нечего.
Последние точки над «Ь> были расставлены на заседании Политбюро в Ново-Огареве 28 июня. Я сообщил, что ряд товарищей попросили об отставке, в их числе Зайков, Слюньков, Бирюкова, Воротников. Медведев и Яковлев сами сказали, что не собираются оставаться в руководстве ЦК.
Пожалуй, единственное, что оставалось неясным, — будущее Лигачева. Я в своей информации не затронул этого вопроса, сам Егор Кузьмич тоже не стал говорить на эту тему. Но он высказал мнение, что теперь настала пора разделить посты президента и генерального секретаря, и рекомендовал, чтобы я остался генсеком, оставив пост главы государства. Откровенно говоря, я не сразу сообразил, какой за этим стоял замысел. Ведь с точки зрения интересов партии было нелепым отзывать своего лидера с президентского поста, на который я был избран всего два месяца назад.
Лигачев не мог не понимать, что такой будет первая естественная реакция на его предложение. Значит, выдвигал его с другим расчетом: скажут, от президентства Горбачеву отказываться нельзя, а вот пост генсека он может передать тому же Егору Кузьмичу. Не слишком хитроумный ход, но, видно, очень уж ему хотелось встать у руля партии. И раз не удалось получить на это мое благословение и официальную рекомендацию уходящего состава руководства, он рискнул на съезде действовать автономно. Подвели его самоуверенность и переоценка возможностей «корпуса секретарей». В прошлом они были действительно мощной силой, их поддержка имела бы решающее значение. Но время было уже другое.
Генсека фундаменталисты провалить не сумели. Шеварднадзе и Рыжков были избраны в ЦК. Яковлева, Медведева, Зайкова, Маслюкова я пригласил сотрудничать в Президентском совете и аппарате, в Совмине.
Обновленному обществу — обновленная партия
На том же заседании Политбюро обсуждалась и концепция моего доклада. После XXVII съезда произошли грандиозные изменения во всех сферах жизни нашего общества, а под их влиянием — ив окружающем нас мире. Рушились прежние теоретические представления, нуждалась в коренном обновлении вся идейная основа деятельности партии.
Со своими ближайшими сподвижниками я занялся подготовкой доклада, стремясь с максимальной объективностью разобраться в ключевых вопросах, поставленных ходом нашего развития. Царила атмосфера интеллектуальной свободы, бывали и стычки, когда мне приходилось «разнимать» разгорячившихся спорщиков. Но в целом работали дружно, и удалось, как мне кажется, с достаточной четкостью поставить диагноз состоянию общества, определить новую роль партии. Позволю себе привести несколько извлечений из доклада, которые дают представление о моих позициях в критический момент, когда предрешалась судьба КПСС.
«За пять лет мы сделали революционный рывок во всех сферах жизни, и это позволило нам выйти на главный перевал. Вопрос сегодня стоит так: либо советское общество пойдет вперед по пути начатых глубоких преобразований, и тогда, убежден, — наше великое многонациональное государство ждет достойное будущее. Либо верх возьмут контрперестроечные силы, и тогда страну, народ ожидают, давайте смотреть правде в глаза, мрачные времена.
…На смену сталинской модели социализма приходит гражданское общество свободных людей.
Радикально преобразуется политическая система. Утверждается подлинная демократия со свободными выборами, многопартийностью, правами человека, возрождается реальное народовластие. Демонтируются производственные отношения, служившие источником отчуждения трудящихся от собственности и результатов их труда. Создаются условия для свободного соревнования социалистических производителей. Началось преобразование сверхцентрализованного государства в действительно союзное, основанное на самоопределении и добровольном единении народов. На смену атмосфере идеологического диктата пришли свободомыслие и гласность, информационная открытость общества. Новое политическое мышление помогло нам по-иному увидеть и реалистически оценить окружающий мир, освободило от конфронтационного подхода во внешней политике. СССР стал страной, открытой для мира и сотрудничества, вызывающей не страх, а уважение и солидарность.
…С одной стороны, то, что мы делаем, фундаментально меняет наше общество, и это будет определять, каким оно станет в ближайшие годы и десятилетия. С другой — перед нами масса нерешенных проблем, отягощающих повседневную жизнь народа. Мы не можем уйти от вопроса, почему перестроечный процесс, успешно начатый и по историческим меркам так уже много давший обществу, не принес излечения многих его болезней.
…Сейчас раздаются голоса, мол, во всех нынешних наших бедах повинна перестройка. Извините за резкость, но это просто чепуха. Нам досталось крайне тяжелое наследие. Запущенность деревни, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, она что, возникла вчера, после 1985 года? А ведь это определяет ситуацию с продовольствием сегодня, и положение крестьян в деревне, и их жизнь сегодняшнюю. Плачевное состояние наших лесов, рек, миллионы гектаров затопленных плодородных земель в результате прежней политики в области энергетики. Это что, деяния последних лет? Тяжелая экологическая ситуация, более ста городов в зоне бедствия, свыше тысячи остановленных из-за этого предприятий, драма Байкала, Арала, Ладоги, Азова, Чернобыль и другие аварии, катастрофы на железных дорогах и газопроводах — разве все это не последствия политики, проводившейся в последние десятилетия? Разве структура экономики, в которой всего 1/7 часть производственных фондов промышленности сосредоточена на выпуске товаров народного потребления, не сложилась еще в 30-е годы и с тех пор сохраняется? Или проблемы Кузбасса, Донбасса, Тюмени, Воркуты. Ведь положение, в котором оказалась здесь социальная сфера, формировалось десятилетиями. А все то, что выплеснулось сегодня в межнациональных отношениях, разве не уходит корнями в прошлое? Я уж не говорю о милитаризации экономики, поглотившей колоссальные, причем лучшие, материальные и интеллектуальные ресурсы, о невосполнимых человеческих потерях, связанных с войной в Афганистане.
…Уже с начала 80-х годов было ясно, что наше видимое благополучие держится за счет варварского, расточительного использования природных и человеческих ресурсов. Одна из серьезных причин того, почему многое дается с таким трудом, — противодействие переменам со стороны бюрократического слоя в управленческих структурах и социальных сил, с ним связанных. Конечно, мы отдавали себе отчет, что перестройка неизбежно затронет интересы и тех, в чьих руках была реальная власть и кто от имени народа распоряжался общественным богатством. Нынешняя позиция части руководящих кадров, которые привержены старому и никак не могут интегрироваться в перестроечные процессы, более того, не принимают их ни политически, ни психологически, для нас ясна. И мы должны видеть, что, если не преодолеть позицию таких работников, а они есть, как я уже сказал, во всех эшелонах управленческой структуры, перестроечные процессы будут обостряться… Сейчас, когда мы вступаем в решающую фазу перемен во всех сферах жизни, надо обратить внимание на такой феномен, как взаимодействие самых крайних течений, различных деструктивных и экстремистских сил. Они даже объединяются, чтобы сбить с толку людей, сбить нас с главного направления перестройки.
…Надо сделать все, чтобы перестройка развивалась как мирная революция, переводя страну в рамках социалистического выбора в новое качество, без потрясений, главной жертвой которых всегда бывает народ. Нужно создавать все демократические условия, для того чтобы к власти приходили по-настоящему талантливые люди, преданные перестройке, выражающие дух времени, настроение масс, способные делать дело. Нам как никогда нужна высочайшая степень согласия в обществе. Сейчас не время для ультиматумов и конфликтов, необдуманных действий, которые разъединяют людей, еще более усложняют ситуацию».
Делегатам съезда была представлена объективная картина положения в экономике, честно сказано о допущенных ошибках и просчетах. И делался вывод, что при всей остроте кризисных явлений следует исключить возврат к командно-административным методам, быстрее и решительнее идти по пути фундаментальных перемен в экономической системе. Речь идет о формировании новой модели экономики — многоукладной, с разнообразными формами собственности и современной рыночной инфраструктурой. Тем самым будет открыт простор деловой активности и инициативе людей, созданы сильные мотивы для плодотворного труда.
В докладе еще раз было показано, что концепция перестройки — это не сиюминутное озарение какой-то группы людей, а завершение долголетних поисков, развернувшихся после XX съезда КПСС. Апрельский Пленум 1985 года дал мощный импульс теоретическим поискам, открыл возможность свободного обсуждения больных проблем жизни общества. Так родился основной замысел: оставаясь в рамках социалистического выбора, глубоко демократизировать и гуманизировать общество, создать условия жизни, достойной человека.
Эти рассуждения завершались предложением признать Программу КПСС утратившей силу, принять программное заявление и начать работу над новой программой.
Делегаты съезда, да и все общество ждали ответа на вопрос: какой же должна быть сама КПСС, в чем смысл ее обновления?
Я сказал, какой мне видится обновленная КПСС. «Партия, приверженная общечеловеческим, гуманистическим идеалам, чуткая к национальным традициям и чаяниям и вместе с тем непримиримая к шовинизму, национализму и расизму, любым проявлениям реакционной идеологии и мракобесия;
— партия, освобожденная от идеологической зашоренности, догматизма, стремящаяся играть инициативную роль в политических и идеологических процессах, действуя методами убеждения, развивая отношения сотрудничества и партнерства со всеми прогрессивными общественно-политическими движениями;
— партия, строящая взаимоотношения между своими членами исключительно на основе партийного товарищества, уважения мнения каждого, признания права меньшинства на собственную позицию, полной свободы обсуждения и обязательности для всех принятых большинством решений;
— партия, утверждающая во внутренней жизни принципы самоуправления, свободу действий партийных организаций, самостоятельность компартий союзных республик, объединенных единством программных целей и уставных положений;
— партия, открытая для контактов, взаимодействия с коммунистами, с социал-демократами, социалистами разных стран и разной ориентации, с представителями многих других течений современной политической и научной мысли».
Пожалуй, наиболее крупным и принципиальным новшеством в докладе была трактовка роли КПСС в государстве и обществе. Не отказываясь от понятия «авангардной партии», я подчеркнул, что это положение нельзя навязать, его можно только завоевать активной борьбой за интересы трудящихся и практическими делами, всем своим политическим и моральным обликом.
В предсъездовской дискуссии живо дебатировался вопрос о фракциях. Я высказался за осуждение любых попыток подавлять инакомыслие, но в то же время подчеркнул, что есть порог, переступить который — значит подкосить партию. Это — создание фракций со своей, особой внутренней дисциплиной. Члены партии, у которых сформировалась отличная от позиций большинства точка зрения на те или иные вопросы, могут свободно обсуждать и пропагандировать свои взгляды, публично заявлять о них вплоть до партийных съездов.
С открытым забралом
Я уже говорил о значении XXVIII съезда. Это была схватка реформаторского и ортодоксально-консервативного течений в партии.
Спустя почти 90 лет партия на XXVIII съезде, не отказываясь от позитивных сторон своего исторического наследия, осудила тоталитаризм и присягнула демократии, свободе, гуманизму.
Это был разрыв с большевизмом, первый крупный шаг по реформированию КПСС. Но дался он тяжело, несколько раз все висело на волоске. А после съезда осталось тревожное впечатление хрупкости достигнутого прогресса. Ступив одной ногой на «новый берег», КПСС другой ногой оставалась на старом. В таком переходном состоянии застали ее последовавшие бурные события, и это сыграло роковую роль в ее судьбе.
Первые четыре-пять дней работы съезда, практически вся дискуссия по политическому отчету, прошли со значительным перевесом консервативных настроений. Ничего нового и конструктивного в выступлениях ораторов, представлявших партийно-государственную верхушку и аппарат, не прозвучало. Они не пытались сколько-нибудь объективно проанализировать ситуацию. Сказать, что должна делать сама партия, чтобы восстановить свою роль и авторитет в изменившемся обществе. По существу, пропустили мимо ушей отчетный доклад, ограничиваясь формальными ссылками на него по каким-то отдельным проблемам.
Весь пафос этих выступлений был сосредоточен на обличении и поношении руководства за то, что КПСС лишилась монопольного господства. Сетовали, многие искренне, на сложные проблемы в экономике, культуре, межнациональных отношениях, не видя никакой своей вины, возлагая всю ответственность на «ретивых реформаторов» (говорили о «разрушителях»). Словом, это была до крайности враждебная реакция правящего слоя на реформы, угрожавшие поколебать его власть.
Что удивительно: я вот говорю, критиковалось руководство партии, на самом же деле ругали только его демократическое крыло. Поименно фигурировали генсек, Яковлев, Медведев, Шеварднадзе, вспоминали Разумовского. Но не Воротникова, Слюнькова, Крючкова, Язова, других членов и кандидатов Политбюро; кажется, не предъявлялся счет и Лигачеву. А ведь все решения принимались партийным руководством коллективно, более того, получали одобрение пленумов Центрального Комитета. Ораторы не могли этого не знать.
Доминирование консервативных настроений в прениях и их оторванность от доклада свидетельствовали о тщательной подготовке, я бы даже сказал, предварительной оркестровке, которые велись орготделом ЦК. Пока мы пытались серьезно осмыслить происшедшее и сделать необходимые выводы для политики партии, ретрограды в руководстве и аппарате «сидели на телефонах», проводили всевозможные «кустовые совещания», принимали партийных работников. Разумеется, это была обычная предсъездовская практика, но на сей раз она использовалась для того, чтобы провести съезд по сценарию контрреформаторского крыла.
До меня доходили сведения, что делегатов инструктируют отнюдь не в духе «нового мышления». Особенно активно действовали Лигачев и разделявшие его позицию заместители заведующего оргпартотделом, О. Бакланов, бывший фактически лидером ВПК. Конечно, их позиции не были для меня секретом. Но казалось немыслимым, чтобы люди, несущие свою долю ответственности за каждый шаг по пути перестройки, вели закулисную работу с делегатами съезда, настраивая их на своего рода «антиперестроечный бунт». Я явно недооценил ресурсов человеческой гибкости.
К формированию агрессивного «фундаменталистского» большинства на съезде приложили руку первые секретари ЦК компартий Украины — С. Гуренко, Белоруссии — Е. Соколов и другие.
У меня была встреча с секретарями райкомов и горкомов, просидел с ними четыре часа и почувствовал, что они вели борьбу за выживание, за сохранение своей власти. А это толкало на попытку взять реванш, вернуть партию на старые позиции, в конечном счете похоронить реформы.
Теперь о другом крыле — левее реформаторского руководства КПСС. Доклад давал им возможность задать тон дискуссии, развернуть свою аргументацию. Но они не сумели использовать этот шанс.
В выступлениях Лысенко, Шостаковского, Бузгалина, Калганова чувствовалась крайняя осторожность, были они уж очень деликатными. Вероятно, лидеров демштатформы изрядно запугали фундаменталисты. Если они вынашивали замысел увести за собой хотя бы пятую часть партии, то на съезде даже серьезной попытки размежевания не предприняли. У некоторых ораторов этого направления прозвучали, правда, призывы к своим единомышленникам хлопнуть дверью, если их мнение не будет по-настоящему принято во внимание. Но их тут же дезавуировали. В частности, Шостаковский заявил, что его группировка не уйдет. Принципы и здесь уступили расчетам. Левые не хотели отказываться от своей доли партийного наследства: зданий, газет, финансовых средств и т. д.
Все это не значит, что в дискуссии вовсе не прозвучали реформаторские идеи. Справедливости ради должен сказать, что в этом духе, притом довольно остро, выступил Ельцин. Он говорил, что нейтрализовать действия консервативных сил в партии не удалось.
Касаясь судьбы КПСС, заявил: «Или партаппарат под давлением политической реальности решится на коренную перестройку в партии, или будет цепляться за обреченные формы и останется в оппозиции к народу, в оппозиции к перестройке… Мы, отдавшие партии десятки лет жизни, сочли своим долгом прийти сюда, чтобы попытаться сказать, что выход для КПСС все же есть. Трудный, тяжелый, но выход: в демократическом государстве переход к многопартийности неизбежен. Необходимо организационно зафиксировать имеющиеся в КПСС платформы и дать каждому коммунисту время для политического самоопределения. Изменить название партии. Это должна быть партия демократического социализма. Партия должна освободить себя от любых государственных функций».
Сразу скажу: эти тезисы перекликались с Политическим докладом, были близки позициям реформаторского крыла. Но главной целью Ельцина было отнюдь не реформирование партии, а ее разрушение.
На это было направлено и его заявление, что на съезде рано обсуждать платформу и Устав.
Оставить партию в этот ответственный момент, на этапе глубоких преобразований без программных установок, не осуществив демократизации ее структуры, чего требовали все, от рядовых коммунистов и первичных организаций до ЦК компартий республик, значило подтолкнуть ее к быстрому развалу. А как можно было сформировать новое руководство, не обсудив платформы, не определив, на каких принципах следует основывать политику КПСС?
В общем, Ельцин не захотел присоединиться к реформаторскому крылу, помочь действительно спасти партию, своевременно реорганизовав ее. И, думаю, не только из-за того, что не верил в такую возможность. Его больше не устраивало участие в КПСС на вторых ролях. Он рвался к власти и видел уже себя вождем другой, своей партии.
Весьма содержательным было выступление Абалкина. Он справедливо заметил, что главное для партии — обновление идейно-теоретического фундамента. «Опыт показал, что модель, основанная на тотальном огосударствлении экономики, отрицании многообразия форм собственности и хозяйственной деятельности, отрицании рынка, не способна обеспечить высокий экономический и социальный результат».
Когда академик начал приводить аргументацию в пользу рынка, его выступление то и дело прерывалось шумом в зале, захлопыванием. Но Леонид Иванович не покинул трибуну и высказал свою точку зрения в этой, все более накалявшейся атмосфере. Он сказал, что мы должны избавиться от мифов. Один из них заключается в том, будто бы можно перейти к процветающей экономике без жертв и испытаний, не внеся за это никакой платы. Другой — якобы переход этот можно осуществить, сохраняя административный контроль над ценами, не трогая систему ценообразования.
В перерыве я попытался разыскать Абалкина. Уж не помню, когда он ко мне подошел, в тот день или на следующий. Я поблагодарил его за интересное выступление, и мы стали обсуждать проблему реформы ценообразования. Вспомнили, каким сенсационным было его выступление на Первом съезде народных депутатов СССР. Тогда у многих, в том числе у меня, вызвало раздражение утверждение Абалкина, что дела в экономике идут под откос. А ведь он был прав, обращая внимание на крайнюю робость и отсутствие комплексного подхода в реформаторских начинаниях правительства. Его выступление в штыки встретили консерваторы, радикалы же клевали академика за приверженность к идее регулируемого рынка.
Уже при утверждении повестки дня XXVIII съезда был поставлен вопрос о персональных отчетах членов Политбюро. Эта тема стала, по существу, основным сюжетом всей первой части съездовской дискуссии. Такой вид приняла борьба консервативного и реформистского крыла, закончившаяся, можно сказать, вничью. Фундаменталистам, горевшим желанием «размазать по стене» тех, в ком они видели виновников своего отстранения от власти, удалось настоять на «отчетах» (правда, в основном на заседаниях секций). Но они не смогли навязать выставления оценок — унизительной процедуры, которая задумывалась как способ «публичной порки» деятелей реформаторского направления.
Я на предварительных стадиях и на заседаниях съезда откровенно говорил, что вся эта затея не имеет смысла. Политический доклад — это отчет всего ЦК и Политбюро как коллегиальных органов. При том, что его члены курируют отдельные направления деятельности партии, все принципиальные вопросы обсуждались и решались коллективно.
Конечно, в других обстоятельствах не было ничего зазорного в предложении послушать каждого члена руководства. Но в обстановке яростного политического противоборства этот метод «самоотчетов» явно замысливался для того, чтобы нанести удар по Генеральному секретарю и его окружению, поднадавить на меня, заставить изменить позицию, а если удастся — то и развенчать политически, довести до «оргвыводов».
Отчитались в конце концов все члены руководства, с разным успехом. Одни выиграли в «первом раунде», сумели показать себя с лучшей стороны благодаря искусно подготовленным выступлениям. Другие «набрали очки», отвечая на вопросы. Третьи выглядели бледно.
После отчетов и спланированного шквала критики реформаторской линии руководства «домашние заготовки» начали иссякать. Работа была перенесена в секции. В более конструктивной обстановке прошло пленарное заседание, на котором отчитались руководители секций и выступили с ответами на вопросы некоторые члены Политбюро.
Вопросы были всякие, и с «подковыркой», и доброжелательные. Мои коллеги сумели найти правильный тон, приводили убедительные аргументы, и аудитория в большинстве своем была удовлетворена. Перелом в настроениях делегатов наглядно отразился в записках, предлагавших отказаться от оценок персональной деятельности. Делегат Харитонов писал, что не следует чинить суд над членами Политбюро. «Может быть, кому-то это доставит удовольствие, но надо каждому взяться за ум и не превращать съезд в суд толпы. Мы ведь идем к более цивилизованному обществу, а нас зовут в 1937 год». Это было встречено аплодисментами.
Уловив перемену в настроениях, я поставил на голосование предложение прекратить заслушивание отчетов членов Политбюро и кандидатов. Проголосовали за — 3078, против — 1113, воздержались — 50. Сравните с этим результаты голосования, состоявшегося три дня назад. Тогда за персональную оценку были 2557 делегатов, против — 1393. Вот как «качало» съезд. Постепенно рассудок брал верх над одержимостью, слабело влияние «накачки», которой подверглась делегатская масса.
Я много думал и держал совет с коллегами, каким должно быть в этой обстановке заключительное слово по итогам дискуссии по Политическому отчету. Заранее продуманного и отшлифованного текста у меня не было, пришлось просидеть большую часть ночи. Утром 10 июля взял слово, чтобы констатировать несколько тезисов.
«Политический курс на перестройку, обновление общества в рамках социалистического выбора поддерживается съездом. Большинство делегатов понимает, что он продиктован жизнью. Несмотря на ошибки, просчеты, запоздания, несмотря на драматизм нынешнего положения в стране, общий итог происшедших перемен значителен и прогрессивен.
Главное достижение — общество получило свободу. Она раскрепостила энергию народа, позволила включить миллионы людей в политику, начать жизненно назревшие преобразования. Без этого не было бы и той атмосферы, в которой проходит съезд.
Другой вопрос — ни партия, ни страна в целом, старые и вновь образованные движения, новая наша власть, все мы не научились пользоваться обретенной свободой. Корни кризиса партии уходят как раз в неумение и нежелание понять, что мы живем и работаем уже в новом обществе — с широкой и практически неограниченной гласностью, невиданной за всю историю свободой. Нужна другая, обновленная партия; без демократизации, укрепления живой связи с народом, активной работы в массах мы будем терять позиции».
Говоря о том, как действовать дальше на главных направлениях перестройки, я поставил на первый план стратегию экономической реформы. «Наша история показала бесплодность попыток вырваться из нужды, в которой находились и государство, и граждане, путем штопанья и латания командно-распорядительной системы. Пойдем так дальше — приведем страну к банкротству. Преимущество рыночного хозяйства доказано в мировом масштабе, и вопрос сейчас только в том, можно ли в условиях рынка обеспечить высокую социальную защищенность, то, что характерно для социалистического строя, для строя трудящихся. Ответ таков: не только можно, но именно регулируемая рыночная экономика позволит так нарастить общественное богатство, что в результате поднимется уровень жизни всех.
Объявление о намерении переходить к рыночной экономике напугало народ. Рынок явился к нему в образе пустых магазинных полок и высоких цен. Начинать с цен — не тот путь, но без реформы ценообразования не может быть и рынка. В общем, нам надо исправить это впечатление и к сентябрю предложить Верховному Совету, обществу взвешенные предложения, чтобы они определились и сделали выбор».
Наиболее важным для реформирования партии было, конечно, определиться в отношении ее программных целей. «Все дело в том, что мы понимаем под социализмом. Некоторые товарищи полагают, что, если сейчас мы подтвердим в программном заявлении свою верность старым подходам, то все встанет на свои места. На какие места? Не окажемся ли мы там, где были более 60 лет с известными последствиями?
Идеология социализма — это не учебники, где все расписано по главам, пунктам, правилам и принципам. Она будет формироваться вместе с самим социализмом, по мере того как мы будем содействовать тому, чтобы страна была накормленной, обустроенной, цивилизованной, духовно богатой, свободной, счастливой. По мере того как заново освоим общечеловеческие ценности — не как нечто классово чуждое, а как нормальное для нормального человека. Эти ценности вырабатывались столетиями, известно, чем для нас обернулось пренебрежение к ним. Идеология социализма будет формироваться в процессе включения страны в общий прогресс цивилизации. Широкие рамки для этого определяются новым мышлением, которое уже воспринимается в мире как новый наш интернационализм, сплачивающий, а не раскалывающий мир на противоборствующие лагери.
От Маркса, Энгельса, Ленина мы унаследовали высокий класс методологии мышления, диалектический образ мысли, на что и будем опираться в теории и политике. Но не позволим превратить все созданное классиками в очередной краткий курс, о чем, по-видимому, кое-кто сожалеет. Это гибельно для перестройки, для общества. Этого не будет».
Скажу откровенно, меня порадовало, что эти слова были встречены аплодисментами. Значит, люди начали думать, сомневаться в непререкаемых догмах, не хотят, чтобы их опять посадили на скудный идеологический паек.
Пришлось мне защищать и нашу внешнюю политику, которую фундаменталисты к тому времени сделали предметом нападок, обвиняя руководство в «потере» Восточной Европы (словно она была нашей колонией!), «капитуляции» перед Западом, «сдаче» Афганистана. Впрочем, «защита» не то слово. Я постарался показать, что только неисправимые «ястребы» могут подвергать анафеме курс, который позволил покончить со сверхмилитаризацией страны, отвести мир от ядерной пропасти, создать предпосылки для нашей интеграции в мировые экономические и политические структуры.
А закончил я темой: партия и власть. «Многие делегаты выражали тревогу, что КПСС теряет авторитет, ее теснят другие политические силы, в некоторых местах коммунисты вынуждены перейти в оппозицию. Это так, и ничего к лучшему не изменится, если партийные кадры будут рассчитывать на возврат того времени, когда можно было получить от ЦК своего рода мандат на управление районом, городом, областью, республикой и сидеть в кресле до последнего своего часа, независимо от того, как ты ведешь дело, что о тебе думают люди. Нельзя вернуть вчерашний день, и никакая диктатура — если у кого-то в голове застряла эта бредовая идея — ничего не решит. Партия не сумеет перестроиться до тех пор, пока все мы не поймем, что пришел конец монополии КПСС на власть и управление. Даже если мы сумеем завоевать на выборах большинство — а мы можем и должны действовать, чтобы завоевать большинство и сохранить свое положение правящей партии, — даже в этом случае целесообразно идти на сотрудничество с беспартийными депутатами, представителями других, признанных по закону политических течений, искренне озабоченных судьбой страны. Покончить с сектантскими настроениями, навсегда вытравить их из сознания партработников и всех коммунистов» — этой мыслью я завершил свое выступление.
Был объявлен перерыв. Едва я сошел с трибуны, меня обступили делегаты — кто хотел поделиться впечатлениями, кто спешил использовать шанс для постановки наболевшего вопроса, а кто просто напоминал о себе. Все проявления человеческой натуры. Налетели и журналисты, требуя короткого интервью. Высвободившись, я прошел в комнату отдыха, где за большим столом собрался весь состав Политбюро. Посыпались поздравления разной степени искренности. Запомнилось мне, что в хвалебный хор включился и Лигачев.
— Ну, Михаил Сергеевич, вы сегодня были в ударе. Программная речь. Готовая платформа…
Не ручаюсь за каждое слово, но общий смысл был таким. Я поблагодарил, а сам подумал: неужто поддался на аргументы? Скорее, лукавит, хочет снять подозрения на свой счет. В последнее время мне не раз пришлось на Политбюро «урезонивать» Егора Кузьмича. Да и то, что он — лидер правого крыла, ни для кого не было секретом. Предстояли выборы, он уже «примерялся» на второй пост в партии и не терял надежды заручиться благословением генсека.
Приступили к подготовке резолюций. Впервые на партийном съезде (исключаю ленинские времена, где, судя по стенограммам, живо обсуждались проекты даже самых коротких документов) к этому подошли серьезно. Во всяком случае, на съездах, в которых мне довелось участвовать, все совершалось чисто формально, упрощалось до вульгарности. На XXIV съезде и вовсе решили не мудрить: «С прекрасным докладом выступил Леонид Ильич, там есть все, что нужно, давайте примем короткое решение — руководствоваться положениями отчетного доклада Генерального секретаря».
Да, съезд сильно отличался от предыдущих и в этом отношении. Острые дискуссии возникли уже при формировании комиссий для разработки документов. Скажем, немалая часть делегатов протестовала против включения в одну из них (по Уставу партии) Отто Лациса. Хотя тогдашние его позиции я бы назвал довольно взвешенными, его выступления в «Известиях» далеко не всем нравились. Блокируя людей реформаторского толка, в то же время добивались обильного включения представителей секретарского корпуса.
Я считал желательным участие тех и других. Пусть комиссия будет несколько громоздкой, но не должно было создаваться впечатления, что кто-то чего-то боится и сооружает искусственные препятствия для представления различных течений и точек зрения. Но схватки с новой силой обострились при избрании председателей комиссий. Кандидатура Разумовского на пост руководителя комиссии по Уставу была забаллотирована. Тогда я предложил себя и был избран.
Комиссию по подготовке программного заявления возглавил Медведев. Претендентов на пост председателя комиссии по аграрной политике оказалось 11. Причем в драматической тональности был поставлен вопрос о том, чтобы ее возглавил Лигачев. Объяснялось это тем, что деятели, занимавшие такой пост, как бы получали «проходной балл», своего рода гарантию сохранения в составе партийного руководства после съезда. И вот сторонники Егора Кузьмича бросились на защиту выразителя своих интересов. Кстати, за него проголосовали под аплодисменты, а вот предложение поручить Абалкину руководство комиссией по вопросам экономической политики консервативно настроенные делегаты провалили.
Хочу передать атмосферу работы комиссий по своему личному опыту. Обычно генсек, выдвигавшийся председателем той или иной комиссии, как бы передавал полномочия для практической работы кому-то из своего ближайшего окружения. На сей раз, несмотря на всю остроту дискуссии и необходимость постоянного моего присутствия на съезде, пришлось провести несколько заседаний комиссии по Уставу лично.
Так я находился все время в «челночных рейсах» между президиумом съезда и комнатой, где работала комиссия. Познакомился со многими интересными людьми и некоторых включил в «центральный список», продвинув через него в руководящие органы КПСС.
Думаю, то, что было заложено тогда в Уставе, привело бы к радикальной демократизации партии, не окажись ее история прервана в августе 1991 года. Прежде всего я имею в виду расширение прав коммунистов, первичных организаций, самостоятельность компартий республик. Обеспечивалась децентрализация функций, а включение руководителей компартий в состав Политбюро гарантировало единство действий.
Мне ежедневно докладывали о работе других комиссий. В комиссии по экономическим вопросам остро схлестнулись позиции реформаторов и консерваторов. Схватка о формах собственности разрешилась согласием на формулу «трудовой частной собственности». Ортодоксы от начала и до конца воевали против рынка. В конце концов комиссия вышла на позиции, адекватные тем, что уже были приняты в обществе, получили закрепление на сессии Верховного Совета. Правительство в это время уже работало над предложениями о неотложных мерах перехода к рыночной экономике.
Упорная, напряженная борьба. Только к тринадцатому заседанию, на котором я выступал с заключением по отчету, наступил перелом в течении съезда. Впереди были острые схватки, связанные с выбором нового руководства, но основную задачу мы решили, не позволив столкнуть партию со взятого курса реформ и положив начало ее собственному преобразованию.
Политическая драма в трех актах
Сразу же после моего заключительного слова началось выдвижение кандидатур на пост Генерального секретаря. По поручению Совета представителей делегаций слово было предоставлено Владимиру Андреевичу Колюте, бригадиру объединения «Химпром» из Кемерова. Он сообщил, что были названы четверо: Гуренко, Ивашко, Лобов, Горбачев. Гуренко и Ивашко сняли свои кандидатуры, Лобов призвал голосовать за Горбачева. Совет предлагает избрать Генеральным секретарем Горбачева Михаила Сергеевича.
Слушая это сообщение, я думал: насколько изменилась обстановка в партии, изменились люди. При выборах Генерального есть уже конкуренты, альтернативы, и никто не боится, что ему заломают руки и отправят куда подальше. Что касается моего будущего, то, признаюсь, у меня мелькнула мысль: было бы хорошо, если б они там взяли да «отрубили» мою кандидатуру. Психологически я к этому был готов и воспринял бы спокойно, даже с облегчением, поскольку меня многие уговаривали оставить руководство партией. Но время для этого не созрело, что, кстати, показала развернувшаяся тогда дискуссия.
Делегат Исмаилов из Азербайджана — доктор наук, главный конструктор научно-производственного объединения космических исследований — сказал, что при Горбачеве созданы новая структура государства, экономики, политическая система, высоко отозвался о моей деятельности на международной арене. Добавил, что я взялся за перестройку сразу всех сфер жизни, «переоценив возможности и зрелость общества». И пожелал впредь больше последовательности, продуманности.
Бригадир проходчиков шахты «Северная» (из Кемеровской области) Рыбаков заявил, что товарищи ему поручили голосовать против совмещения должностей. «Это может просто вызвать эмоциональный взрыв, тем более завтра у нас назначена забастовка во всех шахтерских регионах». Его поддержал водитель таксомоторного парка из Москвы Болтовский, предложивший избрать генсеком Авалиани, секретаря Киселевского горкома партии, приобретшего известность как народный депутат СССР, председатель забастовочного комитета Кузбасса.
Завязались дебаты о целесообразности совмещения должностей. Военнослужащий Фролов и партийный работник Бибулатов высказались «за», исходя из того, что это нужно как самой партии, так и президенту. А преподаватель военной академии Ефимов сказал, что Горбачев с 1971 года занимает руководящие посты в партии, с 1978 года — секретарь ЦК.
— Не запустим ли мы сейчас его еще раз на орбиту состязания по продолжительности работы в высших органах партии по примеру Брежнева, Чаушеску, Хонеккера и ряда других, дискредитировавших себя лидеров? Совмещение постов дискредитирует саму идею президентского правления. Поэтому предлагаю Михаилу Сергеевичу снять свою кандидатуру.
Делегат Юсупов из Узбекистана выступил за мое избрание, мотивируя это тем, что я начал перестройку, «показал себя противником догматизма» и пользуюсь международным признанием. Любопытной была логика Елепина из Башкирии: совмещение постов может быть объяснено или соображениями высшей политики, которая «может восприниматься как высшая математика и быть не совсем понятной, или соображениями здравого смысла. Здравый смысл против этого». И выдвинул кандидатуру Лобова.
Другой делегат из Башкирии, профессор Уфимского нефтяного института Старцев, обратился ко мне так:
— Михаил Сергеевич, во имя сохранения священного вашего имени первооткрывателя новой эпохи истории нашего народа прошу свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ЦК КПСС снять.
Были страстные выступления за мое переизбрание, были и другие обращения ко мне с просьбой снять свою кандидатуру. Назывались альтернативные кандидаты, причем как людей в партии известных (Бакатина, Шеварднадзе, Яковлева), так и молодых коммунистов, о которых до съезда мало кто или вовсе никто не слышал.
Первый секретарь Усинского горкома из Коми АССР Голиков сказал с иронией, что предлагает сделать заявку на запись в Книгу рекордов Гиннесса: «Мы единственная партия, которая отказывается от того, чтобы ее лидер был президентом».
В конце концов в списке для голосования остались два кандидата: Горбачев и Авалиани, а голоса между нами распределились так: за меня — 3411, за моего соперника — 501. Голосование было предсказуемо, поскольку 1100 человек (с «отклонениями» в ту или в другую сторону) заняли с начала съезда негативную позицию по отношению к генсеку. Легко догадаться, что больше всего в этой тысяче была представлена партийная и управленческая номенклатура.
Но все прошло в согласии с принципами демократии. Мы сумели внедрить их и в этот заповедник тоталитарной системы. Невольно вспомнилось, что после избрания Сталина генсеком на XVII съезде партии в 1934 году были «вычислены» 280 с лишним депутатов, проголосовавших против. Чтобы «не ошибиться», решили в три раза увеличить эту цифру и уничтожили едва ли не весь состав делегатов.
Прямым продолжением выборов генсека стали выборы его заместителя. Пост этот приобретал особое значение, поскольку мне поневоле приходилось уделять больше внимания своим президентским обязанностям и вся текущая организаторская работа ложилась на плечи зама. Кроме функциональной стороны дела была и политическая. Хочет ли съезд, чтобы руководство действовало как одна команда во главе с лидером партии? Или, напротив, не рискнув сменить Генерального, занимающего высший государственный пост, намеренно отдает второй пост в КПСС деятелю другой ориентации? Как бы ставит контролера над Горбачевым.
Мы закладывали в Устав новую роль республиканских партий, следовательно, первым критерием становилось представительство одной из них. Раз генсек из России, естественно было избрать замом представителя Украины. Я остановился на кандидатуре В.А.Ивашко. Сторонник реформ, придерживающийся умеренных политических взглядов; не витает в «теоретических эмпиреях», отдает предпочтение житейскому здравому смыслу; скромен, прост в обращении с людьми. Импонировали мне спокойная, уверенная манера держаться на трибуне, мягкий украинский юмор.
Беда Владимира Антоновича в том, что судьба поставила его перед испытанием, требовавшим сильной воли, способности брать на себя ответственность за все. Это оказалось ему не по плечу. Метался, поддаваясь влиянию более волевых коллег по руководству, окончательно «скис» в роковые дни августа 1991 года.
Как бы то ни было, в то время у него был, употребляя модное выражение, высокий рейтинг среди делегатов. На Совете выдвинули также Лигачева, Дьякова (первый секретарь Астраханского областного комитета КПСС), Лобова, Бакатина, Янаева, Яковлева, Назарбаева и других, всего 9 человек. Большинство из них сняли свои кандидатуры, на обсуждение съезда были предложены Ивашко и Лигачев.
Представитель украинской делегации заявил: «Мы знаем много случаев, когда нами правили праведные старцы. Давайте хоть сегодня поступим принципиально и выдвинем на этот пост человека не старше 60 лет». И потребовал даже ввести возрастной ценз.
Пришлось мне держать речь. Я сказал:
— Всех нас беспокоило, что руководство КПСС на каком-то этапе превратилось в синклит стариков, это было одним из факторов застоя, вело к серьезным деформациям, усугубляло сталинскую модель. Но мы не должны испытывать комплекс на этой почве, потому что установили в качестве главного принципа альтернативность при избрании руководителей и ограничили двумя сроками занятие должностей. С другой стороны, бывает ведь и так, что человек в 35 лет — развалина. Давайте возьмем за правило, чтобы представлялись справки о состоянии здоровья, а если надо — осуществлялась диспансеризация.
Формальных решений на этот счет не было принято, но предложение о возрастном цензе съезд отклонил — правда, всего сотней голосов.
Рабочий нефтехимического объединения из Башкирии Булатников обратился к Лигачеву с просьбой снять свою кандидатуру. Напомнил, какие чувства испытывали коммунисты, когда Генерального секретаря Черненко вывели на трибуну под руки. А ректор Ташкентского государственного университета Юсупов заявил:
— Михаил Сергеевич, вам нужен молодой, энергичный, трезвомыслящий помощник. Егору Кузьмичу 70 лет, он стал раздражительным и несамокритичным, поэтому лучше проводить его торжественно, с почетом и уважением на пенсию.
Были предложения не принимать самоотводов Гуренко, Малофее-ва и других, ранее выдвинутых. Названы кандидатами в замы генсека И.Т.Фролов, А.Рубикс, а ректор Технологического института из Ленинграда А.С.Дудырев выдвинул собственную кандидатуру, сообщив, что ему 45 лет и он готов работать с тем же окладом, какой имеет сейчас. В конце концов он-то вместе с Ивашко и Лигачевым остался в списке.
Потом обнаружилось, что мы нарушили инструкцию, приняв самоотводы без выяснения, а нет ли в данном случае отводов. Это был очевидный сигнал, что многие делегаты, опасаясь избрания Лигачева, не хотели, чтобы он оставался в списке. Снова разгорелась дискуссия, посыпались мотивированные отводы Лигачева. Поднялся шум и гам, эта тема явно раскалывала съезд. В конце концов в списке кандидатов его фамилия осталась, но заранее было ясно, что шансов быть избранным у него нет.
Действительно, по итогам выборов Дудырев получил за — 150 голосов, против — 4268, Ивашко — за — 3109, против — 1309, Лигачев — за — 776, «против» — 3642. То есть даже часть делегатов, которая постоянно голосовала против Горбачева и его сторонников, отказала в поддержке Лигачеву. Правое крыло потерпело на съезде поражение и потому, что у него не нашлось достаточно сильного и авторитетного лидера. Но ведь это, наверное, не случайно. Какой авторитет можно нажить на защите обанкротившейся системы!
Поражение Лигачева означало удар и по политической линии, которую он представлял. Одновременно это был сигнал, что отныне фундаменталистские силы в партии намерены действовать открыто, в качестве фракции или правой оппозиции реформистскому руководству. Каюсь, я тогда недооценил этой опасности. Особенно не могу себе простить, что позволил занять ключевое место в Политбюро — курирование организационно-партийного отдела — Шенину. По странной аберрации зрения принимал его за искреннего сторонника преобразований. А может быть, тут дело было в его способности мимикрировать, умело играть роль прогрессиста, новатора, оставаясь в душе закоренелым ретроградом? Во всяком случае, помню, у меня с ним был разговор после съезда и я, в частности, ему сказал:
— Учти, Олег, у нас в партийной верхушке и аппарате засилье бюрократов, которым плевать на перестройку, судьбу страны. Для них главное — удержаться у власти. Вам придется очень нелегко с этой публикой. А ее выпроваживать надо, искать и выдвигать молодых, отважных, мыслящих. Без этого и реформы захлебнутся, и партии каюк.
Шенин слушал, горячо соглашался, рассказывал о своих планах обновления кадров. На поверку все обернулось блефом.
Если выборы Генерального секретаря были первым актом развернувшегося на съезде драматического столкновения фундаменталистов с реформаторами, избрание заместителя генсека — вторым актом, то третьим — стали обсуждение кандидатур и выборы нового состава ЦК.
Собственно говоря, поначалу все обстояло пристойно. Поскольку подавляющая часть будущих членов ЦК представлялась делегациями компартий республик, борьба за эти места прошла где-то до съезда. А если какие-то ее отзвуки и докатились до момента голосования, то все-таки «разборки» осуществлялись в рамках делегаций.
Схватка развернулась вокруг так называемого «центрального списка». Было общее согласие, что определенная «квота» цековских мандатов должна быть выделена для партийцев «союзного уровня» — признанных членов общепартийного руководства, видных идеологов КПСС, авторитетных коммунистов, занятых в союзном правительстве, крупных военачальников, творческих работников и т. д. Готовился такой список под моим контролем, и называли его неофициально «списком генсека».
Речь шла о 75 мандатах, на которые были выдвинуты 85 кандидатов. Среди них были названы и представители нового российского руководства — Ельцин, Силаев, Хасбулатов. Сразу же после оглашения списка Ельцин попросил слова. Смысл его заявления состоял в том, что в связи с избранием Председателем Верховного Совета РСФСР и с учетом перехода общества к многопартийности он не сможет выполнять только решения КПСС, обязан подчиняться воле народа и его полномочных представителей. А посему, в соответствии с обязательствами, взятыми в предвыборный период, выходит из КПСС. Добавил, что намеревался выступить с этим заявлением после съезда, но выдвижение в состав ЦК побуждает его не откладывать этой меры.
Не сомневаюсь, что в расчеты Ельцина входило вызвать другие заявления такого же рода. Этого, однако, не случилось. Характерно, что приведенная им мотивировка выхода строилась не на несогласии с линией партии, с решениями съезда — она целиком покоилась на формальных соображениях. Видимо, работа съезда не давала для этого достаточно серьезных оснований. При всех стараниях правого крыла было очевидно, что партия не остается безразличной к ветрам времени, разворачивается, пусть с натугой и скрипом, в сторону признания новых реалий.
Напомню, что это было его второе выступление. В первом, так сказать «программном», он говорил о том, что партия должна сделать, чтобы спасти себя: решительно размежеваться с тем-то, встать на такой-то путь. И если ход съезда, как говорится, «не оправдал надежд», ничто не мешало ему сказать во втором выступлении: вижу, что партия не хочет меняться, продолжает свой пагубный курс, а поэтому не могу выполнять ее решения, выхожу из ее рядов и призываю других последовать за мной. Но Ельцин этого не сделал.
Со своей стороны я, как председательствующий, решил придать этому вопросу рутинный характер и сказал примерно так: «Поскольку Ельцин заявил о выходе из партии, я думаю, съезд должен поручить мандатной комиссии внести предложение о погашении его мандата. Что касается остального, то это решил сам товарищ Ельцин. Вы услышали аргументы, нам остается принять их к сведению. В связи с этим отпадает предложение о включении его кандидатуры в список для выборов в ЦК».
Я сидел в президиуме и мог наблюдать картинный выход Ельцина из зала. Он шел не спеша, думал, вероятно, что будут аплодировать, а кое-кто двинется за ним. Но эффекта, на который рассчитывали постановщики этой сцены, не получилось.
Затем последовало, пожалуй, главное сражение на партийном форуме. Ортодоксы потребовали исключить из «списка генсека» 13 человек, вызывавших у них не то что неприязнь, а просто ярость своими либеральными взглядами. Причем в этом случае они нашли довольно сильную поддержку у многих делегатов, занимавших по другим вопросам умеренные позиции. Боюсь, сказалось и традиционное недоверие к интеллектуалам.
Но тогда сохранить «13» в списке было принципиально важным. Мне пришлось несколько раз включаться в дискуссию, которая шла на повышенных тонах, на грани истерии. И в конце концов сделать заявление, которое потом некоторые сравнивали с позицией Ленина при обсуждении вопроса о Брестском мире. Фактически это был переломный момент в ходе съезда, своего рода кульминация, после которой начался уже более спокойный финал. Правда, центральный список изрядно «пропололи» при голосовании, но мне и моим единомышленникам удалось настоять на избрании в состав ЦК ряда коммунистов с твердыми демократическими убеждениями.
Вот, пожалуй, самое существенное о XXVIII съезде. Он оказался последним в истории РКП(б) — ВКП(б) — КПСС, но на нем еще не решалась судьба партии[16].
Все же есть основание считать, что XXVIII съезд был шагом вперед в развитии партии. При всех стараниях консерваторов масса рядовых партийцев откликнулась на зов времени. Ничем иным нельзя объяснить, что съезд в главных вопросах не поддержал ортодоксов и фундаменталистов, принял платформу и Устав, которые означали радикальные изменения самой сущности КПСС. Она вступила на этот путь и имела шансы пройти его до конца.
Здесь я перехожу к другому вопросу — о возможности реформирования КПСС. До сих пор идут споры по этому поводу. У тех, кто категорически настаивает, что преобразование партии было невозможно, я усматриваю знакомый «след» жесткого марксистского детерминизма. Все возможно на этом свете.
Так вот, XXVIII съезд как раз продемонстрировал, что все в партии начало двигаться — пусть с трудом, на малой тяге, с сильнейшим сопротивлением, но пришло в движение. Следующее, еще более определенное свидетельство того, что КПСС поддавалась реформированию, представил июльский Пленум ЦК 1991 года.
Глава 18. Как войти в рынок
XXVIII съезд КПСС углубил размежевание реформаторских и консервативных сил в партии. Нам удалось отстоять перестроечную линию, подтвердить взятый курс, в том числе на рыночные реформы. Был сделан и определенный шаг в дальнейшем разграничении функций партии и государства. В Политбюро не вошли глава правительства, руководители политических министерств и ведомств. Но одновременно произошла консолидация ортодоксов, получивших опору в руководстве Компартии России. Да и среди членов Политбюро, секретарей ЦК КПСС оказалось немало людей с традиционными партийно-консервативными взглядами.
Важнейшим событием, повлиявшим на политическую обстановку в стране, явились выборы в Верховный Совет России и других республик, состоявшиеся весной 1990 года. Избрание Ельцина Председателем Верховного Совета РФ, принятие Закона о суверенитете вызвали своеобразную цепную реакцию. Отныне ни один крупный вопрос не мог решаться вне контекста взаимоотношений Союза с республиками.
На первый план вновь выдвинулась экономическая реформа. Теперь борьба шла не между сторонниками и противниками вхождения в рынок — этот вопрос казался уже решенным. Открыто против рынка, пожалуй, не выступала ни одна заметная политическая сила. Страсти переместились в плоскость выбора путей и способов перехода к рыночным отношениям. И одной из самых драматичных страниц перестройки стала острейшая полемика вокруг выбора программы перехода к рынку между правительственной программой Рыжкова — Абалкина и программой Шаталина — Явлинского, получившей название «500 дней».
Об этом много наговорено и написано. Но, думаю, истина так и не прояснена. В основном суждения высказывались заинтересованными сторонами, имели субъективный, нередко тенденциозный характер. Сторонники правительственной программы рассуждают так: будь она принята, страна вошла бы в рынок плавно, без потрясений и могла избежать нынешнего кризиса. А те, кто за программу Шаталина — Явлинского, считают, что, прими ее Горбачев, он получил бы мощную поддержку демократических сил и можно было бы одним мощным усилием «перескочить кризис», создать полноценный рынок.
И с той и с другой стороны мне предъявляется немало претензий: отдал на заклание правительство Рыжкова, отступил от договоренностей с Ельциным, вначале поддержал, потом выбросил за борт программу «500 дней» и т. д. Правда, в 1994 году расстановка сил уже иная: роль радикалов играют Гайдар и его команда, Шаталин с Абалкиным предостерегают от крайностей монетаризма, Явлинский где-то между этими «новыми полюсами», а политика правительства напоминает гигантский слалом между программами партий, групп и реалиями экономики, находящейся в состоянии нарастающего паралича. Но при всех этих перекосах логика спора и доводы, приводимые сторонами, во многом повторяют баталии 1990–1991 годов. Последние представляют далеко не исторический интерес. Если бы только мы умели извлекать уроки из прошлого!
Что было до «500 дней»
История правительственной программы весны 1990 года восходит к Первому съезду народных депутатов СССР.
В принятом им постановлении «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР» ставилась задача прийти к новой модели экономики, включая радикальное обновление отношений собственности, становление полнокровного социалистического рынка, избавление государства от функций непосредственного вмешательства в оперативное управление хозяйственными единицами. Тогда же было решено создать Государственную комиссию по экономической реформе, и Рыжков предложил назначить ее председателем академика Л.И. Абалкина. Директор Института экономики Академии наук давно слыл «рыночником» и имел в связи с этим немало неприятностей в брежневские времена. Я одобрил этот выбор, поскольку уже неплохо знал Леонида Ивановича, ценил в нем и высокий профессионализм, и в не меньшей мере твердость характера. Признаюсь, своим резким выступлением на Первом съезде он вызвал у меня раздражение. Но очень скоро я понял, что академик правильно оценивает ситуацию.
Был в пользу его назначения и другой веский мотив. Уже первый этап работы над программой экономических преобразований (я имею в виду июньский Пленум ЦК 1987 года) убедил в том, что здесь не обойтись без тесного альянса власти и науки. Академия ведь и раньше привлекалась к разработке всевозможных программ. В институтах сочинялись записки, в ЦК представлялись проекты, сами ученые вместе с аппаратчиками месяцами готовили на загородных дачах доклады для начальства. Но в «святая святых» номенклатуры, в кабинеты вершителей судеб интеллектуалам «въезд» был заказан — ну, может быть, за исключением одиночек.
Теперь же мы собрались «онаучить» управление. Рыжков не раз с гордостью говорил, что в его правительстве три или четыре академика и члена-корреспондента, несколько десятков докторов наук, а кандидатов — чуть ли не каждый второй. Могут иронизировать, что наука не спасла то правительство, но едва ли возможно оспорить сам замысел — привлечь к управлению наряду с опытными практиками одаренных теоретиков. Так вот Абалкин, ставший заместителем премьер-министра, в некотором роде олицетворял упомянутый альянс.
Параллельно с программным обеспечением готовились план и бюджет на 1990 год. Надо было срочно остановить нарастание несоответствия между денежными доходами населения и их товарным покрытием. По предложению Абалкина, с 1 октября 1989 года на срок в 15 месяцев был введен прогрессивный налог на прирост фонда заработной платы, превышающий 3 процента. Так что ученые мужи в правительстве занимались и крупными практическими проблемами. Но основной заботой комиссии стала программа реформы. Было предложено к рассмотрению три варианта.
Первый, так называемый эволюционный, предусматривал постепенное преобразование нынешних форм ведения хозяйства, умеренные структурные сдвиги. Преимущество отдавалось административным методам. Не покушались, по крайней мере, в обозримом будущем, на реформу ценообразования.
Второй вариант, радикальный, включал одновременное снятие всех ограничений для рыночных механизмов, полный отказ от контроля за ценами и доходами, массовый переход к новым формам собственности. По сути дела, это тот самый вариант, который с начала 1992 года начала осуществлять команда Гайдара под лозунгом «шоковой терапии». Так вот, еще тогда было описано, что в наших условиях он сулит разлад денежного обращения и галопирующую инфляцию, резкий спад производства, массовую безработицу, значительное снижение жизненного уровня населения и его расслоение, усиление социальной напряженности. Картинка, хорошо узнаваемая сегодня.
Наконец, радикально-умеренный вариант, предполагающий комплекс предварительных мер для создания стартовых условий перехода к новому механизму; развитие рыночных отношений, но при сохранении регулирующей роли государства, контроля за ценами, доходами, инфляцией; сильная социальная поддержка, особенно малообеспеченных слоев населения.
Комиссия Абалкина предлагала сделать выбор в пользу третьего варианта. В середине ноября в Колонном зале Дома Союзов собралась конференция с участием ведущих ученых: экономистов и руководителей экономических ведомств, членов Политбюро и правительства. Были и мы с Рыжковым. С докладом выступил Абалкин. Несмотря на существенные замечания, изложенная им программа была встречена в целом с одобрением и после доработки нашла отражение в докладе Рыжкова на Втором съезде народных депутатов.
В острой и горячей полемике проходило обсуждение и принятие постановления по докладу премьера. Ельцин, Попов и другие «межреги-оналы», как их тогда называли, выступили против доклада. Такую же позицию занял академик Арбатов. Депутат Филыпин потребовал «использовать наше право на недоверие правительству, а оно может использовать свое право на отставку». Предлагалось также принять доклад Рыжкова к сведению, не определяя к нему отношения. В конце концов Съезд выразил поддержку программе правительства: 1532 голоса — за, 419 — против, 44 — воздержались.
Программа экономической реформы предполагала осуществить в течение 1990 года серьезные меры в интересах насыщения потребительского рынка, без чего невозможно было двигаться дальше. А это, в свою очередь, обязьшало установить более действенный контроль за движением товарной массы и денежных доходов населения. Госплан основную ставку делал на рост рыночных ресурсов товаров и услуг, а задача «связать» излишнюю денежную массу и вывести ее из оборота оказалась отодвинутой на задний план.
Что касается самой экономической реформы, бросалось в глаза одно очень существенное обстоятельство. Ни в письменном докладе, ни в устном выступлении Рыжкова не были проанализированы итоги предшествующего ее этапа, не упоминались принципиальные решения, принятые в 1987 году. По чьей вине они остались, по сути дела, на бумаге? Если оказались недостаточными и тем более ошибочными — надо было сказать, в чем именно, извлечь уроки. Если по каким-то другим причинам — сказать о них. А тут просто сделали вид, будто все начинается с нуля.
Для Абалкина это было более-менее объяснимо. Он только теперь стал у кормила экономической реформы, хотя истины ради надо отметить, что в качестве ученого принимал самое активное участие в разработке программы 1987 года. А вот для правительства… Возникла фигура умолчания, которая красноречивее чего-либо говорила о неудаче преобразований, намеченных в 1987 году, ответственности за это ЦК и Совмина.
А где гарантия, что такая ситуация не повторится? Думаю, эта мысль мелькала у каждого и порождала недоверие правительству Рыжкова. Вижу и свою вину в том, что эти вопросы не были обнажены и, как говорят, поставлены ребром.
Во многих отношениях концепция реформы, выдвинутая в 1990 году, не предусматривала продвижения по сравнению с наметками 1987 года. А в некоторых случаях было даже отступление. Например, сохранялся, хотя и с оговорками, госзаказ. Реформа цен и ценообразования подменялась разработкой и введением оптовых и закупочных цен с начала 1991 года, о розничных ценах умалчивалось. Вместо перехода от централизованного распределения к оптовой торговле ресурсами намечалось увеличивать долю продукции, реализуемой предприятиями сверх государственного заказа по свободным или регулируемым ценам.
Словом, у Травкина были основания заявить на съезде, что «радикальная экономическая реформа, на которую нацеливал страну Первый съезд, теряет свою радикальность, теряет скорость. Реформа снова начинает походить на неспешную штопку прорех в экономике. Даже два месяца назад, — добавил он, — правительство предлагало нам программу более конкретную, более революционных и последовательных действий».
Поддержав программу, Второй съезд фактически проголосовал за доверие правительству, но окончательного решения не принял, поручив ее доработать и «о результатах доложить Верховному Совету». Тем самым мы опять теряли время. В конце 1989 — начале 1990 года экономический кризис в стране начал вступать в свою острую фазу. Уже в декабре произошло абсолютное снижение промышленного производства, ускорился развал потребительского рынка, стал быстро обесцениваться рубль. Стало ясно, что экономика стоит перед серьезными потрясениями.
В конце января 1990 года я разослал членам Политбюро записку отдела экономической политики ЦК, предложив обсудить вопрос о мерах оздоровления финансов и потребительского рынка. Часовой доклад Рыжкова оказался расплывчатым, не давал четкого и ясного ответа на возникшие проблемы. Премьер не скрывал своего недовольства запиской, остро критиковал газеты, телевидение и радио.
Выступивший вслед за ним Слюньков с тревогой говорил о том, что творится в финансово-денежном хозяйстве и на рынке. Его поддержал Медведев, подчеркнув, что обстановка требует экстраординарных мер. Нужна не частичная, а полная реформа ценообразования, причем безотлагательная: в середине 1990 года провести реформу оптовых и закупочных цен, в начале 1991 года — розничных.
Медведев и Яковлев выступили против огульных обвинений в адрес средств массовой информации. Мотив «пробуксовки» в деятельности правительства звучал у Шеварднадзе, у Крючкова и Лигачева.
Помню свое заключение:
— Несмотря на быстро ухудшающуюся ситуацию, правительство действует неэффективно. Отекают ноги от топтания на месте. Народ перестает нас понимать, верить в нашу способность справиться с нынешними проблемами.
Решающее значение приобретает фактор времени: запаса его у нас уже нет. Так вести дело нельзя. Это касается всех, не только правительства. Если будем действовать как в 1988–1989 годах — мы обречены, народ нас уберет. На первый план выйдут другие силы, с другой политикой.
Нужна комплексная экономическая реформа, а не разрозненные мероприятия. Покончить с хозяйственным безвластием. В переходный период не обойтись без мер административного характера там, где они необходимы. Но как бы не переусердствовать. Ведь самое простое в этой ситуации — нажать, прижать, запретить. В этом мы большие мастаки. Хозяйственное безвластие надо одолевать прежде всего на базе экономических методов, развития рыночных форм. И действовать, действовать!..
Как реагировало правительство на быстроухудшающуюся ситуацию и столь острое обсуждение проблем рынка на Политбюро? Там продолжалось противоборство между двумя основными тенденциями, можно сказать, крыльями — традиционно-технократическим и экономическим, тяготеющим к рыночным реформам. Перетягивание каната не могло продолжаться бесконечно. Нужно было делать выбор, приставать к какому-то берегу: возвращаться к прежней централистской системе или решительней идти к новым, рыночным механизмам. Собственно, и выбора-то уже не было, хотя бы потому, что вернуть прошлое никто был не в состоянии.
В первую очередь это поняли тот же Абалкин и Маслюков — технократ, вышедший из «недр» ВПК, человек мыслящий и решительный. Мне стало известно, что во второй половине февраля в записке, направленной Рыжкову, они предложили осуществить крутой поворот к рыночной экономике, приблизить сроки осуществления практических шагов на пути к рынку. Рукоплесканий не последовало, но иного выхода не было. В марте было принято решение о разработке «перехода к планово-рыночной экономике», хотя это надо было сделать еще осенью 1989 года.
Почему же не были употреблены рычаги влияния, которыми мы в то время располагали, чтобы завершить дискуссию в Верховном Совете, принять документ, на основе которого можно было действовать, как того требовала обстановка? Это не простой для меня, да я думаю, и для других вопрос, но я не хочу отделаться упрощенными объяснениями.
Думаю, главную роль сыграли сохранявшиеся тогда колебания, неуверенность в том, что ожидаемое от парламента решение позволит быстро оздоровить экономическую ситуацию. Представьте: чуть ли не ежедневно к тебе прорываются на прием руководители различных сфер производства и культуры с предостережениями против поспешных шагов. Пресса полна аллармистскими комментариями и прогнозами. Рабочие периодическими стачками дают понять, что не потерпят покушения на свой и без того невысокий жизненный уровень. Радикалы точат зубы, предрекая провал «горбачевской реформы». А само правительство пассивно ждет завершения нескончаемых дискуссий в парламентских комитетах, похоже, радо затянуть «паузу», чтобы не ввязываться в рискованное предприятие.
Дважды вопросы перехода к рыночной экономике обсуждались на совместном заседании Президентского совета и Совета Федерации (14 апреля, 22 мая). Академики и директора институтов начали высказываться против недооценки роли централизованного руководства. И эти «отпетые рыночники» испытали на себе давление общественной атмосферы, а она в тот момент оказалась насыщенной страхом перед неведомым чудовищем — свободным рынком. Самые отчаянные сторонники рынка не удержались от того, чтобы создать себе на всякий случай алиби. Если провалится и начнут искать виновных, можно будет оправдаться: «А я говорил!..»
Острые баталии в правительстве вновь развернулись вокруг прежде всего пересмотра розничных цен. До сих пор затрудняюсь объяснить, почему Рыжков более чем за полгода до повышения цен решил объявить об этом по телевидению. Очевидно — сдали нервы. Для опытного политика и руководителя это был серьезный просчет, породивший большие трудности в принятии рыночной программы и ее реализации. Прилавки магазинов были полностью опустошены. Волна недовольства прокатилась по стране, и с огромным трудом удалось немного успокоить общественное мнение.
Наконец в мае состоялось обсуждение доклада Рыжкова об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Этот марафон продолжался несколько недель. Но Верховный Совет снова, в который уже раз, отложил принятие окончательного решения и предложил представить программу к 1 сентября 1990 года, рекомендовав Верховным Советам союзных и автономных республик, местным Советам обсудить концепцию на своих сессиях.
Борьба вокруг перехода к рынку ожесточилась.
«Явление Явлинского народу…»
Трудности рождения рыночной программы обуславливались не только чрезвычайной сложностью самой проблемы, но и растущим отторжением правительства со стороны демократической оппозиции и части общественности. Любой его шаг принимался в штыки, подвергался нападкам и издевкам прессы. А тут появился новый фактор — суверенизация республик, без учета которой нечего было надеяться на успешное продвижение экономических преобразований. Да к тому же новое российское руководство старалось перехватить инициативу в гонке к рынку. Начался лихорадочный поиск новых идей и людей, которые могли удовлетворить его «заказ». На этой почве состоялось «явление Явлинского народу».
С чьей стороны исходила инициатива, кто кого нашел — мне трудно судить. Мало кому известный молодой экономист был привлечен Абалкиным в аппарат комиссии по экономической реформе Совмина Союза, принимал участие в работе над правительственной программой перехода к рынку. Явлинский давал для комиссии свои собственные разработки, отличавшиеся большим радикализмом, акцентом на монетаристские методы. Что-то из них принималось комиссией, что-то отвергалось, главным образом из-за недостаточной реалистичности. Однако это не воспринималось как особая позиция, не выходило за рамки рабочих дискуссий.
Но вот Явлинский получает от Силаева приглашение войти в российское правительство в качестве заместителя премьера по вопросам экономической реформы. Тогда этот вопрос до меня не доходил, да и вообще я его просто не знал. Позднее мне рассказали, что Явлинский советовался с Абалкиным и Рыжковым, получил их согласие. Рассчитывали, что такая «личная уния» экономистов увеличит шанс на сотрудничество между союзным и российским правительством. Не тут-то было. Явлинский предложил российскому руководству свою программу. Она отличалась от предложенной союзным правительством, вдобавок эти отличия искусственно акцентировались, чтобы подчеркнуть превосходство российского подхода, его размах.
В новых условиях без активного участия правительства России и других республик уже невозможно было осуществлять какие-то крупные общественные преобразования. В то же время их нельзя было осуществить и в рамках какой-то одной республики, даже Российской Федерации. Основные нити управления единым экономическим пространством находились все еще в руках центра. Понимая это, в «Белом доме» хотели «подтолкнуть» Союз к ускорению реформ. Выигрыш просматривался во всех случаях. Поддадутся — будет продемонстрирована инициативность и решительность российских властей; станут препятствовать — обнаружится несостоятельность центра.
По прошествии некоторого времени Явлинский попросился ко мне на прием. Не знаю, по поручению Ельцина или по своей инициативе. Скорее первое. Я внимательно выслушал его рассуждения, они мне импонировали, в особенности признание необходимости единого подхода к проведению реформы в рамках Союза.
Дело выглядело так. С одной стороны, правительственная программа перехода должна быть представлена в Верховный Совет Союза к началу сентября. С другой — развернута широкомасштабная работа по линии Российской Федерации. Возникала опасность конфронтации между центром и Россией. Неясна была позиция других республик. Нельзя было исключать, что они поддержат российскую программу по политическим соображениям.
Тогда и родилась идея объединить усилия в разработке рыночной программы. Вскоре появился документ за подписью Горбачева, Ельцина, Рыжкова и Силаева, согласно которому создавалась рабочая группа, в которую вошли Шаталин, Петраков, Абалкин, Явлинский, другие экономисты, а также полномочные представители правительств союзных республик. Концепцию совместной программы поручалось подготовить не позднее 1 сентября.
Подписали документ 27 июля. Первоначально Ельцин предлагал подписать его вдвоем. Подпись Силаева для него не имела значения, а вот то, что подписывает Рыжков, было трудноприемлемым. Заупрямился и Рыжков, но в конце концов уступил, объясняя «нежеланием мешать наметившемуся налаживанию сотрудничества между Горбачевым и Ельциным».
В списке рабочей группы, которой было поручено составление совместной программы, первой стояла фамилия академика Шаталина. По сложившейся традиции это означало, что он является и руководителем группы.
Где-то в конце 1988-го — начале 1989 года академик стал моим неформальным советником по экономическим, и не только экономическим, вопросам. К зарождению концепции Явлинского Шаталин не имел прямого отношения. Он был подключен к этой работе, что называется, на ходу. С большим рвением отнесся к новому поручению, и с этой точки зрения вполне обосновано, что «500 дней» стали называть программой Шаталина — Явлинского. С ней Станислав Сергеевич накрепко связал свой имидж ученого-экономиста и общественного деятеля, а ее непринятие в предложенном виде воспринял чуть ли не как личную трагедию.
Чем это объяснить? Вопрос не простой, тем более что смысл программы «500 дней», по моим наблюдениям и по свидетельству коллег Шаталина, не вытекал органично из тех взглядов, которых придерживался академик. Он не был приверженцем монетаристских концепций, должен был понимать, что не может быть эффективной экономика, основанная на безбрежной стихии рынка, без определенных функций государственного управления, без экономического союза республик, без союзных политических, государственных структур.
Шаталин, я уверен, был сторонником обновления Союза, но не его развала. Остается одно. Видимо, почувствовал, что наступил его «звездный час». Ведь принятие программы Шаталина — Явлинского и отторжение программы Рыжкова — Абалкина должно было иметь своим логическим следствием и выбор того, кому будет поручено осуществление программ. Отсюда и неприязнь к Рыжкову как руководителю правительства, и расхождения с Абалкиным — коллегой по Академии наук, который по государственной линии курировал рыночные реформы и руководил правительственной комиссией по этим вопросам. Не случайно Станислав Сергеевич не раз, то в шутку, то всерьез, говорил, что готов принять на себя роль камикадзе и взяться за осуществление своей программы, если она будет принята.
Я уехал в отпуск, связь с рабочей группой поддерживал через своего помощника Петракова. Из Москвы стали поступать противоречивые и все более тревожные сигналы. Группа работала напряженно, состоялись встречи с представителями республиканских правительств, а вот с союзным Совмином никакого сотрудничества не получалось. Нарастало взаимное неприятие.
По моей просьбе состоялась встреча рабочей группы с Рыжковым и Абалкиным с участием Силаева. Но разговор получился жесткий, по сути дела, непримиримый. Совместная работа над программой фактически так и не была начата. Группа Шаталина — Явлинского продолжала работать сама по себе, отдельно от союзного правительства. А правительство Рыжкова — Абалкина трудилось над собственной программой перехода к рынку в соответствии с поручением Верховного Совета.
Полемика между ними выплеснулась в широкую печать. В ряде газет началась настоящая травля союзного правительства и его руководителя. Обстановка накалялась, и я принял решение вернуться в Москву до окончания отпуска. 30–31 августа созвал совместное заседание Президентского совета и Совета Федерации, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В зал заседаний палат Верховного Совета были приглашены руководители экономических ведомств, ученые, народные депутаты Союза и Российской Федерации — всего около 200 человек.
Руководители республик, как и следовало ожидать, высказали свое предпочтение программе Шаталина — Явлинского, подчеркивая, что без учета роли республик разговоры об экономической реформе могут остаться разговорами. В этом отношении они были правы. Но никто из них не выступил прямо против правительства Рыжкова с требованиями его отставки.
Ельцин, сославшись на результаты нашей с ним пятичасовой беседы, сказал, что «мы идем вместе, проводим общую политику твердо и окончательно, конфронтация недопустима». По его мнению, хаос в стране нарастает не из-за принятия деклараций о суверенитете республик, а как отражение общего кризиса прежней системы управления. Он признал, что руководство Российской Федерации после предпринятой попытки создать собственную российскую программу перехода к рынку убедилось, что реализовать ее в рамках одной республики невозможно.
— Для этого надо развалить Союз, — добавил он. — Мы отказались от нее и предложили президенту страны использовать свои наработки для общесоюзной программы, что и было предметом деятельности согласительной комиссии Шаталина — Явлинского. — Ельцин выразил уверенность, что Верховный Совет России одобрит эту программу, предусматривающую заключение экономического союза между республиками, определит и свое отношение к союзному правительству. Но реализовывать совместную программу, по мнению российского лидера, должен был специальный комитет при президенте, а не правительство Союза.
В этом выступлении было ясно дано понять, что российское руководство не находит правительству Рыжкова места в дальнейшей работе по реализации экономических программ. Об этом же говорил Силаев.
Снова вспыхнула дискуссия о союзном правительстве. Хасбулатов в присущей ему грубой, прямолинейной форме высказался за его отставку. Ему возразили представители других республик. Взволнованный Рыжков заявил, что вопрос в конечном счете не в правительстве, а в борьбе некоторых республиканских лидеров против центра, что было, в общем, близко к истине. Обращаясь ко мне, он заявил:
— Сами беритесь за функции правительства, но следующий удар будет против вас.
Несмотря на то что преобладающее мнение было в пользу программы Шаталина — Явлинского, в ряде выступлений высказывались и критические замечания, нащупавшие в ней слабые точки и изъяны. Член Президентского совета академик Ю.А.Осипьян заметил, что в программе отсутствует такой обязательный признак любого государства, будь то унитарного или федеративного, как наличие федерального налога.
В выступлении Медведева, при общей положительной оценке, высказывалось несогласие с тем, что в программе говорится об экономическом союзе, но обходится вопрос о политическом союзе республик.
— Кто должен практически осуществлять программу оздоровления экономики и перехода к рынку на союзном уровне? — спросил оратор. — Ответ ясен: конечно же, правительство. Если оно будет отстранено от этой функции, ему вообще делать нечего. Такое правительство просто не нужно. И никакой комитет его заменить не может.
Я учитывал перелом, который произошел весной 1990 года в настроениях Рыжкова и особенно Маслюкова в пользу рынка, надеялся, что правительство способно осуществить реформу. А главное — отставка правительства втянула бы нас в новый тяжелый тур политической борьбы. Это была твердая позиция, несмотря на то что иной точки зрения придерживались весьма авторитетные люди из моего ближайшего окружения.
Совместное заседание Президентского совета и Совета Федерации не приняло формальных решений, ибо не располагало даже полным текстом обеих программ. Это был обмен мнениями, закончившийся констатацией: надо продолжить работу над программами и попытаться найти пути их сближения до официального внесения того и другого в Верховные Советы Союза и Российской Федерации.
К сожалению, договоренность об отсрочке внесения программ на Верховные Советы Союза и Российской Федерации оказалась нарушенной. 3 сентября программа «500 дней» была роздана, и депутаты России начали ее обсуждение. Это была попытка оказать давление на центр, противодействовать выработке общей программы, поставить нас перед свершившимся фактом.
Буквально на следующий же день, несмотря на сильную занятость (в этот день состоялось открытие съезда Компартии РСФСР, событие для политической жизни страны немаловажное), я провел детальное обсуждение и сопоставление двух программ, на которое были приглашены их авторы, руководители правительств республик, ученые. Но это уже был не широкий политический форум, а именно деловое, сравнительно узкое совещание. «500 дней» представил и прокомментировал Явлинский. Сделал он это довольно толково. Ему оппонировал Абалкин.
Авторы программ и на этот раз пустились вскачь: всячески выпячивали принципиальные, с их точки зрения, различия между документами, их «несовместимость». Представители же республик, склоняясь больше к поддержке программы «500 дней», все же считали возможным и необходимым сближение.
К этому времени в научных институтах и в моем аппарате был проведен детальный анализ двух программ, и у меня сложилось более полное о них представление. Оно не поколебало оценки программы «500 дней» как предпочтительной, но главный предмет разногласий и разночтений находился за пределами экономики, был заключен в выборе будущей модели нашего общества. Программа правительства исходила не только из экономического союза между республиками, но также из сохранения единого союзного государства с регулирующими функциями и того, что можно назвать основами социалистического строя.
Программа же Шаталина — Явлинского, признавая необходимость экономического союза республик, оставляла за скобками саму проблему сохранения их политического союза и была лишена четкого социального содержания. В ней не было даже упоминания о новом Союзном договоре.
Аргументировалось это авторами тем, что в ней политические вопросы вообще якобы не затрагиваются. Но тут-то и была «маленькая» хитрость. Непредвзятый анализ показывал, что программа фактически исходит из перспективы прекращения существования Союза как единого государства. Да вот только один пример — в программе предусматривалось введение одноканальной налоговой системы, при которой все налоги поступают в распоряжение республик, а затем по устанавливаемой ими квоте делаются отчисления в союзный бюджет. Без федеральных налогов немыслимо существование федерального государства.
Фактически программа «500 дней» как бы предопределяла принципиальные решения, которые были предметом переговоров по новому Союзному договору. Принятие ее с такой посылкой могло дать сильнейший толчок деструктивным, дезинтеграционным процессам, прежде всего в политической сфере. А это, в свою очередь, не могло не отразиться на экономике.
Именно политические проблемы оказались камнем преткновения при определении возможности совмещения программ. Что же касается социально-экономического содержания, непреодолимых препятствий не было. Набор проблем, связанных с переходом к рынку, в основном тот же. Только подходы предлагались различные: крутые и решительные в программе «500 дней», взвешенные, плавные — в правительственной.
Что касается ценообразования, то Рыжков и Абалкин предлагали приступить к поэтапной либерализации цен после того, как будет осуществлена разовая ценовая реформа, то есть установлен более обоснованный уровень оптовых, закупочных, розничных цен и тарифов. Шаталин же и Явлинский предусматривали с начала 1991 года, после некоторых стабилизационных мероприятий, приступать к высвобождению цен.
Короче, несмотря на ехидное замечание Ельцина («Горбачев хочет поженить ежа и ужа»), возможности-для согласования были. К тому же вскоре обнаружилось, что российское руководство, столь ревностно отстаивавшее на словах принципы программы «500 дней», на практике отнюдь не склонно было в тот момент им следовать. Так правительством России были с 1 октября резко повышены закупочные цены на мясо (выше, чем предусматривалось с 1 января 1991 года реформой цен). Не хочу сказать, что это была неправильная, необоснованная акция. Нет, в создавшейся ситуации она была необходимой.
Дело в том, что этому предшествовало резкое повышение закупочных цен на мясо правительствами республик Прибалтики, которое аргументировалось повышением цен на зерно и комбикорма. В результате поток скота из России и Белоруссии устремился на продажу в Прибалтику. Так что меры принимать было надо. Беда в том, что действовали сепаратно, порождая нечто вроде торговой войны, вместо того чтобы решать вопросы на согласованной основе на союзном уровне.
Кстати, повышение закупочных цен на мясо вызвало бурную реакцию у авторов программы «500 дней». Резкие заявления, вплоть до угрозы уйти в отставку, сделал Явлинский. Но дело, как говорят, было уже сделано. Назад такого решения не вернешь.
В чем-то сходная ситуация складывалась и с оптовыми ценами. Было уже известно, что новые цены будут вводиться с начала 1991 года, разосланы прейскуранты. Как вдруг Силаев объявляет о повышении цен на нефть (120 рублей за тонну против 25 рублей до этого и 70 рублей в новом прейскуранте), перечеркивая все договоренности.
Безусловно, программа «500 дней» привлекала своей свежестью, неординарностью постановки проблем перехода к рынку, более конкретной, предметной их проработкой. Но эти достоинства кое в чем перерастали в недостатки. На ней лежала, как выражались некоторые критики, печать экономического романтизма, а если говорить проще, она была недостаточно реалистичной. Проглядывало явное желание представить программу чуть ли не как расписание поездов с указанием, что и в какие сроки должно быть достигнуто с точностью до дней. Уже тогда вызывало сомнение, а сейчас это стало совершенно ясным, что пожелание достичь финансовой и денежной стабилизации народного хозяйства за 100 дней, как предполагалось в программе Шаталина и Явлинского, недостижимо.
С другой стороны, правительственная программа при всей традиционности, округлости, неопределенности формулировок и задач имела некоторые сильные стороны. Более обстоятельно и весомо была проработана программа мер по социальной защите населения при переходе к рынку.
В конце концов я пришел к убеждению, что ни одна из предложенных программ не может быть принята в том виде, в каком она представлена. Сторонники правительства, да и сам Николай Иванович с плохо скрываемой обидой стали намекать или даже прямо заявлять, что Горбачев не защитил свое правительство, чуть ли не предал его под давлением новоявленных демократов.
Одновременно стали раздаваться обвинения, что Горбачев под давлением консервативных сил в партии отошел от реформаторских позиций, его якобы вызвали на Политбюро, устроили там разнос и заставили отказаться от «500 дней». Все это домыслы. Повторю: мое решение было продиктовано стремлением иметь реалистическую программу перехода к рыночной экономике и не допустить той катастрофы, к которой привела страну «шоковая хирургия» Ельцина и Гайдара в 1992^— 1993 годах.
Попытка синтеза
На совещании 4 сентября я объявил мое решение: сесть двум группам вместе под «арбитражем» Аганбегяна и создать интеграционный документ.
Мне было известно, что работа над сведением двух программ шла туго, главным образом из-за нежелания Абалкина принимать в ней участие. Все же она была завершена и направлена в Верховный Совет Союза и российскому руководству. Надо сказать, в новом документе за основу была взята программа Шаталина — Явлинского, но при этом устранены те ее положения, которые предвосхищают будущее решение проблем в Союзном договоре, — снят тезис о верховенстве республиканского законодательства, предусмотрено создание собственной финансовой базы Союза в виде федерального налога и т. д.
Между тем 10 сентября открылась сессия Верховного Совета Союза, а на следующий день Рыжков выступил на ней с докладом о программе перехода к рынку. И он, и Лукьянов мотивировали это тем, что Верховный Совет России обсуждает программу «500 дней». Да, россияне нарушили договоренности, но зачем же на неверный шаг отвечать столь же неверным действием? Пришлось сделать перерыв в дискуссии.
17 сентября она возобновилась. Выступил Аганбегян: толково, со взвешенными оценками, но с сильным «креном» в пользу «500 дней». После него слово было предоставлено Шаталину и Абалкину, обсуждение носило в целом деловой характер, хотя и не обошлось без стычек. Наконец 24 сентября Верховный Совет принял постановление, в котором признал необходимым на базе внесенного президентом проекта, а также двух альтернативных документов и других предложений, высказанных в ходе обсуждения, подготовить единую программу стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике.
Президенту СССР были предоставлены дополнительные полномочия для осуществления этих мер.
27 сентября и 1 октября мною были проведены два развернутых откровенных разговора в Ореховой комнате о том, как дорабатывать документ, «строить мост» в сложившейся политической ситуации. Участвовали Рыжков, Абалкин, Маслюков, Медведев, Примаков, Петраков, Павлов, Болдин, Ситарян, Щербаков. Шаталин появился накоротке 27 сентября, а 1 октября его уже не было — мне сообщили, уехал в Соединенные Штаты для лечения.
В свободной дискуссии все высказались за то, чтобы иметь более сжатый концептуальный документ. Рыжков сетовал на трудности с разработкой плана на 1991 год: Прибалтийские республики в центр ничего не дают. Не представил своих разработок Казахстан. Не занимается как следует планом Россия.
Откликаясь на мое приглашение, некоторые участники совещания высказались и по более широкому кругу общеполитических проблем. Лейтмотив — укрепление центральной власти в ее президентском варианте. Абалкин, например, выступил за то, чтобы реорганизовать правительство и Президентский совет на более широкой общественно-политической основе. Медведев и Павлов — за концентрацию всей исполнительной власти непосредственно в руках президента, хотя в данный момент и без правительства нельзя обойтись. Для меня эти высказывания были важными, поскольку я и сам в это время все больше задумывался над структурой президентской власти.
Первоначально работу над новым вариантом президентской программы перехода к рынку предполагалось поручить тем же: Шаталину, Абалкину, Петракову, Аганбегяну. Но, как я уже говорил, Шаталина в то время уже не было, да и вообще совместная работа из-за расхождений между академиками была практически невозможной. Надо было за это взяться вначале кому-то одному. Свои услуги предложил Абалкин, и я с этим согласился. Но представленный им вариант программы оказался слишком привязанным к правительственному. Тогда к работе были подключены Аганбегян и Петраков. Я и сам взялся за нее, отключившись на несколько дней буквально от всех дел. В итоге был подготовлен и точно в обусловленный срок (15 октября) направлен в Верховный Совет 60-страничный документ. Республикам надо было дать право решать, когда и какие конкретные меры осуществлять. А центр должен был обеспечить общую координацию в проведении реформ. Отсюда и название документа: «Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике».
Три недели шла напряженная работа над текстом «Основных направлений». Внешне могло показаться, что страсти вокруг рыночной программы поулеглись. Но это внешнее впечатление было обманчивым. На деле шло дальнейшее размежевание позиций.
8 и 9 октября Пленум ЦК обсудил положение в стране и задачи КПСС в связи с переводом экономики на рыночные отношения. На сей раз я ограничился кратким вступительным словом, чтобы никто не мог сказать, что Горбачев навязывает свою программу. Доклад с подробными выкладками сделал Ивашко. Выступления на Пленуме вначале были не такими крикливыми, как на предсъездовских пленумах. По-видимому, новые члены ЦК присматривались друг к другу. Но общая атмосфера была все же консервативной. Гидаспов назвал политически ошибочным переход к рынку до заключения Союзного договора. Полозков выступил против гонений на коммуниста — Председателя Совета Министров. Страсти поднакалились при обсуждении проекта постановления. Заранее подготовленный вариант был забракован, в конце концов приняли более или менее удовлетворительный вариант.
На решениях Пленума, всей его работе, конечно, не могло не сказаться то, что руки у консервативных сил в партии и ее руководстве были связаны решениями XXVIII съезда КПСС. К середине 1990 года в партийной массе и во всем народе уже сложилось понимание необходимости и неотвратимости рыночных реформ.
Дискуссия переместилась в плоскость темпов, форм, методов перехода к рынку. Ораторы не скупились на критику программы «500 дней». Приверженцы старого никак не могли примириться с изменением роли партии, ее права определять каждый конкретный шаг в политической и экономической жизни. Отсюда непонимание, нежелание понять, что ЦК и Политбюро не могут играть уже той роли, какую играли раньше. Не случаен лейтмотив ряда выступлений: почему ЦК рассматривает программу рыночных реформ после того, как она обсуждена на Верховном Совете, а не до этого? Навязчивое обвинение президента в том, что он якобы запаздывает в постановке основных проблем реформы в партийных инстанциях, что партия оттесняется от рассмотрения принципиальных вопросов и ставится перед лицом уже принятых решений.
В своем ответе я решительно отвел обвинения в свой адрес как необоснованные, поскольку политика перехода к рынку определена XXVIII съездом КПСС. Что же касается конкретных шагов и решений, входящих в компетенцию президента и правительства, они не могут определяться в партийных инстанциях. На этот счет, кстати, также есть партийные решения.
Вот с какими настроениями пришлось столкнуться на Пленуме ЦК. Они были свойственны и значительной части депутатов, тесно связанных с партийным аппаратом и тяготеющих к депутатской группе «Союз». Этим в значительной степени было предопределено развитие событий в рамках Верховного Совета в последующие месяцы. Исподволь выразителем подобных настроений стал (проявляя, правда, крайнюю осторожность!) Лукьянов. В кулуарах, а затем в открытую стали раздаваться голоса, что президент перестал считаться с верховным представительным органом, предпочитает вершить государственные дела, опираясь на свой аппарат, Президентский совет и Совет Федерации, на прямой контакт с Ельциным.
Чувствовал я, что все больше мечется Рыжков. С одной стороны, он испытывал удовлетворение тем, что прекращается мелочное вмешательство в деятельность правительства со стороны ЦК, за что он ратовал, став Председателем Совмина. А с другой стороны, похоже, ничего не имел против критики президента за то, что тот «не считается» с Политбюро. Тем более выпады против президента и его «команды» со стороны партийных руководителей сочетались с защитой правительства от наступления рыночников и радикальных демократов. Ни Рыжков, ни Лукьянов на Пленуме не выступали. Но интуиция подсказывала, что если они и не солидарны с партийными консерваторами, то кое в чем им сочувствуют. Тогда я воспринимал это как допустимые нюансы в позициях своих коллег. Дальнейший ход событий подтвердил впечатление о начавшейся «состыковке» Рыжкова и Лукьянова.
Многое приходилось обдумывать в осенние дни 1990 года. В становлении президентской власти был сделан лишь первый шаг, ее возможности отправлять высшие исполнительно-распорядительные функции были во многом иллюзорны. Проблему могло решить создание мощного, сравнимого с правительственным, аппарата управления, но это породило бы еще большую неразбериху в высшем эшелоне государственной власти. Что касается Президентского совета, то он не мог быть эффективным инструментом управления и к тому же «обстреливался» в средствах массовой информации как «новое Политбюро». Я уж не говорю о том, что президент был лишен соответствующей структуры власти на местах.
Становилось делом первостепенного значения образование целостной системы распорядительно-исполнительной власти. Я поручил юристам представить предложения на сей счет. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сочинить записку, выстроить на бумаге конструкцию власти «по вертикали» было не так уж сложно. А вот обсудить этот проект, получить согласие Верховного Совета и республик, принять закон, провести выборы, осуществить кадровые назначения — все это было куда как сложно. Речь шла об одном из крупных фрагментов политической реформы, который требовал не менее двух-трех лет. Приступать к нему с кондачка, наскоком значило и дров наломать, и людей насмешить.
Надо учесть, что задача выстроить «президентскую вертикаль» безмерно усложнялась суверенизацией республик, которые ревниво оберегали обретенную самостоятельность и не хотели делиться с центром своими прерогативами. Словом, долгие переговоры были неизбежны, а время поджимало. Оставлять власть в беззубом состоянии граничило с безответственностью. Единственным выходом было просить у законодателей на время дополнительные полномочия.
Между тем в Верховном Совете России продолжала нагнетаться обстановка. Произносились ультимативные речи в пользу программы «500 дней», вплоть до призывов к проведению забастовки, если она не будет принята Союзом. 16 октября в конце дня взял слово Ельцин. Выдержанное в резком, конфронтационном духе выступление его содержало голословные обвинения центра в жесткой линии по отношению к республикам, стремлении ограничить суверенитет Российской Федерации, сорвать переход к рыночным отношениям, сохранить господство административно-командной системы. Оратор не остановился даже перед нелепыми обвинениями в саботаже (правда, было не очень ясно, кому они адресованы) и предъявил нечто вроде ультиматума: либо принимаются его требования, либо — дележ власти, собственности, вооруженных сил. Прозвучали плохо прикрытые призывы к выходу людей на улицы.
В тот же день в «Московских новостях» появилось интервью Гавриила Попова, в котором приоткрывалась внутренняя кухня принятия решений Демроссией. Говорилось о жестких шагах, которые предпримет Председатель Верховного Совета РСФСР, если «500 дней» не будут приняты. Председатель Моссовета грозил и собственной отставкой. Таким образом, скоординированно палили по Кремлю из всех «орудий».
На следующий день я собрал Президентский совет. Крючков, Лукьянов, Ревенко выступили за «должный отпор». Шеварднадзе и Медведев заняли более гибкую позицию: ответить на выпады, но не вступать в лобовое противоборство.
Вначале возникла мысль — выступить мне с интервью по рыночной программе, включив ответ Ельцину. После размышлений решено было проявить выдержку и высказаться 19 октября при представлении «Основных направлений» перехода к рыночной экономике Верховному Совету.
Надо сказать, выступление Ельцина имело довольно неожиданный эффект, прямо противоположный тому, на который было рассчитано. Никаких уличных акций и забастовок не последовало. Решительный тон и грозный внешний вид оратора вызвали недоумение: почему вокруг такого вопроса нагнетаются страсти? Эта эскапада, судя по всему, не получила единодушной поддержки даже в Межрегиональной группе. Верховный Совет России, собравшись на следующий день утром, как ни в чем не бывало продолжал обсуждение текущих проблем.
Обсуждение «Основных направлений» в союзном парламенте тоже проходило спокойно. Выступления радикальных демократов были выдержаны в примирительном, даже, как мне показалось, извиняющемся тоне. Проект программы был принят за основу сразу после моего доклада, против проголосовали лишь 12 депутатов при 26 воздержавшихся из примерно 400 членов Верховного Совета.
Конечно, тут дело нельзя сводить к неожиданному эффекту чрезмерно резкого, крикливого выступления Ельцина. Сам документ получился достаточно взвешенным, учитывающим — разумеется, в пределах возможного — позиции основных политических сил.
Так или иначе, программу перехода к рынку приняли, перевернув одну из драматических страниц перестройки.
Экономика — заложница политики?
При голосовании за «Основные направления» вроде бы произошло объединение депутатов, стоящих на разных позициях. Но результатами были не очень довольны и те и другие. Оказался сильно подорванным авторитет правительства. Усилиями радикальной прессы его стали воспринимать как сборище ретроградов, противящихся спасительному рынку. Само оно встало в позу обиженного, начало объявлять первопричиной экономических неурядиц политическую анархию и безвластие в стране, в которых повинны оппозиция и политическое руководство. То есть президент.
Между тем выполнение принятой программы требовало в первую очередь налаживания конструктивных отношений с республиками, реорганизации и укрепления президентской власти, выдвижения новых людей. Разговор обо всем этом шел на заседании Президентского совета 31 октября. Настроение было мрачноватое.
Я сказал, что даже самые острые оценки ситуации недостаточны. Надо перестать соревноваться на этот счет. Мы все переминаемся с ноги на ногу, а нужно энергично действовать. Сосредоточиться на реализации «Основных направлений», ускорить работу над новым Союзным договором, реорганизовать структуру власти. Не следует затевать перетряхивания всех звеньев со сплошной заменой кадров, но, несомненно, выдвинуть новых людей. Те, кто сомневается в правильности наших действий, и тем более несогласные с ними, должны уйти.
Я согласился с мнением членов Совета, выступавших за диалог с оппозицией, согласие с российским руководством, республиками.
2 ноября Совет Федерации детально рассмотрел проект Союзного договора и поручил форсировать его подготовку. А на заседании Президентского совета (5 ноября) обсуждался план мероприятий по переходу к рынку. Вновь разгорелась общеполитическая дискуссия.
В ответ на утверждение Рыжкова, что экономические трудности порождены ослаблением власти из-за действий оппозиции и республик, намеки на нерешительность высшего политического руководства, Яковлев заявил, что главный источник трудностей не в политике, а в неудовлетворительном состоянии экономики и управления ею, задержке экономических реформ. Критиковал правительство и Медведев. «Это же безумие, — заявил он, — форсировать дорогостоящие социальные программы, закрывать глаза на безудержный рост денежных доходов в условиях, когда началось абсолютное сокращение производства». Ответная реакция Рыжкова и Маслюкова была бурной.
Напряжение в руководстве было сильнейшим, начались колебания и шатания даже в моем ближайшем окружении. Многозначительную позу занял Яковлев, недовольный тем, что я не принял безапелляционно «500 дней». За этим стояло и несогласие с моими действиями по отношению к оппозиции, к партии и ее руководящим структурам, с линией на сохранение обновленного Союза республик.
Шеварднадзе болезненно переносил участившиеся нападки на внешнюю политику со стороны фундаменталистов, народных депутатов из числа «полковников».
Я решил встретиться с Ельциным, откровенно обсудить создавшееся положение и возможные выходы из него.
Встреча состоялась после октябрьских праздников и была очень непростой. Он жаловался на «игнорирование интересов России», «ущемление прав российских властей» и т. д. В свою очередь я сказал, что в результате его попыток ослабить и обескровить Союз, перетянуть одеяло на себя мы дошли до крайней точки, за которой начинается развал страны. В этой беседе предложил Ельцину заявить ясно и недвусмысленно, что он за сохранение Союза республик как единого государства, перенести акценты с одностороннего подчеркивания суверенитета республик на необходимость сохранения и обновления Союза. Ведь распад государства будет трудно остановить на границах Российской Федерации. Болезнь суверенизации начинает охватывать и автономные республики. Подозрения, что мы хотим подстегнуть их в борьбе с союзными республиками, смехотворны. Мы занимаем принципиальную позицию как в отношении Союза, так и в отношении единства Российской Федерации. То и другое неразрывно взаимосвязано.
Обсудили мы и другие темы, в том числе относящиеся к вопросам рынка. В общем, несмотря на всю остроту дискуссии, она позволила несколько ослабить напряженность в отношениях союзного центра и России.
Едва удалось «нащупать», не скажу больше, путь к большему взаимодействию с Ельциным, как пришлось выдержать атаку народных депутатов, входивших в группу «Союз». Она, по сути дела, служила легальным парламентским прикрытием внутрипартийной консервативной оппозиции. 14 ноября, при открытии сессии Верховного Совета, депутаты отказались обсуждать повестку дня, развернув дискуссию по текущему моменту. В острых, доходящих до истерики выступлениях критиковались положение в стране, действия правительства, президента.
Сошлись на том, чтобы пригласить президента и провести общеполитическую дискуссию. 16 ноября я выступил перед депутатами со своими оценками и предложениями. Но к успокоению это не привело. Дискуссия, как говорят, пошла вразнос. Не оставляли буквально живого места от правительства, да и от президента. В яростной критике начало просматриваться сближение крайностей — фундаменталистов и радикалов.
В конце дня в комнату рядом с залом заседаний зашли Назарбаев, Каримов, другие руководители республик, кроме Ельцина. Они считали необходимым принятие срочных и решительных мер, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Прежде всего — укрепить президентскую власть и механизм более эффективного ее взаимодействия с республиками. Наши соображения в этом смысле совпали. Назарбаев вместе с другими стал формулировать свои предложения. Я же поехал к себе готовиться к утреннему выступлению.
Мне пришлось использовать заготовки относительно реорганизации высшего звена управления страной. К тому времени они были уже на бумаге и апробированы на рабочих совещаниях, заседаниях Президентского совета и Совета Федерации, в частности при обсуждении проекта Союзного договора. Это — реорганизация правительства, превращение его в Кабинет министров, работающий под непосредственным руководством президента, усиление роли Совета Федерации, придание ему более четкого официального статуса, создание Совета безопасности и прекращение деятельности Президентского совета.
Закончил я работу к четырем часам ночи. Утром позвонил Рыжкову, кратко информировал его о том, какие изменения буду предлагать в структуре государственных органов, в том числе по статусу правительства. В принципе они для Рыжкова не были новыми. Более того, Николай Иванович сам поднимал вопрос о реорганизации исполнительной власти. Я об этом говорю так подробно, потому что и тогда и сейчас на этот счет гуляет много домыслов, главный из которых: Горбачева на этот шаг якобы понудило Политбюро.
Заседание Верховного Совета началось утром прямо с моего выступления. Продолжалось оно не более 20 минут, но реакция на него была совершенно иная, чем два дня назад. Ответом на содержавшиеся в нем предложения были дружные и, я уверен, искренние аплодисменты зала. Интересный феномен — столь резкий переход от полного, можно сказать, неприятия к горячей поддержке. Думаю, сыграло роль осознание нависшей опасности хаоса в стране с непредвиденными и непредсказуемыми результатами. Консервативная часть депутатов увидела, что Союз сохраняется, единая президентская власть даже укрепляется. Чего-то они добились, покритиковали, «пощипали» президента. Вместе с тем увидели, что дело может зайти слишком далеко, если радикальным демократам удастся свалить правительство, подорвать центр. Конечно, они хотели бы добиться большего, изменить политику, заставить меня отказаться от экономических и политических реформ. Но, видимо, поняли, что это недостижимо.
Радикальные демократы, по крайней мере, те из них, кто был способен непредвзято воспринимать происходящее, не могли не увидеть, что Горбачев полон решимости двигать процесс реформ. Они тоже почувствовали, что добились какого-то результата, хотя их главная цель — свалить правительство — оказалась недостигнутой. Это будет уже другое правительство, и можно побороться за то, каким ему быть.
Представители республик тоже, по-видимому, поняли, что критика центра вот-вот перейдет ту грань, за которой начнется его разрушение, и породит обратную реакцию с непредсказуемыми последствиями. А в предложениях Горбачева роль республик в системе Союза возрастает.
Одним словом, внесенные мною и дружно одобренные Верховным Советом предложения сняли напряжение, возникшее к этому моменту в стране и в политическом руководстве. Но это не устранило глубоких противоречий в позициях основных общественно-политических сил, что не замедлило проявиться на Четвертом съезде народных депутатов. Достаточно напомнить о сюрпризе, который был преподнесен при открытии съезда 17 декабря депутатской группой «Союз». Я имею в виду «совершенно спонтанное» выступление Умалатовой с предложением включить первым в повестку дня вопрос о вотуме доверия президенту. Весьма любопытными оказались результаты голосования. В числе 400 депутатов, проголосовавших «за», оказались крайние фланги и Межрегиональной группы, и фракции «Союз». Ельцин, Попов, Станкевич и многие их сторонники проголосовали «против».
Весьма напряженным оказалось обсуждение моего доклада о текущем моменте, поправок к Конституции в связи с изменениями в структуре органов власти. Ошеломило всех демонстративное заявление Шеварднадзе об отставке, сделанное прямо на съезде без какого-либо предварительного разговора со мной. В острой схватке прошло принятие постановления об общей концепции нового Союзного договора. Дело дошло до поименного голосования о сохранении Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. По моему предложению съезд принял решение провести референдум, и он, как известно, состоялся 17 марта следующего года.
Политические события ноября — декабря в определенной степени задержали осуществление «Основных направлений». Не могло этими вопросами в полной мере заниматься правительство, ибо для всех было ясно, что оно в прежнем виде существовать не будет. В связи с предстоящим образованием Кабинета министров я начал раздумывать и обсуждать с коллегами его функции, структуру, да и персональный состав.
Трудней всего было, разумеется, решить вопрос о премьер-министре. С Рыжковым на съезде я этот разговор не заводил. Хотя по всему его поведению и высказываниям видел, что он претендовать на эту роль не собирается. Да это было бы и невозможно согласовать с Советом Федерации, а такая процедура предусматривалась измененной Конституцией. Но вопрос отпал сам собой ввиду тяжелого заболевания Рыжкова. В ночь с 25 на 26 декабря у Николая Ивановича произошел обширный инфаркт, который надолго вывел его из строя.
Все мы, кто вместе работал с ним, были потрясены случившимся. По-человечески было жаль Николая Ивановича. Со мной он разделял все заботы и труды по осуществлению перестройки. Обозначились расхождения, особенно в последние годы, но я сохранял к нему уважительное отношение. Стремился понять его позицию, переубедить в том, в чем он, по моему мнению, ошибался или поддавался чьему-то влиянию. Зная не только сильные его стороны и ценные человеческие качества, но и слабости, никогда не пытался оттолкнуть его в лагерь недругов, отгородиться от него, отречься.
И предварительный зондаж, и обмен мнениями по вопросу о преемнике Рыжкова на Совете Федерации показали, что наибольшее предпочтение отдается кандидатуре В.С.Павлова. Решающую роль играло соображение, что это финансист-профессионал. Именно такой глава Кабинета и нужен в условиях, когда исполнительную власть возглавляет президент. Знали Павлова, с ним взаимодействовали руководители республик, и это тоже подкупало: ведь премьеру придется прежде всего работать с ними. Поддержали эту кандидатуру Рыжков и Маслюков, с которыми я советовался. Ельцин не был в восторге, но сказал, что не будет возражать.
Высказывались и определенные сомнения, особенно в узком кругу. Павлов ничем не проявил себя как политический деятель, его позиции в этом отношении не ясны. Недостаточно самостоятелен, излишне приспосабливается к обстановке. Отмечались проявляющиеся иногда импульсивность, необдуманность действий и высказываний. Рыжков говорил, что до него доходили слухи об известной слабости министра финансов к алкоголю.
Думаю, что тогда переоценил положительные качества Павлова и допустил ошибку, не придав значения сигналам о негативных его качествах. Наверное, определенное воздействие имела дружная поддержка его кандидатуры членами Совета Федерации.
11 января я подписал Указ о назначении премьер-министра и его первых заместителей, а 14 января они предстали перед Верховным Советом СССР и были утверждены им. В последующие дни Верховный Совет утвердил руководителей силовых министерств, Министерства иностранных дел, других министров. Не согласился Верховный Совет с предложением о назначении зампредом по внешнеэкономическим делам Каменцева, были и другие потери, но в конечном счете Кабинет сложился. Это было первое правительство, сформированное на основе предложений президента, согласованных с Советом Федерации.
Кабинет Павлова
Формирование Кабинета затянулось еще на несколько недель. Какое-то время потребовалось для формирования Совета безопасности, перестановок в президентской администрации. Я принимал все меры, чтобы не допустить заминки в управлении. Но уже неумолимо сказывались разлаженность и разнобой, вызванные стихийной суверенизацией, нарушением хозяйственных связей. За январь — февраль 1991 года произведенный национальный доход снизился по сравнению с соответствующим периодом 1990 года на 10 процентов, объем промышленной продукции — на 4,5 процента, закупки продуктов животноводства — на 13 процентов. Спад охватил не только группу «А», но и производство предметов потребления, которое в последние годы шло по восходящей. Экономика быстро втягивалась в полосу экономического кризиса.
Повторяю: кризис, по-видимому, был неизбежным. Однако то, что он стал принимать столь острые формы, было обусловлено не только объективными причинами, но и неадекватностью наших действий, ошибками в экономической политике и управленческой практике. Вакханалия денежных доходов так и не была остановлена (за январь — февраль 1991 года денежные доходы населения возросли на 19 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года). И это при сокращении производства, которое теперь затронуло и потребительский сектор. В план закладывалась рыночная несбалансированность. Нарастала скрытая инфляция. Начал разваливаться бюджет страны. Россия, а за ней и другие республики стали проводить в жизнь систему одноканального поступления налогов в союзный бюджет.
Под новый, 1991 год российское руководство решило сократить отчисления Союзу на 100 миллиардов рублей. Ельцин сразу же после этого уехал в Якутск, и я узнал об этом решении от депутатов Верховного Совета России и из сообщений прессы. Кстати, так действовал Ельцин очень часто: нашкодит — и тут же в поездку по областям.
Говоря о причинах кризиса, нельзя не упомянуть об отказе с 1991 года от системы многостороннего клиринга в отношениях с бывшими социалистическими странами, введении мировых цен и расчетов в свободно конвертируемой валюте. С точки зрения перспективы постепенный переход на условия мирового рынка был неизбежным, но единовременное, разовое решение этой задачи оказалось мерой ошибочной, ущербной и для нас, и для наших партнеров.
Накануне Нового года по предложению правительства я подписал несколько указов по финансовым вопросам, в которых, как потом оказалось, были заложены серьезные изъяны. Это относится, например, к созданию внебюджетных фондов стабилизации экономики. Это было, по сути дела, «генерирование» денег из ничего. Они не имели реального покрытия, а потому усиливали инфляцию.
20 января, буквально через несколько дней после утверждения в должности премьер-министра, Павлов реализовал еще одну заготовку, вызвавшую бурную реакцию в обществе, — обмен крупных 50- и 100-рублевых купюр на новые. Аргументировалось это тем, что большое количество таких денежных знаков накопилось в руках у спекулянтов, преступников в сфере теневой экономики, ушло за границу. Расчет оказался иллюзорным. Пытаясь найти оправдание для этой в общем-то бесплодной, но хлесткой операции, премьер в середине февраля в интервью газете «Труд» в сенсационном духе сообщил о якобы имевшем место заговоре западных банков, направленном на дезорганизацию денежного обращения в СССР.
На первых порах я всячески поддерживал самостоятельность и решительность Павлова, брал его под защиту. Но уже тогда у меня стали закрадываться сомнения относительно его профессионализма. В дальнейшем я все больше убеждался, что здесь допущена ошибка. Ни по кругозору, ни по глубине понимания вопросов, ни даже по профессиональным качествам Павлов не подходил для этой роли, особенно в сложной и противоречивой обстановке, которая складывалась в 1991 году.
Одной из самых неотложных задач была реформа розничных цен. Не проводить ее было уже невозможно. Благоприятный момент (1988–1990 годы) был упущен, и приходилось делать это в резко осложнившейся обстановке.
Собственно говоря, переход к новой системе цен уже начался — были введены новые закупочные цены на зерно и мясо, действовали новые прейскуранты оптовых цен во внутрипромышленном обороте. Надо было срочно вводить и новые розничные цены, чтобы вывести из-под удара предприятия, выпускающие конечную продукцию. Замедлялся весь экономический оборот. В центр шли тревожные запросы. Помню, сигнал бедствия подали мне из Ленинграда Анатолий Собчак, из Москвы — Гавриил Попов.
Вместе с тем Кабинет министров нуждался хотя бы в нескольких неделях, чтобы подготовить продуманные решения. Всякая ошибка здесь была чрезвычайно опасна. Сказывалась и политическая злоба дня. Январские события в Литве, ультимативные требования Ельцина о моем уходе в отставку, референдум 17 марта — все это вынуждало откладывать реформу цен.
Для проведения ценовой реформы надо было преодолеть еще один «высоченный» барьер — добиться согласия республик. Эту проблему обсуждали 12 февраля на Совете Федерации и пришли к единому мнению: действовать надо безотлагательно, быстро, согласованно. Начались переговоры с республиками по основным принципам и параметрам повышения розничных цен, вопросам социальной защиты, об образовании единого союзно-республиканского фонда поддержки населения. Дело в том, что из-за различий в структуре народного хозяйства республик возникало несоответствие между поступлением средств от повышения цен и расходами на социальную компенсацию. С девяти республик надо было взять в этот фонд порядка 80 миллиардов рублей, в том числе у России — 56 миллиардов, а шести республикам дать для компенсации 16 миллиардов. Кроме того, выделить 66 миллиардов рублей для компенсации доходов работников, занятых в общегосударственных системах. Переговоры шли непросто. Прибалтийские республики вообще ушли от подписания соглашения, вступили на путь сепаратных действий.
Определенные трудности возникли и с Россией. Конкретные проработки были согласованы. Соглашение подписали Хасбулатов и Силаев, наверняка оба сделали это с согласия Ельцина. Но тот вдруг начал открещиваться, объявил реформу не отвечающей интересам России. Вероятно, надоумил кто-то из советников. Так соглашение и вышло за подписями всех высших должностных лиц республик, только от России стояла подпись заместителя Председателя Верховного Совета.
Наконец 19 марта Кабинет министров принял решение, и в последующие дни были опубликованы обширные материалы по этому вопросу.
Каковы же итоги реформы цен, к которой так долго шли? Несколько нормализовался рынок. На прилавках магазинов, опустошенных в предшествующий период, появились мясо, молоко, кондитерские изделия, многие товары широкого потребления. Правда, эта стабилизация была хрупкой, неустойчивой. Тут надо иметь в виду, что центральное правительство уже не владело в должной степени экономической ситуацией, финансовыми рычагами, перешедшими в большой степени в руки республик. Так и не удалось установить сколько-нибудь действенного контроля и за безудержным ростом денежных доходов, равно как за использованием дохода, полученного от повышения цен.
Республики сорвали перечисление средств в фонд социальной поддержки населения, во внебюджетные фонды стабилизации экономики. Дело было не только в нежелании республиканских властей. Значительную часть этих средств предприятия и организации пустили на непредусмотренное повышение зарплаты. Начиналась самовольщина, грозившая обесценить любые попытки централизованного регулирования.
Надо сказать, что тогдашняя реформа не имела ничего общего с «шокотерапией». Сохранялись действующие цены на медикаменты, некоторые виды тканей, обуви, трикотажные изделия, игрушки, бензин, керосин, электроэнергию, газ, уголь, а также на водку. На большую группу основных товаров народного потребления были установлены предельные размеры повышения цен. Значительно расширен круг товаров, реализуемых населению по регулируемым розничным и договорным (свободным) ценам (к середине 1991 года на долю последних приходилось до 40 процентов товарооборота). Это облегчило в будущем переход к свободному ценообразованию. Страна могла бы избежать одноразового высвобождения цен, если бы последовательно проводились намеченные меры по финансовому и денежному оздоровлению.
Пожалуй, главный недостаток реформы ценообразования 1991 года связан с тем, что она разрабатывалась и осуществлялась как бы вне общего контекста экономических преобразований. Начали, провели как отдельное крупное мероприятие и занялись другими делами. Тут проявился образ мышления Павлова как премьер-министра. Он за многое брался, но действовал импульсивно, как бы вразброс, бессистемно. Поэтому я еще в феврале поставил вопрос о необходимости разработки правительством «программы минимум». Речь шла не о ревизии «Основных направлений», а о создании условий для ее выполнения. Фактически это должна была быть антикризисная программа. Об этом, в частности, шла речь на первом заседании Совета безопасности 27 марта 1991 года.
Читатель должен принять во внимание, что каждый шаг в экономике доставался к тому времени ценой огромных политических усилий. Буквально все на свете становилось предметом конкуренции, за которой стояла борьба за власть. Не обошла эта участь и экономическую реформу. Более того, она стала главным полем «боевых действий», развернутых радикалами.
22 апреля Павлов доложил на сессии Верховного Совета антикризисную программу и сделал это довольно удачно.
Не могу не поделиться одним своим наблюдением. Чем больше я углублялся в сопоставление экономических программ — союзной и российской, — тем больше убеждался, что в них немало общего. Это служило лишним доводом в пользу того, чтобы двинуться друг другу навстречу, отодвинув на второй план узкопартийные, узкополитические цели и тем более личные амбиции.
Опыт последних месяцев и недель показал, что конфронтационны-ми методами, силовым давлением, ультиматумами проблем не решить. Они лишь усугубляют обстановку, увеличивают опасность распада страны, погружения ее в пучину междоусобной борьбы. На заседании Совета Федераций 8–9 апреля я подчеркнул, что сейчас нет ничего более важного, чем задача приостановить процесс распада. Тем самым подчеркивалась особая значимость антикризисной программы. Работа над ней ускорилась, особенно с началом Ново-огаревского процесса[17]. К ней активно подключились республики, и, несмотря на немалые трудности, работа была успешно завершена. 5 июля я, как Президент Союза ССР, ее утвердил, и она вышла в свет под названием «Программа совместных действий Кабинета министров СССР и правительств суверенных республик по выводу экономики страны из кризиса в условиях перехода к рынку».
Июньский «демарш»
На заключительном этапе работы над антикризисной программой разыгрался большой скандал в Верховном Совете СССР, спровоцированный безответственными действиями Павлова и «силовых» министров.
Павлов заявил, что у Кабинета министров нет прав безотлагательно и оперативно решать различные вопросы. Это относится к таким насущным проблемам, как уборка урожая. Это относится к формированию программы на 1992 год.
Премьер попросил предоставить правительству на 1991 год право законодательной инициативы и широкие полномочия. Оговорился, что предоставление таких полномочий не означает выхода Кабинета министров из-под контроля органов законодательной и президентской власти. Кабинет будет безотлагательно уведомлять о принятых решениях Верховный Совет СССР или Президента СССР.
Из зала посыпались вопросы. Депутаты стали допытываться: «Зачем вам такие полномочия, если ими располагает президент, под непосредственным руководством которого вы работаете?», «Выходите вы с этим предложением от Кабинета министров или это согласовано с президентом?», «Как относится президент к тому, что вы требуете эти полномочия, не продиктовано ли это вашими расхождениями с президентом?». Единственное, что можно было уловить, — это то, что вопрос о полномочиях Кабинета не новый, он раньше ставился премьер-министром, но на этот раз с президентом не обсуждался.
Страсти еще более накалились после выступления председателя планово-бюджетной комиссии Кучеренко, выдержанного в драматических, на грани паники, тонах. Этого как будто и ждали ястребы из группы «Союз». На трибуну один за другим стали подниматься Алкснис, Блохин, Коган, Чехоев, Сухов. Они почувствовали, что появилась возможность продолжить разыгрывание старой пластинки, которую недоиграли на осенней сессии Верховного Совета и Третьем съезде народных депутатов. Что можно поспекулировать на противопоставлении премьер-министра и президента, поддержать премьера, настроенного действовать самостоятельно и в более жестком ключе.
Подлило масла в огонь сомнительное замечание Лукьянова, что «надо отделить оперативно-распорядительную деятельность Кабинета министров от деятельности самого президента, его указов. В этом мы заинтересованы прежде всего, и это можно сделать в рамках тех полномочий, которые мы дали Президенту СССР». Тут был уже не намек, а прямое согласие с тем, что Верховный Совет вправе и уже вроде должен, откликаясь на обращение премьера, отобрать часть полномочий у президента.
Обсуждение не ограничилось экономическими проблемами, перекинулось в политическую плоскость. Блохин выступил с требованием заслушать руководителей министерств обороны, внутренних дел и КГБ, сославшись на то, что об этом была предварительная договоренность. Лукьянов поспешил заявить, что таких предложений не поступало, но, если есть вопросы, министры здесь и могут ответить. Договорились сделать это во второй половине дня на закрытом заседании Верховного Совета.
Но когда в 16 часов началось заседание, упомянутые министры стали выступать с развернутыми, хорошо подготовленными выступлениями, особенно Крючков. Именно тогда он запустил в оборот термин о так называемых «агентах влияния», навязчиво пугая депутатов массированным давлением со стороны западных спецслужб. Впрочем, без этой темы не обходилось ни одно выступление председателя КГБ.
А как чувствовало себя и действовало демократическое крыло? Радикалы в определенной мере испытывали наслаждение от того, что президента вновь прижимают и хлещут. Большинство из них предпочли отмолчаться. Все же некоторые, хоть и робко, выступили против предоставления дополнительных полномочий премьеру. Более четкую позицию заняли Рябченко, Лубенченко, Юдин.
Демократы зашевелились, а их лидеры пришли в движение лишь после того, как на заседании выступили силовые министры.
Только два года спустя после этих событий из статьи, опубликованной Гавриилом Поповым, стало известно о его срочной встрече с американским послом Мэтлоком и передаче через него (вроде бы для Ельцина, находившегося в то время в США) информации о начавшемся заговоре реакционных сил в Москве. Причем с явным намеком, что эти события происходят с ведома и, больше того, чуть ли не по сценарию и под руководством самого Горбачева. Конечно же, эта информация предназначена была прежде всего для Буша, который, по мнению Попова, и предотвратил тогда этот заговор.
На том злополучном заседании Верховного Совета 17 июня меня не было. Я не придавал особого значения докладу премьера и не был информирован о его намерении поставить вопрос о дополнительных полномочиях для Кабинета. С утра я участвовал в работе Учредительного съезда Крестьянского союза, во второй половине дня проводил заседание Подготовительного комитета, на котором предполагалось подписание проекта Союзного договора для передачи его в Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик. Об этом у меня был накануне разговор с Лукьяновым, и он передал его содержание депутатам, сказав, что в ближайшие дни Горбачев найдет время побывать на сессии Верховного Совета.
Вечером у меня состоялся крутой разговор с Янаевым, Павловым и Лукьяновым по поводу каши, которую они заварили. Павлов признал ошибку, объясняя свое поведение тем, что, дескать, вопросы эти не новые, он не раз их поднимал в разговоре со мной. Объяснял это и тем, что взвинчен развалом экономики, бюджета, налоговой системы, что все ускользает из рук. Хотя сам в докладе уверял, что правительство контролирует положение и в экономике, и в обществе.
Обратил я внимание и Янаева на его пассивность на Верховном Совете. К сожалению, не смог тогда что-то конкретно сказать Лукьянову, поскольку не был знаком с нюансами его замечаний и высказываний. Только последующее внимательное ознакомление со стенограммой сделало для меня ясным, что он вел двойную игру. В общем, надо было как-то погасить разгоревшийся скандал.
21 июня, когда Верховный Совет собрался на очередное заседание, Я выступил с разъяснением. Премьер выглядел не лучшим образом, но я не хотел обострять ситуацию. Не оправдывал его демарша, но и не ставил вопрос о каких-то санкциях.
Как же все-таки оценить то, что произошло в Верховном Совете СССР между 11 и 21 июня? Это, конечно же, была новая атака на президента и его политику со стороны реваншистских сил. Ясно и то, что Лукьянов сочувствовал «союзовцам», по сути дела, поощрял их нападки на президентскую политику. По всему чувствовалось, что выступления и тактика действий последних были скоординированы и продуманы.
Атака реваншистов была отбита. Но вся эта история обострила ситуацию в стране.
Часть III. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Отправные пункты
Едва ли нужно доказывать, что перестройка, кардинальные реформы в экономике и политической системе были бы невозможны без соответствующих изменений во внешней политике, создания благоприятной международной среды. Для начала надо было хотя бы расчистить снежные заносы «холодной войны», ослабить давление проблем, связанных с нашей вовлеченностью в конфликты в разных точках земного шара, с участием в изнурительной гонке вооружений. Понять, что как внутри страны, так и на международной арене «дальше так жить нельзя».
К тому времени стали очевидными признаки надвигавшегося кризиса. Потеря темпов роста, техническое и технологическое отставание от развитых государств, низкий уровень качества жизни людей говорили в пользу серьезных перемен. Представления о необходимости серьезного изменения внешней политики сформировались у меня под воздействием многих факторов еще до моего избрания генсеком. Не стану утверждать, что к этому моменту в портфеле лежал детально разработанный план действий, но была достаточно ясная цель и, в общем виде, наметки первых шагов. Так что перестройка начала продвигаться сразу внутри и вовне, успех на одном направлении подталкивал движение на другом, неудача, соответственно, тормозила дело на обоих.
Но как ни важны образ мыслей и намерения «первого лица», генсек не мог самостоятельно распорядиться внешней политикой. Тем более что речь-то шла не о каких-то мелочах, а о повороте руля почти на 180 градусов. Предстояло убедить в необходимости этого коллективное руководство страны, а значительную его часть просто обновить. И этим я занялся, о чем читатель уже знает.
Дело было не только в руководстве. Аппарат международных отделов ЦК, Министерства иностранных дел, КГБ, внешнеторговых организаций был в целом консервативен и идеологически «вымуштрован» не меньше, а может быть, даже побольше чиновничества внутренних ведомств. Хотя «на международном фронте» было немало аналитиков и специалистов, настроенных на волну перемен. Одной из первых моих задач стало выдвижение этих людей к руководству внешней политикой.
Но и после этого дела менялись медленно. Уже были решения XXVII партийного съезда и программа продвижения к безъядерному миру, произошли перестановки кадров, а «дипломатическая телега» двигалась со скрипом, по инерции прошлых импульсов, старой наезженной колее.
В конце мая 1986-го вопрос о новой роли советской дипломатии был вынесен на обсуждение совещания в МИДе, куда были приглашены все послы, московская «дипломатическая элита». Сначала на совещании заслушали и обсудили доклад министра, а затем (28 мая) выступил перед международниками и я. Лейтмотив выступления: внешнеполитические структуры идут не в ногу, отстают от замыслов и практических шагов политического руководства. От этой встречи я веду отсчет началу полномасштабной работы по претворению в жизнь нового мышления.
Трудно сказать, как бы разворачивались процессы в мире, так как наши шаги в рамках новой политики наталкивались поначалу на глухую стену непонимания и неприятия политических центров Запада. В конечном счете решающее значение здесь имело осознание широкими кругами общественности того, что мир стоит у края пропасти, нельзя допустить, чтобы дела шли и впредь, как до сих пор. Политики не могли с этим не считаться.
Кто-то из философов сказал, что самое важное — встретить не сочувствие, сострадание и т. д., а понимание. Добиваясь этого в первую очередь, я постарался изложить свое видение необходимых перемен в книге «Перестройка: новое мышление для страны и для мира». В ней уже названы теоретические постулаты, на которых, по моему убеждению, должен основываться новый международный порядок, приходящий на смену послевоенному. Это — взаимозависимость стран и народов, баланс интересов, свобода выбора, совместная ответственность и решение глобальных проблем современности.
Мы осознали необходимость преодоления искаженных представлений о внешнем мире, многие десятилетия противопоставлявших нас ему, что негативно сказывалось не только на экономике, но и на общественном сознании, науке, культуре, интеллектуальном потенциале страны.
Мы поняли, что в современном взаимозависимом мире невозможен прогресс общества, отгороженного от мирового развития глухими государственными границами и идеологическими заборами. Любое общество ныне может полнокровно развиваться только во взаимодействии с другими, оставаясь при этом самим собой.
Мы дали себе отчет в том, что нельзя обеспечить безопасность своей страны, не учитывая интересов безопасности других, и нельзя в ядерный век построить надежную безопасность военными средствами. Это побудило выдвинуть принципиально новую концепцию всеобъемлющей безопасности, охватывающей все стороны отношений между народами и государствами, включая их человеческое измерение.
Теперь эти тезисы общеизвестны. Миллионы раз звучали они в речах, описаны в статьях, развернуты в научных монографиях. Тогда непросто и не сразу воспринимались они у нас и за рубежом, нелегко давалась каждая попытка претворить их на практике. Вспоминаю мое заявление от 15 января 1986 года с предложением полностью избавить человечество от ядерной угрозы. Оно было встречено с подозрением и сарказмом, как очередной пропагандистский трюк в традиционной советской «борьбе за мир». И мало кто тогда верил, что удастся за несколько лет реально продвинуть дело ядерного разоружения, покончить с «холодной войной», засыпать ров, отделявший Восток от Запада, развязать, а не разрубить другие гордиевы узлы мировой политики.
Самым «тугим» из них было, бесспорно, военное соперничество сверхдержав. С помощью диалога и разумных компромиссов удалось улучшить советско-американские отношения, что создало перелом во всей международной атмосфере.
Признание допущенных ошибок и приглашение к добрососедству позволило устранить отчуждение между СССР и Китаем. Был начат плодотворный диалог с Японией. Владивостокская и Красноярская инициативы разморозили окна на огромные и многообещающие просторы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Встречи с лидерами европейских стран, крупные меры по снижению уровня военного противостояния, освобождение от «сверхдержавных пут» восточноевропейских государств, новые импульсы, которые получил общеевропейский процесс, — все это способствовало возрождению роли континента как фактора позитивных перемен во всем мире.
Переговорные процессы, при всем сопротивлении, на которое они наталкивались, впервые дали результаты, положив начало урегулированию региональных конфликтов и устойчивому улучшению международного климата. Если раньше над нашими отношениями с Западом довлело понятие «советская угроза», то уже к началу 1989 года об этом жупеле продолжали твердить лишь замшелые ретрограды. Десятилетиями нагнетавшийся страх перед СССР начал рассеиваться. Поразительным феноменом, во многом неожиданным для нас самих, оказалась реакция в «цитаделях антисоветизма» на землетрясение в Армении. Сочувствие и помощь, которые мы приняли тоже с небывалой открытостью и признательностью, стали символом коренного изменения международной обстановки.
Новая внешняя политика открыла возможности контактов и взаимодействия с самыми разнообразными силами современного мира — на Западе, Юге, Востоке. Оказалось, мы можем находить общий язык и взаимопонимание с представителями таких кругов, с которыми совсем недавно вроде бы ничего общего у нас быть не могло.
Впервые за послевоенные годы, да, пожалуй, и за всю историю безопасность страны укрепилась не за счет наращивания военной мощи, увеличения и без того колоссальных затрат на оборону. Напротив, мы смогли приступить к пересмотру своей военной доктрины в однозначно оборонительном духе, начали сокращать вооруженные силы и вооружения, приступили к конверсии военного производства на гражданские нужды. Все это делалось с учетом ответного поведения стран НАТО без ущерба для безопасности Советского Союза.
Глядя на прошедшие годы «с высоты» 1994 года, нужно признать, что при всех этих достижениях забот и у нас, и у мирового сообщества не стало меньше. На смену прежним проблемам пришли новые. Нужно двигаться дальше, обновлять и само «новое мышление» на основе приобретенного опыта. История перестройки хранит в этом смысле ответы на многие вопросы, которые задаются сегодня, — что послужило причиной успешных соглашений, какими методами они достигались? А с другой стороны — где коренятся препятствия, помешавшие решению международных проблем, которые и теперь остаются головоломными?
Об этом я и постараюсь рассказать. Без утайки и прикрас.
Глава 19. Поворот в советско-американских отношениях. Начало ядерного разоружения
Первый шаг: Женева-85
И сам я, и мои сподвижники в международных делах сходились на том, что начинать надо с Соединенных Штатов. Это и супердержава, и признанный лидер западного мира, без согласия которого любые попытки добиться перелома в отношениях Востока и Запада ничего не дадут, даже могут быть восприняты как «козни», «вбивание клиньев» и т. д. Задача была не из легких: найти общий язык не с социал-демократом Пальме или социалистом Миттераном, а с Рональдом Рейганом, обозвавшим Советский Союз «империей зла», поносимого нашей пропагандой за «рейганомику», вторжение в Гренаду и прочие неблаговидные поступки.
И после довольно долгих переговоров была достигнута договоренность о нашей встрече с ним в Женеве поздней осенью 1985 года.
Резиденцией советской делегации было здание советского представительства, там же состоялись часть переговоров, обед в честь Рональда Рейгана и Нэнси Рейган. Американский президент расположился в двухэтажном доме в пяти километрах от Женевы, а для переговоров американцы сняли виллу на берегу Женевского озера — «Флер д'О».
Шесть с половиной лет отделяло нас от последней встречи лидеров СССР и США летом 1979 года. Ситуация в мире была накалена до предела, мощные группировки НАТО и Варшавского Договора выставили друг против друга частокол ядерных ракет, людьми владела тревога. Немудрено, что весь мир «вперился» в Женеву, а для освещения встречи съехалось 3500 журналистов.
19 ноября в 10 часов я подъехал на ЗИЛе к «Флер д'О». Рейган вышел навстречу, спустился по ступеням. Наше знакомство произошло естественно и непринужденно. Со стороны кое-кому даже показалось, что мы сразу заговорили на каком-то понятном обоим языке, английском или эсперанто. Рейган пригласил меня сфотографироваться, и мы вошли в дом. Со мной были Шеварднадзе, мой тогдашний помощник Александров, Яковлев, заместитель министра иностранных дел Г.Корниенко, посол А.Добрынин, заведующий отделом ЦК Л.Замятин. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Шульц, руководитель аппарата Белого дома Риган, посол Хартман, помощник по безопасности Макфарлейн, сотрудники Белого дома и госдепартамента Нитце, Риджуэй, Мэтлок.
К Женевской встрече мы подходили с реалистических позиций, не рассчитывая на крупные договоренности, надеялись заложить предпосылки для серьезного диалога. Было немаловажно, чтобы руководители сверхдержав «присмотрелись» друг к другу, поделились взглядами на сегодняшний мир и роль своих стран, подумали, что можно предпринять для ослабления враждебности и налаживания сотрудничества. Как мне стало известно позднее, американцы хотели определиться, насколько права госпожа Тэтчер, расхваливавшая Горбачева, тот ли он человек, «с которым можно иметь дело». Думаю, это главное, что их интересовало. Вполне понятная задача для первой встречи.
Согласно установившейся в течение десятилетий практике, перед поездкой были разработаны, обсуждены и утверждены на Политбюро директивы для Генерального секретаря ЦК КПСС. Готовились они при моем непосредственном участии МИДом, международным отделом ЦК и КГБ. Директивы, как известно, бывают разные. Когда речь идет о политическом диалоге, это только изложение позиций, которые следует довести до партнера, и поручение прояснить его оценки по обсуждаемым вопросам. Когда же речь идет о переговорах по конкретным вопросам, директивы содержат обязательные установки — что мы предлагаем и на что готовы пойти. Хочу сказать об этом, поскольку высказывалось и высказывается немало поверхностных, некомпетентных суждений, включая домыслы, якобы генсек решал все единолично, шел на неоправданные уступки и т. д.
Наряду с основной позицией заготавливались запасные, которые можно было использовать в крайнем случае, идя на оправданный компромисс. Если согласие не достигалось, вопрос откладывался, считалось, что он должен быть подвергнут дополнительному анализу той и другой стороной. Проиллюстрирую это на примере особенно острой темы, в отношении которой больше всего спекуляций, — о сокращении ядерных и обычных вооружений.
Проработка начиналась с подготовки предложений соответствующими ведомствами. За МИДом первые годы, как правило, сохранялась роль координатора на подготовительном этапе. Позже жизнь потребовала создания при Политбюро специальной комиссии, в обязанности которой входило координировать подготовку после представления ведомствами первоначальных проектов директив или итоговых документов. Комиссия многократно заседала, выслушивая мнения МИД, Министерства обороны, научных институтов, Госплана, Комиссии ВПК, крупных специалистов и экспертов, включая академиков, искала рациональное решение неизбежно возникавших между ними разногласий. О наиболее важных выводах и спорных проблемах докладывалось генсеку, позже Президенту СССР. Делали это обычно Зайков и Шеварднадзе, иногда с участием Язова или Ахромеева, Чебрикова или Крючкова. Такие обсуждения еще до представления на Политбюро носили регулярный характер.
После неоднократных согласований и моих указаний останавливались на каком-то варианте. Он докладывался Политбюро, но при этом излагались и другие мнения — то есть члены высшего руководства ставились в известность о дискуссии, имели возможность ознакомиться с альтернативными точками зрения.
Комиссию Политбюро долго возглавлял Зайков. В вопросах вооружений есть две стороны: военное предназначение данного оружия и его производство. С тем и другим Лев Николаевич был основательно знаком. С его опытом работы в военно-промышленной сфере и знанием техники, Зайкова было трудно «провести на мякине». Причем качества квалифицированного эксперта сочетались у него со склонностью улаживать споры и добиваться гармонизации вносимых предложений. Он мог страсти остудить, погасить конфликт между ведомствами, уберечь от непродуманных шагов МИД в сугубо специальных вопросах. И вместе с тем — «поднажать» на Министерство обороны, вскрыть консерватизм, узковедомственную позицию военно-промышленного комплекса.
Кстати, Министерство обороны, хорошо зная, как трудно стране выдерживать гонку вооружений, за все годы моей деятельности в Москве ни разу не внесло предложений по сокращению вооруженных сил и производства оружия.
Представители Министерства обороны при проработке крупных разоруженческих инициатив часто выводили из себя темпераментного кавказца Шеварднадзе. Иногда он приходил ко мне и заявлял: «Больше с ними не могу!» Я его успокаивал, подключал Зайкова, а когда понимал, что дело далеко зашло в их спорах, подключался сам. Приглашал Шеварднадзе вместе с министром обороны Соколовым, позже с Язовым и Ахромеевым, Язовым и Моисеевым. Садились, детально во всем разбирались.
Конечно, формирование основ политики в принципиальных вопросах, определение позиций, отвечающих интересам государства и реальностям международного положения, являлось прерогативой Политбюро, генсека. Так что работа была коллективной и весьма основательной. У нас в портфеле было припасено немало идей и конкретных предложений, благодаря чему с первой встречи с Президентом США начался поиск подхода к самой насущной тогда проблеме ядерного разоружения.
В общей сложности переговоры, другие встречи в Женеве заняли около пятнадцати часов. Пять или шесть встреч мы провели один на один, причем каждый раз с нарушением «графика». Уже одно это говорит, что беседы были отнюдь не протокольными, когда участники больше посматривают на часы, чем занимаются делом. Нет, наш разговор с Рональдом Рейганом был интенсивным, содержательным, в отдельные моменты эмоциональным. Но что очень важно: откровенным и, чем лучше мы узнавали друг друга, — дружественным. Страсти особенно кипели, когда предметом дискуссий оказывались права человека, региональные конфликты и пресловутая СОИ. Однако к концу встречи я почувствовал: с Рейганом «можно иметь дело».
Теперь по порядку. Первый день начался с беседы наедине, которая вместо пятнадцати минут продолжалась более часа. Перечитываю запись, и первое, что бросается в глаза, — крайняя «заидеологизированность» собеседников. Поначалу это был скорее диспут «коммуниста № 1» с «империалистом № 1», чем деловой диалог руководителей двух самых мощных государств. Я как мог отбивался от обвинений в нарушении прав человека, хотя не всегда был уверен в своей правоте. Он, в свою очередь, отвергал мои оценки роли ВПК в США, в существовании мощной пропагандистской машины, ведущей подрывную работу против СССР. И уже мы оба с жаром возлагали друг на друга ответственность за сумасшедшую гонку вооружений, поставившую мир на грань катастрофы.
И правы по-своему, и не правы были тогда каждый из нас. Факт состоял в том, что оба государства несли ответственность за раскол мира и нагнетание военной угрозы, за крайнюю напряженность советско-американских отношений. Но такого взаимного признания на женевском саммите не произошло. Надо было прожить еще несколько лет, многое обдумать и понять. Что касается меня, то, еще будучи президентом, я сказал, что СССР и США упустили шанс для строительства новых международных отношений, открывшийся после победы над фашизмом. Наши американские партнеры пока еще только продвигаются к такой констатации. Мешает все та же идеологическая зашоренность, о чем свидетельствуют попытки выдать конец «холодной войны» за «победу капитализма над социализмом».
Итак, в Женеве уже в первые минуты встречи мы говорили, что называется, по существу. Тогда же, хотя и в общей форме, я сказал, что мы не собираемся оставаться в Афганистане и выступаем за политическое решение афганского конфликта.
Первый раунд переговоров обнажил огромный масштаб и остроту противостояния, взаимного недоверия, политической глухоты. Такие впечатления не ослабли, даже усилились, когда мы приступили к обсуждению региональных конфликтов. Рейган долго говорил о нашем вмешательстве в дела третьего мира, сетуя, что оно в значительной мере определяет напряженность между Вашингтоном и Москвой. Мой ответ — уже на широкой встрече, с участием делегаций — сводился к следующему: мы помогаем народам добиться свободы, у нас нет планов создания где бы то ни было военных баз и «экспортировать революцию». Наши действия в большинстве случаев не отличаются от тех, к каким прибегают США в зоне своих жизненных интересов, а эту зону они распространяют практически на весь мир.
В резиденции, куда мы отправились на обеденный перерыв, я поделился с коллегами впечатлениями о беседе с Рейганом тет-а-тет, заметив, что в политическом плане это не просто консерватор, а «динозавр». Сошлись на том, что диалог надо вести твердо, но от цели не отклоняться, не упускать малейшей возможности для прорыва к благоразумию.
После обеда мы вернулись в «Флер д'О» и разговор пошел о контроле над вооружениями. Мой партнер явно «рвался в бой» — я потом узнал причину: американцы в соответствии с задуманной тактикой рассчитывали первыми огласить заготовки, чтобы, так сказать, навязать нам свою игру. Была развернута аргументация в пользу решительного сокращения наступательных вооружений и одновременного перехода к оборонительным системам. Президент с благородным негодованием разнес в пух и прах доктрину сдерживания, которая привела к гонке вооружений и создала угрозу роду человеческому. Закончил Рейган изложение своих предложений страстным утверждением, что это — «лучший путь» и Советский Союз не должен бояться СОИ. Президент старался выговориться до конца, выдвинув идею «открытых лабораторий» и заявив в завершение, что, когда технология будет отработана, он твердо намеревается поделиться ею с нами.
Странные впечатления вызывали у меня адвокатские доводы в пользу космической стратегической инициативы. Что это: полет фантазии, прием, имеющий целью сделать СССР сговорчивым на переговорах, или все-таки не слишком ловкая попытка успокоить нас, а самим довести до конца безумную идею — создать щит, позволяющий безбоязненно нанести первый удар. В моем распоряжении были оценки ученых, каскад аргументов Рейгана меня не застал врасплох. Ответ на них был острым и решительным.
Из сказанного президентом, говорил я, видно, что он привержен СОИ, а ведь это не что иное, как намерение через космическую систему создать щит для нанесения первого удара. Общие рассуждения и «заверения» на сей счет не могут ввести нас в заблуждение. Они лишь свидетельствуют, что США нам не верят. А почему мы должны верить вам больше, чем вы нам?
СОИ — продолжение гонки, хотя и в другой сфере, еще более опасной. Подозрительность и беспокойство будут усиливаться, каждый будет бояться, что его вот-вот обгонят. Советский Союз против переноса гонки вооружений в космос, но, если американцы не воспримут аргументы разума и призыв искать выход на пути прекращения гонки вооружений и сокращения имеющегося ядерного оружия, ничего другого нам не останется, как дать ответ. Должен сообщить, что ответ у нас в принципиальном плане уже есть. Он будет эффективным, менее дорогостоящим и может быть осуществлен в более короткий срок.
Государственные деятели не могут раскрыть все, что им стало известно «по положению». Я и сегодня не могу полностью посвятить читателей в некоторые детали. Но заявляю ответственно: это был не «блеф», проработки показали, что ответ на СОИ мог действительно быть таким, о каком мы предупреждали.
Мои последние слова: «Похоже, мы зашли в тупик…» Наступило молчание — напряженное, тягостное. Оно затягивалось.
— Почему бы нам с вами не пройтись? — спросил президент.
— По-моему, хорошая идея, — поддержал я.
Мы встали из-за стола и в сопровождении переводчиков вышли во внутренний дворик. Направились к какому-то зданию. Это был бассейн. В гостиной при нем, если можно так назвать небольшую комнату, куда мы вошли, пылал камин. Прогулка, новая обстановка, треск горящих бревен сняли напряжение. Но как только мы опустились в кресла, Рейган снова заторопился исполнить тактические «задумки». Опасаясь, что я, теперь уже один на один, снова займусь темой СОИ, он решил опередить меня, достал из кармана и передал предложения о контроле над вооружениями. Причем, как я понял, не для обсуждения, а для принятия и направления нашим переговорщикам в качестве инструкции.
Это был пакет из девяти пунктов на английском и русском языках. Там было много того, что так или иначе обсуждалось сторонами, но согласованных решений не удалось достигнуть. Рейган подчеркнул, что американская сторона рассматривает эти предложения именно как единый пакет.
Я прочитал не спеша и сказал, что даже при первом чтении бросаются в глаза неприемлемые для нас вещи; прежде всего принятие пакета позволило бы США продолжать осуществление программы СОИ. Рейган кивнул. «Именно поэтому мы не согласны» — был мой ответ. Дальнейшая дискуссия показала, что мы просто ходим по кругу. Разговор иссяк. Огонь пылал, в комнате было тепло и уютно, но, откровенно говоря, настроения эта беседа не улучшила. Мы вышли, и мне показалось, что на улице очень холодно: то ли после камина, то ли после горячих споров. Тут вдруг Рейган приглашает меня посетить Соединенные Штаты, на что я ответил приглашением посетить Советский Союз.
— Я принимаю приглашение, — заявил президент.
— Я принимаю ваше.
Значит, в тот трудный день все-таки произошло что-то важное в нас обоих. Думаю, сработали два фактора — ответственность и интуиция. Еще в середине дня я думал по-иному, да и вечером мы распрощались, оставаясь на противоположных позициях. Но незаметно начал работать «человеческий фактор». Чутье подсказало обоим не идти на разрыв, продолжить контакт. Где-то в глубине сознания зародилась надежда на возможность договориться.
На следующий день принимающей стороной была советская делегация. Как хозяин, я встретил Рейгана у порога советского представительства. Поднялись по лестнице, останавливаясь для фотографирования, и переговорщики снова оказались лицом к лицу. Настроение у всех несколько изменилось, дала о себе знать «адаптация» друг к другу, да и вчерашняя договоренность о взаимных визитах рождала определенные ожидания.
Мы снова уединились с президентом, и на этот раз речь пошла о правах человека. У Рейгана был свой расчет: обсуждение этой темы наедине даст возможность провести беседу в неконфронтационной манере. Думаю, он догадывался, какой будет моя реакция, и не хотел, чтобы это произошло в присутствии коллег.
Ничего нового я не услышал. Уже в ходе подготовки встречи американская сторона вопрос о правах человека поставила на первое место. И это делалось не только по дипломатическим каналам, но и через прессу. Рейган начал с того, что, если Советский Союз хочет улучшить отношения с Америкой, он должен поправить свою репутацию в том, что касается свободы личности. В качестве аргумента президент использовал то, что США — страна эмигрантов, она весьма чувствительна к этому вопросу, ни один политический руководитель не сможет с ним не считаться.
Я в свою очередь изложил свои взгляды на свободу личности. И прежде всего подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны навязывать свои стандарты и образ жизни другим.
Затем беседа продолжалась в составе делегаций. Я сказал президенту и его коллегам, что на пути 50-процентного сокращения стоит СОИ, американской администрации что-то с ней надо делать, иначе не удастся добиться сокращения ядерного оружия. Рейган стоял на своем, мы также не собирались уступать. Долгая, временами острая дискуссия обнаружила непреодолимые расхождения. Можно предположить (да об этом, кажется, писалось), что американская делегация, как и наша, задалась вопросом — чем заканчивать саммит?
Оставалось, пожалуй, только одно обнадеживающее обстоятельство: ни одна из сторон не хотела, чтобы Женевская встреча кончилась ничем. Это было бы воспринято и как личный неуспех лидеров сверхдержав, а главное — породило разочарование в широком общественном мнении, развеяло надежды, которые связывали с нашей встречей многие миллионы людей. Ничего хорошего не сулил на сей раз и испытанный в прошлом прием: свалить неудачу на неуступчивость другой стороны. Нужно было, как минимум, заявить, что переговоры будут продолжены.
Встретившись после обеда, договорились дать поручения Шеварднадзе и Шульцу изучить возможности выхода на какое-то соглашение. Все это время мы с президентом находились в совпредставительстве, ожидая результатов. В 17 часов стало ясно: расхождения по ряду пунктов настолько серьезны, что надежды на соглашение весьма незначительны. Разошлись, чтобы поискать возможность развязки в рамках делегаций.
Затем от меня и Рейгана последовало поручение продолжить совместную работу и вечером доложить о результатах. В шутку я добавил: «Надеемся, нам не испортят настроение».
Параллельно переговорам происходили и другие события, в частности обмен обедами. Обедали с супругами и непосредственными участниками переговоров, за небольшими столами. Супруги, кроме того, по согласованному протоколу дважды встречались за чаем. Раиса Максимовна привезла в Женеву рисунки советских ребят — победителей Международного конкурса детского рисунка в 1984 году. Они были выставлены в советском представительстве и вызвали большой интерес: столько в них доброты, непосредственности, дружелюбия. И Раиса Максимовна пригласила Нэнси совершить маленькую экскурсию, доставившую им обеим несколько приятных минут. — Затем они вместе участвовали в церемонии закладки первого камня в здание музея Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. В капсулу под камень они и госпожа Фурглер вложили подписанное ими послание: «Этот камень закладывается в надежде, что музей послужит пониманию и укреплению движения Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, вдохновит грядущие поколения всего мира на поиск мира и гармонии для всего человечества». Программа Раисы Максимовны включала также посещение крестьянской фермерской семьи, Всемирной организации здравоохранения, университета и библиотеки.
Когда мы оказались в доме, арендованном для четы Рейганов, Рональд и Нэнси, чтобы придать непринужденность беседе, и на этот раз усадили нас у зажженного камина. На прессу вышла информация — «Встречи у камина». Действительно, камин сыграл свою роль: атмосфера общения теплела, жесткость суждений ослабевала, нетерпимость уступала место раздумьям, стремлению понять собеседника.
Уже на первой встрече я почувствовал, что Рейган не любит заниматься конкретикой. Мне говорили, что Рейгану клали на стол информации объемом полторы-две, от силы три страницы. Если там оказывалось больше, бумага возвращалась как несерьезная. То, что ложилось на мой стол, не идет ни в какое сравнение — текущие сообщения, груды справок, проектов решений. Я не привык получать препарированные сведения, но не могу с уверенностью сказать, достоинство это или недостаток. В том, как у нас направлялась информация на высший уровень, было и просто бескультурье, отнимавшее массу времени. Должно быть, в этих делах, как и во всех других, нужна некая золотая середина.
Рейган предпочитал беседы общеполитические, помогавшие лучше узнать друг друга. А в рамках делегаций, когда подключались Шульц, Шеварднадзе и другие, переговоры носили сугубо конкретный характер.
Итак, после наших с президентом поручений эксперты заработали, «включив» полные обороты. В мире все ждали какого-то политического итога. Американцы не исключали двух вариантов: общего согласованного документа или отдельного заявления каждой стороны. Мы настаивали на общем документе — иначе будет проигрыш, люди просто не поймут, если руководители двух сверхдержав, встретившись после столь длительного перерыва, разъедутся, ограничившись обменом мнениями и односторонними заявлениями.
Подготовка проекта такого документа велась рабочей группой, в которую от нас входили Георгий Корниенко и Александр Бессмертных, возглавлявший тогда в аппарате МИД американское направление. Трудились они старательно, а после наших с президентом поручений — тем более.
Но вот что произошло дальше… Обед у президента уже заканчивался, а проекта все нет. Выйдя из-за стола, мы расположились рядышком в небольшой гостиной. Мы с Рейганом сидим, остальные стоят. Появляются переговорщики, докладывает Корниенко. Шульц резко реагирует на слова нашего замминистра, между ними завязывается перепалка. Корниенко буквально нависает надо мной сзади и высказывается очень жестко, в раздраженном тоне. Шульц, обычно спокойный и уравновешенный, на этот раз буквально взорвался: «Господин Генеральный секретарь, вот в таком духа у нас и идет работа. Разве мы так достигнем чего-то?»
Мы с Рейганом наблюдаем всю эту сцену. Президент говорит: «Давайте ударим кулаком по столу». Я говорю: «Давайте ударим». Договорившись, быстро разошлись. Я пригласил своих, спрашиваю, в чем дело? Судя по тону Корниенко и его поведению, можно было подумать, что речь идет о коренных разногласиях, угрозе серьезного ущерба нашим интересам. Докладывает Бессмертных, и оказывается, все сводится к спору о словах. Сняли проблему.
Что еще? Возникли расхождения в связи с возобновлением полетов Аэрофлота в США: наше Министерство гражданской авиации имеет какие-то возражения, значит, запись невозможна. Я тут же поднимаю трубку правительственной связи, беседую с министром Бугаевым. Он говорит, все идет хорошо, есть кое-какие несущественные вещи, мы их снимем. Снимайте, говорю министру.
Еще что? А ничего. Так за пятнадцать минут решили все «проблемы». Не могу даже написать здесь это слово без кавычек. Таков был стиль нашей дипломатии. Главное — демонстрировать непреклонность. Жесткость ради жесткости. Упрямство, гонор, не продиктованные ни политическими, ни практическими соображениями.
Итак, формирование текста итогового документа ночью было завершено, а на следующее утро состоялась заключительная процедура встречи. В зале, украшенном флагами Советского Союза и Соединенных Штатов, в присутствии многочисленных представителей прессы, мы с президентом поднимаемся с разных углов на возвышение, где стоит столик с папками. Идем навстречу друг другу, пожимаем руки. Это, конечно, зрелище, которого с надеждой ждал весь мир после стольких лет ожесточенной идеологической войны.
Подписываем заявление, поистине историческое, в котором руководители двух супердержав констатировали, что «ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей». Раз это признается и будет трансформировано в практическую политику, бессмысленными становятся гонка, накопление и совершенствование ядерных вооружений.
Далее. «Стороны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом». Это тоже принципиальная констатация, и на сей раз не общая фраза, кинутая для успокоения публики. Мы с президентом уже обязались дать соответствующие указания делегациям на переговорах по ядерным вооружениям в Женеве.
В документе выражены взаимные намерения, касающиеся двусторонних отношений, в частности, обменов в гуманитарной сфере, контактов между молодежью двух стран, возобновления воздушного сообщения.
Каждый из нас перед своим микрофоном произнес краткую речь.
Я подчеркнул, что состоявшаяся встреча — слишком важное событие, чтобы ее можно было оценивать с помощью упрощенных категорий. Она позволила яснее понять характер наших разногласий, снять часть накопившихся предрассудков.
Доверие устанавливается не сразу, это нелегкий процесс. Мы высоко оценили заверения американского президента, что США не стремятся к военному превосходству, и рассчитываем, что эти заверения будут подтверждены делом. Рейган говорил о том, что политический диалог будет расширяться и вестись на различных уровнях. Сообщил о договоренности обменяться визитами на высшем уровне. Две страны будут развивать двустороннее сотрудничество, продолжат и расширят консультации по региональным проблемам. И слова эти, и тональность, в какой они произносились, давно уже исчезли из лексикона государственных деятелей СССР и США. Тогда еще опытные обозреватели не рисковали писать о начале новой эры в советско-американских отношениях и мировой политике — не раз в прошлом «обжигались» на этом. Но все почувствовали, что первый прорыв сделан и, если ни одна из сторон не испортит дела, появится шанс отвести от мира ядерную угрозу.
Ну а каким было значение встречи в Женеве для нашей собственной политики?
Скажу так: выработка ее приоритетов пошла с этого момента намного интенсивней. В эти месяцы полным ходом шла подготовка к XXVII съезду КПСС, над внешнеполитическими разделами доклада работали международные отделы ЦК, МИД, научные центры. Мы вышли на программу движения к безъядерному миру и поставили этот вопрос не в пропагандистском плане, как до сих пор, а с приглашением к реальным действиям.
После обсуждения в Политбюро программа была обнародована в Заявлении от 15 января 1986 года. Нет сомнения: такой документ мог родиться только в результате вступления на путь глубоких реформ, интенсивных контактов с внешним миром, новых подходов к международной политике. Контакты 1985 года и объективный анализ международной обстановки убеждали в том, что мировое сообщество созрело для восприятия таких идей. Во всяком случае, нужно было начать, причем начать смело, необычно. Что касается советского руководства, возражений я не встретил. В душе, может быть, кто-то и сомневался. Циники же рассуждали примерно так: до 2000 года далеко, все средства в «холодной войне» хороши, порция демагогии не повредит. Но специалисты из ведомств, научных центров, эксперты готовили базу для документа серьезно, реалистически учитывая внутренние и внешние последствия мер, которые в нем предлагались.
Должен сказать, что в его подготовку много души вложил Шеварднадзе. Мы с ним пришли к мнению о необходимости такого шага в одной из бесед вскоре после его назначения министром иностранных дел. К осени уже имели определенный капитал — научные анализы ситуации, оценки контактов, встреч, состоявшихся в эти месяцы. Тогда и было решено облечь наши замыслы в перспективную программу, которая служила бы основой для продолжения «мирного наступления».
На одной из встреч, когда подготовка программы завершалась, возник вопрос, когда лучше с этим выступить. Сначала я предполагал, что она должна стать составной частью доклада на XXVII съезде КПСС. Тут срабатывал опыт, скорее, стереотип прошлого — не транжирить крупные идеи, беречь их для съезда, в крайнем случае — Пленума или мероприятия по случаю знаменательной даты. Но, поразмыслив, мы решили, что включение программы в съездовский доклад снизит ее значение как самостоятельной акции. Причем ее заблаговременное обнародование не помешает обсудить выдвинутые масштабные инициативы. Так и произошло. Съезд поддержал не только философию новой политики, но и конкретно саму программу, она, по сути дела, стала государственной.
Добавлю, что одобрение на съезде было не только проявлением традиционной партийной лояльности к руководству, установившейся со сталинских времен: что бы ЦК ни предложил, все одобрялось единогласно и под бурные аплодисменты. Нет, на этот раз начали сказываться перемены в общественной атмосфере, первые, хотя и скромные результаты гласности и демократизации. Тогда еще положение в партии не претерпело кардинальных изменений, многое шло по инерции, старые механизмы, хотя и со скрипом, все еще обслуживали власть предержащую. И в то же время люди чувствовали себя свободней, чаще осмеливались говорить, что думают. Для них твердо выраженное намерение избавить страну и мир от ядерной угрозы было близко и понятно.
«Откат» США после Женевы
Выдвинутая на съезде КПСС концепция нового мышления вызвала большой интерес у мировой общественности. С особенным энтузиазмом было встречено Заявление от 15 января. Иной была реакция политических кругов. Правда, некоторые политики, соблюдая осторожность, не отвергли Заявления с ходу, заявили о необходимости его тщательного изучения. Однако скептицизм преобладал, многие объявили документ очередной агиткой. А у задающих тон на Западе «верхов» Вашингтона он вызвал даже явное неудовольствие. Они не только не принимали Заявления всерьез, но и опасались, что этот наш шаг послужит росту престижа Москвы, усилению критики милитаристского курса США.
В результате западные правительства избрали тактику, которая срабатывала в прошлом не раз, — замалчивания. Чтобы блокировать растущий рейтинг миролюбивой политики СССР, подбросили дровишек в топку идеологической войны. Причем приступ антикоммунистической истерии опять возглавил Рейган, возобновив свои проклятия по адресу' «империи зла». Делалось все, чтобы дискредитировать наши инициативы, представить их как утопию, а не честное приглашение к разоружению. Чернобыльская трагедия была использована как якобы свидетельство того, что мы по-прежнему не намерены «открыться», коварны, не заслуживаем доверия. Все было пущено в ход, чтобы ослабить «феномен Горбачева».
Словом, шел откат от Женевы. Подтверждая на словах свою готовность к серьезным переговорам и разоружению, американцы в действительности возобновили откровенный их саботаж. И в то же время принимали новые программы наращивания вооружений.
Я много размышлял тогда над этой «странностью»: только что мы вернулись из Женевы, чернила, можно сказать, не просохли в наших подписях под столь многообещающим совместным документом, и, нате вам, такой откровенный грубый отказ от обязательств. Не навалился ли на Рейгана весь американский ВПК? Не затравили ли его советники, намекая, что в Женеве президент поддался «магнетизму Горбачева»? Не напугался ли сам Рейган, что слишком далеко пошел в «уступках Советам»? Ведь еще в канун открытия Женевской встречи было опубликовано письмо Каспара Уайнбергера, в котором он заклинал своего президента не соглашаться на ослабление американской позиции.
Я пришел к твердому убеждению: нас, по сути дела, хотят опять спровоцировать на резкий ответ, вернуть к политике «острие на острие» и тем самым сбить с курса, взятого после апреля 1985 года. Правые круги Запада боялись нового, динамичного Советского Союза, более демократического, предлагающего мир и сотрудничество другим народам. По господствовавшим тогда стратегическим соображениям он их не устраивал. Поделившись этими оценками с коллегами в советском руководстве, я предложил не «зацикливаться» на противодействии провокациям (это было бы только на руку «ястребам»), а настойчиво втягивать Запад в диалог, добиваться позитивных ответных шагов. Это было поддержано всеми.
В те дни у меня состоялась встреча с американскими конгрессменами во главе со спикером палаты О'Нилом. Он ушел от обсуждения вопроса по существу: мол, политику осуществляет администрация, он не полномочен вторгаться в круг ее обязанностей, но готов выслушать меня и доложит президенту. Так вот, я сказал тогда американским конгрессменам напрямую все, что думал, и добавил, что собираюсь сказать об этом своему народу.
Свое обещание реализовал в ходе поездки в Куйбышев и Тольятти. Смысл выступления сводился к следующему. В жесткой форме я сказал, что после Женевы в США с новой силой развернулась антисоветская кампания, насыщенная всякого рода подлогами и оскорблениями. От Советского Союза потребовали сокращения на 40 процентов числа своих дипломатов в Нью-Йорке. У берегов Крыма появилась американская эскадра, при этом она там оказалась с санкции высших властей. Совершено нападение на Ливию. Все это делается, чтобы продемонстрировать мощь Америки, показать, что ей все позволено. Накануне окончания срока нашего моратория США с явно провокационной целью провели мощный ядерный взрыв в Неваде, а на наше предложение о моей безотлагательной встрече с Рейганом по одному экстренному вопросу — о ядерных испытаниях — Вашингтон дал отрицательный ответ. В Вашингтоне думают, что имеют дело со слабонервными, считают, что сейчас можно действовать подобно азартным игрокам, полагают, что мы не видим, как завязавшийся было советско-американский диалог используют для прикрытия новых военных программ. В фарватере американской политики идет и Западная Европа, политики которой, несмотря на требования европейской общественности, пытаются доказать, что убирать из Европы американские ракеты нельзя, так как у Советского Союза больше обычного вооружения, хотя в нашем январском Заявлении недвусмысленно предлагается сокращение обычного оружия и вооруженных сил. Под разными предлогами и правительства, и крупный капитал Западной Европы все больше втягиваются в гибельный план и тем самым становятся соучастниками нового, еще более опасного тура гонки вооружений. Не только разрядка, но даже и потепление в советско-американских отношениях не устраивают определенные круги. Они ищут любой повод, чтобы сорвать улучшение международной обстановки, ростки которого стали пробиваться в Женеве.
Сказав все это, я считал необходимым довести до граждан СССР и мировой общественности наше твердое намерение следовать курсом XXVII съезда.
С этих позиций мы продолжали в 1986 году осуществлять свою новую внешнюю политику.
Идея Рейкьявика
Летом 1986 года на отдыхе в Крыму, где-то в середине отпуска, ко мне поступило письмо от Рейгана. Как мне показалось, это была попытка создать видимость того, что диалог продолжается, как еще один шаг в «двойной игре», которую вело американское руководство.
В разговоре по телефону Шеварднадзе сказал, что в Крым направлен проект ответного письма и что в общем-то послание Рейгана не требует развернутого ответа, поскольку ничего существенного не содержит. Но оставлять его совсем без внимания, мол, нельзя.
На другой день в обычное время Черняев (он был со мной в Крыму) представлял мне ежедневный доклад, а затем показал проект моего ответа Президенту США. Это был краткий текст рутинного характера, читая который я все больше думал, что мне пытаются навязать чужую логику действий. Это противоречит всему тому, что связывалось с нашим новым отношением к миру, чему было положено начало в Женеве. А главное — противоречит ожиданиям людей. Рассуждая, я пришел к выводу такое письмо не подписывать и поделился с Анатолием мыслями, которые неотступно преследовали меня в последнее время. В итоге решил сказать Рейгану нечто серьезное, а именно — внести предложение о немедленной встрече с президентом, поскольку женевские переговоры по СНВ практически в тупике, они превращаются в ширму, за которой ничего не происходит. Надо встретиться, чтобы обсудить ситуацию и дать новые импульсы. Это можно сделать, скажем, в Англии или Исландии.
Не откладывая, позвонил Шеварднадзе, потом Громыко, Рыжкову, Лигачеву, высказал свои предложения. Все согласились с моим предложением. Было подготовлено и срочно отправлено письмо президенту. Прошло какое-то время, и поступил ответ: Рейган согласился на встречу и выбрал Рейкьявик («на равном удалении от обеих наших стран»). Вошли в контакт с правительством Исландии, от которого получили положительный ответ. Последовало сообщение о новом советско-американском саммите, на сей раз в Рейкьявике.
Все произошло неожиданно быстро, и я задался вопросом: почему Рейган так быстро принял мое предложение? Свои рассуждения на эту тему изложил на Политбюро по возвращении из отпуска. Вероятно, в Вашингтоне не исключали возможности, что мы предпримем «утечку»: мол, Горбачев обратился с предложением о безотлагательной встрече, а Рейган уклонился. Это поставило бы его в сложное положение, пришлось бы объясняться. Американские президенты чувствительны к таким вещам.
С другой стороны, Рейган мог сказать, что встреча на высшем уровне недавно была. И вообще, дело не в количестве встреч.
У Рейгана могло сложиться впечатление, что своей жесткой, неуступчивой политикой он вынудит Горбачева пойти на серьезные уступки, отвечающие интересам США. Американские аналитики исходили из того, что СССР измотан, нуждается в передышке от гонки вооружений. Перед страной поставлены крупные цели, и нужна разрядка, чтобы перекинуть побольше ресурсов на их достижение. Отсюда вывод: Горбачев может приехать в Рейкьявик с выгодными для США, далеко идущими предложениями.
Чем больше я рассуждал, ставя себя в положение Рейгана, тем больше приходил к выводу: президент решил, что ему надо ехать в Рейкьявик с большой корзиной, в которую он будет собирать плоды, выращенные Горбачевым, что своими действиями он «дожал» меня. И я оказался прав: встреча в Рейкьявике показала, что мой партнер приехал «не вполне» готовым для делового разговора, хотя задача была обозначена четко — дать импульс переговорам по СНВ.
Думал я и о другом. Рейган не хотел, чтобы помимо Америки, в обход Президента США, Горбачев раскручивал динамику международных процессов. Ведь так или иначе интерес к нашей новой внешнеполитической концепции нарастал. Идеи съезда постепенно расходились по миру, все больше людей думали над ними, все больший отклик они вызывали. Вашингтону это было хорошо известно. А раз так, может быть, рассудили там, лучше включиться в этот процесс и участвовать в нем.
На заседании Политбюро 8 октября я изложил свое кредо: мы должны пойти на эту встречу со смелыми, но вполне реалистическими предложениями. Если они будут приняты, это будет означать, что действительно начинается процесс разоружения и нормализации мировой ситуации. Если их отклонят, мы это обнародуем и разоблачим политику администрации. Встреча будет очень сложной, не исключен и провал.
А мир, узнав о предстоящей встрече, уже загудел. Включились в обсуждение темы политические круги самой Америки. Правые запугивали Рейгана, не гнушались всякими методами нажима на него. В ответ на появление шанса увести человечество от ядерной пропасти «ястребы» продолжали твердить об Америке как единственной силе, призванной «раздвинуть границы свободы», кричали о «крестовом походе». Президент понимал, что линия, которую ему навязывают, не сулит ничего хорошего. Чувствительный к внешнему давлению, он своими жесткими заявлениями как бы «отрабатывал» согласие поехать в Рейкьявик.
Но мы учитывали и то, что Рейгану трудно будет игнорировать надежды в мире на конструктивный исход встречи, позитивные результаты в Рейкьявике нужны ему и для собственного имиджа. Считалось, что за первые четыре года его администрация многое сделала для стабилизации экономики и «укрепления духа Америки». Но был соблазн войти в историю и в качестве «президента мира». Да и выборы приближались.
На Политбюро все были согласны, что Рейкьявик позволит улучшить облик нашей внешней политики, еще раз продемонстрирует наше стремление предотвратить новый этап гонки вооружений. А вот у генералов, да и в МИДе, в группе, ведущей переговоры в Женеве, были сомнения. Уж очень они были «зациклены» на противостоянии, сказывались и корпоративные интересы военных. А некоторых переговорщиков просто устраивала такая ситуация: «сладкая жизнь» на валютных харчах, чем дольше переговоры, тем лучше.
Когда же руководство приняло политическое решение, началась основательная подготовка. На заседании Политбюро была одобрена наша позиция и утвержден состав делегации: Шеварднадзе, Ахромеев, Яковлев, Добрынин, Черняев. Кроме того, предполагалась поездка журналистов, общественных деятелей, ученых, экспертов. Переводчиком впервые поехал со мной Павел Русланович Палажченко, с тех пор участник многих крупных встреч и переговоров. Он не только блестяще знает английский язык, но к тому же профессиональный дипломат, преданный делу человек. Я высоко ценю моральную позицию Павла Руслановича — он и после моего ухода с поста президента остался со мной, продолжая самоотверженно трудиться.
Драма Рейкьявика
Мы прибыли в Исландию во второй половине дня 10 октября 1986 года. Неведомый, незнакомый мир открылся перед нашими глазами: никакой растительности, сплошные валуны, камни. Через каждые 30 минут — дождь. Все время ходят тучи: солнце открылось, закрылось, дождь прошел, и его уже нет. Рейкьявик в русском переводе означает что-то вроде «дымного места». Он действительно будто в дыму. Однако то, что видится как дым, на самом деле — пары гейзеров. Рейкьявик — крупнейший порт. Все, кто приехал со мной, разместились на теплоходе «Георг Отс», прибывшем сюда специально из Таллинна.
Мне хотелось поближе познакомиться с этой уникальной страной, но, увы, не смог ничего посмотреть. А вот у Раисы Максимовны получилось, ей предложили специальную программу.
Но главным, конечно, были переговоры руководителей СССР и США.
Разного рода драмы — Чернобыль и Рейкьявик. Но по потрясению основ, на которых строился послевоенный мир, они сопоставимы. После Чернобыля мы поняли, в каком мире живем — в каком соотношении с природой, с наукой, чего стоим, о чем должны думать. А после Рейкьявика всем стало ясно, что мир, может быть, на последнем перевале — к спасению рода человеческого или к гибели.
Началось с беседы один на один. Рейган приветствовал меня и выразил удовлетворение моей инициативой встретиться в Рейкьявике, «чтобы наша последующая встреча в Соединенных Штатах была весьма продуктивной». Президент как бы подчеркивал, что Рейкьявик — не конечный пункт, а всего лишь промежуточная станция на пути в Вашингтон.
Со своей стороны я приветствовал президента и сказал, что советское руководство должным образом оценило его согласие на предложение о встрече.
Затем мы перешли к обмену мнениями. Но его содержание меня разочаровало, так как ничего вразумительного на свои высказывания и оценки от президента я не услышал. А ведь я говорил об очень важных вещах — о продолжающемся нарастании напряженности в мире, об откате от Женевы в двусторонних отношениях, о том, что все это опасно и не может так оставаться. В общих чертах изложил наши предложения, реализация которых, по нашему мнению, приведет к коренным изменениям в мировой политике.
На все это Рейган не отреагировал, а зачитывал лишь свои заготовки. Я попытался втянуть его в разговор по поводу того, что только что сказал, но это никак не получалось. Решил перейти к конкретике, но беседа опять-таки не клеилась. Рейган перебирал свои карточки с записями. Они перемешались, часть упала со стола. Он начал их тасовать, искать, что сказать в ответ на мои предложения, но ответов не находил. Да и откуда им там было взяться: президент и его помощники готовились не для такого разговора.
Понимая его волнение, я сказал: «Ну что ж, мы подошли к конкретной тематике, предлагаю пригласить наших министров». Когда Шульц и Шеварднадзе присоединились к нам, я подробно пересказал наши предложения по сокращению СНВ, суть которых сводилась к следующему. Переговоры погрязли в бесконечных дискуссиях, спор идет по кругу и ни к чему не привел. Нужен новый подход. Сейчас ядерное противостояние состоит из триады: стратегических ракет наземного базирования, стратегических ракет на подводных лодках, стратегической авиации. В зависимости от особенностей наших стран у каждой из них своя структура вооружений при примерно равном потенциале. Мы предлагаем все части этой триады сократить на 50 процентов.
По стратегическим ракетам наземного базирования СССР впервые шел на подобный шаг. Они ведь были самым мощным нашим стратегическим оружием, в котором «потенциальный противник», как мы тогда выражались, видел главную для себя угрозу. Но мы готовы были на это пойти, чтобы сдвинуть с мертвой точки «захламленный» десятилетиями бесплодных переговоров процесс разоружения. Притом не безвозмездно: США тоже должны были бы сократить на 50 процентов свою мощнейшую ударную силу — ядерные подлодки, а также стратегическую авиацию, по которой они нас превосходили.
Логика, таким образом, проста: опустить ядерное противостояние на другой, намного более низкий уровень. На наши далеко идущие предложения у президента Рейгана сначала проявилась реакция, близкая к растерянности, хотя он и услышал то, чего США всегда добивались от нас, — радикального сокращения МБР. Но поскольку это подавалось в увязке с другими компонентами, у президента, видимо, возникло подозрение, что его хотят загнать в ловушку. Положение облегчил госсекретарь. Включившись в разговор, он сказал, что наш подход в основе приемлем. В ходе последовавшего обмена мнениями удалось достичь принципиальной договоренности о 50-процентном сокращении СНВ.
Американская делегация в целом была явно не готова к такому повороту. Приходилось часто делать перерывы для обмена мнениями «между своими». Перерывы то и дело затягивались. Очевидно, эксперты, которых Рейган привез с собой, нуждались в дополнительных консультациях. Американская команда постоянно держала связь с Вашингтоном, получала оттуда заключения по своим запросам.
Поскольку инициатива исходила от нас, то и делегация наша, и эксперты во главе с маршалом Ахромеевым были подготовлены основательно. Конечно, при конкретизации общей договоренности возникло много вопросов. Большинство из них должны были стать предметом детальной дискуссии на переговорах в Женеве, но некоторые требовали прояснения уже в Рейкьявике. Чтобы устранить препятствия, мы пустили в ход резервную позицию — сняли вопрос о средствах передового базирования, требование о зачислении западных РСД в разряд стратегических.
Второе наше предложение предусматривало кардинальное сокращение ракет средней дальности. Мы отказались от его увязки с ядерным потенциалом Англии и Франции и предложили вернуться к американскому варианту — уничтожить все ракеты этого класса в Европе. Одновременно предлагалось начать соответствующие переговоры по Азии и заморозить ракеты с дальностью полета меньше тысячи километров.
Но вот парадокс, американцы в Рейкьявике не соглашались с собственным вариантом. Думаю, дело было не столько в опасении вызвать негативную реакцию у своих европейских союзников, сколько в нежелании нанести ущерб производителям ракет. Понадобился компромисс, и, хотя не без трудностей, удалось его нащупать. Увы, оказалось, самые большие испытания нас ждут впереди.
Действительно, и участники переговоров, и пресса понимали, что назревает возможность разорвать порочный круг ядерной гонки. Но в тот самый момент, когда, казалось, стороны пришли к согласию, неведомые силы остановили Президента США.
Известно, что на всех предыдущих переговорах американцы ставили на первое место проблему контроля, теперь же вдруг начали маневрировать именно в этой связи. Наша позиция была определенной: коль скоро начнется ликвидация ядерного оружия, контроль должен быть ужесточен, дабы ни одна из сторон не могла обойти партнера и добиться военного превосходства. Отсюда: недопустимо ослаблять уже существующие механизмы контроля и сдерживания гонки вооружений, в первую очередь — Договор по ПРО. Напротив, целесообразно, чтобы каждая из сторон взяла обязательство, что она в течение десяти лет (период уничтожения ядерного потенциала) не воспользуется правом отказа от этого соглашения.
С учетом особой «привязанности» Рейгана к СОИ с нашей стороны было внесено предложение разрешить исследования и испытания в рамках лабораторий по этой программе. Но президент до конца настаивал на том, чтобы США имели право испытывать все, что относится к СОИ, по сути, без ограничений.
Тогда в далеком Рейкьявике разыгрались поистине шекспировские страсти. Мы делали перерывы, собирались для продолжения дискуссии и снова расходились по делегациям. Всего один шаг отделял от триумфального конца, но камнем преткновения стала СОИ.
Читаю записи дискуссии на конференции в феврале 1993-го в Принстоне с участием многих американцев, с кем в конечном счете удалось открыть путь к окончанию «холодной войны»: Дж. Шульца, П.Нитце, Дж. Мэтлока, Р.Риджуэя, Ф.Карлуччи. Мэтлок, в частности, рассказал о своем разговоре с Макфарлейном по поводу встречи в Рейкьявике. Бывший помощник президента по национальной безопасности был поражен тем, что Рейган отверг наше предложение: «Предложение Горбачева в Рейкьявике — это как раз то, к чему я стремился. Договорившись (о сокращении МБР), мы вполне могли пойти на десятилетнюю отсрочку (испытаний СОИ). Было бы безумием отвергнуть это». Для меня важно другое — признание логичности наших действий со стороны ближайшего сотрудника президента.
Кстати, с Макфарлейном мы познакомились еще в Женеве. Это «крутой парень» из морских пехотинцев, участник войны во Вьетнаме. Он мне показался человеком независимым и содержательным. Не осталось без внимания и то, как он пристально всматривался в нас, стараясь многое прояснить для себя. А на одном из обедов свою беседу с Раисой Максимовной закончил словами: «Неужели вы на самом деле такая, какой я вас узнал?» Раиса Максимовна ответила: «Давайте больше доверять друг другу».
Встреча подходила к концу, а возникшие разногласия так и не удавалось преодолеть. Переговоры зашли в тупик и стали приобретать странный характер. Рейган попросту начал торговаться: пойдите мне навстречу, и вы почувствуете, сколько может сделать Америка в сотрудничестве с вашей страной. А я продолжал доводить до его сознания, что нужен всего один шаг, чтобы войти в историю президентом-миротворцем. И еще довод, рассчитанный на американский менталитет: если бы вы просили закупить в США дополнительно 5 или 8 миллионов тонн зерна, чтобы поддержать фермеров, мы постарались бы удовлетворить это пожелание — тем более Советскому Союзу пока не обойтись без импорта зерна. Но когда речь идет о безопасности, я не вправе от вас требовать согласия на планы, которые означали бы меньшую безопасность для Соединенных Штатов, а вы не вправе требовать от меня подобного в отношении моей страны.
Участники переговоров с обеих сторон понимали, что приближается поражение — политическое и моральное. Но все попытки ничего не давали, так крепко Рейган связал себя с СОИ.
Встреча в Рейкьявике закончилась. Вышли из дома. Наступили сумерки. Стоим у автомобиля, настроение скверное. Рейган бросил мне упрек: «Вы с самого начала задумали приехать сюда и поставить меня в такое положение!» «Нет, господин президент, — возразил я, — готов сейчас же вернуться в дом и подписать документ по всем вопросам, которые мы уже согласовали, если вы откажетесь от планов милитаризации космоса».
«Весьма сожалею», — последовал ответ. Попрощались, он сел в автомобиль.
Знаменитая пресс- конференция
Через сорок минут — пресс-конференция. Рейган уехал на военную базу, чтобы лететь домой.
Первое желание, которое меня обуревало, — разнести американскую позицию в пух и прах, то есть реализовать задуманный еще в Москве план: не пойдут на соглашение, на компромисс во имя мира — разоблачить администрацию США, ее позицию, несущую угрозу всем.
Пока шел от дома, где велись переговоры, — метров четыреста — лихорадочно все обдумывал. И не отступала мысль: ведь мы же договорились и по стратегическим, и по средним ракетам, это уже новая ситуация, неужто принести все в жертву ради сиюминутного пропагандистского выигрыша? Внутреннее чувство подсказывало — не следует горячиться, надо все осмыслить. Я еще не определился до конца, как оказался в огромном зале пресс-центра, где делегацию ждали около тысячи журналистов. При моем появлении журналисты встали с мест и молча стоят. Этот беспощадный, нередко циничный, даже нахальный мир прессы смотрел на меня молча, из зала исходила тревога. Меня охватило глубокое волнение, может быть, больше… я был потрясен. В лицах этих людей передо мной как бы предстал весь человеческий род, который ждал решения своей судьбы.
В это мгновение ко мне пришло истинное понимание того, что произошло в Рейкьявике и как нам надлежит действовать дальше.
Выступление мое опубликовано в газетах, откомментировано тысячами журналистов, политологов и политиков. Не буду воспроизводить его в подробностях. Ключевое в нем значение имела фраза: «При всем драматизме Рейкьявик — это не поражение, это прорыв, мы впервые заглянули за горизонт». Раздались бурные аплодисменты, зал как бы вышел из оцепенения. Один из журналистов, характеризуя эту пресс-конференцию, написал: «Когда генеральный секретарь представил провал рейкьявикской встречи как победу, сидящая в зале Раиса Горбачева с восторгом смотрела на мужа и по ее лицу катились слезы».
Тогда мы точно уловили господствовавшее в мире настроение и тем самым спасли процесс перемен, дали перспективу, что за Рейкьявиком последуют новые его вехи.
Вскоре мне сообщили, что Шульц, выступая перед журналистами на военной базе, объявил Рейкьявик провалом. Однако, вернувшись в США и ознакомившись с моей оценкой, с реакцией на нее в мире, быстро «перестроился», стал говорить о «прорыве», о предстоящей работе. Я по достоинству это оценил. С этим человеком можно работать.
Рейкьявик показал, что договориться можно, что новый Советский Союз намерен не заниматься пропагандой, а по-настоящему решать проблему разоружения. Руководители государств получили возможность оценить, с кем они имеют дело в лице Горбачева. Одних это вдохновило, породило надежду, другие заволновались. Маргарет Тэтчер, о которой рассказ впереди, сгоряча заявила: «Мы не должны допустить второго Рейкьявика».
Рейкьявик укрепил у нас убеждение в правоте избранного курса. Об этом я сказал, выступая по телевидению 22 октября 1986 года: «Итоги встречи с Президентом США взбудоражили весь мир. Мы еще не осознали всей важности того, что произошло. Но обязательно поймем, не сейчас, так завтра. Поймем все значение Рейкьявика и воздадим должное как приобретениям, так и упущенным там возможностям и потерям. При всем драматизме исхода переговоров Рейкьявик, может быть, впервые за многие десятилетия так далеко продвинул поиск путей к ядерному разоружению».
Саммит в исландской столице дал мощный импульс всей нашей внешнеполитической деятельности. Благодаря ему началась переоценка задач международной политики, никто уже не мог действовать так, будто ничего не произошло. Американцы, увидев, как отреагировал мир на Рейкьявик, быстро и дружно перешли от проклятий в его адрес к признанию и похвале. Началась суетливая кампания. Администрации понадобился «успех в Рейкьявике», иначе ее политика выглядела непредсказуемой, а надвигались выборы. Главные силы пропаганды были брошены на защиту посрамленной СОИ.
Наступило время и нам думать, что делать дальше, мы попытались спрогнозировать вероятные шаги США. На встрече я понял, что Рейган не свободен в своих решениях. Но ему и конгрессу придется тем не менее по-новому взглянуть на многие аспекты своей политики. Может быть, понадобится еще одна попытка перешагнуть через то, что нас еще разделяет. Мы можем подождать.
Спустя две недели я встретился с участниками Иссык-Кульского форума, проведенного по инициативе Чингиза Айтматова. В Москву съехались выдающиеся представители мировой культуры, общественные деятели, ученые, озабоченные нависшими над цивилизацией угрозами. Эту встречу считаю для себя этапной. Сейчас многие высказанные на ней мысли могут показаться банальными, но тогда они свидетельствовали об эволюции нашего мышления.
«Возьмите весь мир — мы все разные. Разве это недостаток? Это — реальность. Значит, надо научиться жить в этом многообразии, уважать выбор каждого народа».
«Политика, которая не оплодотворяется раздумьями о человеческих судьбах, — это плохая, аморальная политика, и она не заслуживает уважения. Поэтому я разделяю мысль, которая прозвучала в ваших выступлениях, мысль о необходимости сотрудничества политиков и представителей современной культуры, постоянного обмена мнениями.
Даже Ленин, который, как известно, ко всему подходил с классовых позиций, не раз высказывал мысль о приоритетности интересов общественного развития, общечеловеческих ценностей над интересами того или иного класса. Сегодня, в ракетно-ядерный век, значимость этой мысли ощущается особенно остро. И очень хотелось бы, чтобы в другой части мира тоже поняли и приняли тезис о приоритете общечеловеческих ценностей.
Надо во весь голос говорить о тревогах нашего времени, вместе вести поиск необходимых решений ради мирного настоящего и будущего, будить совесть и ответственность каждого человека за судьбы мира. Надо сохранить цивилизацию — при всех ее трудностях и противоречиях — для жизни, для человека. А если человечество будет, с противоречиями оно как-нибудь разберется».
Опубликованный в журнале «Коммунист» мой разговор с участниками Иссык-Кульского форума вызвал разноречивые суждения, а для меня с этого момента начинается отсчет в переоценке ценностей, на которых до сих пор базировались мои представления об обществе и современном мире.
Пакет развязан. Мой разговор с Джорджем Шульцем
1987 год для нас оказался годом трудного выбора, открытий и прорывов. Появились и новые препятствия. Трудно продвигались идеи перестройки на внутренних направлениях. Импульсы, которые дал январский Пленум, начали угасать.
Решения июньского Пленума, нацеленные на радикальные экономические реформы, натолкнулись на сопротивление управленческих структур всех уровней.
На внешнем направлении год также оказался насыщенным и сложным. Казалось бы, позади Женева, принципиальное согласие руководителей сверхдержав о недопустимости ядерной войны. Содержательный диалог с руководством Франции. Поездка в Индию, Делийская декларация. Заявление о поэтапном движении к безъядерному миру и сокращении всех вооружений. Наконец, Рейкьявик, обозначивший новые горизонты.
А с другой стороны, одна за другой возникали острые ситуации, предпринимались провокационные шаги, чтобы стереть достигнутое в 1986 году. Не могу отделаться от мысли, что тогда мир столкнулся с попытками различных сил, в основном связанных с военно-промышленным комплексом, сорвать процесс улучшения советско-американских отношений. Их напугал Рейкьявик.
В печати развернули кампанию с целью убедить американцев, будто интересам США, Запада не отвечает успех внешнеполитических инициатив, идущих в рамках перестройки и нового мышления. В США в чисто ковбойском стиле стали демонстрировать мускулы, обвинять СССР во всех смертных грехах.
Американцы, да и не только они, через средства массовой информации, манипулирование общественным мнением пытались перехватить инициативу в международных делах и навязать «игру» по своим правилам. Не раз мы советовались по этим вопросам в своем кругу. Мнение было единым: нельзя упускать инициативу.
Решено было предпринять акцию, которая подтвердила бы перед всем миром, что мы не играем, готовы кончать «холодную войну». После тщательной проработки пришли к выводу, что этому послужит «развязывание» пакета, заявленного в Рейкьявике.
Вопрос о пакете обсуждался еще при подготовке позиции для Рейкьявика. Политбюро оставило за мной право принять решение по этому вопросу в зависимости от хода переговоров. Тогда обстановка диктовала необходимость твердости: пакет, только пакет. Теперь нужно было выбить из рук противников разоружения последние козыри. И Политбюро поддержало мое предложение. Первый замысел был реализован 1 марта 1987 года в моем выступлении по телевидению. Подтверждая приверженность СССР делу разоружения, мы выделили проблему средних ракет в Европе из общего контекста ядерных вооружений. Этим шагом вынудили американцев на ответную реакцию.
14 апреля 1987 года я принял в Москве Джорджа Шульца. Отношу эту встречу к числу тех, что имели поворотное значение.
Госсекретарь поставил в центр разговора вопрос о ракетах средней дальности, продолжении переговоров по СНВ. Но беседа по своим масштабам, проблематике вышла далеко за наметки, подготовленные загодя. Она впервые поднялась на уровень философских аспектов новой политики, роли и ответственности двух наших стран.
К слову сказать, я придавал большое значение подготовке к подобным встречам. Когда опорные мысли ясны и конкретика проработана, все остальное становится предметом живого разговора. Огромное значение имеет тактика: где нажать, где пойти на уступки, когда огласить свои предложения и облегчить продвижение вперед.
Впрочем, текст беседы говорит за себя. С некоторыми небольшими сокращениями воспроизвожу ее по стенограмме.
«В начале беседы Шульц передал личное послание Президента США Р.Рейгана.
ГОРБАЧЕВ. Я в общих чертах ознакомился с содержанием письма. Приветствую его. Как я понимаю, это письмо, так сказать, «приглашающего» характера.
ШУЛЬЦ. Да, к тому же оно отражает тот личный контакт, который, как считает президент, установился у него с вами.
ГОРБАЧЕВ. Хочу сказать, что, несмотря на все трудности, мы продолжаем стремиться к сотрудничеству с администрацией Рейгана. У нас с вами уже накоплен определенный опыт общения, есть и некоторые результаты. А главное — Соединённые Штаты остаются Соединенными Штатами, независимо от того, какая партия, какая администрация находится у власти. США остаются страной со своими национальными интересами. Из этого мы и исходим.
ШУЛЬЦ. Это разумный подход.
ГОРБАЧЕВ. Он является частью того нового мышления, которое мы сейчас развиваем. И призываем вас включиться в кампанию по распространению нового мышления.
ШУЛЬЦ. Как я говорил вашему министру иностранных дел, одной из самых трудных задач, выпадающих на мою долю, является задача регулирования взаимоотношений между СССР и США в интересах их развития и в то же время — с учетом того, что время от времени происходят события, вызывающие большие трудности. Такие отрицательные явления надо стремиться удерживать в каких-то рамках, одновременно изыскивая пути позитивного развития отношений.
ГОРБАЧЕВ. К сожалению, в наших отношениях явный дефицит доверия, который мешает находить решение крупных международных, а также двусторонних проблем. Думаю, что если бы удалось по-настоящему развить торгово-экономические отношения, продолжить процесс, который не очень быстро, но все же развертывается в области культуры, то тогда мы могли бы укрепить доверие между нашими странами. Но и в экономической области вы создали много завалов, для того чтобы разгрести их, нужен не только советский бульдозер, но и американский.
ШУЛЬЦ. Это, несомненно, верно. Хочу привести пример проблемы из числа тех, которые время от времени вспыхивают и которые так трудно отрегулировать. Мы выступили с протестом против чрезмерного уровня деятельности вашей разведки в отношении наших представительств, против размещения несметного количества подслушивающих устройств в наших зданиях. Я сказал вашему министру, что наши разведслужбы восхищены умением, проявленным вашей разведкой.
ГОРБАЧЕВ. Если это так, то, может быть, в этой области мы могли бы посотрудничать. (Смех.) Я думаю, когда встречаются и беседуют политические деятели, не нужно делать вид, что мы — красные девицы. Мы знаем, зачем было создано ЦРУ и чем оно занимается. Вы ведете разведку против нас, этим занимаемся и мы. Скажу больше: то, что вы много знаете о нас, это даже вносит элемент стабильности. Лучше больше знать друг о друге, чем знать мало. Если мало знать, то не будет необходимой стабильности, необходимого доверия, возникнет элемент риска. Разведка в общепризнанном смысле слова играет конструктивную роль, помогая предотвращать опрометчивые политические или военные акции.
Чего мы, в конце концов, ждем от посла Дубинина, а вы от Мэтлока? Прежде всего полной и всесторонней информации, ибо лишь на ней может быть основана реальная политика. В этом смысле они — наши «главные разведчики», и слава Богу, что это так, хотя их функции этим, конечно, не ограничиваются.
ШУЛЬЦ. Я согласен с вами, что полезно лучше понимать происходящее друг у друга, это стабилизирует наши отношения. Думаю, обе стороны будут стремиться к этому. Но по опыту своей работы я пришел к выводу, что самая лучшая информация — открытая, для сбора которой достаточно присутствия в стране и не нужны тайные операции.
ГОРБАЧЕВ. А теперь скажите мне, что нам делать дальше? У нас есть определенный опыт общения с нынешней администрацией. Но за эти два года сложилось впечатление, что она действует так, будто в СССР ничего не произошло, будто она не видит того, что сделал Советский Союз для оздоровления советско-американских отношений и сотрудничества между нашими странами в международных делах.
…Ни у одной из прежних администраций в последние десятилетия не было таких возможностей сотрудничества с СССР в целях улучшения положения, как у вашей. А вы их не используете, и время уходит. Конечно, мы можем подождать до следующей администрации, может быть, с ней выйдет лучше. Но предпочли бы договориться уже с нынешней администрацией. Ведь у нас с вами есть определенный диалог, личные отношения, определенная мера понимания друг друга. Мы считаем очень важным создать нормальную атмосферу, в которой стало бы возможным сделать наконец шаг к договоренности. Но с вашей стороны такого желания не видим. Хуже того, каждый раз, когда мы делаем какой-то шаг навстречу вам, вы думаете только о том, как бы осложнить дело, как сорвать намечающуюся договоренность.
…Времени остается мало. Либо мы придем к договоренностям по каким-то вопросам в оставшиеся месяцы, либо ничего не будет… То есть я хочу прямо спросить: с чем вы приехали? Как мы с вами поступим — опять поговорим и разойдемся без особых результатов или же администрация готова к договоренностям в оставшееся ей время?
По ракетам средней дальности мы внесли предложения, в которых стремились максимально пойти вам навстречу, с учетом, кстати, и нынешней вашей внутренней ситуации. Мы сделали это потому, что пришли к политическому выводу: администрации и нам самим нужно создать лучшие условия, чтобы совершить крупный шаг, может быть, самый трудный, начать реальный процесс сокращения ядерного оружия. И мы сделали много, прошли больше, чем свою часть пути, потому что такой шаг был необходим.
ШУЛЫД. Мы готовы к договоренности о ракетах средней дальности. Считаем, что подошли близко к основе для такого соглашения. У нас сейчас есть договоренность по главным числовым параметрам, а именно — оставить по 100 боеголовок на глобальной основе, то есть вы имели бы 33 ракеты СС-20 в Азии, а мы — соответствующее количество в США. Мы готовы придерживаться этого, хотя, как я сказал вашему министру, считаем, что по ряду существенных причин обеим сторонам было бы лучше пойти в этом вопросе до конца и ликвидировать остающиеся ракеты. Тем не менее мы готовы придерживаться варианта с сохранением 100 боеголовок.
ГОРБАЧЕВ. Конечно, ведь об этом договорились еще в Рейкьявике.
ШУЛЫД. Да. Кроме того, вы и президент подчеркивали значение контроля. Я неоднократно цитировал ваши высказывания на этот счет в Рейкьявике, отметил и вашу речь в пятницу в Праге. Мы представили проект договора, содержащий детальные предложения по контролю… Считаем, что договор об РСД должен стать образцом для будущего с точки зрения контроля.
Мы надеемся, что затем это приведет к договоренностям по вопросам стратегических вооружений, которые, как вы сказали в своей речи в пятницу, представляют собой корень проблемы…
Но повторяю, по двум центральным вопросам соглашения мы явно на пути к договоренности. Возникает вопрос о ракетах с меньшей дальностью. Мы ознакомились с вашим предложением, которое вчера мне подробно разъяснил ваш министр. Хочу остановиться на принципах, которые, на наш взгляд, должны определять решение вопроса…. Первый из этих принципов: необходимо исходить из какого-то потолка по этим ракетам.
ГОРБАЧЕВ. Самый лучший потолок — нуль.
ШУЛЫД. Мы отметили, что вы намереваетесь вывести ваши ракеты из ГДР и Чехословакии и ликвидировать их.
ГОРБАЧЕВ. Это мы готовы сделать в связи с договором по РСД, не дожидаясь окончательного решения вопроса о ракетах с меньшей дальностью.
ШУЛЫД. Понимаю. Какое-то количество их останется, и оно будет потолком. Этот уровень должен рассматриваться как глобальный, ибо, как и РСД, эти ракеты мобильны и даже более мобильны, чем РСД. Две такие ракеты можно легко доставить самолетом. Так что речь может идти о глобальном решении и, как я понимаю, вы с этим согласны.
Третий принцип — равенство. На этом всегда настаиваете вы, так же поступаем мы. У нас сейчас нет таких ракет. Но в любом соглашении у нас должно быть право на равное с вами их количество, независимо от того, будем осуществлять это право или нет.
ГОРБАЧЕВ. Что касается первого положения — о потолках. Если мы ликвидируем выводимые из ГДР и ЧССР ракеты с меньшей дальностью, а затем готовы ликвидировать и остающиеся ракеты этого класса, то что же получается: мы будем разоружаться, а вы довооружаться? Но это же бессмыслица: разоружаться, чтобы вооружаться. Мы готовы на нуль, на ликвидацию ракет с меньшей дальностью в Европе. Более того, готовы идти дальше, решать вопрос о сокращении и ликвидации тактических ракет. И вот, когда мы делаем все эти предложения, вы в НАТО ходите вокруг них, как кошка вокруг миски с горячей кашей, никак не решитесь пойти на договоренность. Но, в конце концов, надо решать, решать сейчас. Если договоренности не будет, то мы наконец поймем, с какой администрацией имеем дело.
…На Западе часто говорят, что Горбачева надо поймать на слове. Думаю, не надо пытаться кого-то ловить на слове. Но вот вам реалистические предложения, воспользуйтесь ими, если это вы имеете в виду, когда говорите о том, чтобы поймать на слове.
Есть два рода деятелей. Одни довольствуются тем, чтобы участвовать в переговорах, не важно, достигается на них что-то или нет.
…И я надеюсь, что мы с вами относимся к другой категории, к людям, которые видят тенденции мирового развития, видят, куда мы идем и что может произойти, понимают свою ответственность. А это понимание должно воплощаться в договоренности. Такой путь труднее. Но это путь реальной политики, которая необходима, чтобы построить более безопасный мир.
ШУЛЬЦ. Президент и я хотим договоренности, ибо мы оба, как и вы, считаем, что в мире имело место колоссальное наращивание ядерных вооружений, поэтому ради будущего человечества, ради будущего наших стран необходимо обратить этот процесс вспять, начать сокращение ядерных вооружений, воспользоваться возможностями там, где они имеются.
Вернусь к вопросу о ракетах с меньшей дальностью. Думаю, из нашего разговора ясно, что мы можем согласиться относительно принципов решения этого вопроса, дополнительная работа потребуется лишь для согласования количественных параметров этой договоренности…
ГОРБАЧЕВ. Думаю, надо поискать какую-то формулу. Неужели вы хотите все же довооружаться, развертывать новые ракеты, если мы ликвидируем наши ракеты в ГДР и Чехословакии, а в отношении остающихся ракет запишем в соглашении, что ликвидируем их в течение короткого периода времени? Я просто не вижу в этом смысла, логики. Это просто чепуха!
ШУЛЬЦ. Я вас понимаю. Но речь идет о принципе равенства. К тому же в этой области речь идет не только об интересах США. У нас есть союзники. Ваше предложение является новым. Я знаю, что некоторые члены НАТО не готовы пойти на нуль в этой категории ракет, имеют в виду уровень, превышающий нулевой. Нам надо будет обсудить этот вопрос с союзниками.
ГОРБАЧЕВ. До меня дошли сведения, что вы консультировались с союзниками и договорились, что ваша миссия будет иметь, так сказать, разведывательный характер, что вам надо выслушать советскую сторону, «ничего не отклонять, ни на что не соглашаться», а лишь зарезервировать возможность ответить после дополнительного рассмотрения. А пока не выдавать вашу позицию, оправдывать это ссылками на союзников. У нас тоже есть союзники, друзья и проблемы их безопасности. Так что вы, видимо, действительно приехали не с предложениями, а с разведывательной миссией. Если это так, то вы свою задачу выполнили, и мы будем ждать ответа. Я сказал все, что хотел по этому вопросу. Думаю, сказал больше, чем вы, наверное, ждали. Я имею в виду тактические ракеты. Но вы боитесь договоренности. А чего вы боитесь?
ШУЛЫД. Мне кажется, мы уже на 90 процентов приблизились к цели и мы хотим этой цели достичь.
ГОРБАЧЕВ. Хочу резюмировать позицию СССР по РСД и ракетам с меньшей дальностью. По РСД мы исходим из рейкьявикского варианта. Я полностью с вами согласен в том, что в настоящее время возможно достижение реалистической договоренности, а также относительно приоритетного значения контроля. Мы согласны с тем, что решения по контролю в соглашении по РСД должны послужить примером, дадут опыт для будущих решений по другим видам ракет. Для контроля не должно создаваться препятствий. Должен быть обеспечен доступ для инспекции производственных предприятий, будь то частных или государственных, баз, в том числе в третьих странах, мест хранения, заводов и складов и т. д., независимо от того, связана та или иная компания контрактами с Пентагоном или нет. Конкретные положения на этот счет должны стать предметом переговоров.
По связанному с этим вопросу о ракетах с меньшей дальностью. Мы готовы начать и вести одновременно с переговорами по РСД переговоры по таким ракетам. Если вы считаете, что соглашение по РСД будет достигнуто раньше, чем по ОТР, то в него можно было бы включить принципы, касающиеся ракет с меньшей дальностью. При этом часть этих ракет будет нами выведена и уничтожена в контексте соглашения по РСД. Одновременно велись бы переговоры по остающимся ракетам. Причем мы — за их ликвидацию, и такое решение снимало бы все вопросы относительно равенства, глобальности и потолков, то есть удовлетворяло бы вашим принципам. По Азии можно было бы решить вопрос так же, как и вопрос о РСД.
ШУЛЬЦ. Что вы имеете в виду?
ГОРБАЧЕВ. Мы имели бы равный уровень для СССР и США вне Европы или нулевой. То есть мы — за глобальное решение.
ШУЛЬЦ. Мы считаем, что географическое положение вообще не имеет смысла обсуждать в связи с этими ракетами, ибо они высоко мобильны.
ГОРБАЧЕВ. Так или иначе, мы — за глобальный нулевой уровень.
ШУЛЬЦ. Мне кажется, есть основа для возможной договоренности. Во-первых, вопрос о средствах с меньшей дальностью найдет отражение в договоре о ракетах промежуточной дальности. О каких средствах идет речь, нам, я думаю, ясно.
ГОРБАЧЕВ. Как мы понимаем, о ракетах СС-23 и других ракетах этого класса.
ШУЛЬЦ. Вопрос о ракетах меньшей дальности будет решаться на основе глобального потолка. Первоначальный потолок будет определяться путем вычета из нынешнего вашего уровня количества ракет, размещенных сейчас в ГДР и Чехословакии. Затем будут проведены дополнительные переговоры об остающихся ракетах. В течение этого периода США будут иметь право на равный с СССР уровень по таким ракетам. В то же время Советский Союз заранее объявил бы (впрочем, это вам решать), что его позиция на предстоящих переговорах будет предусматривать ликвидацию остающихся ракет. Мы еще не решили, какова будет наша позиция на этих переговорах. Но речь будет идти о каком-то количестве, пока не могу сказать каком. Таким образом, вопрос о том, каким будет окончательный равный уровень, нулевым или иным, будет решаться на переговорах.
ГОРБАЧЕВ. Вы, видимо, отстаиваете позицию, с которой приехали и которую сформулировали до того, как мы предложили ликвидацию всех ракет меньшей дальности, не только размещенных в ГДР и Чехословакии, но и остальных. Вы же не знали, когда формулировали эту позицию, что мы предложим не замораживание, а проведение переговоров и ликвидацию в короткие сроки ракет с меньшей дальностью. Зачем же вам тогда довооружаться, я просто не понимаю. В этом нет никакой логики, за исключением, может быть, чисто юридического представления о праве на равенство. Но это, по-моему, просто казуистика.
Во всяком случае, мы внесли новое принципиальное предложение и разъяснили его. Я приглашаю вас обдумать это предложение. Действительно, подумайте, зачем вам вооружаться, когда мы будем разоружаться. Как вы будете выглядеть в глазах всего мира?
ШУЛЫД. Я буду рад обдумать ваше предложение. У меня есть уже определенное мнение на этот счет. Что касается принципа равенства, то это не казуистика, его действительно важно сохранить. Ведь именно мне, видимо с помощью посла Нитце, придется отстаивать будущее соглашение перед сенатом в процессе ратификации.
ГОРБАЧЕВ. Может быть, нам послать на помощь вам наших людей?
ШУЛЬЦ. Только в том случае, если они будут говорить, что соглашение невыгодно СССР. (Смех.) Вот это, может быть, поможет.
Итак, исключительно важно, чтобы не было неравенства. Если нам придется сказать, что у СССР будет какое-то количество ракет в течение некоторого времени, а у нас нет такого права, сенаторы скажут, что у госсекретаря голова не в порядке. Другое дело, если я скажу, что у Советского Союза есть определенное количество ракет, но будут проведены переговоры, в ходе которых СССР намеревается выступать за нулевое решение. Но в период, который пройдет до договоренности, у нас будет право на равный с СССР уровень. Так что, если сенаторы готовы вложить средства в создание таких ракет, у США есть соответствующее право. Без этого у нас будут большие неприятности.
ГОРБАЧЕВ. Думаю, добиться успеха все же можно, если, конечно, вашим намерением не является срыв любой договоренности. Мы готовы на договоренность. Дело за вами. Откровенно говоря, вам не удалось рассеять у меня все сомнения относительно того, хочет ли администрация договоренности. Но таких сомнений стало меньше.
ШУЛЬЦ. Думаю, надо попытаться воплотить это в письменный документ. Мне кажется, кое-что тут есть. Я признаю, что в вопросе о порядке решения проблемы ракет с меньшей дальностью вы внесли новое предложение и ответ за нами. Мы представим свой ответ.
ГОРБАЧЕВ. Хорошо.
ШУЛЫД. Хотел бы спросить посла Нитце, нет ли у него каких-то соображений на этот счет.
НИТЦЕ. Могу только повторить то, о чем я говорил вчера. Если смотреть на всю совокупность средств, имеющихся у обеих сторон, то нельзя забывать о проблеме средств, дальность которых еще меньше, чем у ракет малой дальности. В средствах тактической дальности баланс в вашу пользу. Вы имеете значительное преимущество в обычных силах. Нам известно, что вы предложили возможность обсуждения этого вопроса на каком-то другом форуме. Однако всю эту совокупность мы должны рассмотреть. Естественно также посоветоваться с союзниками.
ШУЛЬЦ. Я все же думаю, что комплекс вопросов, относящихся к РСД и ракетам с меньшей дальностью, — это одно, а другие вопросы составляют другой комплекс.
ГОРБАЧЕВ. Я бы не увязывал тактические ракеты с РСД и ракетами меньшей дальности. К ним мы еще придем».
После перерыва перешли к обсуждению вопроса о стратегических наступательных вооружениях. Поскольку у Шульца состоялся предварительный обмен мнениями с Шеварднадзе, я предложил кратко резюмировать позицию сторон.
«ШУЛЬЦ. Скажу откровенно, я был несколько разочарован. Мне казалось, мы хорошо продвинулись вперед в Рейкьявике. Однако дальше дело не пошло. Мы сейчас согласны, как договорились в Рейкьявике, в отношении предела на количество боеголовок СНВ — 6000 единиц, а также стратегических носителей — 1600 единиц. Мы также согласились, что сокращения должны затронуть все главные элементы ядерных потенциалов сторон, всю триаду. Я помню ваш жест во время беседы в Хефди[18], так сказать, рассечь наполовину нынешнее количество.
ГОРБАЧЕВ. Мы тогда пришли к хорошей договоренности — сократить все компоненты наполовину. Г-н Нитце, кажется, не очень с этим согласен, так как эта договоренность была достигнута без него.
ШУЛЬЦ. Эта общая идея затем была передана на рассмотрение группы во главе с маршалом Ахромеевым и Нитце, которая выработала некоторые количественные параметры и договорилась о правиле засчета для тяжелых бомбардировщиков. Затем попытались определить некоторые подуровни, которые позволили бы подвергнуть сокращению все элементы стратегических сил. Мы исходим из идеи равных уровней и в то же время из признания того, что у вас одна сложившаяся структура сил, а у нас — другая. Поэтому неправильно заставлять вас или нас копировать структуру сил друг друга… В ходе обсуждения в группе Нитце и Ахромеева и впоследствии мы пошли на значительные изменения своей позиции, идя навстречу вашим соображениям. Мы думали, что продвигаемся, но вчера вечером мне показалось, что если какое-то движение и есть, то скорее — назад.
ГОРБАЧЕВ. По каким элементам?
ШУЛЬЦ. Ваша сторона, по-видимому, отходит от идеи подуровней. Это нас удивляет. Ведь даже если проводить сокращения чисто механически (хотя это нехорошая идея), то в итоге получатся какие-то подуровни. Мы считаем, что, в частности в рамках уровня 6000 боеголовок, необходим подуровень на количество боеголовок баллистических ракет, так как баллистические ракеты в отличие от самолетов являются наиболее угрожающими ядерными средствами в силу своей скорости, точности и невозможности вернуть их назад. В рамках 50-процентного сокращения мы предложили поэтому уровень в 4800 единиц для боеголовок всех баллистических ракет. С точки зрения наших ВВС это довольно жесткий ограничитель. В частности, на количество самолетов с КР воздушного базирования. Число таких крылатых ракет определенно ограничивается уровнем в 1200 единиц, либо, если он превышается, необходимо было бы уменьшать число баллистических ракет, а планы у наших ВВС весьма далеко идущие. Они считают, что у них хорошая технология «стеле», крылатых ракет и т. д. Предлагаемый вариант ограничивает и возможное количество БРПЛ, которых у нас сейчас значительное количество.
Кроме того, при сохранении наших МБР в модернизированном виде число БРПЛ ограничивалось бы еще больше. Так что нам нелегко было бы втиснуться во все эти ограничения, но мы полагаем, что это можно было бы сделать. Нам казалось, что это в принципе приемлемо и для вас. Вот почему, в частности, мы считаем подуровень в 4800 единиц в рамках общего уровня в 6000 боезарядов важным.
ГОРБАЧЕВ. Но ведь мы в Рейкьявике как раз ушли от всех этих подуровней. Мы говорили там, как вы помните, что структура СНВ у каждой из сторон имеет свои исторически сложившиеся особенности. Удельный вес каждого из элементов триады у нас с вами различный. И тогда, мне кажется, мы с вами пришли к пониманию, что именно в этих самых подуровнях вся собака зарыта, в них причина тупика, в который зашли переговоры. Ибо при обсуждении этих подуровней каждая сторона, стремясь обеспечить интересы своей безопасности, настаивает на каких-то вещах, неприемлемых для другой стороны. Вот так и возникает тупик. Поэтому мы и предложили взять триаду, как она есть сейчас, и всю ее в течение пяти лет сократить наполовину. Триада останется, но на другом, в два раза уменьшенном уровне. Формула простая и понятная. Но я сейчас начинаю подозревать, что вы не хотите придерживаться того, что сами же вы, г-н госсекретарь, назвали в Рейкьявике приемлемым. Может быть, эта формула не нравится господину Нитце, но она проста, реалистична.
ШУЛЬЦ. На наш взгляд, она неэффективна, ибо не обеспечивает стабильность и равенство. Общая идея заключается в том, чтобы подвергнуть сокращениям все элементы триады и в то же время учесть некоторые озабоченности другой стороны.
ГОРБАЧЕВ. Считаете ли вы справедливым утверждение, что сейчас между нами существует стратегический паритет?
ШУЛЬЦ. У вас больше, чем у нас, баллистических ракет… В общем, у вас, на наш взгляд, очень внушительный арсенал.
ГОРБАЧЕВ. Так что же, нет сейчас между нами стратегического паритета?
ШУЛЬЦ. Конечно, я бы очень хотел чувствовать себя в этом плане вполне спокойно и считать, что у нас все в порядке. Но мы явились свидетелями мощного процесса модернизации и развития ваших сил, увеличения числа ракет и боеголовок, и это вызвало у нас большую тревогу. Именно поэтому при президенте Рейгане произошла такая активизация усилий США в этой области.
ГОРБАЧЕВ. И все же факт, что между нами имеется примерное равенство, паритет в количественной области, в плане мощи и потенциала наших стратегических сил. И хотя он на очень высоком уровне и необходимо разоружение, стабильность сейчас есть. Вы говорите, что чувствуете особую угрозу со стороны наших МБР. Мы ощущаем с вашей стороны даже большую угрозу ваших БРПЛ, так как они менее уязвимы, оснащены РГЧ, очень точны. И хотя вы подорвали последний механизм ограничения гонки стратегических вооружений — Договор ОСВ-2, мы соблюдаем его пределы. Если в рамках нынешней структуры стратегический паритет обеспечивается, то при сокращении на 50 процентов баланс будет сохранен, но на уровне в два раза меньшем. Разве это не так? При этом мы избежали бы всех этих подсчетов, путаницы, взаимных подозрений, обвинений друг друга в недобрых намерениях, которые возникают, когда речь заходит о подуровнях. Мне кажется, мы нашли в Рейкьявике простой и ясный механизм решения этого вопроса, и я полагал, что вы с этим согласились, лично вы, господин госсекретарь. Поэтому я так удивлен сегодня.
ШЕВАРДНАДЗЕ. Что меня несколько обеспокоило в ходе наших вчерашних бесед, так это то, что вы сейчас предлагаете изменить и сроки сокращения. Если раньше говорили о 5-летнем периоде, то сейчас предлагаете 7-летний срок. То есть налицо ужесточение позиции США по СНВ, как, впрочем, и по космосу.
АХРОМЕЕВ. Когда мы обсуждали эти вопросы с послом Нитце в Рейкьявике, американская сторона действительно ставила вопрос о подуровнях для СНВ. Однако затем Советский Союз дал согласие засчитывать все тяжелые бомбардировщики, оснащенные ракетами СРЭМ и бомбами свободного падения, как одно средство доставки и один боезаряд. Поиски решения этого вопроса шли много лет, и Советский Союз пошел по нему на крупную развязку. Посол Нитце сказал мне тогда, что тем самым снимается вопрос о всех подуровнях, за исключением подуровней на тяжелые ракеты, которые Советский Союз согласился сократить на 50 процентов.
НИТЦЕ. Хочу внести уточнение. Первая наша беседа с маршалом Ахромеевым с 8 часов вечера до 2 часов ночи не позволила прийти к договоренности, так как Ахромеев настаивал на 50-процентном сокращении каждого элемента триады. Я не согласился с этим и вообще с любым вариантом, не предусматривающим равных конечных уровней. Когда наша беседа возобновилась в 3 часа ночи, Ахромеев сказал, что может дать согласие на равные уровни, в результате чего мы и договорились об уровнях 1600 носителей и 6000 боезарядов, включая боеголовки БРПЛ и МБР, а также КРВБ. Тогда встал вопрос о том, как засчитывать бомбардировщики, не несущие КР. Ахромеев предложил засчитывать тяжелые бомбардировщики с бомбами и СРЭМ как одно средство доставки и одну боеголовку. Я счел, что это разумное предложение, позволяющее решить трудный вопрос. После этого я предложил договориться о подуровне в 4800 боеголовок баллистических ракет. Маршал Ахромеев не согласился и заявил, что имеет полномочия согласиться лишь на 50-процентное сокращение тяжелых ракет. Время близилось к 6 часам утра, и мы начали работу над текстом из трех пунктов, в котором фиксировались бы достигнутые договоренности. Я предложил записать, что каждая сторона в последующих переговорах может поднять вопрос о подуровнях. Он попросил не включать эту фразу, так как в ней, по его словам, просто нет необходимости, ведь каждая сторона в последующих переговорах свободна поднимать вообще любой вопрос. Я спросил маршала, может ли он дать слово, что именно это он имеет в виду и что я могу на это положиться. Он подтвердил, и я согласился не включать в текст это предложение.
АХРОМЕЕВ. В принципе все верно, за исключением одной вещи. Я сказал тогда, что мы согласны на засчет тяжелых бомбардировщиков, оснащенных бомбами и СРЭМ, в качестве одной единицы при условии, что вопрос о подуровнях тем самым снимается. Я сказал, что если Соединенные Штаты вновь поднимут вопрос о подуровнях, то мы снимем наше согласие на засчет таких ТБ как одной единицы.
НИТЦЕ. Я не помню этой оговорки. Может быть, она имела место, однако имело место и согласие на то, что мы можем вернуться к вопросу о подуровнях, что мы впоследствии и сделали.
ГОРБАЧЕВ. Да, у вас были долгие споры, ночные заседания. Но потом мы встретились с президентом и договорились о 50-процентном сокращении стратегических ракет и тяжелых бомбардировщиков, а также о засчете ТБ как одной единицы. В этой договоренности не упоминалось ни о каких подуровнях. Я сказал тогда: решение простое, мы сократим наполовину весь массив СНВ. Плюс к этому мы сделали вам уступку по бомбардировщикам. У вас бомбардировщиков в три раза больше. Так что ситуация оказалась лучше для США, мы пошли вам навстречу в обмен на решение, позволяющее избежать тупиков и взаимных подозрений. Эту договоренность мы и зафиксировали. И когда мы в конце концов споткнулись, то не на этих вопросах. Камнем преткновения был вопрос о ПРО, о СОИ.
Я вижу, сейчас предпринимаются попытки расшатать Рейкьявик. Мы с этим не можем согласиться. Не собираемся добиваться превосходства над США, обгонять вас. Вот хотя бы один пример — решение вопроса о бомбардировщиках, где мы пошли вам навстречу. Что помешало договориться? Я очень хорошо помню, президент сказал, что мы договорились обо всем, остался лишь один вопрос — СОИ, и почему бы Советскому Союзу не сделать по нему уступку.
Теперь о Договоре по ПРО. Ваша администрация еще ничего не создала в области ограничения вооружений, а уже похоронила Договор ОСВ-2. Дальше. Все администрации до 1983 года, в том числе ваша, в ежегодных докладах конгрессу давали только одну, совершенно недвусмысленную интерпретацию Договору по ПРО. И вот у вас возник план — вырваться с оружием в космос, оттуда поприжать Советский Союз. И это именно в тот момент, когда возникает возможность сокращения стратегических вооружений. Это странная логика, которая, конечно, вызывает у нас подозрения. Ограничения Договора по ПРО стали для вас слишком тесными в свете планов СОИ. Поэтому и появились известные юристы, выдумавшие «широкую» интерпретацию договора. В правоте ее вы не смогли убедить даже всех американцев. Ясно, что нужна она только для того, чтобы вам вырваться с оружием в космос.
Посудите сами: у нас с вами иногда бывают очень долгие и трудные обсуждения конкретных вопросов, порой трудно прийти к их решению. И вдруг возникает проблема переноса гонки вооружений в космос, и вы думаете, что мы должны воспринимать это спокойно, как дождик с неба, который сегодня идет, а завтра прекратится. Но ведь это ломка всех идей стратегического паритета. Как в этих условиях можно рассчитывать на то, что мы будем сокращать наши стратегические вооружения? Что же, мы должны помогать вам? Если вы идете по этому пути, мы просто не можем вам доверять.
Поэтому я думаю, что мы сейчас подошли к исключительно ответственному моменту в процессе развития стратегических наступательных вооружений. То, что я сказал вам сегодня, мы самым серьезным образом проработали, ибо вопросы эти серьезные и касаются не каких-нибудь пистолетов и пушек. Если вы пойдете на развертывание ПРО в космосе, то мы не согласимся даже на 50-процентное сокращение СНВ.
Не ждите, что мы будем помогать вам. Вы навязываете нам ответные меры, и нам придется на них пойти, хотя мы за другой путь — за разоружение, которое сделает ненужной СОИ. Но мы видим, что вы привержены этой идее, ищете пути к достижению превосходства над СССР. Это очень вредная идея. Мы найдем ответ, он будет асимметричным, необязательно в космосе и не таким дорогостоящим…
Что же сейчас делать ответственным политикам? Срывать процесс разоружения в момент, когда действительно возникают возможности крупных сокращений стратегических наступательных вооружений? Я думаю, администрация попала тут в ловушку, которую она сама себе устроила. Уже размещены большие заказы, задействованы целые отрасли промышленности, вы строите расчеты на прорыве в области информационных систем. Ваша политика основана на серьезном заблуждении, а это плохо и для вас, и для нас, и для всего мира.
Я сказал в Рейкьявике, что, поскольку администрация США так привержена СОИ, мы можем дать согласие на продолжение лабораторных исследований, а вы тогда сможете сказать, что СОИ сохранена как программа. Мы еще раз подумали, что можно сделать, чтобы развязать узел, завязанный администрацией… Что такое лабораторные исследования, не противоречащие Договору по ПРО, что такое в этом контексте «лаборатория»? И впервые разъясняем только вам: речь должна идти об исследованиях в лабораториях на земле, в исследовательских учреждениях, на заводах-изготовителях, на испытательных площадках и полигонах. Может быть, при таком подходе мы могли бы поискать компромисс. На переговорах можно обсудить, какие конкретно устройства запрещалось бы выводить в космос.
Вот то, что мы можем предложить. Откровенно говоря, мы делаем, что называется, «последние усилия». Ведь позиция администрации США — это самое настоящее вымогательство у партнера, неуважительное к нему отношение. Так вести дело нельзя. Подумайте, как нас будут поминать наши потомки. Вот, скажут они, были две компании политических деятелей, которые ни о чем не могли договориться.
Еще вопрос о ядерных испытаниях. Если будет согласие с вашей стороны, мы готовы начать процесс работы над Договором о прекращении ядерных испытаний при том понимании, что вначале будет обсужден вопрос о двух нератифицированных договорах 1974 года и 1976 года, а затем также об ограничениях на мощность и количество ядерных взрывов.
Резюмируя все, что я сказал по вопросам разоружения, хочу отметить, что мы готовы на выработку «ключевых положений» по таким вопросам, как СНВ, космос и ядерные испытания. Думаю, если мы согласуем такие «ключевые положения» и плюс к тому Договор об РСД, то это могло бы стать главным предметом и результатом политической договоренности на высшем уровне между нашими странами осенью или в конце нынешнего года. После этого на переговорах были бы выработаны юридически обязывающие формулировки договоренностей между СССР и США по трем вышеуказанным вопросам.
ШУЛЫД. Мы привержены цели достижения договоренности с вами по этим трем областям. Говорю это, хотя после прошедших дискуссий я еще более осознаю, как трудно будет к ним прийти… Мы вносили свои предложения, но, как я сказал вчера министру, ни одно из них не нашло отзвука у вас. Поэтому вносим сейчас другое предложение. Оно предусматривает крупные сокращения, хотя и не столь крупные, как в наших прежних, отвергнутых вами предложениях. Мы очень хотели бы добиться договоренности о 50-процентном сокращении. Ведь это захватывает дух.
ГОРБАЧЕВ. Согласен.
ШУЛЫД. Далее, можно, конечно, не называть что-то подуровнем, а найти другое название, но мы хотели бы сохранить договоренность о 6000 боеголовок и 1600 носителей, о сокращении наполовину тяжелых ракет, согласованное правило засчета тяжелых бомбардировщиков. Надо все-таки подумать, как втиснуть все элементы триады и одновременно прийти к равным уровням и определенной стабильности. В конце концов цифра 4800 (боеголовок баллистических ракет) как раз и составляет более или менее результат сокращения наполовину ваших баллистических ракет. Это лишь один пример. В итоге, независимо от того, как дело решится в принципе, нужно иметь четкие цифры. Они нужны, помимо всего прочего, для того, чтобы мы могли успешно осуществлять контроль. Ведь режим контроля, который будет создан, я думаю, будет поистине колоссальным. После такого контроля, боюсь, в наших странах не останется ничего, представляющего интерес для разведки. (Смех.)
ГОРБАЧЕВ. Вот и хорошо».
Температура конфронтации в мировой политике
Содержательным и имевшим позитивные последствия было обсуждение региональных проблем на этой встрече.
«ГОРБАЧЕВ. Создается впечатление, что США рассматривают их как постоянный резерв для маневрирования уровнем конфронтации, силовой политики и антисоветской пропаганды. Если это так, наши отношения обречены на серьезные испытания. Нельзя превращать региональные конфликты в арену противоборства двух систем, особенно СССР и США. Мы, конечно, не упрощаем ситуацию в развивающемся мире. Там накопилось много серьезных проблем. Но мы могли бы сотрудничать в нахождении их решений. У нас нет намерений подрывать национальные интересы США, но существуют ведь не только интересы США или СССР, у других стран есть свои интересы. Пока не видим с вашей стороны готовности действительно искать и находить решения этих проблем, урегулировать, например, ближневосточную проблему.
ШУЛЬЦ. Я был бы рад это обсудить. У меня есть идеи на этот счет.
ГОРБАЧЕВ. Знаете, после встречи в Женеве нам некоторое время казалось, что Соединенные Штаты готовы в какой-то мере к сотрудничеству в урегулировании афганской проблемы. Сейчас впечатление иное. Вы, скорее, ставите палки в колеса процессу, который там начался. В общем, я вам так скажу: нельзя исходить из порочного принципа: чем лучше для США, тем хуже для СССР, и наоборот.
ШУЛЬЦ. Согласен.
ГОРБАЧЕВ. Надо перешагнуть через старые стереотипы. Мы за то, чтобы взаимодействовать с вами более конструктивно, за учет законных интересов, но хотим взаимности. Готовы строить советско-американские отношения на реалистической основе. Ведь неправильно говорить, что причины всех бед и конфликтов в сегодняшнем мире — в наличии двух систем. До 1917 года в мире была одна система, и тем не менее разразилась Первая мировая война, были и другие войны. И наоборот, во время Второй мировой войны в коалиции друг с другом, вместе против фашизма боролись страны, представляющие различные системы. Так что дело не в конфликте двух систем, а, скорее, в том, что существуют национальные интересы стран. Но ведь они есть не только у США, СССР и, скажем, Англии. Они есть и у других. Нужно искать баланс этих интересов. И на каждом этапе истории это — новый баланс, новые подходы. Ведь меняются интересы, меняется и баланс.
Я говорил госпоже Тэтчер, что не надо в конце XX века строить политику на подходах, основанных на фултонской речи Черчилля и доктрине Трумэна. Приглашаем Соединенные Штаты подумать над тем, что пора перестраивать советско-американские отношения. Мы не стремимся вас перехитрить, и вы этого не делайте. Лучше давайте подумаем, как жить дальше, как улучшать наши отношения, взаимодействовать в оздоровлении международной обстановки. Прошу вас передать это президенту Рейгану, передайте также ему от меня привет и наилучшие пожелания.
ШУЛЬЦ. Затронутые вами вопросы очень важны, и я хотел бы их с кем-то у вас обсудить. Действительно, мы видим в мире мощные силы, которые растут, развиваются и не имеют отношения к капитализму или социализму, к СССР и США. Вместе с тем мы ощущаем воздействие этих сил, их влияние на изменение положения в мире. Думаю, из обсуждения этого вопроса мы могли бы извлечь большую пользу… Здесь кроется много потенциальных конфликтов, которые мы должны, по крайней мере, уметь сдерживать, сводить к минимуму ущерб от них. Надо исходить из того, что лучше малая толика профилактики болезни, чем куча лекарств.
ГОРБАЧЕВ. Я всегда подчеркиваю, что все мы, участники международных отношений, должны искать решение проблем. Но эти решения не будут нашими или вашими. Они могут быть только общими.
ШУЛЬЦ. Согласен.
ГОРБАЧЕВ. Пока это не так. Давайте подумаем над этими вопросами. Об этом надо думать, а не вынашивать коварные замыслы друг против друга. Тут найдется работа и для Ахромеева, и для Нитце, для всех.
Хочу сказать, что был рад с вами встретиться, возобновить диалог с вами. Я не в восторге от итога наших переговоров, но хорошо, что мы провели обмен мнениями. У нас сейчас несколько больше ясности по некоторым вопросам. Может быть, по РСД можно что-то сделать. По другим вопросам, пожалуй, трудно.
ШУЛЬЦ. Но не невозможно.
ГОРБАЧЕВ. Я говорю, как выглядит для меня ситуация сегодня.
ШУЛЬЦ. Мне кажется, есть возможность что-то сделать и по вопросу о ядерных испытаниях. Я передам президенту, что вы упомянули возможность приехать в США, скажем, осенью. Если это так, то, может быть, в оставшийся период нам с господином Шеварднадзе надо будет встретиться. Работы у нас много, мы готовы принять вашего министра. Продолжаем исходить из того, что встреча на высшем уровне должна касаться существенных вопросов, быть продуктивной. И для ее успеха необходимо, чтобы она была хорошо подготовленной.
ГОРБАЧЕВ. Могу подтвердить, что мы, как и прежде, выступаем за результативную встречу на высшем уровне. Для успеха дела я готов приехать в США. Но лучше, наверное, было бы предварительно все подготовить, получше поработать вам с Шеварднадзе. И давайте не будем взваливать все на женевские переговоры. У меня, откровенно говоря, выработалась своего рода аллергия к ним».
Вот такая беседа. Разговор с Шульцем показал, что у американцев была прежде всего задача основательно уяснить себе наши позиции и намерения. Вроде — законно. Но что за этим? Последует очередной раунд пропагандистской кампании, борьбы за мировое общественное мнение? Или за прощупыванием скрываются какие-то реальные политические расчеты?
Должен сказать, что и у нас была задача — выявить, есть ли у американской администрации за душой что-то действительно реальное, помимо риторики, которую она сама и ее трубадуры обрушивают на мир? Иначе говоря, проникнуть в замыслы Вашингтона, уловить, есть ли перспектива развития новых отношений или нет. Есть ли хотя бы желание.
Поэтому и беседа велась в ключе, провоцирующем партнера на откровенность, на раскрытие «резервов», с которыми Шульц приехал, рамок его полномочий.
Думаю, тут намерения сторон совпали. Риторика риторикой, обмен «любезностями», в том числе традиционные упреки в «шпионских делах» по отношению друг к другу, — это один план. Но беседа показала, что есть и более основательные соображения и намерения. В этом убеждала реакция Шульца на мое заявление, что беседа по конкретным вопросам меня не удовлетворила. Как показала последующая деятельность Шульца, он действительно хотел продолжения диалога. Это отражалось, видимо, и на позициях администрации в целом, в том числе — на настроении президента.
Диалог наш, повторяю, вывел далеко за пределы предварительных заготовок с обеих сторон. И может быть, я впервые почувствовал, что передо мной человек реалистических взглядов, настроенный на серьезную политику. В дальнейшем его потенциал еще больше раскрылся — как политика, интеллектуала, человека с творческим воображением, способного видеть далеко.
Верить или не верить Горбачеву?
В апреле 1987-го встреча с Шульцем показала, что и в администрации США, да и на Западе вообще еще нет понимания значимости переживаемого момента в мировой политике, необходимости кардинальных перемен. Поэтому там не смогли по достоинству оценить инициативы, исходящие от советского руководства. Слишком велика была приверженность прежней схеме — отсюда колебания, недоверие и неверие в нашу искренность. Превалировала точка зрения, что политика нового руководства СССР — очередной маневр для того, чтобы выиграть время, получить максимум выгод и использовать их для усиления своего влияния в мире.
Словом, и США и Запад в целом колебались, медлили, и в этом отношении показательно признание Шульца на той же конференции в Принстоне, что американцы не сумели в 1987 году должным образом откликнуться на стремление Советского Союза форсировать улучшение отношений с Соединенными Штатами, они тоже потеряли время, хотя и чувствовали, что Горбачев был настроен очень серьезно и готов идти далеко.
Сам же Шульц тогда много сделал, чтобы перевести наши с ним договоренности в плоскость плодотворного сотрудничества. Вовлек в эту работу президента и его окружение, союзников. Интенсивней стали контакты, совместная работа министерств, генштабов, веселее пошло дело на женевских переговорах.
Ход переговоров, которые вели наши представители в Женеве и Стокгольме, весной был предметом специального обсуждения на Политбюро. Резко был поставлен вопрос о рутинном характере переговорных процедур, склонности к казуистике некоторых дипломатов, унаследованной от старых традиций. Были сделаны практические выводы — переговоры вывели на уровень Шеварднадзе, Ахромеева. Преодолев пробуксовки и взяв ситуацию под непосредственный контроль высших руководителей СССР и США, мы стали продвигаться значительно быстрее.
Ранней осенью 1987 года Шеварднадзе поехал в Вашингтон, в октябре госсекретарь со своей командой снова прибыл в Москву. Эта новая встреча показала реальную возможность заключить Договор по средним ракетам в Европе. Апрельские договоренности с Шульцем «работали».
Встретившись 23 октября в Кремле, мы сосредоточили внимание на проблеме кардинального сокращения стратегических наступательных вооружений. В истекшие месяцы и в этой области было достигнуто большое продвижение. Но американцев по-прежнему заботили наши тяжелые ракеты, а нас — СОИ, стратегические самолеты. В поле зрения были и мобильные стратегические ракеты наземного базирования. Детально и всесторонне подвергся рассмотрению вопрос о соблюдении Договора по ПРО, невыходе из него по меньшей мере на протяжении 10 лет после подписания договора по СНВ.
Вторая встреча с Шульцем, как и предыдущая, Не ограничилась разоруженческой проблематикой. Были обсуждены советско-американские отношения, причем теперь уже не только в философском, концептуальном плане, а в реальной плоскости. В этом смысле особенно показательна дискуссия в связи с ирано-иракской войной и поведением США.
Тогда я сказал Шульцу: «Может показаться, что мы иногда предъявляем слишком большие требования к американской стороне. Но в случае с ирано-иракским конфликтом есть два принципиальной важности момента. Во-первых, мы не уверены, что вы точно все просчитали, отдаете себе отчет, к чему приведет ваша линия для вас, для нас, для всего мира. И второе, хотя по важности, может быть, главное. Мы считаем, что наше взаимодействие в Персидском заливе — наиболее свежий пример, свидетельствующий о том, что сотрудничество между нами привело к принятию известных документов Совета Безопасности. Мы считаем, и заявляли публично, что здесь есть немалый резерв, необходимо в полной мере использовать согласованные положения резолюции 598. Однако Соединенные Штаты, видимо, обижены, что мы не поддержали их требования о санкциях во второй резолюции Совета Безопасности, и решили действовать в одиночку, как «в старые добрые времена». О причинах, почему это произошло, я сейчас не буду говорить. Хочу еще раз сказать, что ваше нежелание сотрудничать с нами вызывает разочарование».
Шульц заверял меня, что в одиночку США не хотели бы действовать, предпочитают работать в рамках ООН. Но указал на угрозу американским «друзьям» в Заливе, поставщикам нефти — главного источника энергии для западных стран.
Этот пример подтвердил, что, несмотря на сдвиги в отношениях с США, в их влиятельных политических кругах еще не определились по отношению к Советскому Союзу с его перестройкой и новым мышлением. Была и ревность к тому, что новая направленность нашей внешней политики оказывает сильное воздействие на Европу, мировое общественное мнение, на самих американцев. Это рассматривалось ястребами как нежелательное явление.
Я не стал обходить этот вопрос в беседе с Шульцем. Незадолго перед тем в моих руках оказался документ, опубликованный госдепартаментом с ведома госсекретаря: «Деятельность по обеспечению советского влияния: доклад об активных мерах и пропаганде 1986–1987 годов».
Шульц хотел свести все к шутке: мол, если доклад действительно вышел из госдепартамента, то это авторитетный документ. Посмеялись, но я решил вопрос на этом не закрывать.
«ГОРБАЧЕВ. Рекомендации доклада производят шокирующее впечатление. Получается, все, о чем мы договорились в Женеве, и подписанные вами с Шеварднадзе соглашения о культурных и других обменах — не более как канал, пользуясь которым Советский Союз вводит в заблуждение американское общественное мнение…Говорится там также, что перестройка — это лишь способ обмануть Запад, коварно подготовить почву для дальнейшей экспансии СССР.
Мы серьезно настроились на изменение к лучшему наших взаимоотношений с Соединенными Штатами во всех областях, от проблем безопасности до торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества. У нас в Советском Союзе нет предубеждений к Америке, и их мы не культивируем. А вы, что же, жить не можете без того, чтобы не рисовать Советский Союз в образе врага?
Когда господин Уик говорил о том, что перестройка — обман, я не обратил большого внимания, в конце концов это человек прессы. Но когда выпускается документ государственного департамента, возникает большой вопрос. Как же вы ведете с нами такие переговоры, если рассматриваете нас как врага, предостерегаете своих людей от контактов с советскими людьми. Прошу вас об этом серьезно подумать.
ШУЛЬЦ. Стремление добиваться улучшения отношений является у нас с вами взаимным. Тот скептицизм, который многие по-прежнему ощущают в отношении СССР, отражает опыт некоторых ваших действий. Этот опыт многих беспокоит.
ГОРБАЧЕВ. Вот, видимо, вы и боитесь, что этого скептицизма станет меньше.
ШУЛЬЦ. Я бы не хотел долго задерживаться на этой теме, однако могу привести несколько примеров того, что нас беспокоит. Бедняга президент Картер — он хотел только добра. Но именно при Картере вы вторглись в Афганистан, чему он был невероятно удивлен. Он сказал, что за сутки узнал о Советском Союзе больше, чем за всю свою предшествующую жизнь. Это для него был тяжелый урок. Другая проблема — корейский самолет…
ГОРБАЧЕВ. Почему же вы продолжаете распространять подобные документы сейчас? Ведь этим вы практически обесцениваете наши встречи.
ШУЛЬЦ. Моя позиция как в рамках правительства, так и вне его заключается в том, что улучшение наших отношений является самым важным направлением нашей внешней политики… Учитывая накопленные нашими странами горы оружия, просто нет на свете более важной задачи. Мы знаем, что решать ее нелегко, ибо у нас разные общественные системы. Исторически в наших отношениях были взлеты и падения.
ГОРБАЧЕВ. Мы не претендуем на то, чтобы ваша общественная система изменилась. Как вам жить — это ваше дело.
ШУЛЬЦ. И мы не претендуем на это. Видим, что у вас происходят перемены, с огромным интересом следим за ними. Меня лично это очень интересует. Но как вам жить, решать не мне, решать вам. Я вам не даю советов, как жить. Я лишь говорю, что слежу за вашими переменами с огромным вниманием.
ГОРБАЧЕВ. Так почему же происходят подобные вещи? Почему вы выпускаете такие доклады?
ШУЛЬЦ. Я его вижу в первый раз.
ГОРБАЧЕВ. Может быть, этот доклад — тоже проделка КГБ?
ШУЛЬЦ. Может быть. (Смех.)
ГОРБАЧЕВ. Мы знаем, почему это происходит. Доклад — рецидив старых подходов, старого мышления, а нам нужны новые подходы, чтобы решать новые вопросы. Но мы на них не выйдем, если будем в плену таких стереотипов.
Президент много говорил о необходимости большего доверия. Если будет доверие, то и все остальное пойдет. Но разве это путь к доверию? Начались перемены в наших отношениях — телемосты, встречи женщин, контакты детей, и мы приветствуем это. А вы рассматриваете чуть ли не как угрозу для США. Такая слабая Америка, не выдержит! Я хотел бы закончить этот острый обмен тем, с чего начал: мы хотим развивать наши отношения, хотим делать их более позитивными, дружелюбными. И в нашем, и в вашем обществе есть такие настроения, и мы, политики, должны выразить их.
ШУЛЬЦ. Не только согласен с этим, но и живу в соответствии с этими принципами, отстаиваю их и поступаю так уже давно, хотя это не всегда легко.
ГОРБАЧЕВ. Я все это сказал не для того, чтобы как-то изменить характер нашей встречи, принизить ее значение. Просто хочу подтвердить, что надо очищать наши отношения от подобных вещей… Давайте этим займемся».
Несмотря на такое острое объяснение, эта наша беседа, как и предыдущая, весенняя, имела рубежное значение, была по итогам весьма конструктивной. Она стала, по существу, подготовкой нового советско-американского «саммита». Когда я спросил Шульца, чем мы закончим беседу, он заявил, что Соединенные Штаты хотели бы продвижения по всем вопросам — права человека, контроль над вооружением, двусторонние дела, ирано-иракский конфликт, Кампучия и т. д.
Когда подобные заявления делаются таким человеком, как Шульц, это серьезно, ибо он никогда не терял контроль над собой, не упускал нить разговора, всегда был очень точным и ответственным, я бы даже сказал, осторожным. Это не мешало ему быть смелым и решительным, когда надо «перешагнуть» через что-то в себе.
Формула визита в США
В такой атмосфере Шульц реализовал следующее поручение своего шефа: «Президент надеется, что у вас будет желание приехать в США. Он готов принять вас со всем уважением и достоинством, в атмосфере дружелюбия, которое приличествует такому событию.
Лучшим временем был бы конец ноября. Мы приветствовали бы ваш приезд и как деловой визит, и как возможность принять вас с долженствующим почетом, засвидетельствовать вам свое уважение. Имеется в виду ваше личное общение с президентом, со мной, членами конгресса, если возможно — с представителями различных районов США, различных профессий и положения».
Выслушав госсекретаря, я обнаружил, что американская сторона отступает от апрельских договоренностей по повестке дня. Тогда мы исходили из того, что на встрече будет подписан договор по РСД и согласованы ключевые позиции по СНВ и космосу, а также дан импульс переговорам по ядерным испытаниям. Я обратил внимание Шульца на эти расхождения и высказался в том духе, что если это не получится, то возникает вопрос о смысле встречи на высшем уровне. Окажемся мы в выигрыше или в проигрыше перед лицом своих стран и всего мира? Легче было идти на первую встречу, но сейчас, после того как проведены два саммита, возникает сомнение, надо ли идти на «усеченную» встречу в верхах.
Щульц пытался «приподнять» значение новой встречи, выдвинув идею подписания договора по РСМД не в Женеве и не главами делегаций, а мной и Рейганом. Это, мол, придаст весомость и самому договору.
Моя позиция казалась нам предпочтительней — пусть встреча произойдет не в конце ноября, а в середине декабря, к концу года, важно, чтобы она была существенной.
Забегая вперед, скажу, что такая постановка вопроса придала динамику переговорам на всех уровнях и прежде всего обеспечила еще большую подключенность министров и самих «первых лиц», что было беспрецедентным в практике наших отношений. Естественно, я увязывал интенсификацию всей работы и с перспективой приезда Президента Соединенных Штатов в Москву. Для этого, как и для моего визита в Вашингтон, надо было заложить хорошую основу.
Словом, СССР и США прошли этап первоначального прощупывания, философских рассуждений и общих оценок, а заодно и взаимной пикировки, «обстрела» претензиями и упреками. В конце концов наши американские партнеры признали: пришла пора уходить от старого стиля ведения дел, отбросить инструментарий времен «холодной войны».
В целом началась заметная трансформация советского внешнеполитического курса.
Постепенно мы стали отходить от стереотипа, согласно которому винили во всем «империалистический Запад», а собственную политику, все свои действия на международной арене подавали только со знаком плюс, как единственно справедливые. И это не оставалось незамеченным, послужило сигналом к тому, что можно и нужно вступать в конструктивный разговор с Советским Союзом.
Немалое значение имели расширение и динамизация наших контактов с «третьим миром», с такими влиятельными странами, как Индия, Аргентина, Индонезия, Мексика, нейтральными — Швецией, Австрией, Финляндией. В контексте мировой политики это все еще рассматривалось как «соревнование двух сверхдержав», но происходило оно уже на другой основе, с другими целями.
Мы не скрывали ни от «левых», ни от «правых», с которыми встречались, что придаем принципиальное значение налаживанию эффективного сотрудничества и взаимопонимания с США. Однако наша политика не была сориентирована на одно это направление. Американцы, видя нашу активность и оценивая ее возможные последствия, начинали понимать, что их негативная реакция на наше приглашение сотрудничать в конечном счете может сказаться на их авторитете как ведущей державы Запада. Так что все здесь было взаимосвязано.
Чем шире разворачивалась дискуссия в мире вокруг перестройки в СССР, интенсивней становились контакты с политиками, влиятельными общественными организациями других стран, тем ощутимее становилась необходимость в новых идеях, новых взглядах на проблемы, поиске их решения. Все очевиднее становилось, что нужно кончать с противостоянием военно-политических блоков, поднимать роль международных организаций, и прежде всего ООН. В расколотом мире, в годы «холодной войны» она не могла эффективно выполнять функции, возложенные на нее при основании и записанные в ее Уставе. Не наступает ли время в полной мере использовать возможности этой всемирной организации? Размышлениями на эту тему я поделился в газете «Правда» в сентябре 1987 года.
Визит в Вашингтон. Первый Договор о ядерном разоружении
7 декабря 1987 года наш ИЛ-62 приземлился на авиабазе «Эндрюс». В аэропорту меня, Раису Максимовну и сопровождающих лиц встретили госсекретарь Джордж Шульц с супругой. Краткое приветствие, ответное слово, и наш кортеж отбыл в Вашингтон. Мы ехали с госсекретарем, он был в хорошем настроении, разговор вращался вокруг программы визита. Это был мой первый приезд в США, и я поделюсь с читателем своими впечатлениями от встречи с Америкой. Но сначала о том, что было кульминацией визита — первый Договор о ядерном разоружении. Потом будут СНВ-1 и СНВ-2, но все началось с Договора по РСМД. Не будь его, вряд ли появились бы последующие. Да и в мире многое могло оказаться другим — ведь сам Договор по РСМД был первым зрелым плодом изменившейся ситуации, началом пути по выходу из «холодной войны».
Подписание происходило в торжественной обстановке. Естественное волнение охватило всех участников события. Перед началом подписания мы остались вдвоем с президентом и по сигналу протоколистов направились в зал для подписания. Телевидение начало трансляцию, присутствующие встретили нас стоя. Процедура подписания заняла несколько минут. Мы обменялись русским и английским текстами Договора и ручками, специально изготовленными для этого случая. Крепкое мужское рукопожатие, а затем Рейган и я обратились к американскому и советскому народам, ко всему миру.
Президент сказал: «Сегодня я от имени Соединенных Штатов и Генеральный секретарь от имени Советского Союза подписали первое в истории Соглашение о ликвидации целого класса американских и советских ядерных вооружений. Это войдет в историю. Многие так называемые мудрецы не однажды предрекали, что невозможно будет добиться такого Соглашения. Слишком много сил и факторов было против. Мы стойко придерживались своего, не сдавались. И я надеюсь, господин Генеральный секретарь меня простит, если я признаюсь, что в самые мрачные моменты, когда действительно казалось, что Соглашение окажется невозможным, я подбадривал себя словами великого русского человека, Льва Толстого, который писал: «Самые сильные воины — это время и терпение».
В своем обращении я счел нужным сказать: можно гордиться тем, что мы сажаем росток, способный превратиться в могучее дерево мира. Но, наверное, еще рано раздавать друг другу лавровые венки. Великий американский поэт и философ Эмерсон сказал: «Лучшая награда за хорошо сделанное дело — это сделать его». Так давайте вознаградим себя, приступив к делу. Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории, датой, которая обозначит водораздел, отделяющий эру нарастания ядерной угрозы от эры демилитаризации жизни человечества.
Считаю уместным сделать здесь небольшое отступление, тем более что по прошествии некоторого времени, как мы и предполагали, развернулась критика именно по этому вопросу. Некоторые горячие головы и политиканствующая публика начали говорить о том, что Договор по РСМД нанес ущерб безопасности СССР, нарушил баланс интересов, что Горбачев пошел на него лишь ради того, чтобы подкрепить свои амбиции насчет «нового мышления».
Размещение ракет СС-20 в Европе отражало стиль политики тогдашнего руководства, методы принятия решений, имевших серьезные последствия для страны. Мои поиски на этот счет привели к неутешительному выводу. По сути дела, это важнейшее решение, затрагивающее интересы не только нашей страны, но Европы и мира, было принято без анализа последствий политического и стратегического порядка.
Как мне удалось прояснить для себя, дело выглядело так. Министр обороны СССР Устинов доложил Брежневу, что ракеты меньшей дальности, дислоцированные в европейской части СССР, устарели, их надо заменить. Но суть состояла не в «устарелости». Исследовательские работы по совершенствованию оружия подвели к возможности создания ракет СС-20, намного превосходивших своих предшественников по дальности, точности, управляемости — по всем параметрам. По существу, они имели стратегические характеристики. Под каким бы предлогом ни принималось решение о размещении СС-20, какие бы аргументы на этот счет ни использовались, такие люди, как Андропов, Громыко, в не меньшей мере и Косыгин, хорошо понимали, чем оно грозит. Но никто по-настоящему не просчитал вероятной реакции Запада. Скажу прямо: это была непростительная авантюра, совершенная под давлением ВПК. Возможно, на политическое руководство подействовал такой довод: установим свои ракеты, а на Западе борцы за мир не позволят принять ответных мер. Если так, это была сверхнаивность.
Гельмут Шмидт, встречаясь со мной позже, все время возвращался к этому вопросу и выражал нескрываемое удивление. Он вспомнил, что, будучи канцлером, беседовал с одним из заместителей Косыгина в ходе кратковременной остановки в аэропорту Шереметьево по пути, кажется, в Японию или одну из дальневосточных стран. И предупредил: реализация программы СС-20 советской стороной вызовет серьезные ответные меры, ибо размещение таких ракет меняет всю военно-политическую ситуацию.
Откровенно говоря, такое наше решение отвечало интересам Соединенных Штатов в «холодной войне». Но не только и, может быть, не столько. В результате принятых НАТО ответных мер под угрозой оказалась безопасность Советского Союза, так как под удар «Першингов-2» попадала самая населенная часть страны. Они достигали целей не более чем за 5 минут, и защиты против них у нас практически не было.
Подписанием Договора по РСМД мы, по сути дела, отвели пистолет от виска страны. Я уж не говорю об огромных, ничем не оправданных материальных затратах, связанных с производством и обслуживанием СС-20, которые пошли на потребу военно-промышленного комплекса, этого всепожирающего молоха.
Наши военные специалисты, кстати, прекрасно понимали, что размещение СС-20 было авантюрой, против «Першингов-2» у нас нет защиты. В этом случае могу сослаться на маршала Ахромеева. Этот крупный военный специалист, прямой, честный человек не скрывал своего отрицательного отношения к этой пагубной затее и сыграл большую роль в том, чтобы ликвидировать опасность, которую мы сами на себя накликали. Я имел возможность лично убедиться в масштабах опасности, побывав в Подмосковье на одном из оборонных объектов и встретившись с экспертами высшего класса. Практически целый день слушал их доклады (со мной были представители политического руководства, военно-промышленного комплекса, Совета Министров СССР) о возникшей ситуации. Особенно «докапывался», есть ли у нас средства, способные отразить атаку «Першингов». И получил ответ (разумеется, на тот момент), что таких средств нет.
Словом, надо было действовать как можно быстрее, пока программа установки американских ракет средней дальности не была полностью реализована. Если бы это произошло, НАТО вряд ли захотело бы поступиться обретенным преимуществом. Не утверждаю этого безапелляционно, но, во всяком случае, при таких условиях было бы труднее заключить Договор по РСМД.
Итак, я считал себя обязанным отвести смертельную опасность от страны и исправить ошибку колоссального масштаба, допущенную советским руководством в середине 70-х годов. В известном смысле считаю это достижением такого же масштаба, как вывод советских войск из Афганистана. Но это нужно было не только нам, но и всем европейцам.
Договор по РСМД, помимо его основного назначения, содержал много полезного, что должно было понадобиться уже в ближайшее время для работы над соглашением о стратегических наступательных вооружениях. Особенно это касалось проблемы контроля. Мы выходили на новую ступень доверия в отношениях с США, начинали реальный процесс разоружения, создавали систему безопасности, основанную уже не на угрозе взаимного уничтожения, а на комплексном сотрудничестве.
Существовал еще вопрос о ракетах меньшей и малой дальности. Министерство обороны, МИД, эксперты, работавшие под руководством Генштаба, были согласны в том, что постановка его обоснованна. Ракета меньшей дальности по техническим данным практически выходила на нижний уровень СС-20 — при незначительной модернизации и снижении веса она могла бы запускаться на более далекие расстояния. Настаивая на сохранении этой ракеты, мы рисковали получить ситуацию, аналогичную той, какую создало размещение СС-20 и «Першингов-2». Тем более существовала уже программа модернизации аналогичной американской ракеты.
И на этот раз самой важной темой переговоров была проблема стратегических наступательных вооружений. Шаг за шагом мы продвигались навстречу друг другу в том, что касалось подуровней, крылатых ракет морского базирования, телеметрии, многих других частных, но весьма существенных проблем. Однако все опять упиралось в СОИ и ПРО.
Какие ограничения налагает Договор по ПРО на испытания СОИ, что случится после окончания «периода невыхода» из этого соглашения — вот вопросы, бывшие предметом страстных споров до последнего момента. Американцы добивались принятия совместного заявления, предусматривавшего право обеих сторон после десятилетнего периода разворачивать оборонные системы. (Представьте, пойди мы на эти условия, в 1997 году над Землей могли быть подвешены ядерные и лазерные средства поражения!) Мы настаивали на том, что Договор по ПРО автоматически останется в силе и каждая из сторон обязана будет не менее чем за полгода сообщить о своем намерении выйти из него.
Я повторил то, что уже неоднократно заявлял президенту и мировому сообществу: перенос гонки вооружений в космос сделает бессмысленными переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Дискуссии по СНВ продолжались практически на протяжении всего визита, а работа над положениями, относящимися к Договору по ПРО, завершилась, когда нам с президентом нужно было идти на лужайку перед Белым домом и участвовать в заключительной церемонии. Пора идти, а документа нет. Идет мелкий дождь. Собрались все приглашенные, готовы оркестранты и военные для торжественных проводов. Мы с Рейганом стоим в вестибюле Белого дома и ждем результатов. Еще раз ко мне подходит Ахромеев, мы обсуждаем компромиссную формулу, на которую вышли переговорщики. Наконец обе стороны согласились с формулой: стороны будут соблюдать Договор по ПРО в том виде, в каком он был подписан в 1972 году: исследования, разработки, испытания не должны противоречить этому договору, США и СССР не выйдут из договора в течение известного времени.
Совместное заявление, как видно, не снимало разногласий, и они появились в первые же часы, когда началась интерпретация итогов визита.
Снова вернусь к упоминавшейся конференции в Принстонском университете в феврале 1993 года. Выступая там, бывший министр обороны Карлуччи признался, что сам он никогда не верил в программу СОИ, называл ее не иначе как «любимое бэби президента». Говорил, между прочим, что советское руководство переоценило значение СОИ. Но я-то думаю, не переоценило: мы ставили вопрос с принципиальной точки зрения, мыслили стратегически, ответственно, не хотели допускать гонку вооружений в космос. Это сорвало бы весь начавшийся процесс разоружения. Так я думал тогда, так думаю и сейчас.
Диалоги с Америкой
При составлении программы моего визита в Америку получилось так, что за пределы столицы мне вряд ли удастся выбраться. И дело было не только в дефиците времени — так, собственно, и американцы, и советские смотрели на первый визит. Наверное, сказывалось, что подобного визита не было с 1974 года. И уж очень много в связи с этим было волнений с обеих сторон, в каком «формате» его проводить. Президент Рейган, правда, говорил и писал мне, что он хотел, чтобы я посетил разные регионы Соединенных Штатов. Но когда речь пошла о программе, об этом как-то забыли. Служба безопасности, в первую очередь советская, тоже не хотела осложнений, настойчиво рекомендуя на первый раз ограничиться столицей.
Однако в конечном счете программа меня и всю делегацию, попросту говоря, «заперла» в Вашингтоне. Поэтому я начал думать, как все-таки и в этих рамках, за пределами официальных мероприятий, встретиться с американцами. И удалось организовать встречи с представителями американской общественности, ведущими издателями, редакторами, бизнесменами.
Программа Раисы Максимовны, кроме того, включала поездку по Вашингтону, посещение Национальной художественной галереи, беседу за чашкой чая у Памелы Гарриман с приглашением выдающихся женщин Америки.
В целом мы своей первой поездкой в США остались довольны и вернулись в Москву с большими впечатлениями. Позднее нам с Раисой Максимовной пришлось еще не раз побывать в Соединенных Штатах, посетить многие места на западе и востоке страны, познакомиться со срединной Америкой — не добрались только до самых южных штатов.
Мне нравятся американцы своей естественностью, раскованностью, демократизмом, жизнестойкостью и, конечно, приверженностью свободе. Но их образ жизни слишком отличается от нашего, адаптироваться к нему другим не так-то просто. Может быть, тут играют роль установки и стандарты, производные от того, что США формировались как страна эмигрантов.
Сознаюсь, в поездках в 1992–1993 годах я был приятно удивлен тем, с каким вниманием американцы отнеслись к моим лекциям. Так было в Фултоне, где я выступал на открытом воздухе перед 15 тысячами слушателей; в Стэнфорде меня слушали 12 тысяч; в Вирджинском университете на юбилее, посвященном 250-летию Джефферсона, — 25; в университете Эмори — 35 тысяч человек. Раньше я думал, что слушание лекций — занятие не для американцев. Но это оказалось не так и меня порадовало. Значит, мои представления были ошибочными или изменились (может быть, меняются!) сами американцы.
А вот от первого визита остались противоречивые впечатления. Еще тогда, когда шла работа над программой, и сам президент, и те, кто ему помогал, проявляли сдержанность, уж очень старались построить ее так, чтобы не дать «набрать очки» визитеру. Ничем другим не могу объяснить тот факт, что обсуждение вопроса о моем выступлении в конгрессе закончилось ничем. Кроме того, Рейгану приходилось маневрировать. Демократы, как я понимаю, не хотели, чтобы лавры за успехи во внешней политике целиком достались президенту-республиканцу. Эта тема обсуждалась в прессе, и в конце концов была предусмотрена моя встреча только с лидерами конгресса.
Нечто подобное было и во Франции, где я также выступал не в парламенте, а перед членами палаты, хотя присутствовали все основные «действующие лица». То же самое было в Англии. Американцы, видимо, решили следовать этому примеру.
Так или иначе, я остался доволен встречей с лидерами конгресса. Со многими конгрессменами у меня установились хорошие отношения, которые я поддерживаю и сейчас.
Странные вещи происходили с программой Раисы Максимовны. Предполагалось, что она будет иметь возможность не только обозреть из лимузина достопримечательности Вашингтона, но и остановиться в нескольких пунктах. Однако автомобильный кортеж с невероятной скоростью промчался мимо предусмотренных для ознакомления мест, где американцы рассчитывали встретиться с супругой Генерального секретаря ЦК КПСС. Им пришлось довольствоваться зрелищем мчавшегося автомобиля. Все были в недоумении, и прежде всего сама Раиса Максимовна, — в чем дело, почему нет остановок?! Ей пояснили: таково требование службы безопасности.
Пресса загудела, высказывая удивление поведением жены генсека, ибо организаторы не только намекали, а прямо заявляли: таково, мол, ее решение. Но этим не ограничилось. На протяжении всего визита со страниц американской печати не сходила тема о «холодной войне» между «первыми леди» — Раисой Максимовной и Нэнси Рейган. Раиса Максимовна и Нэнси — люди весьма разные и по жизненному опыту, и по профессиональным интересам. Нэнси — актриса, Раиса Максимовна — научный работник. Да и страны наши слишком своеобразны по своим традициям, в частности и в том, что касается положения супруги главы государства.
Признание определенного положения «первой леди» — не в традициях нашего общества. Да и для Раисы Максимовны такой проблемы не существовало. Другое дело — она близко к сердцу и с большой ответственностью приняла и мое избрание Генеральным секретарем, и дело, которое я начал. И старалась в меру сил и возможностей помогать мне во всем. Особенно в налаживании живых человеческих контактов во время зарубежных визитов и при приеме иностранных деятелей в Москве. Так что ни с кем она не «воевала», а, напротив, многое делала для взаимопонимания.
Не говоря уж о трудностях, которые пришлось преодолевать при обсуждении основной темы визита — разоружения, у нас с Рейганом возникали тогда небольшие «стычки», своего рода отголоски все той же идеологической конфронтации. В одной из бесед президент начал мне «выговаривать». Я вынужден был прервать его и спокойно сказал:
— Господин президент, вы — не судья, я — не подсудимый. Я представляю, как и вы, великое государство и рассчитываю, что наш диалог будет вестись на основе взаимности, равенства. Иначе у нас разговора просто не будет.
Моменты подозрительности, колкости присутствовали и при других встречах. Но постепенно их становилось меньше. Партнеры привыкали друг к другу, перестали «заводиться» с полуслова и «давать отпор» на всякое не пришедшееся по нраву заявление. А когда все-таки в ходе переговоров возникали острые столкновения — этого никогда не избежать, — старались смягчить ситуацию шуткой. Склонность к юмору у американцев, можно сказать, — черта национального характера. Думается, уже в ходе визита многое обдумал и перешагнул через сложившиеся у него стереотипы сам Рейган, а дальше всех пошел в этом смысле Шульц.
Американцы буквально засыпали письмами, приветствиями, обращениями советское посольство, которое являлось моей резиденцией. Газеты не пожалели полос, а телекомпании — времени для освещения всех подробностей визита.
На мое приглашение встретиться откликнулись: С.Вэнс, Г.Киссинджер, Дж. Кеннан; представители антивоенных организаций, Союза обществ дружбы; религиозные деятели: Дж. Бернардин, Б.Грэм, Э.Снайдер, А.Шнайер; ученые: С.Биалер, Р.Адамс, Д.Ток, Дж. Брадемас, Дж. Визнер, Д.Гамбург, К.Гелбрэйт, С.Дрел, С.Коэн, Б.Лаун, Дж. Симпсон, М.Шульман, Дж. Уолд, Дж. Стоун; деятели культуры: Г.Видал, Дж. Болдуин, Дж. Деневер, Р. де Ниро, Б.Ланкастер, А.Миллер, П.Ньюман, И.Оно, Д.Оутс, Г.Пек, М.Стрип.
Я назвал лишь часть из тех нескольких десятков выдающихся американцев, собравшихся в Овальном зале посольства. Были и с нашей стороны известные деятели науки и культуры. Встреча вызвала большой резонанс в Америке, да и у нас.
Свой разговор я начал, оттолкнувшись от писем, присланных мне из Америки, — только за 1987 год их было свыше 80 тысяч. Сказал о впечатлении от чтения этих волнующих документов. Политики и интеллектуалы отстают от того, что граждане наших стран уже осознают, чувствуют. Наверное, подошел момент, когда мы должны найти способ воспринять эти настроения, способствовать встречному движению. Мир изменился. Здесь присутствуют авторы и сторонники теорий «балансирования на грани войны», «сдерживания», «отбрасывания» и т. п. Но объект для таких теорий исчезает. Не поняв этого, мы не сможем вступить на путь оздоровления международных отношений, сотрудничества.
Конечно, моих собеседников интересовала моя оценка всего происходящего в Союзе. Тогда, в декабре 1987-го, впервые было сказано: «Мы начали нашу концепцию соединять с жизнью. Это задевает миллионы людей. Ближайшие два-три года (!) будут самыми болезненными. Все должно измениться».
Мое убеждение было тогда, да таким же оно и остается сейчас — не может быть плодотворного сотрудничества между странами без экономических связей. А они между СССР и США практически отсутствовали, если не считать наши закупки зерна. Мы были изолированы друг от друга и политическими решениями, и ограничениями, имевшими целью не допустить перетока технологии. Пресловутые списки КОКОМ не давали возможности не только самой Америке, но и многим другим странам сотрудничать с нами на современном технико-экономическом уровне. Увязки торговли с правами человека ставили в тяжелое положение тех, кто хотел по-настоящему вести с нами дела. Только отдельные американские бизнесмены прорывались на наш рынок.
Обо всем этом я повел разговор на встрече с деловыми людьми США, в которой приняли участие представители разных сфер бизнеса: С.Экер, У.Эндрюс, А.Хаммер, Б.Хилтон, Д.Кендалл, Д.Кэрнс, Р.Кеннеди, Л.Лаудер, Р.Махони, Х.Максвелл, Дж. Мерфи, Д.Питерсон, Дж. Петти, Д.Рокфеллер, Ф.Рохатин, Э.Спенсер, Т.Тернер, Р.Вуд, А.Клаузен, Дж. Робинсон, министр торговли США У.Верити.
Свою беседу с ведущими издателями я построил вокруг одной темы: нам всем надо учиться жить в новом мире. Эта встреча комментировалась в прессе с акцентом на перебранку между мною и издателями. Возможно, я и проявил несдержанность, о чем сожалею. Но с самого начала встречи посыпались подковыристые вопросы, на которые, кстати, я уже отвечал десятки раз. Беседа превращалась в заурядную пресс-конференцию, и это вызвало огорчение. Постепенно мы успокоились и нашли общий язык.
Наше «нашествие» на Вашингтон было успешным в немалой мере потому, что не преследовало никаких «подрывных» целей. Говоря «нашествие», я имею в виду не только себя, Раису Максимовну, ближайших сотрудников, входивших в состав делегации, а всех, кто был тогда со мной в США. Это — крупные фигуры академической науки, художественной интеллигенции, большая армия журналистов. Они приехали раньше, вступили в контакты со своими американскими коллегами, участвовали в разнообразных дискуссиях, дали множество интервью.
Оказалось, у нас есть о чем говорить, и люди наши умеют говорить по-человечески о самых острых проблемах, накопившихся за годы «холодной войны». Говорить, избавляя самих себя от прежних клише и догм. Они обрели свободу мысли и показали, что умеют ею пользоваться с чувством ответственности, без лени и демагогии. Таковы были первые плоды гласности.
В центре многочисленных дискуссий было уже не упорное отстаивание идеологических постулатов, а стремление услышать и понять друг друга. И это было не меньшим достижением, чем подписание договора.
Незабываемы эмоциональные впечатления от тех насыщенных встречами дней. На приеме в Белом доме мы встретились с Ваном Клиберном. В нашей памяти он запечатлелся молодым, когда на Первом конкурсе имени Чайковского в Москве завоевал первую премию за исполнение Первого концерта великого русского композитора. После дружеских объятий Клиберн еще раз сел за рояль и стал тихо наигрывать и напевать «Подмосковные вечера»… Это был подарок советским гостям. Песня, написанная Соловьевым-Седым к Московскому молодежному фестивалю 1957 года, стала ведь у нас чуть ли не народным гимном. Мы не удержались и в порыве чувств подхватили мелодию, зазвучала она на двух языках.
Закончился прием и концерт. Шли в хорошем настроении по коридорам Белого дома и мы, и американцы. Проходим мимо портрета Линкольна, и переводчик мне шепчет: «Видите, идут два генерала… Так вот, один другому, показывая на портрет, сказал: видел бы старик Линкольн, что происходит, — у Белого дома развевается красный флаг с серпом и молотом, а внутри него поют «Подмосковные вечера»!
На приеме в госдепартаменте я увидел Джорджа Шульца в роли гостеприимного хозяина, умеющего создать теплую, дружескую атмосферу. Собрались люди со всех уголков Америки, «сливки общества». Шульц пригласил на эту встречу всех своих предшественников на посту госсекретаря.
Свою речь на этой встрече я считаю самой удавшейся за весь визит. Само собой разумеется, я говорил о Договоре по РСМД и значении этого события. Но лейтмотив был другим.
«Сейчас сотни миллионов людей начинают понимать, что вместе с окончанием XX века цивилизация подходит к черте, разделяющей не столько системы и идеологии, сколько здравый смысл, чувство самосохранения человеческого рода, с одной стороны, и безответственность, национальный эгоизм, предрассудки, словом, старое мышление — с другой. Человечество начинает осознавать, что оно отвоевалось, что с войнами надо кончать навсегда. Две мировые войны, изнурительная «холодная война» вместе с малыми войнами, унесшими и уносящими до сих пор миллионы жизней, — более чем достаточная плата за авантюризм, амбициозность, пренебрежение к интересам и правам других. За нежелание и неумение считаться с реалиями, с законным правом всех народов на свой выбор, свое место под солнцем.
Современный мир не есть монополия одного или группы государств, какими бы они ни были могущественными. Мир — дело и удел многих, вместе взятых. А там, где взаимодействуют многие, без взаимности и компромиссов не обойтись. Мир с позиции силы внутренне непрочен, что бы о нем ни говорили. По самой своей природе он основан на конфронтации, скрытой или явной, на постоянной опасности вспышек, на искушении применить силу.
Человечество веками вынуждено было мириться с таким действительно худым миром. Больше мы не можем себе этого позволить. Некоторые находят, что при подготовке Договора советская сторона уступила слишком много, другие, что американская сторона сделала много уступок. Думаю, что неверно ни то, ни другое. Каждая сторона уступила ровно столько, сколько надо было, чтобы пошел процесс разоружения, чтобы установить минимум необходимого доверия друг к другу, не поступаясь ничьей безопасностью… На языке простого человеческого общения и по-русски, и по-английски достигнутое нами означает возрождение надежды».
Разговор в автомобиле
Существенная беседа с вице-президентом Бушем, который должен был по протоколу провожать меня в аэропорт, состоялась у нас с ним в автомобиле.
Содержание ее было настолько существенным, что можно с полным основанием считать: тогда мы заложили основу нашего взаимопонимания и доверия. Этот разговор стал своего рода паролем в контактах. Не раз потом, обсуждая с необходимой осторожностью в присутствии других людей тот или иной вопрос, я или Буш говорили: «Подтверждаю нашу договоренность в автомобиле». Или: «Оценки остаются такими же, какими были в автомобиле».
Вот некоторые выдержки из той беседы 10 декабря 1987 года.
«БУШ. Мы с женой смотрели вашу пресс-конференцию практически полностью. Она произвела на нас сильное впечатление. Визит завершается успешно.
ГОРБАЧЕВ. Мы, видимо, выходим на новый этап наших отношений. Налицо новые возможности, надо их максимально использовать.
БУШ. Согласен, сейчас для этого есть условия. Вы лично этому здорово способствовали. В рамках моей предвыборной кампании я участвовал сегодня в прямой телепрограмме «Вопросы и ответы», разговаривал с жителями штатов Среднего Запада, нашей глубинки. Реакция на ваш визит там буквально на грани эйфории… Должен сказать, вы удачно отвечали на вопросы на пресс-конференции. Некоторые из них были нелегкими. Например, вопрос: оправдала ли встреча с президентом ваши ожидания насчет разоружения? В ответ вы, по-моему, совершенно справедливо сослались на свое вступительное заявление, в нем действительно все сказано.
ГОРБАЧЕВ. Поэтому оно было довольно пространным. Но главная моя мысль: в ближайшие месяцы предстоит большая работа.
БУШ. Хочу сказать о предстоящих месяцах. У меня они в значительной степени будут заняты предвыборной кампанией. Все станет ясно примерно в середине — конце марта. Если дела у меня будут идти как сейчас, а, судя по опросам, они идут хорошо, и я смогу добиться крупных успехов на первичных выборах, то вопрос о моем выдвижении от республиканской партии будет решен. Если это сорвется, будет выдвинут Доул. Остальные — Дюпон, Робинсон… серьезных шансов не имеют. Я привержен делу улучшения советско-американских отношений. Если буду избран, продолжу начатое. Доул тоже, кстати, мог бы стать хорошим президентом, в том числе и в плане развития советско-американских отношений.
Конечно, с нами у вас могут возникать те или другие трудности, но не это главное. В свое время понадобился Ричард Никсон, чтобы совершить поездку в Китай. Сейчас понадобился Рональд Рейган, чтобы подписать и обеспечить ратификацию Договора о сокращении ядерных вооружений. Это роль для консерватора. А правее Рейгана в Америке никого нет, правее некуда. Дальше экстремистская братия, но она не в счет. Широкий спектр — за договор.
С демократами у вас будет в целом неплохо, но они, как у нас говорят, «доставку не обеспечивают». Они не смогут обеспечить поддержку крупных договоренностей, хотя надо признать, с любым из нынешних кандидатов из демократов ваши отношения, наверное, складывались бы довольно гладко. В предстоящие месяцы, несмотря на занятость в предвыборной кампании, я был бы готов, в случае необходимости, оказывать содействие в решении каких-то советско-американских вопросов, устранении возможных неприятностей.
ГОРБАЧЕВ. Я ценю то, что вы сказали, ценю, в каком духе это было сказано, я тоже считаю, что предлагаемый вами контакт может быть полезен. Вы уже высказали эту идею Добрынину — он мне говорил. Я это поддерживаю. Ну а если вам суждено руководить страной, то, надеюсь, будем продолжать взаимодействие. Хорошо, что вы высказали такое намерение».
После паузы, когда мы оба обдумывали значение произнесенных слов, разговор возобновился.
«БУШ. А как, на ваш взгляд, будут развиваться советско-китайские отношения, политика Китая?
ГОРБАЧЕВ. Мы проанализировали и пришли к твердому выводу — Китай будет всегда проводить самостоятельную политику. И это, как мы считаем, положительно. Будем развивать отношения с КНР. Китайцы будут, конечно, отстаивать свои интересы, мы — свои. Но можно найти баланс. Мы думаем, перспектива в советско-китайских отношениях есть. При этом не собираемся наносить ущерб американо-китайским отношениям.
БУШ. Я с вами согласен. Не вижу в развитии советско-китайских отношений какой-либо угрозы для США. Мне часто задают вопрос об этом, и всякий раз я отвечаю, что опасности не вижу.
ГОРБАЧЕВ. Китай будет все активнее.
БУШ. Правда, активность эта уже вызывает беспокойство у его соседей — стран АТР, в АСЕАН.
ГОРБАЧЕВ. Да, мы заметили это.
БУШ. Особенно в Индонезии.
ГОРБАЧЕВ. Ясно, что Китай будет все активнее выходить на внешние связи, и в частности в АТР. Советский Союз — тоже. Мы тоже принадлежим к этому региону. Выступая во Владивостоке, я высказал мысль, которую очень хотел бы донести до американского руководства: выходя в АТР, Советский Союз никак не собирается подрывать чьи-то интересы, в том числе интересы США. Мы признаем значение этого региона для вашей страны, для Запада. Никаких скрытых намерений, ничего, кроме желания взаимодействовать и налаживать сотрудничество со странами региона, у нас не было и нет.
БУШ. Это отвечает и моим концепциям».
Я уже сказал, что на этот разговор мы часто ссылались впоследствии, когда Буш уже стал президентом. Я высоко оценил это признание вице-президента, сделанное в такой момент — на переломе советско-американских отношений. И был откровенен с ним, с полной ответственностью вел доверительный диалог впоследствии, что, по-моему, имело огромное значение для наших стран, для мировой политики.
Когда мы встретились вновь во время моего приезда в Нью-Йорк в ООН в декабре 1988 года и он уже был избран, а президент Рейган завершал свою миссию, я сказал в его присутствии, что хорошо запомнил беседу с вице-президентом Бушем в автомобиле (записал переводчик) и ценю масштаб наших тогдашних размышлений, доверительность и приверженность начатому при Рейгане. Буш реагировал соответственно и подтвердил приверженность сказанному тогда. Насколько это было важно и как пойдут наши с ним дела — об этом речь впереди.
Глава 20. Европа: поиск новых подходов
«Европа — наш общий дом»
О своем визите в Великобританию во главе делегации Верховного Совета СССР в декабре 1984 года я уже рассказал. Та поездка заставила меня основательно задуматься о роли и месте Европы в мире. Выступая перед членами британского парламента, я напомнил, что в 70-е годы Европа стала колыбелью разрядки, а затем — хельсинкского процесса. Он получил продолжение на Белградской (1977–1978 гг.), а потом на Мадридской (1980–1983 гг.) встречах. Но работа этих форумов проходила в условиях нового резкого ухудшения международной ситуации. Поэтому реальное их значение свелось к накоплению идей и отредактированных аргументов, пригодившихся в дальнейшем. Стокгольмская конференция по мерам доверия и безопасности, открывшаяся в начале 1984 года, по существу, топталась на месте. В то время у нас принято было вину за все перекладывать целиком на Запад. Но уже в том выступлении перед британскими парламентариями я счел нужным сказать: «Ядерный век неизбежно диктует новое политическое мышление».
Словом, весной 1985 года наша новая внешняя политика, в том числе на европейском направлении, начиналась не «с чистого листа». 40-летие окончания Великой Отечественной войны вновь со всей остротой напоминало о необходимости безотлагательно решать проблемы безопасности в Европе. В конце мая эта тема стала одной из главных на нашей встрече с Вилли Брандтом. Я видел, что надежный путь к этому — в полном освобождении континента от ядерного и химического оружия. Понимая, как трудно сразу договориться о полномасштабных мерах, определенно заявил: пусть это будет поэтапное продвижение к цели.
За этим разговором вскоре последовала моя встреча с премьер-министром Италии Кракси (29 мая 1985 г.). Как мне представлялось, у нас с ним была определенная близость в подходе к работе Стокгольмской конференции. Это дало возможность не ходить вокруг да около, без предисловий пригласить итальянское правительство содействовать скорейшему началу переговоров и достижению договоренности, которая соединяла бы крупные шаги политического характера со взаимоприемлемыми конкретными мерами доверия в военной области.
Стремление дать энергичный импульс европейскому процессу определило выбор Франции как страны, куда я совершил первый официальный зарубежный визит в качестве Генерального секретаря ЦК. Мы в Союзе помнили, что импульс разрядке 70-х годов был во многом обеспечен нашим взаимодействием с французами. Накануне отъезда я дал интервью французскому телевидению. Это был первый опыт прямого разговора руководителя СССР с группой западных журналистов перед телекамерами. Откровенно говоря, не представлял психологическую и интеллектуальную нагрузку беседы, когда ты все время под лучами прожекторов и перекрестным огнем журналистов. Тогда и мне, и многим моим соотечественникам показалось, что французы вели себя необъяснимо агрессивно, без должного такта, даже неуважительно. Теперь-то я понимаю, что в значительной мере это объяснялось первым опытом общения, да и время, в которое мы жили, ситуация, в какой находились советско-французские отношения, отмечались недоверием, даже подозрением. Словом, конфронтационное время.
Тогда я стремился довести до французов, да и не только до них, мысль о том, что соблюдение Заключительного акта способно оздоровить климат на континенте, рассеять сгустившиеся тучи. Отвечая на вопрос, подтвердил наш особый интерес к Европе, использовав при этом впервые пришедший на ум образ — ЕВРОПА — НАШ ОБЩИЙ ДОМ. «Мы с вами живем в этой Европе… У нас есть определенные традиции. У нас есть история, из которой мы извлекаем какие-то уроки, учимся на этой истории. Во всяком случае, европейцам мудрости не занимать. Каких бы сторон развития человеческой цивилизации мы ни касались, вклад европейцев огромен. Мы живем в одном доме, хотя одни входят в этот дом с одного подъезда, другие — с другого подъезда. Нам нужно сотрудничать и налаживать коммуникации в этом доме».
Естественно, и в Париже мы говорили с Франсуа Миттераном о Европе. Он высказался тогда полувопросом: «Почему не допустить возможность того, чтобы постепенно… пойти по пути более широкой европейской политики?» А в июле следующего года в Москве я услышал от Президента Франции четко сформулированную мысль: «Надо, чтобы Европа действительно вновь стала главным действующим лицом собственной истории, чтобы она в полной мере могла играть роль фактора равновесия и стабильности в международных отношениях». Это совпадало с моими размышлениями.
Обдумывая цели нашей новой внешней политики, я уже не мог по-старому воспринимать многоцветную, будто лоскутное одеяло, политическую карту Европы. Размышляя об общих корнях столь многообразной, но в сущности единой европейской цивилизации, все острее ощущал условность блокового противостояния, архаизм «железного занавеса». В этой связи и возникла мысль об общем европейском доме. Родившийся как бы спонтанно, этот образ начал самостоятельную жизнь. В самом деле, в Европе острее осознавалась серьезность международной обстановки, угрозы войны. Здесь противостояли друг другу мощные военные группировки, были накоплены «монбланы» оружия, размещались новые ядерные ракеты. С другой стороны, именно в Европе имелся ценный опыт мирного сосуществования государств с различным общественным строем — как входящих в военные союзы, так и нейтральных.
Важно было избавить общественное сознание, а желательно, и политиков от восприятия континента как «театра военных действий» (ТВД — под таким кодовым названием о ней говорили в генеральных штабах). Я был убежден, что Европа призвана стать примером сожительства суверенных, разных, но миролюбивых государств, сознающих свою взаимозависимость и строящих отношения на доверии. Понимал, что путь к этому будет долгим. Тем более нельзя было терять время, надо было делать первые шаги.
После моего выступления с программой ликвидации ядерного оружия к 2000 году немало политиков в Западной Европе объявили этот шаг очередной пропагандистской уловкой, указывая на наше превосходство по обычным вооружениям. Меня это не смутило, я призывал своих западноевропейских собеседников посмотреть на ситуацию по-новому. По тем видам оружия, которого у Запада больше, пусть он произведет соответствующие сокращения, а по тем, где его больше у нас, мы, не колеблясь, ликвидируем «излишек». Давайте искать баланс на пониженном уровне. Задача эта реальная, она неотложна, и мы вправе рассчитывать на позитивный и конкретный отклик Запада.
Еще одну тему я подчеркивал постоянно: возможности, заложенные в общеевропейском процессе, в таком уникальном явлении, как «дух Хельсинки». Летом 1986 года обстановка на Стокгольмской конференции, близившейся к завершению, все еще внушала опасения. Только серьезные взаимные уступки на основе равенства и взаимной безопасности могли обеспечить успех.
Вскоре после завершения «сидения» в Стокгольме должна была начаться (в ноябре 1986 года) Венская встреча представителей государств — участников СБСЕ. Мы готовились к ней с намерением способствовать развитию общеевропейского процесса по всем направлениям — политическому, экономическому, гуманитарно-культурному. Все три (хельсинкские) «корзины» следовало наполнять свежими и полезными плодами.
В этой ситуации появилась необходимость уточнить содержание идеи «общего европейского дома». Тем более слышались упреки — слишком, мол, абстрактная, неконкретная формула. Я решил изложить в цельном виде свои взгляды на эту проблему, и подходящий случай представился — визит в Чехословакию в апреле 1987 года. В Чехии, кстати, расположен географический центр Европы. Это навеяло «европейскую» тему в моем публичном выступлении в Праге.
В свете нового мышления, говорил я, мы выдвинули идею «общеевропейского дома». Это не красивая фантазия, а результат серьезного анализа ситуации на континенте. Этот образ означает, прежде всего, признание определенной целостности, хотя речь идет о государствах, принадлежащих к разным социальным системам и входящих в противоположные военно-политические блоки.
Надо сказать, видные политические и общественные деятели не только Восточной, но и Западной Европы, в том числе и те, чьи политические взгляды были далеки от наших, доброжелательно отнеслись к «общеевропейской идее». Однако сильно еще было взаимное недоверие, питаемое сверхвооруженностью Европы. После Рейкьявика я встречался с главами правительств ряда западноевропейских стран НАТО: Великобритании — М.Тэтчер, Дании — П.Шлютером, Нидерландов — Р.Любберсом, Норвегии — Г.Харлем Брундтланд, Исландии — С.Херманнссоном, с представителями итальянского правительства. Главной темой бесед было: «Европа и разоружение».
Согласившись на первом этапе ядерного разоружения не учитывать ядерный потенциал Англии и Франции, Советский Союз сделал крупный шаг навстречу согласию и формированию доверия.
Долгое время камнем преткновения оставался вопрос о неравенстве, дисбалансе. Он стал предметом обсуждения с руководителями стран Варшавского Договора. С тем чтобы ускорить начало переговоров по сокращению обычных вооружений, условились предложить конкретную трехэтапную схему, предусматривавшую с самого начала устранение всяких дисбалансов — в первую очередь по танкам, ударной авиации, иначе говоря, средствам наступательным. Одновременно предложили создать вдоль линии обоих союзов зону пониженного уровня вооружений, опять же с целью снижения возможности внезапного нападения.
Надо было разорвать создавшийся порочный круг, перейти от слов к делу в области сокращения обычных вооружений. Выступая в польском сейме, я выдвинул предложение провести своего рода «общеевропейский Рейкьявик» — встречу на высшем уровне всех европейских стран. Сама формула «Рейкьявика» как бы предполагала, что речь может идти о таком же прорыве в Европе, какой в свое время внес Рейкьявик на советско-американском направлении.
Возникал вопрос о совместимости концепции «европейского дома» с сохранением военно-политических союзов — ОВД и НАТО. Я подходил к проблеме так: к существующим структурам надо относиться как к реальностям и действовать в расчете на сближение, на сотрудничество, иначе говоря — на постепенную трансформацию и ОВД, и НАТО, чтобы из источника напряженности их отношения становились опорами стабильности. Выдвинули мы в этой связи конкретное предложение — создать постоянно работающий Центр по уменьшению военной опасности в Европе, своего рода место регулярных контактов между представителями обоих блоков.
Концепция «общеевропейского дома» затрагивала и диалектику отношений СССР — Северная Америка — Европа. Конфронтационность между СССР и США вызывала у европейской общественности и политиков тревогу, предпринимались усилия даже выступать в качестве посредника. Но как только появлялись признаки взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, натовская Европа начинала «хмуриться», шли предостережения против «сговора сверхдержав».
Требовалось немало усилий, чтобы развеять у европейцев эти подозрения, убедить, что мы далеки от попыток заключать сверхдержавный кондоминиум, равно как оставить на обочине «общеевропейского дома» США и Канаду. Конечно же, мы сознавали, что это было бы нереалистической политикой. Более того, считали, что надо использовать в Европе то, что уже сделано в оздоровлении советско-американских отношений. Без этого трудно было бы рассчитывать на европейское сотрудничество. И наоборот — без содействия Европы едва ли можно было добиться новых подвижек в отношениях между СССР и США.
Разумеется, для нас были неприемлемы геополитические доктрины, рассчитанные на изоляцию СССР. Такой итог просматривался, между прочим, в тогдашних выступлениях Генри Киссинджера. По его рецептам, когда речь идет о военно-стратегических реалиях, нужно рассматривать Европу как целое от Атлантики до Урала. А вот когда дело касается экономических, научно-технических, культурных связей — одним словом, гражданского, созидательного аспекта «общеевропейского дома», то в него можно «поселить» страны Восточной Европы, но не пускать Советский Союз. С этим мы, конечно, не могли согласиться, и я об этом прямо говорил в своих публичных выступлениях и в беседах с зарубежными деятелями, в том числе с самим Киссинджером.
Венская встреча: новые перспективы
Так, по кирпичику, я продвигал идею «общеевропейского дома». В этом контексте нельзя не сказать об особом значении Венской встречи СБСЕ. Начавшись в ноябре 1986 года, она пришла к финишу в начале 1989 года с позитивными результатами. Знаменательное совпадение: итоговый документ в Вене был согласован день в день три года спустя после моего выступления с программой безъядерного мира. Значит, не была она ни утопией, ни агиткой.
Венский мандат вывел на переговоры по обычным вооружениям и вооруженным силам в Европе, а также на переговоры по мерам укрепления доверия и безопасности. Мы продемонстрировали серьезность своих разоруженческих намерений, пойдя на существенные односторонние меры. И что не менее важно — готовность рассматривать проблему прав человека как неотъемлемый элемент европейского процесса.
Принятый в Советском Союзе принцип разумной достаточности в вопросах обороны целиком вписывался в нашу концепцию «общеевропейского дома». Выработка этой доктрины была делом непростым. Два фактора соединялись психологически в один узел. С одной стороны, забота (и тревога) о надежном мире — народ помнил 1941 год. С другой — невозможность по-настоящему оздоровить экономику без резкого сокращения военных расходов.
В марте 1989 года там же, в Вене, во дворце Хофбург, начались переговоры по обычным вооружениям в Европе. Самым важным мы считали не допустить модернизации любого оружия. Иначе все было бы обесценено, доверие, приобретенное с таким трудом, разрушено.
Венский мандат существенно помог придать нашему диалогу с западноевропейскими государствами более конкретный характер.
— Вы, — говорил мне Миттеран осенью 1988 года в Москве, — выдвинули идею «общеевропейского дома». Прекрасная формула! Но как действовать для ее претворения, как не стимулировать замкнутость в региональном масштабе, а, наоборот, содействовать более интенсивной увязке интеграционных процессов и на Западе, и на Востоке Европы?
Я поддержал идеи французского президента: общеевропейскую программу действий в вопросах окружающей среды, присоединение к научно-техническому сотрудничеству европейских государств, к проекту «Эврика».
Президент считал возможным начать переговоры о сокращении ядерных средств малой дальности после того, как будет решена проблема более мощных видов ядерного оружия. Что касается обычных вооружений — к этой проблеме у Миттерана чувствовался большой интерес, — он согласился начать переговоры на уровне министров иностранных дел после завершения Венской встречи СБСЕ. А через какое-то время, когда определится ход этих переговоров, созвать и предлагаемое нами совещание на высшем уровне. Я сказал, что это не противоречит нашему предложению. Мы не торопились со сроками такой встречи.
Обнадеживающий разговор по интеграционной проблематике был у меня с премьер-министром Италии Де Мита в октябре 1988 года. Как же нам строить «европейский дом», задал я вопрос, имея в виду модные тогда планы военной консолидации западноевропейского союза. Неужели опять сначала разделяться, а потом ломать забор для рукопожатий? Если объединение в экономической и военной областях будет носить жесткий, замкнутый характер, то что станет с общеевропейским процессом? Мы предлагаем сотрудничество и между СЭВ и ЕЭС, и на двусторонней основе.
Общеевропейский процесс значительно поднял роль нейтральных государств Европы. В этой связи для меня значительный интерес представляла беседа с премьер-министром Австрии Враницким. Мы согласны были в том, что европейцы проходят чрезвычайно важный этап своей истории. Для успеха нужна перспективная и реалистическая политика. Желание каждого народа сохранить свой суверенитет — реальность. Наличие Восточной и Западной Европы, которые должны сосуществовать на основе свободы выбора, неприменения силы, взаимного уважения и полезного сотрудничества, — еще одна реальность. И само стремление всех европейцев сближаться, иметь надежную перспективу на будущее — это тоже реальность.
Мне импонировала четкая позиция Враницкого: военно-политическая или экономическая замкнутость Западной Европы крайне нежелательна, этому надо всячески противодействовать.
Говоря об импульсах, которые вывели европейский процесс на новый уровень, не могу не упомянуть своей первой встречи с Гельмутом Колем осенью 1988 года. Ниже я расскажу о ней подробно, сейчас же хочу отметить следующее. Возникшее тогда «с ходу» доверие друг к другу, видимо, объяснялось тем, что он, как и я, связывал свою «политическую карьеру» не просто с установлением добрых отношений между народами наших стран, а с достижением мира во всей Европе. Эмоционально воспринимал это как проблему своей личной жизни, будущего своей семьи, детей. Я подумал — такой вот контакт на уровне ведущих государственных деятелей Запада и Востока (не только с Г.Колем, а и с другими крупными политиками) свидетельствует, что «холодная война» уходит в прошлое.
Великобритания: начало трудного диалога
С конца 70-х годов правительство Великобритании возглавляла лидер консервативной партии Маргарет Тэтчер. Она пришла к руководству под лозунгами урезывания социальных программ, свертывания государственного вмешательства в экономику, поощрения частного бизнеса. В мире поднималась неоконсервативная волна, и одним из главных ее проявлений стал феномен «тэтчеризма». (Позднее этот термин уступил место в статьях экономистов «рейганомике».)
Новому премьеру удалось поправить положение в британской промышленности, остановить падение ее конкурентоспособности на мировых рынках. Консерваторы чувствовали себя, так сказать, на коне, получив на выборах 1983 года вотум доверия на второй срок. Ощущение назревающих перемен на международной арене носилось в воздухе.
Поездка в Лондон в декабре 1984 года дала возможность ощутить эти нарождающиеся настроения и подтвердила мои собственные ощущения. Я почувствовал и желание госпожи Тэтчер использовать нашу встречу, чтобы «прощупать» возможность появления новых тенденций в советском руководстве. Судя по некоторым ее публичным высказываниям, она даже считала, что Англия помогла и в Советском Союзе, и в мире лучше понять личность Горбачева. Расчетливый политик ничего зря не делает.
В общем же, та первая завязь, которая образовалась в конце 1984 года, когда мы познакомились с госпожой Тэтчер в Чекерсе, оказалась жизнестойкой. Мы оба ценили установившийся контакт и скоро хорошо поладили. Может быть, благодаря этой первой встрече советско-британский диалог с моим приходом к руководству страной сразу получил хороший старт, хотя дружественной политику британского правительства в первоначальный период нашей перестройки не назовешь. Англия первой из западных стран поддержала американскую программу СОИ и официально подключилась к ее практической реализации. Встречу в Рейкьявике Тэтчер восприняла как неудачу, полностью солидаризировалась с Рейганом, возложив ответственность за отсутствие договоренностей на Советский Союз. С большим шумом была проведена операция по высылке из Англии группы сотрудников нашего посольства, обвиненных в том, что все они — сотрудники КГБ.
Вместе с тем Великобритания высказывалась за «долгосрочный и конструктивный» диалог с СССР. Показательно, что Тэтчер решила первой нанести визит в Советский Союз. Она была довольно частым гостем в Вашингтоне и, похоже, претендовала на то, чтобы представлять интересы Западной Европы в диалоге между сверхдержавами.
Тэтчер приехала в Москву в конце марта 1987 года. Переговоры проходили в Кремле, в присутствии только помощников и переводчиков. Когда я, подчеркивая важность ее приезда, заметил, что визита такого уровня не было 12 лет, она тут же меня «поправила», сказав: последний раз премьер-министр-консерватор приезжал в Советский Союз более двадцати лет назад.
В качестве ключевых тем беседы Тэтчер предложила следующие: равное право на безопасность, снижение уровня вооружений, доверие. Я приветствовал это, согласившись детально обсудить вопросы ограничения и сокращения вооружений, особенно ядерных. Но прежде чем перейти к сути дела, высказал недоумение тем, что буквально за неделю до визита наша гостья выступила в городе Торки с речью, выдержанной в духе рейгановского «крестового похода» против коммунизма. У нас, сказал я, даже возникла мысль: не собирается ли госпожа Тэтчер отменить запланированный визит?
Тэтчер утверждала, что Советский Союз стремится установить «мировое господство коммунизма», что «рука Москвы» просматривается чуть ли не за всеми конфликтами в мире. Естественно, пришлось ответить на это. Я сказал, что многое и в той речи, и в высказанных вновь обвинениях идет от 40—50-х годов, от присущих консерваторам стереотипов мышления. Но Тэтчер настаивала на своем, заявляя: вы поставляете в страны третьего мира оружие, а вот Запад — продовольствие, да еще помогает создавать там демократические институты. В общем, спор наш приобрел довольно яростный характер.
Конечно, с позиции сегодняшнего дня надо признать (я это сделал уже ранее), что наша политика в отношении развивающихся стран была сильно идеологизирована; в какой-то мере Тэтчер была права. Но ведь известно, что в поставках оружия странам третьего мира всегда первенствовал Запад, причем поддерживались таким образом авторитарные, даже тоталитарные режимы по принципу: «хоть и сукин сын, но это наш сукин сын». Поэтому я предложил не упрощать анализ, указал на внутренние причины конфликтов в третьем мире (теперь, после окончания «холодной войны», это признают даже самые твердолобые консерваторы). Но собеседница была непреклонной. Она с пылом защищала капиталистическую систему и тут уже часто грешила истиной, подавая все в розовом цвете. Конечно, если бы эта дискуссия происходила лет пять спустя, я бы вел ее в несколько ином ключе. Едва ли и госпожа Тэтчер была бы столь категоричной, если бы предвидела все последствия «тэтчеризма», которые позднее вынудили ее досрочно уйти в отставку, а ее преемника — искать выход из самого глубокого в послевоенный период спада в возвращении к кейнсианским рецептам…
Наша беседа подошла к такому моменту, когда я вынужден был сказать:
— Мы откровенно высказали друг другу взгляды на мир, в котором мы живем. Но нам не удалось сблизить наши точки зрения. Пожалуй, расхождение во взглядах после беседы не стало уже, чем до нее.
В высказываниях собеседницы зазвучали, однако, примирительные нотки. Как бы переводя разговор в другую плоскость, она сказала:
— Мы с большим вниманием следим за вашей деятельностью, высоко оцениваем ваши попытки улучшить жизнь своего народа. Я заявляю, что вы имеете право на вашу систему, на вашу собственную безопасность так же, как и мы на нашу, и на этой основе мы и предлагаем вести спор идей, мнений. — И добавила: — При всем различии наших систем мы можем передать друг другу полезный опыт. Мы буквально восхищены той энергичной политикой перемен, которую вы пытаетесь проводить. Здесь у нас общая проблема — как управлять переменами.
Наконец мы перешли к основной теме — контролю над вооружениями. В это время в Женеве проходили советско-американские переговоры по стратегическим вооружениям. Беседу я провел в наступательном тоне. Прямо поставил перед ней вопрос: «Готов ли Запад к реальному разоружению или же ведет переговоры вынужденно, под давлением общественности в своих странах? Был бы рад, если бы вы прояснили этот вопрос».
М.Тэтчер выдвинула свой известный довод: ядерное оружие — самая мощная гарантия мира, другой гарантии в существующих условиях нет.
— Мы, — заявила она, — верим в ядерное сдерживание и считаем устранение ядерного оружия непрактичным.
Отвечая на эти высказывания, я произнес довольно длинную тираду, смысл которой сводился к жесткому выводу: на Западе ищут не выхода, а, наоборот, осложнений.
— Сейчас мы, как никогда, близки к тому, чтобы сделать первый шаг к реальному разоружению. Но как только появилась такая возможность, Запад и госпожа Тэтчер сразу же ударились в панику. Неужели смысл политики тори состоит в том, чтобы мешать разоружению, снижению конфронтации в мире? Поразительно, что Англия может чувствовать себя удобно в таком положении.
Кажется, это несколько смутило госпожу Тэтчер.
— Вот это была речь! — воскликнула она. — Я даже не знаю, с чего начать.
Она стала уверять меня, что Запад вовсе не хочет создавать нам трудностей и осложнять перемены внутри страны путем отказа от разоружения.
Тэтчер вновь и вновь повторяла свой главный аргумент: для Англии ядерное оружие — это единственный способ обеспечить свою безопасность в случае обычной войны в Европе. Поэтому Англия не намерена брать на себя каких-либо обязательств по ограничению своего ядерного потенциала.
В общем, беседа уже вращалась по кругу. Стремясь «разрядить» ситуацию, Тэтчер (надо отдать должное ее самоиронии) поведала, как она сказала, о «забавном случае» в беседе с Хуа Гофеном. На их встречу был отведен один час, Хуа Гсфен проговорил 45 минут, Тэтчер задала вопрос, и он говорил еще 20 минут. И тогда Каррингтон (британский министр иностранных дел) подал своему премьеру записку: «Вы, мадам, слишком много говорите…».
Впрочем, это не помешало Тэтчер еще раз повторить свои основные тезисы.
Тем не менее в заключение беседы Тэтчер сказала, что намерена провести свою пресс-конференцию в конструктивном тоне.
Промежуточная посадка в аэропорту Брайз-Нортон
Должен сказать, что «конструктивная полемика» ничуть не повредила нашим отношениям, напротив, скорее закрепила взаимное расположение друг к другу. Когда в декабре 1987 года я направлялся с визитом в Соединенные Штаты (где предстояло подписание соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Тэтчер предложила сделать остановку в Великобритании. Она приехала встретить нас в аэропорт Брайз-Нортон, где состоялся не очень продолжительный, но обстоятельный разговор, который стал как бы продолжением московской беседы. Видно было, что британский премьер внимательно следит за развитием ситуации у нас в стране. Она сказала, в частности, что уже прочитала вышедшую незадолго до того в Англии мою книгу о перестройке.
— Как и другие западноевропейские лидеры, — сказала она, — я стопроцентно поддерживаю подписание соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Отметила, что это результат не только усилий Советского Союза и США, но и того, что они действовали в согласии и со своими союзниками.
Тэтчер добавила замечанием:
— Главное — это сохранять мир путем поддержания обороны соответствующих сторон на должном уровне. Вы заботитесь о вашей обороне, мы заботимся о нашей обороне, но таким образом, чтобы это давало выход и на контроль над вооружениями.
Разговор зашел о стратегических вооружениях, по которым я собирался основательно говорить с Президентом США. Тэтчер проявила хорошую осведомленность и в этом вопросе. Начав рассуждать в этой связи об оружии первого или второго удара, вдруг спохватилась и заметила:
— Однако, кажется, я начинаю говорить вышедшим из моды языком. На данном этапе уже как-то неуместно говорить о первом, втором ударе, а лучше говорить о сокращении и сотрудничестве.
— Не буду с этим спорить, — заметил я.
Впрочем, Тэтчер тут же добавила:
— В любом случае необходимо, чтобы оставалось какое-то небольшое количество ядерных вооружений для целей сдерживания.
— Кажется, мы продолжаем старый спор с вами о ядерном сдерживании.
— Но оно показало свою эффективность, уже свыше 40 лет сохраняет мир в Европе.
— Наверное, вы согласитесь, что лучше сидеть в удобном мягком кресле, чем на пороховой бочке. Там уже не столько о диалоге думаешь, сколько о том, как бы не взлететь в воздух.
Тэтчер явно хотела продолжить спор, но время встречи подходило к концу.
— Кажется, — заметила она, — что мы только-только начали дискуссию, а уже пора расставаться.
Из сказанного видно, как трудно, несмотря на добрые отношения, развивался поначалу наш диалог. Об этом у меня завязался разговор с Хуа, когда в феврале 1988 года он приезжал в Москву. Поводом стало интервью Тэтчер в «Санди тайме», помещенное накануне. По Тэтчер, получалось, что политика Советского Союза не изменилась, «цели» ее остались теми же: «насаждать коммунистическое влияние повсюду в мире».
— Где же госпожа Тэтчер политик, и где госпожа Тэтчер идеолог? Где здесь политика, а где пропаганда? — спросил я министра. Министр не оспаривал моей интерпретации этого интервью.
Прощаясь, он сказал:
— Будем с нетерпением ждать вашего визита в Великобританию. Вы с Тэтчер, как два стахановца, стараетесь невиданными темпами выполнить ваши планы и всесторонне осветить каждый предмет разговора.
Мой ответ был адекватным:
— Мне ваше сравнение понравилось. Давайте с обеих сторон Трудиться «по-стахановски» над развитием наших отношений.
Официальный визит в Лондон
Визит в Лондон был запланирован на конец 1988 года. Я должен был посетить Англию на обратном пути из Нью-Йорка, где выступал на Генеральной Ассамблее ООН. Но землетрясение в Армении заставило изменить планы — надо было срочно вылететь домой. Пришлось извиниться перед госпожой Тэтчер и отложить визит.
Осуществить визит в Великобританию удалось только в апреле 1989 года. В полночь 5 апреля я и Раиса Максимовна, сопровождающие меня лица из Гаваны прибыли в Лондон, в аэропорт Хитроу.
Со мной приехали по официальной линии Шеварднадзе, Яковлев, Каменцев, Черняев, Ахромеев, Фролов, Ковалев, Фалин, Шахназаров и другие, а из представителей общественности — Терешкова; академики Примаков, Гольданский, Трефилов; писатели Шатров, Ананьев, Су-лейменов, Бээкман; художник Васнецов; Зорин, Потапов и другие журналисты.
У трапа нас встречали специальный представитель королевы Великобритании и лорд королевской свиты Стрэдклайд, Маргарет Тэтчер и ее супруг Дэнис Тэтчер. Уже в аэропорту, затем в автомашине по пути в наше посольство началась беседа с премьер-министром. Она заметила, что на нее большое впечатление произвели состоявшиеся у нас незадолго до этого выборы, высокая активность избирателей, поделилась впечатлениями о поездке по ряду стран Юга Африки. На следующий день предстояли переговоры на Даунинг-стрит, 10.
Ранним утром 6 апреля перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании собрались около трехсот представителей крупнейших телекомпаний, телеграфных агентств и газет мира. В ее сопровождении мы поднялись вверх по узкой лестнице, вдоль которой на стенах — портреты премьер-министров Великобритании с 1732 года.
За два года, прошедшие после встречи в Москве, произошло много изменений. На Западе постепенно происходила переоценка того, как следует относиться к нашей перестройке. Это отразилось на тональности беседы. Тэтчер предложила такой порядок: отношения между Востоком и Западом, контроль над вооружениями, региональные проблемы, двусторонние англо-советские отношения. Но прежде всего попросила рассказать, как идут дела у нас дома, как развивается перестройка. Сказала, что эта тема ее глубоко волнует.
Я представил премьер-министру Англии обширную информацию. При этом высказал обеспокоенность тем, что на Западе стремятся препятствовать положительному восприятию общественностью перемен в СССР. Высказал это с определенным нажимом, учитывая близость Тэтчер с Вашингтоном. Мне, естественно, важно было услышать ее мнение. Она не согласилась с моей оценкой, заявила, что Запад приветствует перестройку, желает ей успехов.
— Это единая позиция всех нас на Западе. Да как же может быть иначе, если ваша политика ведет к расширению прав и свобод человека, к улучшению уровня жизни людей, к утверждению таких ценностей, как свобода слова, собраний, к свободному движению идей и других форм сотрудничества через национальные границы. Поэтому мы твердо говорим, что поддерживаем ваши преобразования, готовы оказывать им содействие, разумеется, при сохранении нашей западной шкалы ценностей, наших союзов, при постоянной бдительности и заботе о безопасности.
Тэтчер говорила искренне. Думаю, информируя Вашингтон об этой беседе, она высказала свои соображения, которые не остались без внимания. Во всяком случае, состоявшийся спустя полтора месяца визит Бейкера в Москву прошел в конструктивном духе.
— Что касается существа ваших внутренних процессов, — продолжала Тэтчер, — то я с самого начала предвидела, что у вас сейчас наступает наиболее сложный этап. Я всегда считала, что труднее всего изменить отношение людей к своей работе, к самим себе, побудить их участвовать в экономических переменах. В условиях политической свободы такие попытки чаще всего вызывают критику, а не желание участвовать.
Одно дело приказывать людям, что им делать и где работать, и другое — сделать так, чтобы они сами работали, как нужно, в условиях крупного производства и сложной технологии. У людей возникает неуверенность в себе и в своем будущем… Старый порядок ломается, а что будет вместо него, люди не знают. И как это — полагаться на свой личный труд и на свою предприимчивость, принесет ли лучшую жизнь.
В рассуждениях премьер-министра звучало опасение, что нарастающие трудности и сопротивление номенклатуры могут создать непреодолимые препятствия на пути реформ. Она видела и другую опасность — поспешность в реформах. Не зря повела разговор о том, сколько времени понадобилось для становления нынешней системы в Англии. Да и собственный опыт Маргарет Тэтчер по осуществлению реформ говорил о том, как важно быть одновременно и решительным, и осмотрительным, расчетливым.
На этот раз у нас были основания отметить позитивные результаты нашей совместной работы и новых подходов в широком международном контексте: соглашение о независимости Намибии, дух сотрудничества в ООН, Совете Безопасности, что привело к перемирию между Ираком и Ираном, благоприятные сдвиги в ближневосточном урегулировании. Забегая вперед, скажу, что я высказал собеседнице нашу обеспокоенность по поводу политики администрации Буша, создавшей паузу в советско-американских отношениях. Премьер-министр сказала, что мои сомнения напрасны.
По окончании переговоров мы приняли участие в церемонии подписания министрами иностранных дел двух стран соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, об улучшении процедуры получения виз и строительстве школы в Армении за счет средств, собранных англичанами. У входа в резиденцию премьер-министра Тэтчер и я сделали заявления ожидавшим нас журналистам. Она охарактеризовала переговоры как существенные, глубокие и дружественные. Я воспользовался случаем, чтобы выразить благодарность правительству и народу Великобритании за помощь, оказанную армянскому народу в ликвидации последствий землетрясения. Сказал, что наш диалог с Великобританией отличается содержательностью и нарастающим взаимопониманием.
С Даунинг-стрит я и Раиса Максимовна направились в Вестминстерское аббатство. Нас сопровождали Маргарет и Дэнис Тэтчер. Возложили венок на могилу Неизвестного солдата, почтив память тех, кто пал в Первой мировой войне и кто вместе с советскими воинами освобождал Европу от фашизма.
На площади перед аббатством собрались тысячи людей, которые бурно приветствовали нашу делегацию. Проехали в машине несколько десятков метров, и я попросил остановиться. Подошел к лондонцам, пожал протянутые руки, обменялся приветствиями. Разговор в шуме восторженных возгласов был невозможен. Но атмосфера этого краткого общения говорила за себя.
Программой визита предусматривалось мое выступление в ратуше Лондонского сити — Гилдхолле. На протяжении пяти веков Гилдхолл был свидетелем всех значительных событий в истории страны, это одна из самых престижных национальных трибун, которая иностранным деятелям предоставляется в исключительных случаях. В великолепном здании собрались видные общественные и политические деятели Великобритании, представители городских властей. У входа нас встречал лорд-мэр К.Коллет с супругой.
К своему выступлению в Гилдхолле я готовился основательно. Оно было посвящено переломному характеру переживаемого периода. Мировое сообщество вышло на развилку двух политик: оставшейся от прошлого политики силы и другой, еще только формирующейся политики, императивом которой является приоритет общечеловеческих интересов и ценностей. На плечи нынешних политических деятелей легло бремя ответственнейшего выбора, судьбоносных решений. Мы в Советском Союзе постарались дать честные, прямые ответы на самые трудные вопросы. Попытались осмыслить свой опыт, собственную историю и окружающий нас мир, свое положение в нем и пригласили всех к диалогу, к взаимодействию ради выживания и прогресса.
Появилась реальная возможность закрыть последнюю страницу послевоенной истории и шагнуть в новый, мирный период. Что касается «доктрины сдерживания», то надо говорить не о «сдерживании» с помощью ядерного оружия, а о «сдерживании» самого ядерного оружия. Выразил надежду, что советско-британские отношения могут внести значительный вклад в укрепление доверия, столь необходимого для решения насущных международных проблем.
Тэтчер в кратком ответном слове заверила: «Мы тоже хотим видеть меньше оружия при условии постоянного обеспечения нашей безопасности и обороны. Тоже предпочитаем решать мировые проблемы путем переговоров, а не путем силы. Тоже хотим действовать сообща в решении широких глобальных проблем». Она обещала изучить сказанное мною «с огромным вниманием» и пожелала успехов советскому народу.
Из Гилдхолла мы направились в загородную резиденцию королевы Великобритании — замок Виндзор. Дорога пролегала по красивым местам сельской Англии. Нас встречали Елизавета II, ее супруг герцог Эдинбургский принц Уэльский Филип. За завтраком в нашу честь состоялась теплая беседа. Королева сама провела нас по залам Виндзорского замка, показав его достопримечательности и замечательную художественную коллекцию. Я выразил надежду, что в удобное время королева Великобритании сможет посетить Советский Союз.
Визит в апреле 1989-го прошел в хорошей атмосфере, отличался большей конструктивностью, значительно возросшим доверием, был примечателен разнообразными контактами.
Пресса уделяла визиту много внимания и в целом была объективной, если не сказать больше — доброжелательной. Хотя английская пресса известна в мире своим критицизмом. Хочу дать ей слово в этих своих заметках о пребывании в Англии. Что она писала?
«Таймс»: «…Несмотря на прохладную погоду, встреча началась в теплой атмосфере».
«Дейли экспресс»: «Советский президент посетил британскую компьютерную компанию и лично «занялся промышленным шпионажем»: он спрашивал рабочих об их образе жизни, о том, в каких домах они живут, а также об их семьях. Он хотел узнать, какие рабочие понадобятся на аналогичных предприятиях, которые он хочет построить в Советском Союзе»… «Мэгги и Михаил все еще обсуждали мир. Раиса, как обычно, покорила его».
«Тудэй»: «Проведенный газетой опрос свидетельствует, что подавляющее большинство верит в искреннее желание русского руководителя освободить мир от ядерного оружия…» «…Британии следует проявлять осторожность в отношениях с Советами. В конце концов, это не демократическая страна. Если королева поедет туда, то это будет означать одобрение коммунизма».
«Дейли мейл»: «Госпожа Горбачева провела около часа со школьниками в Лондонском музее. Дети от нее были в восторге. Такое же настроение царило в соборе Святого Павла, где четырехлетняя Эмми Скотт подарила госпоже Горбачевой цветы».
«Таймс»: «В отличие от Булганина и Хрущева, первых советских руководителей, посетивших Великобританию 33 года назад, президент Горбачев и госпожа Горбачева были приняты королевой не за чашкой чая, а за завтраком из трех блюд и встречены такой церемонией приветствия, по которой лишь самый искушенный знаток протокола смог бы определить, что она чуть-чуть не достигает уровня полномасштабного государственного визита».
«Тудэй»: «Гости королевы кушали основное блюдо, когда господин Горбачев пригласил свою хозяйку в Россию. За филе из говядины с овощами она сказала ему, что, надеется, это будет возможно в подходящее время».
Новая встреча с Маргарет Тэтчер произошла довольно скоро, в сентябре того же года — по ее инициативе. Она сделала остановку в Москве, возвращаясь из Японии.
После нашей апрельской встречи произошло много событий и у нас в стране, и за рубежом. Начались переговоры с президентом Бушем и госсекретарем Бейкером. У меня были встречи с Колем и Миттераном. С ними мы, как и с Тэтчер, были едины в том, что наш диалог отвечает духу времени, духу перемен.
Тэтчер хотела узнать нашу оценку внутренних процессов в стране, как мы намерены двигаться дальше. Постарался дать ей подробную информацию. Потом говорили о положении в странах Восточной Европы. Условились провести новый раунд консультаций экспертов двух стран по проблемам ликвидации химического оружия.
— Будем ли обсуждать ядерные дела? — спросил я. — Наверное, стоит, иначе нас просто не поймут: как это так, встречались Горбачев и Тэтчер и даже не поспорили по ядерному оружию. Не может такого быть.
Я позволил себе иронию, поскольку не рассчитывал на изменение позиции Тэтчер в этом вопросе. Действительно, когда я напомнил, что в своей речи в Страсбурге предложил в качестве промежуточного этапа движения к безъядерному миру согласовать параметры «минимального ядерного сдерживания», имея прежде всего в виду тактическое ядерное оружие (при этом учитывалась и позиция Англии), собеседница в жестком тоне заявила:
— Мы не можем согласиться на ликвидацию ТЯО.
К этому она добавила, что переговоры по ТЯО можно начать только после завершения Венских переговоров, и только при том понимании, что речь не пойдет о полной ликвидации этого вида оружия.
Только неопытному человеку может показаться, что баталии по ядерному разоружению мало что давали. Не забывайте: «капля камень точит».
С Маргарет Тэтчер, талантливым политиком и интересным человеком, мне довелось увидеться еще дважды, пока мы оба еще были на своих постах. Особенно запомнилась встреча в Париже во время Общеевропейского совещания, накануне ее отставки. Об этом я еще расскажу.
Диалог с Францией
Роль Франции и в европейской, и мировой политике своеобразна. Она член НАТО, но не входит в военную организацию. Будучи одним из столпов «Общего рынка», членом «семерки» высокоразвитых стран Запада, постоянным членом Совета Безопасности ООН, Франция с 60-х годов проводила «восточную политику», отнюдь не идентичную натовской, тем более — вашингтонской. Все это предоставляло ей свободу маневра в отношениях с СССР даже в годы «холодной войны». Отношения между СССР и Францией журналисты тогда называли «привилегированными», «образцовыми». Свою, и весьма существенную, роль сыграли при этом уходящие в глубь веков исторические связи между нашими странами и народами, богатые традиции взаимного влияния в области культуры и, конечно, совместная борьба с фашизмом в годы войны.
Однако, думаю, главным были близость или совпадение подходов к некоторым центральным проблемам послевоенного европейского устройства. Отсчет шагов в сторону разрядки в Европе в значительной мере повелся с улучшения отношений Советского Союза и Франции. Достаточно напомнить о знаменательном визите в СССР в 1966 году президента де Голля. Развивая отношения между собой, СССР и Франция выступали одновременно первопрокладчиками политики разрядки в европейском масштабе.
Я не собираюсь идеализировать советско-французские отношения. В них тоже случалось всякое — и хорошее и плохое. Но со времени де Голля стала преобладать позитивная тенденция. Правда, весной 1985 года я застал их не в лучшей фазе. В 1981 году французская сторона резко свернула политические контакты. Возникли острые разногласия не только по Афганистану, но и в связи с событиями в Польше. У французского руководства вызывали прямо-таки аллергию любые упоминания о роли ядерного потенциала Франции в европейском ядерном балансе. Беспрецедентная, явно политического свойства акция по выдворению из Франции большой группы сотрудников советских учреждений тоже не прибавила «взаимопонимания». Хотя и в те годы торгово-экономические обмены сохранялись, общее охлаждение атмосферы было налицо.
Любопытно, что произошло все это после прихода к власти во Франции правительства левых сил. Невольно создавалось впечатление, что социалисты во главе с Франсуа Миттераном, не желая, видимо, обострять и без того сложные отношения с Вашингтоном и правыми силами внутри страны, намеренно демонстрируют «жесткую линию» в отношениях с СССР. Как бы там ни было, я исходил из того, что диалог с Францией необходимо наладить. Не случайно поэтому Париж был избран первым пунктом моих визитов на Запад в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС.
А в июле 1986 года состоялся ответный визит Франсуа Миттерана в Москву. Общее состояние дел в отношениях между Востоком и Западом к тому времени оставалось сложным. Надежды на крупные перемены в мировой политике, возникшие после моей встречи с Рейганом в Женеве, начали угасать. Поэтому продолжение конструктивного диалога с Францией имело особое значение. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, темой бесед с Миттераном были, как и в первый раз, проблемы разоружения.
По отношению к СОИ, договорам по ПРО и ОСВ-2 у нас наметилось определенное сходство взглядов. В частности, Миттеран сказал мне:
— Я отрицательно отношусь к СОИ, вижу в ней угрозу нанесения первого удара. Глубоко убежден в том, что намного лучше изыскивать возможные пути к разоружению, нежели допускать постоянные перегибы. Очевидно и то, что СОИ не только не заменит собой ядерного оружия, но явится существенной прибавкой к уже существующим арсеналам. ,
Он добавил, что Франция не будет принимать участия в осуществлении какой бы то ни было военно-индустриальной стратегии, исключающей возможность ее участия в принятии решений. Это как раз относилось к СОИ.
Миттеран встречался за несколько дней до своего визита в Москву с Рейганом и сказал, что его никак не убедили аргументы Президента США. Вера Рейгана в эффективность СОИ в качестве панацеи, иронически заметил он, носит скорее мистический, чем рациональный характер.
— В беседах с американцами, — говорил Миттеран, — я довольно откровенно спрашивал, чего они конкретно добиваются. Заинтересованы ли они в том, чтобы Советский Союз имел возможность направлять больше средств на цели экономического развития за счет снижения в своем бюджете доли военных расходов? Или же, напротив, США стремятся измотать Советский Союз путем гонки вооружений, оторвать СССР от его глубоких корней, заставить советское руководство все больше и больше средств выделять на непроизводительные расходы, на цели вооружения? Я откровенно сказал Рейгану: первый выбор означает мир, а второй — войну.
Сходство наших взглядов по главным проблемам международного развития позволило мне к концу третьего дня переговоров констатировать:
— Мы были едины в том, что ныне международное положение имеет тенденцию к обострению. Это требует как со стороны Востока, так и со стороны Запада умножения усилий в поисках новых подходов для нормализации обстановки. Из бесед с вами я вынес впечатление, что мы оба не хотим разрушения существующих на сегодня механизмов сдерживания гонки вооружений — Договора по ПРО и Договора ОСВ-2. Напротив, мы за их укрепление. Тем более что, как я понимаю, оба мы также твердо убеждены в том, что нельзя допустить перебрасывания гонки вооружений на другие области — я имею в виду космос. Таким образом, у нас есть близость и совпадение позиций по принципиальным вопросам, что, разумеется, не исключает различий по конкретным аспектам отдельных проблем.
Что же касается «отдельных проблем», то здесь, конечно, были шероховатости, в том числе и в сфере двусторонних отношений. К примеру, торгово-экономическое сотрудничество. Ряд лет Франция имела отрицательное сальдо в торговле с СССР и почти на каждой встрече французская сторона ставила вопрос об увеличении нами закупок французских товаров. На деле получалось так, что именно та продукция, которая нас интересовала, оказывалась в «запретных списках» КОКОМ, где тон задавали американцы.
Я поднял эту проблему. Приведу, по-моему, довольно любопытную выдержку из нашего диалога.
«ГОРБАЧЕВ. Господин президент, вы ведь сами знаете: зачастую, когда мы обращаемся, например, к Франции с предложениями продать нам то или иное оборудование, мы сталкиваемся с тем, что разрешение на продажу производимых во Франции товаров запрашивать приходится совершенно в другом месте. И такого разрешения французские фирмы часто получить не могут.
МИТТЕРАН. Я хорошо вас понял, господин Генеральный секретарь. Дайте мне хоть сейчас список французской продукции, которую вы хотели бы приобрести, и я уверяю вас, вы все получите. Я лично об этом позабочусь.
ГОРБАЧЕВ. Мы поручим Совету Министров составить такой список. Однако я далеко не уверен, что не придется запрашивать позволения у «Вестингауз» или какой-либо другой заокеанской фирмы, а в конечном счете у властей другой страны.
МИТТЕРАН. Передайте такой список. Еще здесь, в Москве, я своей рукой вычеркну те, видимо, немногие запросы, которые могут подпасть под указанную вами категорию. Все остальное мы вам поставим. Важно, чтобы в составленном вами списке не все затрагивало так называемую «чувствительную технологию».
Увы! Ф.Миттеран не смог преодолеть пресловутый КОКОМ. Мы и в дальнейшем часто сталкивались с трудностями при закупках из Франции. Достаточно сказать, что вопрос о продаже Советскому Союзу оборудования для телефонных станций решался более трех лет.
Вскоре после Рейкьявика наступила полоса отчуждения в советско-французских политических отношениях. Причины заключались в том, что, несмотря на декларации о поддержке принципов нового политического мышления, французское руководство на деле продолжало ориентироваться исключительно на ядерное сдерживание. Эта «нестыковка» исходных принципов приводила к противоречиям и непоследовательности в практических вопросах.
По мере того как все более реально вырисовывалась перспектива устранения советских и американских РСМД из Европы и переговоров по 50-процентному сокращению СНВ, мы все чаще слышали скептические голоса из Парижа. Разоружение в Европе надо было, мол, начинать «не с того конца», хотя еще совсем недавно сама Франция активно призывала к ликвидации «першингов» и СС-20. Среди западных стран Франция занимала, пожалуй, наиболее жесткую позицию в отношении сокращения и ликвидации тактического ядерного оружия, обычных вооружений двойного назначения.
Мимо нашего внимания не прошло и принятие во Франции закона о военной программе на 1987–1991 годы, предусматривавшего наращивание и модернизацию французских ядерных сил. Французские руководители в штыки встречали любые предложения взять на себя конкретные обязательства относительно возможности подключения на определенном этапе к ядерному разоружению, об участии в каком бы то ни было обсуждении, касающемся французских ядерных сил.
Безынициативную, выжидательную позицию заняла Франция при обсуждении на Венской встрече вопроса о начале переговоров о сокращении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. Высказываясь на словах за выработку международной конвенции о запрещении химического оружия, она вместе с тем решительно настаивала на своем праве производить бинарное химическое оружие. Между словами и делами французского руководства все очевиднее обнаруживались противоречия. Обо всем этом я сказал премьер-министру Ж.Шираку во время его визита в Москву в мае 1987 года. С некоторыми сокращениями приведу выдержки из нашего диалога, проходившего остро и нелицеприятно.
«ШИРАК. Советско-французские отношения несколько ухудшились. Это, конечно же, ненормальная ситуация. Моя цель — попытаться, насколько возможно, выправить положение. Франция заинтересована в том, чтобы поддерживать привилегированные отношения с Советским Союзом.
ГОРБАЧЕВ. Разделяю вашу озабоченность по поводу ухудшения советско-французских отношений. Нам также кажется, что в наших отношениях появляются тревожные моменты.
ШИРАК. Я бы не стал говорить о тревожных моментах. Скорее, речь идет о недоразумениях. Согласитесь, что это не одно и то же.
ГОРБАЧЕВ. Я сознательно употребил термин «тревожные моменты». В последние месяцы Советский Союз выступил с рядом инициатив, направленных на улучшение диалога между Востоком и Западом, на поиск путей укрепления доверия, уменьшение военной угрозы. Мы предлагаем начать движение к разоружению.' В предварительном плане обговорили все эти вопросы с французским руководством. Мы полагали, что одной из предпосылок этих инициатив было наше с Францией понимание необходимости предложить такие шаги, которые означали бы сдвиг к лучшему в мировых делах. И вдруг видим, что наш важнейший партнер в Западной Европе занимает неконструктивную позицию. В самой Франции наблюдается всплеск антисоветизма. Все это вызывает у нас беспокойство. Здесь есть над чем подумать премьер-министру.
ШИРАК. Я бы не стал говорить о всплеске антисоветизма во Франции.
ГОРБАЧЕВ. Мы проявили понимание французской позиции. Согласились не засчитывать ваше ядерное оружие. Соответственно действовали, учитывая имеющееся у нас с Францией взаимопонимание. Но после того как мы выдвинули наши предложения в Рейкьявике, а потом и в Москве, Франция, мягко говоря, не способствует тому, чтобы был сделан первый шаг на пути к разоружению. В результате многие вопросы поставлены под сомнение…
ШИРАК. Поясню нашу позицию. Вплотную встал вопрос о ракетах средней дальности в Европе — СС-20, «Першингах-2» и крылатых ракетах. Советский Союз предложил полностью уничтожить эти вооружения на Европейском континенте. Францию эта проблема прямо не затрагивает, так как на нашей территории нет соответствующего оружия США. Тем не менее, обсудив ваше предложение с союзниками, мы высказали свое одобрение.
Но буду с вами откровенен: реализация вашего предложения привела бы к выводу из Европы всех американских ядерных вооружений. Сегодня убирают американские ракеты, завтра могут сказать, даже если об этом пока предпочитают не говорить, что французские ударные силы, как и английский ядерный арсенал, мешают процессу ядерного разоружения, поэтому их следует сначала сократить, а затем и вовсе уничтожить. Отсюда двойная угроза, возникающая для нас. Даже если СССР и США сократят свои стратегические наступательные вооружения на 50 процентов, у каждой из сторон все равно останется по 5–6 тысяч ядерных боеголовок. В то время как в Европе в случае осуществления ваших предложений не останется вообще ничего. Согласитесь, это неудобная ситуация. Поэтому мы убеждены в необходимости сохранения минимально необходимого потенциала сдерживания.
ГОРБАЧЕВ. Интересная ситуация, особенно если взглянуть на нее ретроспективно. Поначалу все западноевропейцы выступали за «нулевой» вариант. Теперь же, когда мы согласились с этим вариантом, они отступили от своих прежних позиций. Далее. Все были против, когда Горбачев в Рейкьявике завязал пакет, установил зависимость между ракетами средней дальности, с одной стороны, и ПРО, стратегическими вооружениями — с другой. После Рейкьявика все, включая Францию, упрекали Советский Союз за этот пакет. Утверждали, что он, мол, носит искусственный характер. Говорили так: если бы не было вашего пакета, договоренность о первых шагах к разоружению была бы в пределах досягаемости.
Мы развязали пакет, оставив при этом в силе все ранее сделанные нами уступки, в частности согласие вывести за скобки ядерные арсеналы Франции и Великобритании. И что же слышим в ответ? Советский Союз, говорят нам, предлагает «нуль» по ракетам средней дальности. А как быть с оперативно-тактическими ракетами? Мы сказали: хорошо, давайте идти к «нулю» и по оперативно-тактическим ракетам. Тут снова изображают удивление: ах, вот как? Ну а как же химическое оружие, обычные вооружения? Комедия…
Хочу спросить вас прямо: чего же на самом деле хочет Западная Европа, в том числе такая ее опорная величина, как Франция?…Сейчас имеется реальный исторический шанс сделать первый шаг в процессе разоружения. Но политические деятели никак не могут заставить себя действовать в этом направлении. Значит, грош нам цена. Я включаю сюда и вас, и себя».
1988 год не был отмечен крупными событиями в советско-французских отношениях. В ноябре Миттеран, вновь одержавший незадолго до этого победу на президентских выборах, прибыл с рабочим визитом в Москву. Накануне он дал развернутое интервью корреспонденту «Правды», из которого можно было понять, что радикальных изменений в позиции Франции по вопросам разоружения ждать не следует. Переговоры подтвердили эту оценку. Визит прошел в спокойной, деловой атмосфере, готовился ряд соглашений, которые, как мы надеялись, удастся подписать в ходе предстоявшей в 1989 году моей поездки во Францию. Мы обменялись мнениями о том, как можно было бы наполнить конкретным содержанием вызвавшую поддержку и одобрение Миттерана идею «общеевропейского дома». Но, повторяю, крупных прорывов не было.
Перелом
Запланированный мой ответный визит во Францию состоялся в начале июля 1989 года, в канун 200-летия Великой французской революции. К этому времени и у нас в стране, и в мире произошли важные перемены, что существенно повлияло и на саму атмосферу визита, и на его результаты.
Западные политики, кажется, наконец-то поверили в перестройку, поняли, что Советский Союз, пусть медленно, с трудностями, движется в сторону большей открытости, демократии. После достижения соглашения о ликвидации американских и советских ракет средней дальности и вывода советских войск из Афганистана стало ясно, что и перемены в советской внешней политике носят глубинный характер.
К новой встрече в верхах было подготовлено рекордное в истории двусторонних отношений количество соглашений. Речь шла о развитии сотрудничества примерно в двадцати сферах: культуры, молодежных обменов, предотвращении инцидентов в открытом море, взаимной защите капиталовложений и т. д. Наметились некоторые сдвиги в подходе Франции к проблемам разоружения. Принятое Миттераном решение о сокращении военных расходов в ближайшие пять лет на 85 миллиардов франков было нами должным образом оценено. Еще в ходе подготовки к визиту между мной и президентом имел место интенсивный обмен мнениями по ситуации в зонах конфликтов, в частности по Ливану и ближневосточному урегулированию.
В общем, все говорило за то, что встреча может оказаться переломной, и, надо сказать, эти ожидания оправдались. Наши беседы носили исключительно откровенный, доверительный характер. Я поделился с Миттераном и своими размышлениями о «странностях» в советско-американских отношениях. В первые месяцы после избрания Буша американцы заявили, что им требуется время, чтобы все тщательно обдумать, и мы отнеслись к этому с пониманием. Но чересчур затянувшиеся раздумья не согласуются с динамикой в международных отношениях. Чтобы избежать кривотолков, я позвонил Бушу. Но для меня более существенное значение имеет отношение новой администрации к соглашению по Афганистану и переговорам в Женеве по стратегическим ядерным вооружениям — там дело идет плохо. В этом контексте мне было важно узнать точку зрения Президента Франции.
Миттеран поделился тем, что французы обсуждали с американцами затронутые мною вопросы, мнение обоих позитивное. Но я почувствовал, что президент принял мой сигнал к обдумыванию.
Что касается болезненной в наших отношениях проблемы ядерного оружия, я выразил надежду, что отстаивание Францией известной позиции не будет мешать продвижению переговоров в Вене и в Женеве (о 50-процентном сокращении СНВ).
Ответ прозвучал в общем обнадеживающе:
— Если СССР и США предпримут реальные усилия в деле разоружения, мы, безусловно, учтем это. В свою очередь я хотел бы, чтобы вы понимали нашу, так сказать, линию сопротивления в этих делах.
У меня были основания сказать французскому президенту в конце своего пребывания в Париже следующее:
— С точки зрения содержания наших переговоров я бы отнес этот визит к числу важных и крупных. Сделанное в эти дни позволяет надеяться, что мы с вами будем плодотворно сотрудничать и в будущем.
Символичными были встречи в Сорбонне с избранной частью французской интеллигенции. Ректор Мишель Жандро-Массалу проводил меня в большой амфитеатр этого прославленного университета. В приветственном слове он указал на неизменную актуальность вопроса о роли интеллигенции в обществе, о взаимоотношениях между интеллигенцией и властью. Это прямо перекликалось с темой моей речи. Все это происходило в канун 200-летия Французской революции. С учетом не только исторического, но и собственного опыта я считал важным подчеркнуть: крупнейшим социально-политическим переворотам всегда предшествуют революции философские. Французская революция многим обязана мыслителям Просвещения, идеям равенства и естественных прав человека, верховенства закона, разделения властей, народного суверенитета, общественного договора — идеям Вольтера и Монтескье, Дидро и Гольбаха, Мабли и Руссо. Интеллектуальное и политическое наследие Французской революции дало мощный импульс демократической мысли, различным ее направлениям, которые подготовили почву для социальных революций XX века. На исходе XX столетия человечество столкнулось с принципиально новыми, глобальными проблемами. Их осмысление потребовало новых интеллектуальных усилий, пересмотра многих устоявшихся взглядов, отказа от привычных стереотипов, короче говоря — нового мышления. Говоря об этом, я выделил три момента. Во-первых, мы не вправе и дальше уповать на стихийное развитие, должны научиться управлять им. Во-вторых, нужно пересмотреть традиционные критерии прогресса, согласовать наши потребности с ресурсами энергии и сырья, требованиями экологии и демографии, необходимостью преодолеть разрыв между богатыми и бедными странами. В-третьих, надо признать, что условием выживания и возрождения человечества становятся взаимная терпимость, уважение свободы выбора, поиск мирных, политических способов разрешения противоречий и улаживания конфликтов.
Одна из важнейших особенностей нынешней ситуации — резко возросшая требовательность к качеству политики. А оно во многом зависит от научного знания, участия интеллигенции. Требования к ее социальной, в том числе международной, ответственности растут. Страшны бездуховность, антиинтеллектуализм. Но не менее опасен в наше время ум, лишенный моральной основы. Без органичного сопряжения его с моралью современная наука теряет свой человеческий смысл. Еще более важно, чтобы укрепление нравственного начала науки отражалось на связи ее с политикой. Ослабление, тем более разрыв любого сочленения в триединстве: политика — наука — мораль, чревато непредсказуемыми последствиями для современного человечества.
Это говорилось в июле 1989 года. Там, где новое мышление сопрягалось с политикой, последовали результаты, открылась перспектива для новых достижений. Но многое так и осталось невостребованным политикой, за что мы уже поплатились и продолжаем платить дорогую цену, прежде всего в Европе. Причина — «зацикленность» политиков на внутриполитических проблемах, отсутствие или слабость механизмов регионального и международного сотрудничества.
В Сорбонне я счел себя обязанным предостеречь от чрезмерно резкой реакции на события в Китае. Тогда развертывалась кампания осуждения действий китайского руководства, пошедшего на разгон студенческих демонстраций. Во Франции с ее вольнолюбивым духом и не исчезнувшими воспоминаниями о студенческих волнениях 1968 года эта тема воспринималась особенно эмоционально. И все же, мне кажется, аудитория приняла мой главный аргумент: нельзя загонять в угол великое государство; ответом на действия, неприемлемые с точки зрения демократии и прав человека, не должна быть изоляция, у мирового сообщества много возможностей позитивно влиять на ход событий, не вмешиваясь во внутренние дела.
Кое-кто заявил, что-де Горбачев оправдывает Тяньаньмэнь, поскольку и сам не исключает подобного поворота у себя в стране. Что ж, теперь стало очевидным, что ни тогда, ни сейчас я не допускал возможности прибегнуть к грубой силе для подавления подобных волнений. Это не решает никаких проблем, а только загоняет их вглубь. И, признаюсь, печально было наблюдать, как большинство политиков и прессы на Западе принялись обелять и выгораживать Ельцина, когда он прибег к силе, чтобы расправиться со своими политическими противниками. Сначала разогнал Верховный Совет России своим указом № 1400 от 21 сентября 1993 года, а затем приказал «осадить» парламентариев в Белом доме и воспользовался провокационной вылазкой боевиков, чтобы расстрелять обитель российского парламентаризма.
Новое отношение не только лично ко мне, но и к моей стране особенно сильно проявилось в двух случаях. Мы попросили составителей программы включить посещение площади Бастилии. Мне и Раисе Максимовне хотелось оказаться именно в том месте, где стояла когда-то цитадель абсолютизма, разрушенная санкюлотами. Это оказалось не так уж просто, но, поскольку гидом у нас был министр иностранных дел Ролан Дюма, наш давнишний знакомый и хороший друг, место нашли. На площади собралось много парижан, которые хотели выразить нам свои чувства, но войти в контакт с ними не удалось — нас буквально блокировали журналисты. Я подумал: уж не специально ли это придумано?
Тем не менее я хотел выразить признательность французам за радушный прием и сделал это. Когда кортеж двинулся в обратный путь, я попросил остановиться. Пресса «сплоховала», и мы смогли пожать руки парижанам, поздравить с приближающимся национальным праздником. В ответ услышал много добрых слов и пожеланий успеха начатому мной делу.
Сердечная и содержательная встреча была у Раисы Максимовны с активистами общества СССР — Франция. Это уникальное объединение, корни которого уходят еще в дореволюционное, время. Предшественниками его были общество «Друзья русского народа»(1905–1917 гг.) во главе с Анатолем Франсом, а затем французское общество «Друзья Советского Союза» (1928–1939 гг.), основанное Анри Барбюсом и Полем Вайяном-Кутюрье. Его президентом до начала Второй мировой войны был Ромен Роллан. Оно действовало и в годы оккупации Франции.
Нынешнее общество Франция — СССР образовано в 1945 году по инициативе видных политических и общественных деятелей, представляющих практически все слои Франции. Неизменно на протяжении многих лет оно пользуется авторитетом и поддержкой французов, несмотря на колебания международной температуры и перепады в советско-французских отношениях.
Были выступления президента и его коллег, ответное слово Раисы Максимовны. Она вручила руководителям Общества плакат в виде трехцветного — сине-бело-красного — французского флага с надписью: «В канун 200-летия Великой французской революции и в связи с официальным визитом во Францию М.С.Горбачева советские люди шлют самые сердечные приветствия француженкам и французам». К нему прилагались десятки копий с подписями членов первичных организаций общества СССР — Франция, а также надписями, которые Раиса Максимовна зачитала. Они сохранились в нашем домашнем архиве. «Русские и французы вместе — великолепно!» Б.Угринович, Москва. «Пусть свобода, равенство, братство, провозглашенные Великой французской революцией, восторжествуют во всемирном масштабе». А. Соколов, Украина. «Пострадавшие от землетрясения в г. Кировака-не никогда не забудут руку помощи, протянутую нашему городу. Когда Горбачев будет говорить об укреплении дружбы между народами, знайте, что он говорит от нашего имени». Е.Хачтрян, мэр г. Кировакана. «Мы хотели бы дружить с детьми со всей планеты. Приглашаем десять юных коллег на кинофестиваль». Школьники г. Тбилиси. «Мира, процветания, счастья! Мы вас очень любим. Ведь вы были первыми, кто свергнул монархию. Талантливому французскому народу шлет самые наилучшие пожелания Литва». Петраускас, Литва.
Во время этого визита мы оказались в крепких дружеских объятиях французов. Мне кажется, даже те, кто не очень разбирался в политике, чутьем воспринимали значение того, что мы делаем, и сознавали, как трудно дается каждый шаг в движении по пути демократических реформ. Журналисты, среди которых отнюдь не все были на стороне такого спонтанного проявления чувств французов, в эти дни вынуждены были поубавить обычный скепсис, они не могли не видеть, как нас принимали повсюду, и не писать об этом. Но выводы из этого делались не всегда доброжелательные.
Впрочем, убедитесь сами. Вот что можно было прочитать:
«Горбомания», покорившая страну Гёте, завоевала теперь страну Декарта». «Выборы показали степень непопулярности аппарата и давали Горбачеву уникальный случай избавиться от него, если бы было такое желание. Однако Горбачев отнюдь не воспользовался этим, чтобы нанести решающее поражение бюрократам, а это было возможно благодаря поддержке Москвы и интеллигенции». «…В «горбомании» неприятно уже то, что она может привести нас к неосмотрительным политическим и военным решениям».
Надо иметь в виду, что в это время «ельцинисты» в нашем депутатском корпусе навалились на президента, пытаясь поставить под сомнение мои реформаторские намерения. Делалось это с большим напором, с использованием многочисленных поездок по западным странам. Главный тезис их пропаганды был: «Горбачев — не тот, за кого себя выдает, никакой он не демократ, а выразитель интересов номенклатуры» и т. д. Одновременно деятельность реформаторов, находившихся у власти, ход перестройки подвергались критике с крайне правого, реакционного крыла.
Часть научной и культурной интеллигенции Запада разделяла взгляды наших радикалов. И в средствах массовой информации чем дальше, тем больше муссировалась тема о «нерешительности Горбачева», медленных темпах преобразований. Но, конечно, мыслящие люди и во Франции, и в других странах понимали, что реформы такого масштаба и в таком сложном обществе нельзя провести в одночасье, наскоком. В подтверждение сошлюсь на беседу с профессором Лили Марку, автором книг о временах сталинизма и книги о Горбачеве. Мы с ней познакомились лишь в 1993 году в Москве, а потом еще раз встретились — уже во Франции. В нашей московской беседе она задала неожиданный, в общем-то, для меня вопрос:
— Вас многие и в стране, и за рубежом критиковали за нерешительность, за медленные темпы проведения реформ. А я вот придерживаюсь другого мнения: мне думается, вы не учли всей сложности своей страны и двигались слишком быстро. А как сами вы считаете?
Я сказал:
— Наверное, в годы перестройки можно найти случаи, когда мы медлили, отставали в политике. Но так же, как и забегали, отрываясь от базы, не считаясь с настроениями общества. Если суммировать все это сейчас, когда уже многое обдумано в работе над мемуарами, я должен, пожалуй, признать правоту ваших замечаний.
Италия: традиция и новый шанс
Мое знакомство с Италией и итальянцами, как я уже писал, произошло задолго до того, как я оказался на посту главы государства. Склонен думать, что это помогло лучше понять западный мир, его достижения и проблемы, образ жизни людей.
Куда более важно другое — опыт сотрудничества СССР с Италией в послевоенные годы, в ходе которого родились и окрепли взаимные симпатии. Она была первой из крупных западноевропейских стран, наладившей торгово-экономические отношения с нами. Здесь проявился, конечно, и динамизм в экономической области («итальянское чудо»). При содействии концерна «Фиат» (соглашение с которым было заключено еще в 1967 году) построены автомобильные гиганты в Тольятти и Набережных Челнах.
Италия существенно отличалась от других стран Запада особенностями внутриполитического развития, которое во многом определялось влиянием левых сил. Итальянская компартия — крупнейшая на Западе — раньше других стала отходить от догматизма, сектантства, переосмысливать ситуацию, сумела, благодаря своей выдающейся роли в антифашистском Сопротивлении, стать общенациональной демократической силой. ИКП фактически была чем-то большим, чем оппозиция, хотя после 1947 года, в силу известных причин, не смогла стать правительственной партией.
В числе первых западноевропейских деятелей, посетивших нашу страну с визитом после моего избрания на пост Генерального секретаря, был председатель Совета Министров Италии Беттино Кракси. Это было в мае 1985 года. С Кракси приехало много представителей политики и бизнеса. Наши переговоры выявили большую степень совпадения подходов к европейской и мировой ситуации, стали определенной вехой на пути к новому политическому диалогу с Западом.
В марте 1986-го в Москву прибыла парламентская делегация во главе с председателем палаты депутатов Л.Йотти (вдовой Пальмиро Тольятти).
Я поделился с Л.Йотти размышлениями о некоторых «странностях» складывавшейся тогда международной ситуации.
— Мы часто задаемся вопросом: а изменилось ли что-нибудь после Женевы? Проведенный нами анализ показывает, что потепление международной атмосферы кого-то не устраивает. Кое-кто даже выступает за то, чтобы «дух Женевы» испарился как можно быстрее.
Эти мои высказывания встретили понимание собеседницы.
— Цель у нас общая, — сказала она. — Расходятся лишь способы ее достижения, которые зависят от взглядов того или иного политического деятеля.
В связи с моим замечанием о возможностях народной дипломатии, Йотти посоветовала применить еще один канал — парламентский.
К сожалению, по разным причинам посетить Италию удалось не скоро. Внутриполитическая ситуация там постоянно менялась. Этим в значительной мере следует объяснить определенную паузу в личных контактах с итальянскими руководителями. Они возобновились в феврале 1987 года, когда Москву посетил председатель сената Итальянской Республики А.Фанфани.
Это было наше первое знакомство, хотя раньше Фанфани не раз посещал Москву. Я знал его как одного из опытнейших политических деятелей Италии и Европы: интересный собеседник, оригинально мыслящий, открытый для любого диалога. Начиная беседу, я в шутку заметил:
— У вас большое преимущество, вы напрямую можете консультироваться с Папой и самим Богом, что нам, грешникам, делать на Земле.
В ответ собеседник вспомнил такой эпизод. Когда известный итальянский драматург Эдуардо де Филиппо был назначен пожизненным сенатором, он пришел к Фанфани официально представиться как главе сената. Говорили, между прочим, об исключительно сложной тогда обстановке в мире. Де Филиппо спросил: «Так что же мы должны делать?» «Уповать на Бога», — ответил ему Фанфани. Тогда де Филиппо произнес прекрасную фразу: «Давайте мы, люди, поступать так, чтобы не создавать Богу трудностей».
Фанфани проявил огромный интерес к переменам в Советском Союзе. В Италии, говорил он, с неослабным вниманием следят за тем, что происходит в СССР. И следят с симпатией, с добрым сердцем.
В конце беседы он подарил мне на память свою картину, исполненную в стиле абстракционизма. Оказывается, наряду с политикой и историей его постоянное занятие — живопись. Эта картина и сейчас занимает видное место у нас в доме.
Спустя несколько дней я принимал Джулио Андреотти, с которым уже встречался ранее.
Андреотти поделился впечатлениями о поездке в Соединенные Штаты Америки. Выразил убеждение, что президент Рейган стремится к достижению конкретных результатов на советско-американских переговорах в Женеве. В подтверждение привел такое наблюдение. Перед женевской встречей 1985 года Рейган пригласил премьер-министров и министров иностранных дел шести наиболее развитых государств.
— Собрались мы, — рассказывал Андреотти, — впятером, поскольку французы участвовать не захотели. Президент сказал, что накануне он провел два дня в уединении, в размышлениях. Вытащил из кармана несколько листков бумаги, как он сам сказал, «плоды своих раздумий». И произнес буквально следующее: «Я надеюсь, что господин Горбачев действительно хочет идти по пути мира и сотрудничества. И мы должны не только не затруднять его деятельность, а, наоборот, оказывать ей всяческое содействие».
Безоговорочно поддержав оценку Рейкьявика как большого успеха, символа политической проницательности советского руководства, Андреотти сказал:
— Я прошу вас пойти на новый мужественный шаг. Если бы вы, господин Генеральный секретарь, заявили о готовности сократить число своих ракет ближней дальности, то у нас (итальянцев) появился бы новый аргумент в разговорах с американцами, который, быть может, помог бы удержать их от ужасной ошибки в отношении Договора по ПРО, являющегося важным фактором как советско-американских отношений, так и всего комплекса отношений Восток — Запад.
Беседа была продолжительной, в заключение я сказал Андреотти, что нельзя упустить шанс начать процесс разоружения.
— Да, если мы упустим такую возможность, это стало бы большой бедой, — горячо откликнулся Андреотти. — Я убежден, что исторический шанс, имеющийся у нас сегодня, вряд ли повторится.
Диалог с итальянским руководством приобретал все большее значение. В октябре 1988 года в Москву прибыл с визитом председатель правительства Италии де Мита в сопровождении большой группы итальянцев.
С первых же минут встречи появилось ощущение, что оба мы настроены, так сказать, на одну волну и разговор получится. «У меня такое чувство, — сказал я, — будто мы вместе с вами готовились к этим переговорам в одном кабинете».
Подробно рассказав гостю о проблемах перестройки, как они виделись к осени 1988 года, о нашем новом подходе к внешней политике, я «подбросил» идею: может быть, европейцам нужно встретиться для обмена мнениями на возможно более высоком уровне, чтобы сразу дать большой толчок европейскому процессу.
Де Мита сказал, что разделяет и приветствует высказанное мною. К беседе подключились министры иностранных дел Андреотти и Шеварднадзе. В фокусе беседы оказались проблемы переговоров по обычным вооружениям. Андреотти выразил определенный оптимизм, сославшись, в частности, на эволюцию в позиции Франции. Что касается Великобритании, то произошел такой обмен репликами.
«АНДРЕОТТИ. Мы знаем, что вы оказываете большое влияние на госпожу Тэтчер, и рассчитываем на ваше содействие.
ГОРБАЧЕВ. Госпожа Тэтчер — нелегкий партнер, но убедить ее можно».
Визит в Италию
Приглашение правительства Италии посетить страну было реализовано лишь в конце ноября 1989 года. Визит этот помимо самостоятельного значения внес важные элементы в мою подготовку к встрече с Бушем на Мальте, послужил как бы прологом к ней.
Наш «ИЛ-62» совершил посадку в аэропорту Фьюмичино. Прекрасная ноябрьская погода: чистый воздух, солнечно. Из аэропорта направились на официальную церемонию встречи в Квиринальский дворец.
На всем пути следования нас восторженно приветствовали тысячи римлян. По окончании торжественной церемонии и краткой беседы с президентом Ф.Коссигой отправились на площадь Венеции, возложили венок к алтарю Отечества. И здесь нас сердечно приветствовали итальянцы. Далее по программе намечался осмотр достопримечательностей в центре вечного города. Но осуществить свои желания нам оказалось не так-то просто: на пути к Колизею в несколько рядов стояли люди, и наше продвижение сопровождалось бесчисленными контактами, короткими диалогами. На следующий день «Стампа» писала: «Ликующий Рим встречает Горбачева». Преодолев эти приятные и волнующие препятствия, вошли внутрь Колизея. Но и здесь сразу же оказались в окружении журналистов.
— Как вас принимают в Италии? — был первый вопрос. В сущности, ответа не требовалось. Я сказал, что тронут таким проявлением симпатий. Широкий резонанс вызвали мои слова о том, что «советско-итальянские отношения — очень важный фактор не только европейской политики, но и международной, часто в трудные времена политические деятели Италии сохраняли чувство реализма, помогали снимать напряжение, способствовали разрядке. В этом — незаменимый вклад итальянцев».
Начавшиеся во второй половине дня 29 ноября встречи и переговоры послужили наглядным подтверждением этой оценки. В официальной резиденции итальянского правительства палаццо Киджи состоялась встреча с Джулио Андреотти — теперь уже председателем Совета Министров Италии. Встреча с глазу на глаз проходила около полутора часов. Нам надо было многое обсудить и прежде всего поговорить о том, где мы все — и Запад, и Восток — в тот момент оказались. Такие понятия, как сила, военное превосходство, вытекающая из этого гонка вооружений, диктат и многое другое, что было характерно для подходов в последние 40 лет, сказал я, несовместимо с нашим нынешним пониманием необходимости по-новому посмотреть и на себя, и вокруг себя.
Многие на Западе, выступая за фундаментальные перемены в Европе, полагали, что они должны осуществиться на базе принятия западных ценностей. Я обратил внимание собеседника, что подобная за-идеологизированность в международных делах чревата осложнениями.
— Чтобы мы могли вместе двигаться в нужном направлении, и Западной Европе необходимо многое у себя изменить. Не надо думать, что это только дело Востока.
Реакция Андреотти меня порадовала.
— Прежде всего, — сказал он, — полностью согласен с тем, что ни Восток, ни Запад не обладают абсолютной истиной, к которой должна приспосабливаться другая сторона. Сейчас, кстати, появилась новая мания: призывы приспосабливаться к законам рынка. Это тот самый случай, когда говорится одна вещь, а подразумевается добрая сотня других. Я не считаю, что развитие нашей страны было во всем правильным; многое и в социальной, и в политической области можно было бы делать иначе. Одно дело, когда говорят о рынке с коррективами в виде антитрестовского законодательства, с соответствующей налоговой системой. С таким подходом можно согласиться. А вот если указанных корректив нет, то это не рынок, а диктат капитала, причем сосредоточенного в немногих руках.
Это говорил христианский демократ! Но, конечно, прежде всего это говорил Джулио Андреотти.
Разговор перешел на германский вопрос, что естественно: только что пала Берлинская стена. Я настаивал на осторожном подходе, на том, что не надо пытаться форсировать события, не навязывать темпы и сроки объединения Германии. Андреотти с этим согласился. Из его реплик следовало, что тогда и он считал преждевременным говорить об объединении ФРГ и ГДР. В то же время Андреотти признал, что в Италии оказались неподготовленными к стремительному развитию событий в ГДР. Он попросил меня поделиться соображениями о причине такого поворота событий. Я ответил в духе откровенности, которая характеризовала нашу беседу.
— Пожалуй, причина в том, что руководство ГДР на протяжении многих лет держало общество в жестком режиме, все подчинив противостоянию с ФРГ. И это сработало. Когда у нас начались перемены, им надо было не скрывать их от народа, не противиться переменам у себя, а находить более адекватные времени формы, чтобы люди могли реализовать себя, и делать более эластичными связи с ФРГ. Но Хонеккер считал себя хранителем «священного огня». А то, что делали другие, рассматривал чуть ли не как сдачу позиций. Общество требовало перемен, а политическое руководство не реагировало.
Эта беседа, как и другие, показала, что наступает ответственный этап в развитии Европы. В результате дискуссий мы согласились, что строительство «общеевропейского дома» — процесс постепенный. В нем не должно быть перепрыгивания через этапы, и первым из них мы считали переговоры по разоружению в Вене.
Уже тогда нам виделась необходимость создания инструментов экономической и политической интеграции, хотя признавалось большое значение и существующих институтов.
В этом разговоре я поставил перед нашими итальянскими партнерами два фундаментальных вопроса. Как собираются на Западе подходить к военной доктрине «гибкого реагирования», которая была принята еще в 1968 году и допускает использование ядерного оружия? Страны Варшавского Договора пересмотрели свою военную доктрину и в соответствии с ней приступили к перестройке военных структур. Можем ли мы надеяться, что этот процесс пойдет и на Западе? Нам все время говорили, что западная доктрина оборонительная. Но мы провели анализ военных учений Запада за последние годы и увидели, что уже на пятый день гипотетического конфликта между Востоком и Западом последний вводит в действие все виды войск и применяет ядерное оружие.
И второй вопрос: как наши партнеры представляют себе становление новой Европы с учетом того, что интеграционные процессы идут и на востоке континента? Не получится ли так, что акцент на эти два объединительных процесса без их синхронизации может осложнить, а то и подорвать общеевропейский процесс?
Андреотти попытался переубедить нас, отвести мои критические замечания по военной доктрине западных стран. Но, видимо, Джулио сам же почувствовал слабость своих аргументов и кончил тем, что призвал нас к углублению диалога по этим вопросам с президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Он твердо заявил, что «будущее должно строиться не на военной силе, а на сотрудничестве и состязательности в других областях».
Что касается интеграционных процессов, то здесь премьер-министр был более убедительным, высказался за то, что «при определении планов на будущее, с обеих сторон необходимо не воздвигать новых барьеров, а устранять или смещать уже существующие».
Вечером президент Коссига устроил в Квиринальском дворце официальный прием. Заканчивая свою приветственную речь, он процитировал нашего великого поэта Тютчева: «В Россию можно только верить…». Памятным для меня событием стало посещение Капитолия, столичного муниципалитета, где мне была предоставлена возможность выступить с большой речью.
Я поделился своими размышлениями о событиях и уроках 1989 года. Рамки воспоминаний не позволяют подробно изложить это выступление; оно проникнуто прежде всего предчувствием переломности момента в мировой ситуации и стране.
«Мир действительно на переломе судеб. Материальная культура развивается с головокружительной быстротой. В то же время все более зловеще проявляется обратная сторона научно-технического прогресса, которая грозит человечеству самоуничтожением. Выход — в одухотворении жизни, в переосмыслении отношения человека к природе, другим людям, к самому себе. Нужна революция в сознании».
«Последнее время на Западе много пишут и говорят, что мировое сообщество сможет реализовать свою целостность только в том случае, если «другая сторона» — имеется в виду, прежде всего, Советский Союз — откажется от своих идеологических и социальных ценностей…Современный мир обнаруживает огромное многообразие социальных и политических теорий, с помощью которых разные общества, страны и нации хотят строить свою жизнь. И вот что характерно: возрастание роли общечеловеческих начал происходит не при стирании, а при умножении проявления самобытности, при возрастании роли национальных и других особенностей. Очевидно, самая обобщающая и самая ответственная задача политиков состоит в том, чтобы стараться обеспечить прогресс и взаимную безопасность на основе уважения многоликости мира, баланса интересов и свободы выбора».
«…Мы отказались от монополии на истину. Отныне в политике мы твердо руководствуемся принципом свободы выбора; в экономике, науке и технике — принципом взаимовыгодности; в духовной и идейной сферах — принципом диалога и восприятия всего, что применимо к нашим условиям и, следовательно, должно быть освоено и использовано для нашего собственного прогресса».
«Соблазн решать свои проблемы за счет других, давить слабого, не считаться в политике с моралью, воспользоваться где-то возникающими трудностями, применять оружие там, где можно решать политическими средствами, — все это, увы, еще присутствует в мире. Но мы верим, что движемся не к концу мира, как иногда можно услышать, а начинаем новую его эпоху, когда открывается простор для сотворения новых форм человеческого существования».
Могу к этому добавить только то, что и теперь подписываюсь под всем тогда сказанным.
Программа визита, до предела уплотненная и насыщенная, предусматривала посещение Милана. Встреча с миланцами стала едва ли не самой волнующей из всех, какие были у меня во время моих заграничных поездок. Казалось, все население этого большого древнейшего города Италии вышло на улицы. Мы решили пройти пешком от театра «Ла Скала» по галерее между домами до муниципалитета. Но едва-едва продвигались в гуще людей. Шум стоял такой, что не слышно было голоса идущих рядом. Десятки тысяч миланцев темпераментно демонстрировали свои неподдельные чувства, свою солидарность, симпатии к нам. Поведение итальянцев меня прямо-таки ошеломило. Живой человеческий поток захватил нас, и мы только спустя 40 минут, с помощью полиции, смогли вырваться из него, найти с Андреотти друг друга.
Для полноты картины добавлю, что накануне и во время визита в Италию я получил огромное количество личных писем, телеграмм от итальянских граждан, общественных и научных организаций, фирм с приглашениями «заглянуть на огонек», если позволит программа. Ответить на все эти обращения и приглашения было, конечно, невозможно.
В Центральном выставочном зале Рима открылась выставка «Перестройка в действии». В ее открытии участвовала Раиса Максимовна. А 30 ноября вместе с несколькими членами делегации она посетила Мессину — на Сицилии. 28 декабря 1908 года город был разрушен землетрясением, погибло свыше 80 тысяч человек. Тогда на помощь мессинцам первыми пришли русские моряки. Две недели они принимали участие в спасательных работах, кормили спасенных людей. В честь наших моряков в городе установлена мемориальная доска. И в числе первых мессинцы пришли на помощь Армении, собрали и передали на строительство больницы в Кировакане 1 миллиард 800 миллионов лир, приобрели для нее томограф. Мессинцы оказали потрясающий прием. Раиса Максимовна выразила жителям города глубокую признательность от советских людей за проявленную солидарность.
За три дня пребывания в Италии я повстречался с председателем итальянского сената Дж. Спадолини, беседовал с руководителями пяти правительственных партий — А.Форлани (христианско-демократическая), Б.Кракси (социалистическая), Дж. Ла Мальфа (республиканская), А.Карилья (социал-демократическая), Р.Альтиссимо (либеральная). Состоялась встреча с генеральным секретарем ИКП А. Оккетто.
В Риме состоялась еще одна акция: от имени пацифистской организации — Итальянского центра документации и Национальной лиги кооперативов — мне была вручена премия «Золотой голубь мира». Вручал премию президент Центра Луиджи Андерлини, а с приветственным словом обратился выдающийся итальянский писатель Альберто Моравиа, теперь уже, к сожалению, ушедший из жизни. Его слова меня глубоко взволновали.
Оценивая свой визит в Италию на пресс-конференции, я сказал, что эти три дня запомнятся прежде всего по-человечески — итальянцы оказали нам ошеломляющий прием. И еще: «Этот, как и другие мои визиты, встречи с людьми подтверждают: в мире происходят кардинальные перемены, люди решительно вторгаются в сферу политики, одобряя или отвергая, советуя или требуя от политиков действий, адекватных нынешнему времени».
1 декабря 1989 года состоялся первый визит главы Советского государства в Ватикан по личному приглашению Папы Иоанна Павла II. Событие экстраординарное и в то же время вполне естественное в контексте происшедших в мире кардинальных перемен. Об истории наших отношений с Папой Римским рассказ впереди.
Из Италии наш самолет взял курс на Мальту, где должна была состояться моя встреча с президентом Бушем.
Глава 21. К новому миропорядку
Индия — партнер нашей новой внешней политики
История подчас причудливо расставляет свои вехи, и лишь потом высвечивается общий смысл происшедшего. Когда после встречи с Рейганом в Рейкьявике я поехал в Индию и мы с Радживом Ганди подписали Делийскую декларацию о принципах ненасильственного мира, далеко не всем была очевидна внутренняя связь между этими, казалось бы, столь разными событиями в двух географически отдаленных друг от друга точках земного шара. А связывало их то, что в мире уже сложились силы, которые побуждали к установлению новых международных отношений.
Круг моих зарубежных контактов становился все шире, и эти контакты все больше убеждали в том, что понимание необходимости перехода к какому-то иному, мирному порядку пробивает себе дорогу, становится тенденцией, начинает трансформироваться в политику. Начинали прорисовываться контуры более безопасного мира. О перспективах новой эры международного мира говорил в своей прощальной речи в ООН Рональд Рейган, совершивший незадолго до того визит в Москву. Развитие мировых событий давало много материала для формирования более целостной концепции нового мирового порядка, с которой я выступил в ООН в конце 1988 года.
Хорошие отношения с Индией сложились у СССР со второй половины 50-х годов. Этому способствовали и давние симпатии наших народов друг к другу, стремление Индии иметь поддержку СССР в ее усилиях по укреплению своей независимости, и общая заинтересованность в сохранении мира в регионе. Советско-индийские отношения наряду с советско-финляндскими были редким примером отношений между странами с различными общественными системами, только в случае с Финляндией был вариант отношений с малой страной, а тут — с великой.
В общем, в 1985 году мы получили на индийском направлении неплохое наследство. Перестройка своим реформаторским характером создала новые предпосылки для укрепления отношений с Индией. Идеи нового мышления были сразу восприняты индийским руководством, прежде всего Радживом Ганди. У меня с первой же встречи установились с ним по-настоящему дружеские, сердечные отношения. Глубоко скорблю по поводу его безвременной трагической гибели. Это был очень искренний, широко мыслящий, гуманистически настроенный человек. Мы встречались с ним много раз, постоянно обменивались письмами и посланиями, сблизились семьями. Мысли наши шли в одном направлении, а беседы выходили далеко за переговорную повестку дня.
Уже при первой встрече на меня произвело большое впечатление свойственное Радживу органичное сочетание глубокой и оригинальной философской традиции Индии, Востока с прекрасным знанием и пониманием европейской культуры. Покорили его стиль ведения переговоров, просто общения, выдающиеся человеческие качества. Он был предан делу своего деда Джавахарлала Неру и матери Индиры Ганди. И смыслом жизни для него было возрождение Индии.
Близость наших позиций на протяжении «перестроечных» лет переросла в отношения полного доверия. В меру своих возможностей мы старались содействовать решению Индией своих национальных задач. И в свою очередь опирались на ее неизменную поддержку своих международных инициатив. Но наши отношения никоим образом не сводились к взаимной помощи. Они стали одним из генераторов тех идей, которые представляют «теоретический каркас» нового мирового порядка. Наиболее полно это нашло отражение в Делийской декларации, подписанной Ганди и мною 27 ноября 1986 года во время моего визита в Дели.
«В ядерную эпоху, — говорится в ней, — человечество должно выработать новое политическое мышление, новую концепцию мира, дающую надежные гарантии выживания человечества.
Мир, доставшийся нам в наследство, принадлежит нынешним и грядущим поколениям, это требует, чтобы приоритет отдавался общечеловеческим ценностям».
Мы предложили ряд принципов построения нового мира:
— человеческая жизнь должна быть признана высшей ценностью;
— ненасилие должно быть основой жизни человеческого сообщества;
— право каждого государства на политическую и экономическую независимость должно признаваться и уважаться;
— на место «равновесия страха» должна прийти всеобъемлющая международная безопасность.
Свободный от ядерного оружия ненасильственный мир, заявили мы, требует конкретных и безотлагательных мер, направленных на разоружение. В числе этих мер были названы: полное уничтожение ядерных арсеналов до конца текущего столетия; недопущение вывода любого оружия в космос; полное запрещение испытаний ядерного оружия; запрещение химического оружия и уничтожение его запасов; снижение уровней обычного вооружения и вооруженных сил и т. д.
Пока ядерное оружие не ликвидировано, Советский Союз и Индия предложили незамедлительно заключить международную конвенцию, запрещающую применение или угрозу его применения.
Делийская декларация — считал тогда и считаю сейчас — является выдающимся документом, значение которого не ограничивается рамками исторического момента. Он общезначим и актуален сегодня, как и вчера.
А началось все в мае 1985 года, когда Раджив Ганди прибыл в Москву с официальным дружественным визитом. Это была его первая зарубежная поездка. К этому времени он пробыл на посту премьера немногим более полгода, а я — всего лишь два с небольшим месяца. Уже сам факт, что встреча происходила в момент смены поколений политиков, придавал ей этапное значение, нужно было заново оценить достигнутый уровень сотрудничества двух стран в политике и экономике, культуре и обороне, устранить то и дело возникавшие неполадки. И, разумеется, подумать о возможности прорыва к новым ступеням взаимодействия. Для этого были и объективные предпосылки, поскольку перед Советским Союзом и Индией во весь рост встали проблемы модернизации, обновления, радикальных реформ. При всем различии двух стран было в этом у них и много общего.
Не менее существенно, что визит проходил в сложном международном контексте, когда напряженность в мире достигла опасных масштабов, требовались нестандартные, смелые решения, чтобы повернуть фатальный ход событий. Помимо общих, глобальных проблем была необходимость совместно оценить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, затрагивающую жизненные интересы Индии и Советского Союза.
Переговоры были продолжительными и основательными. Мы подписали соглашения об основных направлениях торгово-экономического и научно-технического сотрудничества до 1990 года, о создании в Индии с нашей помощью ряда новых крупных промышленных объектов.
Я решительно поддержал инициативу глав государств и правительств Аргентины, Индии, Греции, Мексики, Танзании и Швеции, призвавших к всеобъемлющему прекращению испытаний, производства, развертывания ядерного оружия и систем доставки, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, заключению договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, Это была крупная инициатива шести государств, представляющих движение неприсоединившихся стран. К сожалению, в США ее проигнорировали.
В заключительном документе СССР и Индия заявили, что они против любого ущемления прав всех государств и народов на независимое и мирное развитие по своему усмотрению, против любых проявлений империализма, колониализма, неоколониализма, господства и гегемонизма. Все спорные вопросы и конфликты между государствами должны решаться путем переговоров без применения силы или угрозы силой. Зафиксировали общие оценки по Ближнему Востоку, ситуации в Юго-Западной Азии, Индийском океане, Южной Африке, роли движения неприсоединившихся стран и другим вопросам.
В дни визита Радживу Ганди была вручена Ленинская премия мира, присвоенная Индире Ганди посмертно. Он принял участие в торжественной церемонии, посвященной присвоению ее имени одной из площадей нашей столицы.
Побывал индийский гость в Белоруссии и Киргизии, повсюду его принимали с исключительной сердечностью. Раиса Максимовна и Соня Ганди провели много часов вместе. С тех пор между ними установились отношения взаимной симпатии, которые сохраняются до сих пор.
Кто бы мог подумать, что не пройдет и трех лет, как этого молодого, полного сил и планов красивого человека постигнет участь его великой матери! Трижды будьте прокляты те, кто поднял руку на мать и сына Ганди, как и на Джона Кеннеди, Улофа Пальме, на другие жертвы политического террора.
Визит закрепил традицию отношений между двумя государствами и народами.
В один из дней, когда у нас оказалось несколько свободных минут, я пригласил Ганди совершить прогулку по Кремлю и попытался выполнить роль экскурсовода. В парке цвела роскошная сирень. Я подошел к одному из кустов, обломал несколько веток и преподнес букет своему индийскому партнеру и другу. Он от души поблагодарил и в то же время деликатно выразил беспокойство таким отношением к природе. Пришлось его успокоить: черемуху и сирень надо обламывать, они тогда лучше растут.
Мой ответный визит состоялся в ноябре 1986 года. В Индии это прекрасная пора, сорокаградусная летняя жара позади, но ты как бы попадаешь в лето Центральной России. Никогда до этого и никогда после нас не встречало столько людей — сотни тысяч. На пути следования из аэропорта в резиденцию — Президентский дворец — тысячи приветственных транспарантов, море цветов; в нескольких местах искусные цветоводы и художники сделали из них портреты — мой и Раисы Максимовны. Мы ощутили в полной мере, что приехали в страну солнца, горячих сердец, цветов.
После московского визита мы были с Ганди в постоянном контакте, шла интенсивная переписка, плодотворно работали послы. Но месяцы, отделяющие московскую и делийскую встречи, были заполнены событиями, которые нуждались в нашем совместном осмыслении. Позади была встреча с Рейганом в Женеве, состоялись визиты в Москву многих западных деятелей и руководителей социалистических стран, моя поездка во Францию. Была обнародована 15-летняя программа ликвидации ядерного оружия и сокращения других видов вооружений. Наконец, на XXVII съезде КПСС были даны новые оценки мировой ситуации. Хватало оснований и для тревоги. Оставалась напряженной ситуация в Юго-Восточной Азии, неспокойно было на индо-пакистанской и индо-китайской границах.
За несколько месяцев до нашей встречи я выступил с речью во Владивостоке о перспективах развития АТР. Ганди поддержал выдвинутые в ней предложения по обеспечению безопасности, но при этом заметил, что необходимо тщательно учесть существующие в Азии традиции, дух движения неприсоединения, принципы Бандунга, провозглашенные именно в этом регионе. Он обратил также внимание на то, что подход к решению проблем безопасности должен быть поэтапным.
В какой-то момент у меня возникло ощущение, что Раджив несколько болезненно воспринял владивостокскую речь. И я подумал, насколько надо быть внимательным и осторожным при выдвижении всеохватывающих инициатив. Может быть, впрочем, была и определенная доза ревности со стороны моего молодого друга, руководителя огромной страны, принадлежащей именно к этому региону. Возможно, он полагал, что в этом случае следовало выступить совместно и даже с участием третьих стран. Но я, собственно, к этому и призывал во Владивостоке, подчеркивая, что у нас нет претензий навязывать кому-то свои подходы и наше приглашение к сотрудничеству относилось в полной мере к Китаю, США, Японии, ко всем другим странам региона и, конечно, к дружественной Индии.
Как бы там ни было, этот эпизод не осложнил наших отношений с Радживом.
Ганди не только приветствовал перемены, разворачивавшиеся в Советском Союзе, но и оценил их как шанс к подъему на новый уровень сотрудничества между нашими странами. Я запомнил его слова: «Необходимо достичь новых горизонтов. Нужны воображение и новаторство».
Премьер-министр Индии решительно поддержал позиции, занятые нами в Рейкьявике, программу ликвидации ядерного оружия от 15 января 1986 года.
Из индийской столицы я обратился к мировому сообществу с призывом руководствоваться новым мышлением в политике, осваивать новую философию международных отношений. В то тревожное время я заявил, что выживание человечества должно быть поставлено выше всех других интересов, безопасность одного государства немыслима без безопасности для всех.
Состоялась моя встреча с Президентом Индии. Мне предоставили возможность изложить свои взгляды в индийском парламенте. Не желая злоупотреблять терпением радушных хозяев, я заранее осведомился, каким временем могу располагать. Но в ответ услышал: «Никаких ограничений». В результате выступление и последовавшие ответы на вопросы конгрессменов продолжались больше двух часов. Причем впервые выступление иностранного государственного деятеля транслировалось по каналам радио и телевидения на всю Индию.
На месте кремации Махатмы Ганди мы возложили венок и посадили дерево. Затем посетили Дом-музей Джавахарлала Неру и Мемориал Индиры Ганди. Узнали много интересного об этой выдающейся семье и пережили минуты глубокого волнения на месте гибели Индиры. Вечер 26 ноября провели в семейном кругу в резиденции премьер-министра и его супруги. Познакомились с их сыном и дочерью — Рахулом и Приянкой.
Раиса Максимовна провела много времени в беседах с Соней Ганди. Среди многообразных мероприятий ее программы упомяну о встрече с группой индийских женщин. Получился весьма интересный разговор о положении женщин в СССР и Индии. Именно на этой встрече Раиса Максимовна предложила издавать индийско-советский женский журнал. Журнал «Диалог» начал выходить с 1988 года на индийском и русском языках. В Индии он и сейчас выпускается, а у нас, к сожалению, прекратил существование после распада Советского Союза.
Мы с Радживом договорились провести в Советском Союзе и Индии совместный фестиваль, посвященный 70-летию Октябрьской революции и 40-летию независимой Индии. Летом на территории Кремля произошло его официальное открытие. Был праздничный концерт на стадионе в Лужниках, а затем эта красочная манифестация дружбы наших народов прокатилась по всей стране.
Во второй половине ноября 1988 года состоялся мой второй визит в Индию, где я участвовал в закрытии фестиваля. В его заключительных мероприятиях приняли участие большой «десант» деятелей советской культуры, выдающиеся советские спортсмены, многие коллективы художественной самодеятельности. Всюду, где побывали наши посланцы, их встречали с исключительной сердечностью. Итог фестиваля — еще большая близость между людьми двух стран. А ведь это не менее важно, чем соглашения между правительствами. Убежден, что методы «народной дипломатии» будут играть все более серьезную роль в будущей политике.
В беседах с индийскими руководителями на этот раз доминировали проблемы формирования новой международной системы. Р.Ганди выражал беспокойство по поводу создания «центров силы», претендующих на исключительное положение. Мы были едины в том, что СССР и Индия не должны поддаваться искушению «блокового» подхода, не намерены сколачивать замкнутые группировки, нацеленные против кого-либо. Лучший способ противодействия подобным тенденциям — вывод глобальных проблем на уровень ООН, континентальных и региональных организаций. И, разумеется, подтвердили свою приверженность Делийской декларации, провозглашенные ею принципы международной жизни.
Раджив был весьма заинтересован получить из первых рук информацию о событиях в Советском Союзе, задавал много вопросов. Мы стояли тогда на пороге политической реформы, и я подробно рассказывал о предстоящих выборах, новой структуре верховной власти, не скрывая и нашей озабоченности сепаратистскими тенденциями, межнациональными конфликтами. Со своей стороны индийский премьер не скрывал тревоги в связи с возросшей агрессивностью некоторых сикхских лидеров.
Мне врезался в память наш разговор о том, какие методы должны применяться для урегулирования межнациональных и религиозных распрей. Не всегда можно обойтись без применения силы, но при этом надо отдавать себе отчет, что она может лишь отсрочить, отложить взрыв и чаще всего делает его во много раз мощнее. Словом, и здесь ненасилие, хотя и оно не всегда спасает.
Еще один важный аспект присутствовал во время ноябрьского визита — отношения с Китаем. Пожалуй, впервые был поставлен вопрос о том, что назрело время энергичней добиваться улучшения отношений с КНР. А в этой связи — сделать все, чтобы у Китая не было никаких оснований опасаться сближения СССР и Индии. Наша дружба должна служить не противостоянию с Китаем, а, напротив, улучшению отношений обеих стран с ним. И в этом вопросе мы пришли в целом к взаимопониманию с Ганди, что имело благоприятные последствия.
Когда наши отношения с Р.Ганди достигли высокого уровня доверия, мы уже не ограничивались принятием решений, касающихся текущих проблем сотрудничества, а стали думать о большой перспективе. На повестку дня встал поиск новых, более современных, динамичных, взаимопроникающих форм кооперации. Немаловажное значение имел и тот факт, что не увенчались успехом попытки обеспечить модернизацию экономики Индии за счет более широкого привлечения капиталов и новейшей технологии Запада. К тому моменту Ганди, умудренный опытом, понял, что путь, которым вели Индию его дед Д.Неру и мать Индира Ганди, — единственно верный, отвечающий национальным интересам.
Этими размышлениями и планами Раджив поделился со мной в минуты откровения. И мы начали выстраивать, конечно, с участием правительств, научных центров обеих стран планы, нацеленные на перспективу. Договорились заключить широкомасштабное соглашение об экономическом сотрудничестве с акцентом прежде всего на научно-техническую базу, создание совместных предприятий, производственную кооперацию. Речь шла также об активном вовлечении индийского частного бизнеса, установлении его связей с нашими финансовыми и управленческими структурами, налаживании взаимодействия на уровне не только правительств, но и предприятий.
Волнующим событием для меня стало вручение награды, к которой я отношусь с благоговением: премии имени Индиры Ганди. Я принял решение передать ее денежную часть Центру советской культуры и попросил Шеварднадзе огласить это решение. Тогда же он сообщил о принятом совместном решении открыть в Москве Центр индийской культуры.
В ходе наших визитов в Индию мы познакомились со Святославом Рерихом и его женой — известной индийской актрисой Дэвикой Рани-Рерих. У нас с ними сложились потом добрые отношения, мы всячески их поддерживали, воздавая должное заслугам этих наших знаменитых соотечественников, их вкладу в становление дружбы между двумя великими народами.
Вместе со Святославом Николаевичем и Дэвикой занялись созданием музея Рерихов в нашей стране. К сожалению, судьба распорядилась так, что нам не удалось довести это до конца. Но я знаю, что энтузиасты даже в нынешнее труднейшее время делают все, чтобы воплотить эту идею. Российское правительство приняло постановление создать к 1996 году музей Рерихов в Москве. Жаль, что не дожил до этого Святослав Николаевич. Пищу эти строки, а передо мной его портрет с размашисто написанными словами: «Будем всегда стремиться к прекрасному. С.Рерих 15.05.87 г.».
Еще дважды довелось встретиться с Радживом и Соней Ганди. В середине июля 1989 года премьер-министр побывал у нас с кратким рабочим визитом, возвращаясь, как помнится, с традиционной встречи в рамках Британского Содружества Наций.
Вечером в загородной правительственной резиденции был дан обед в их честь. Этот вечер запомнился мне необычной сердечностью общения и доверительностью разговора. Раджив рассказал нам о столкновениях в Шри-Ланке. По всему видно было, как это сильно его беспокоит. На события болезненно реагировало все население Индии.
Делясь впечатлениями о заседаниях Британского Содружества, Раджив говорил, что как в случае с Индией, так и с Советским Союзом, который встал на путь радикальных реформ, многие на Западе допускают упрощенный подход к процессам, анализируют их под одним углом зрения — соответствуют ли происходящие перемены западным представлениям. Его поразил цинизм некоторых западных деятелей, которых устраивал бы сценарий, связанный с ослаблением роли Советского Союза в мировых делах. Что ж, это подкрепляло мои собственные наблюдения, то, что я ощутил еще в 1987-м и особенно в 1988-м и начале 1989 года. Некоторых моих западных партнеров не устраивал растущий авторитет Советского Союза.
Доверительно Ганди поделился информацией, которую он не ставил под сомнение:, сейчас, когда администрация Буша завершает формирование своей внешней политики, там приходят к выводу, что дальнейший рост авторитета политики перестройки и Генерального секретаря ЦК КПСС не отвечают интересам Соединенных Штатов; противодействием этому должна будет заняться специальная группа в аппарате президента.
Таким образом, сведения, которые я получил по другим каналам, неожиданно нашли подтверждение. Это дало основание в разговорах с руководителями западных стран углубить дискуссию о направленности и значении реформ в СССР. В беседу на эту тему я не раз втягивал и представителей американской администрации, в том числе самого президента. Более того, прямо говорил, что мне известны их рассуждения о положении в Советском Союзе и деятельности нашего руководства. Несмотря на известное «смущение» собеседников, старался втолковать им, что реформы в Советском Союзе отвечают не только жизненным интересам советских людей, но и правильно понятым интересам наших зарубежных партнеров, пора бы им освобождать свои головы и политику от идеологических стереотипов «холодной войны».
Последний раз мы встретились с Ганди уже после того, как Раджив потерял пост премьер-министра и стал лидером оппозиции. Я понимал его переживания, и мы с Раисой Максимовной постарались сделать все, чтобы друзья почувствовали нашу поддержку и солидарность. Но при встрече увидели, что досада по поводу поражения уже позади. Раджив основательно анализировал, почему его партия лишилась большинства. Критика его относилась как к деятельности Индийского национального конгресса, так и к просчетам проводившейся им самим политики, особенно что касается темпов реформ. Оказавшись в новой ситуации, он оценивал ее как зрелый государственный деятель. Это уже был опытный, закаленный политик, и, когда стала поступать информация об успешной предвыборной кампании Раджива Ганди, я искренне за него радовался. Трагическая смерть оборвала жизнь этого выдающегося человека.
За первые три-четыре года перестройки советско-индийские отношения были выведены на новый уровень взаимопритяжения, открытости, доверия. Были согласованы «дальние ориентиры», задуманы крупные проекты в сфере экономического и научно-технического сотрудничества. Однако многое осталось нереализованным. Сказались смена правительства в Индии, уход из жизни Ганди, внутренние противоречия в СССР.
Накануне визита Рейгана в Москву
После визита в Соединенные Штаты я, несмотря на крайнюю занятость внутренними делами, постоянно держал в поле зрения проблемы советско-американских отношений. По материалам, поступающим из США, уже ощущалось приближение предвыборной лихорадки, и это, как всегда, отражалось на внешней политике. Было важно не допустить потери темпа, передышка могла привести к откату назад.
Американская общественность восприняла улучшение отношений с СССР положительно, возросли шансы на ратификацию Договора о РСМД конгрессом. Вместе с тем благодушествовать не приходилось. Мы предложили Вашингтону сотрудничать в решении афганской проблемы, но реакция на это разочаровала. Переговоры в Женеве шли ни шатко ни валко. Как я говорил своим сотрудникам, оттуда вновь запахло нафталином.
Следовало постоянно помнить и о том, что согласно достигнутой договоренности летом 1988 года в Москву с официальным визитом должен был прибыть Рональд Рейган. Представлялось крайне важным, чтобы был достигнут новый прорыв в деле разоружения. Тогда визит Рейгана был бы не просто символическим актом, но знаменовал собой еще один важный этап в деле демонтажа «холодной войны». Лучше всего было бы договориться о сокращении стратегических наступательных вооружений, здесь уже наметились серьезные «зоны согласия».
Нетрудно понять значение, какое я придавал встрече с государственным секретарем Дж. Шульцем, намеченной на 28 февраля 1988 года в Москве. К этому времени мы имели немалый опыт общения, переговоров, что давало надежду на позитивный результат.
Беседа началась с обмена общими соображениями о ситуации в США и у нас, но уже вскоре мы перешли к ратификации Договора о РСМД. Я считал, что эта процедура должна быть завершена к прибытию президента в Москву, в противном случае атмосфера не будет способствовать успеху визита. Шульц согласился, выразив уверенность, что ратификация произойдет вовремя.
Затем у нас состоялся обстоятельный разговор о стратегических наступательных вооружениях. Обсуждение сконцентрировалось вокруг нескольких проблем, вызывавших наибольшие трудности. Одна из них — контроль за выполнением договора. Я заявил о нашей готовности на самый всеобъемлющий контроль, который охватывал бы как производство, так и развертывание стратегических наступательных вооружений на земле, на воде, под водой и в воздухе. Готовы мы также к более широкому обмену информацией. Предложено было даже создать специальную группу в составе квалифицированных экспертов — ученых и военных, и поручить ей целенаправленно обсудить все аспекты. Шульц поддержал эту идею и предложил установить группе жесткие сроки. В марте Шеварднадзе должен был нанести очередной визит в США. Пусть, сказал госсекретарь, к этому времени нам представят результаты проведенной работы.
Возобновили обсуждение взаимосвязи договоров о СНВ и ПРО. Я настаивал на том, чтобы поиск развязок между ними основывался на совместном заявлении, принятом в Вашингтоне. Первоначально Шульц вроде бы согласился. Однако затем стал прибегать к оговоркам, дал, по сути дела, задний ход. Приняв вашингтонскую формулу, американская администрация не оставила надежды в вопросе о ПРО поиграть с нами в прятки.
Был затронут также вопрос о запрещении химического оружия. У нас сложилось впечатление, что в США на этот счет поубавилось энтузиазма. Желая уяснить действительную ситуацию, я предложил подготовить к московской встрече заявление о намерении наших стран способствовать запрету этого оружия и решимости сделать все возможное для скорейшего заключения конвенции, а заручившись согласием госсекретаря, спросил, почему бы не сделать еще один шаг: поскольку сейчас много говорят о проблемах контроля, СССР и США могли бы обозначить по одному предприятию химической промышленности, где будут отработаны процедуры контроля в рамках будущей многосторонней конвенции о запрещении химического оружия. Шульц позитивно отнесся и к этому предложению, хотя высказал опасение, что «рискует получить за это дома подзатыльник».
Вопрос об обычных вооружениях мы затронули лишь мельком, согласившись, что «это дело надо двигать». Зато очень подробно обсуждались региональные конфликты. Кстати, на эту тему Шульц и Шеварднадзе проговорили чуть ли не всю ночь.
«ШУЛЬЦ. Мы обсудили эти вопросы как никогда обстоятельно. К каким-то особым итогам не пришли, но поработали с пользой. По Анголе и Камбодже договорились, что есть возможности для взаимодействия. Обсуждали проблему ирано-иракского конфликта. Мне было бы интересно услышать ваши соображения на этот счет.
Приветствуем ваше заявление по Афганистану. Считаем, что положение сейчас весьма многообещающее. Хотим, чтобы предстоящий раунд женевских переговоров был последним. Хотелось бы поговорить и о Ближнем Востоке, регионе, куда я вскоре собираюсь.
ГОРБАЧЕВ. Сначала соображение общего порядка. Мы должны показать миру пример сотрудничества в этих вопросах. Если наладим такое сотрудничество, то можно надеяться, что конфликты будут решаться с учетом интересов всех вовлеченных сторон.
ШУЛЬЦ. Могу согласиться с этим.
ГОРБАЧЕВ. У вас сохраняется негативный подход к нашему искреннему стремлению сотрудничать в решении этих острых проблем. Может быть, дело в том, что у вас этот подход сложился давно? А может быть, дело в той линии, которая, как мы понимаем, исходит из Совета национальной безопасности? Там по-прежнему считают, что Советский Союз и сегодня, и завтра будет оставаться державой, с которой Соединенные Штаты будут повсюду в мире сталкиваться и которая везде и во всем «виновата». Если такой подход остается, то трудно рассчитывать на прогресс, на сотрудничество.
А ведь из того факта, что и мы, и вы присутствуем повсюду, можно сделать совсем другой вывод. Я об этом не раз говорил вам, говорил и публично. Раз мы с вами присутствуем повсюду, мы просто обречены на поиск баланса интересов. Такой подход будет стимулировать нахождение развязок и решений. Вот наша философия.
Как она конкретно преломляется, в частности, в вопросе об Афганистане? Мы привезли в Вашингтон — и сообщили вам первым — наш план действий, пригласили сотрудничать в поисках решения этой сложной, острой проблемы. Учли ваши соображения относительно того, что договоренность на женевских переговорах должна быть достигнута как можно скорее, и наш уход не следует увязывать с формированием коалиционного правительства в Афганистане. К сожалению, в Вашингтоне разговор на эту тему не получился.
Тем не менее мы считаем, что в ситуации вокруг Афганистана наши страны могут сотрудничать, могут подать пример того, как надо подходить к региональным конфликтам. Чтобы подтолкнуть вас в этом направлении, мы выступили со своим недавним заявлением. После этого вы зашевелились.
Но что же получается? Сейчас вы отказываетесь от своих прежних заявлений. Если мы хотим иметь нейтральный, неприсоединившийся, независимый Афганистан, то пусть афганцы сами обсуждают и решают, какое у них должно быть правительство. Что тут неприемлемого? Разве не об этом вы все время вели речь?
Мы говорили, что после подписания соглашения наши и ваши возможности влияния на ситуацию будут ограниченными. И видим это уже сейчас. Нам уже сложнее вести дела с нашими друзьями. Каждый думает прежде всего о себе, о своем будущем. Это естественно.
…Мы сделали заявление о выводе наших войск, определили дату и сроки вывода. Путь открыт.
Я приветствую то, что вы сказали: предстоящий раунд переговоров в Женеве должен быть последним. Это единственно верный подход. В конце концов, мы не можем танцевать под настроения и эмоции той или иной стороны в этом конфликте. Вопрос этот слишком важен для Советского Союза, чтобы танцевать польку-бабочку кому-то в угоду. И все же нельзя не видеть, что кое у кого хватает наглости — я не боюсь этого слова — говорить, что заявление Советского Союза о выводе войск из Афганистана — это всего лишь пропаганда.
ШУЛЬЦ. Мы так не говорим. Мы приветствуем ваше заявление, принимаем его как таковое. Я поверил в серьезность ваших намерений еще полгода назад, когда Шеварднадзе впервые заявил мне о них.
ГОРБАЧЕВ. У нас нет никаких намерений создавать плацдарм в Афганистане, рваться к теплым морям и т. п. Это чепуха.
Мы хотим, чтобы вы содействовали скорейшему подписанию женевских договоренностей, чтобы Афганистан был независимой, неприсоединившейся, нейтральной страной, с таким правительством, какого пожелают сами афганцы. И давайте подталкивать дело с двух сторон в направлении такого урегулирования, чтобы оно было бескровным.
ШУЛЬЦ. Согласен.
ГОРБАЧЕВ. Сейчас между самими афганцами идут контакты, о которых мы раньше не знали. Там происходят вещи, о которых неизвестно ни нам, ни вам. Нам не надо представлять себя своего рода вершителями судеб Афганистана.
ШУЛЬЦ. Хорошо.
ГОРБАЧЕВ. Прошу вас передать президенту, что мы надеемся на сотрудничество с американской стороной в вопросе афганского урегулирования».
Накануне приезда государственного секретаря посол Мэтлок передал нам предложения по урегулированию ближневосточного конфликта, с которыми Шульц собирался выступить в ходе своей предстоявшей тогда поездки по ряду стран региона. Эти предложения стали известны как «план Шульца».
Я приветствовал сам факт передачи в предварительном порядке таких предложений, расценив его как признак начинающегося процесса американо-советского сотрудничества в поисках решения застарелой международной проблемы.
— Мы ждали, когда вы убедитесь в том, — сказал я госсекретарю, — что без участия Советского Союза трудно решить эту проблему. Думаю, сотрудничество между нами здесь может быть плодотворным.
О содержании этой части переговоров с Дж. Шульцем расскажу в другой связи, когда речь пойдет о нашей новой политике на Ближнем Востоке.
Этот обмен мнениями вывел нас на философский диалог по крупным мировым проблемам. Шульц проявил огромный интерес к высказанным мною мыслям, сказав, что он «двигался в том же направлении».
«ШУЛЬЦ. У меня нет волшебного стекла, через которое можно увидеть будущее. Но я замечаю, что в мире развиваются тенденции, которые требуют, я бы сказал, нового мышления. И если действовать в духе этого нового мышления, то, мне кажется, мы увидим по-новому и наши интересы. Многое предстанет в другом свете.
ГОРБАЧЕВ. Есть реальная возможность гармонизации интересов государств. Развитым странам на первый взгляд кажется, что это неприемлемо, что за этим стоит стремление выворачивать их карманы. Но это только на первый взгляд. Если посмотреть глубже, то интересам развитых стран отвечает прогресс на всех континентах. Ведь если его не будет, если будет происходить накопление экономических, социальных, других проблем, то в конце концов это ударит по всем, в том числе и по развитым странам, нарушит взаимосвязи.
Гармонизация интересов государств отнюдь не означает уравниловку в международном масштабе. Это сложная взаимосвязь, совершенно ясно, что пришло время искать решения на подлинно международной основе. Думаю, можно найти и соответствующие механизмы…Конечно, можно попытаться действовать по-старому еще лет двадцать— тридцать. Но это было бы ошибкой. Пришло, как говорится, время собирать камни. Это не мечтания, это настоятельные потребности сегодняшнего мира, которыми пришло время заняться. Если мы этого не сделаем, можем быть застигнутыми врасплох».
Завершив беседу с Шульцем, я попытался уточнить для себя, что внесла она в наши отношения, реальна ли наша ставка на развитие позитивного сотрудничества с нынешней и идущей ей на смену администрациями США. Было очевидно, что сам Шульц настроен весьма позитивно. Можно было рассчитывать, что, руководствуясь, естественно, интересами Соединенных Штатов, он использует свое влияние, чтобы и дальше вести дело к лучшему в наших отношениях. Вместе с тем нетрудно было заметить, что руки у него не свободны, в окружении президента, в конгрессе, во влиятельных политических кругах и государственных органах не только не готовы принять его концепцию политики на советском направлении, но и сопротивляются этому. За спиной Уайнбергера — известного противника Шульца — действовало мощное лобби.
Последующие события подтвердили, насколько ожесточенной была борьба в правящих кругах США вокруг вопроса о дальнейшей политике по отношению к Советскому Союзу. С одной стороны, Шеварднадзе во время встреч с ведущими деятелями администрации Рейгана продвинулся вперед при решении ряда трудных вопросов разоружения. В Женеве удалось наконец подписать Соглашение об Афганистане. С другой — из уст представителей руководства США, в том числе самого президента, стали вновь срываться слова, которые никак не согласовывались с новым характером отношений.
Поэтому, когда я вновь встретился с Шульцем 22 апреля 1988 года, мне пришлось после обычных приветствий и обмена шутливыми замечаниями опять поставить перед ним жесткий вопрос:
— Неужели все, что говорит в последнее время президент, — это та политическая основа, на которой он собирается строить свой визит к нам? Неужели именно с этим багажом собирается в Москву? Но ведь мы не оставим без ответа любые нападки на нас. И каков будет результат? Устроим перебранку, похороним все то, что удалось достичь такими большими усилиями! Кому это нужно?
Шульц попытался разуверить меня: президент, мол, оценивает наши отношения как новую страницу в истории. При этом подробно обозначил то, что было достигнуто в последние годы.
Естественно, в центре нашей беседы на этот раз была организация визита Рейгана в Советский Союз. Московская встреча должна стать продолжением нашего содержательного диалога.
Очень важный вопрос: чем завершить визит? Не обязательно на каждой встрече в верхах подписывать какой-нибудь договор, но не хотелось и заранее расхолаживаться. Пусть не будет соглашений, но следовало бы подготовить основательный итоговый документ, фиксирующий продвижение вперед.
Наш разговор снова вышел на вопросы разоружения. В тот момент у нас создалось впечатление, что Соединенные Штаты и НАТО устраивает ситуация, когда дискуссия на переговорах по обычным вооружениям вращается в основном на пропагандистском кругу, с акцентом на превосходство Советского Союза.
Возражая мне, Шульц сказал, что США намерены приступить к конкретному обсуждению вопроса об обычных вооружениях. Тут же он, как уже стало обычным для наших американских партнеров, перевел разговор на тему о правах человека, будто никаких серьезных перемен в этой области в СССР не произошло. Из этого я вынес только подтверждение прежнего моего вывода, что Шульц, продолжая держаться своей линии, вместе с тем вынужден подыгрывать и президенту, большому любителю все сводить к «правам человека», консервативному лобби в целом. На этот раз тема поднята была, наверное, из боязни потерять — в ходе улучшения отношений — последний козырь для давления на нас.
После достаточно жесткого обмена мнениями на этот счет я предложил вернуться к разоружению. Спросил, верно ли наше впечатление, что США притормозили работу по этому пункту советско-американской «повестки дня». Шульц сказал, что надеется к встрече на высшем уровне иметь договоренность о проведении совместного эксперимента по контролю за подземными ядерными взрывами.
Вновь возникла тема Афганистана. Я пришел к выводу: способность к сотрудничеству в этом вопросе — пробный камень того, способны ли мы, СССР и США, развивать свое взаимодействие или все сведется к прежнему. Сказал об этом госсекретарю.
— Это важно не только для нас с вами. За нами следит весь мир. Считаю, что было бы серьезной опасностью для процесса политического урегулирования, если бы США не избавились от искушения получить вместо нейтрального, неприсоединившегося Афганистана удобное для себя государство.
Шульц заверил, что США — за нейтральный, независимый Афганистан, который займет-де свое место в регионе и будет играть разумную, ответственную роль.
Встреча с Шульцем укрепила меня в убеждении, что борьба в администрации США вокруг отношений с СССР продолжается. Тем больше значил предстоявший визит Рейгана. В конце концов, именно президент — ключевая фигура американской политики.
Переговоры по разоружению продвигались по-прежнему медленно. В мае стало ясно, что на подписание договора об СНВ выйти не удастся. В порядке «компенсации» была достигнута договоренность предварить визит Рейгана ратификацией Договора о РСМД. 27 мая она была произведена сенатом США. 28 мая договор был ратифицирован в Верховном Совете СССР.
Беседы в Кремле
29 мая Президент США, закрывая четырнадцатилетний перерыв в официальных визитах глав американского государства, вступил на нашу землю. В тот же день в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась наша первая беседа один на один.
Возвращаясь мыслями к тому времени и перелистывая сделанные тогда записи, я думаю, что значимость первой московской беседы определялась не столько ее содержательной стороной, сколько тональностью, обоюдно обнаруженным желанием. придать ей доброжелательный, доверительный характер. Мы поговорили о необходимости продолжить диалог по важнейшим аспектам советско-американских отношений, выразили взаимное удовлетворение проведенной до того работой. Я предложил президенту, чтобы одним из итогов нашей встречи была констатация, что в современном мире с его идеологическими и иными различиями никакие спорные проблемы не могут и не должны решаться военным путем, что народы должны жить в мире, мирное сосуществование мы рассматриваем как универсальный принцип международных отношений.
Рейган, в основном согласившись с этой идеей, переадресовал ее экспертам и сразу же перешел к теме, которая всегда занимала его в первую очередь. Попросил решить ряд конкретных вопросов, связанных с воссоединением семей и разрешением на эмиграцию. Я обещал внимательно рассмотреть все названные им случаи.
Затем Рейган поднял вопрос о религии и религиозной свободе в Советском Союзе, подчеркивая, что все это надо рассматривать «исключительно как его личные добрые советы». Он говорил искренне, и я реагировал соответственно. Имея в виду намечавшуюся встречу президента с патриархом Пименом и посещение монастыря, выразил надежду, что президент получит в результате более объемную информацию о проблемах религии в нашей стране.
Пока мы беседовали с президентом, Раиса Максимовна познакомила Нэнси Рейган с достопримечательностями Кремля. В это время здесь, как и обычно, много экскурсантов со всех концов страны, ведь уже начинались летние каникулы и период отпусков. Наши люди тепло приветствовали американских гостей, желали успеха переговорам. Президент и его супруга, вся делегация уже в первые часы оказались в атмосфере доброжелательности.
30 мая начались официальные переговоры. С нашей стороны принимали участие Громыко, Шеварднадзе, Яковлев, Добрынин, Язов, Черняев, Бессмертных, некоторые другие. С американской — Шульц, Карлуччи, Бейкер, Пауэлл, Нитце, Рауни, Мэтлок, Риджуэй.
Доминирующей, практически единственной темой первого дня переговоров было разоружение. Нашу позицию по главным ее аспектам я изложил следующим образом.
Мы считаем очень важным, что вопрос о ратификации Договора о РСМД решен к этой нашей встрече на высшем уровне. Обмен ратификационными грамотами будет серьезным политическим ее элементом. Что касается СНВ, то готовы продолжать работу с нынешней администрацией США. В частности — искать решения проблемы подуровней в увязке с проблемой мобильных МБР.
Я отметил, что, как у американцев вызывают озабоченность наши МБР, мы озабочены их ракетами на подводных лодках. Понимаем, что крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) не включаются в предельные уровни СНВ. Это самостоятельная проблема. Но ее необходимо твердо увязать с 50-процентными сокращениями СНВ. В противном случае останутся открытыми ворота для продолжения гонки вооружений на другом направлении. Нужно установить предельный уровень для таких ракет, и было бы очень важно, если бы нам здесь удалось договориться о таком пределе.
Мы, подчеркнул я, настроены подписать договор по СНВ, пока у власти находится наш гость.
Рейган, как и следовало ожидать, заговорил о СОИ. Подтвердил американскую позицию, согласно которой сокращение СНВ может сопровождаться соглашением о невыходе из договора по ПРО в течение определенного срока. Если за это время не договоримся об ином, каждая сторона вправе сама определять свой курс действий. Одновременно Рейган подчеркнул, что США не дадут согласия на период невыхода из ПРО до тех пор, пока не будут устранены нарушения этого договора с нашей стороны. Он имел в виду Красноярскую радиолокационную станцию.
Важным вопросом, продолжал Рейган, является проблема допустимых пределов исследований, разработок и испытаний в период невыхода из договора по ПРО. США против того, чтобы на них накладывались большие ограничения, чем предусмотренные самим договором по ПРО.
Начавшаяся после этого дискуссия сразу вышла на проблему о смысле СОИ. Поскольку было затронуто любимое детище президента, обмен мнениями приобрел довольно «колючий» характер.
«ГОРБАЧЕВ. И все-таки: для чего СОИ? Какие ракеты будет сбивать эта система, если ядерное оружие будет ликвидировано?
РЕЙГАН. Она будет создана на всякий случай. Ведь в умах людей останется знание технологии создания ядерного оружия. Этого никто уже не сможет у них отнять. Останется и технология создания ракет. И может найтись безумец, который воспользуется этими секретами. Такие примеры есть, например Гитлер, они время от времени появляются в истории…»
Президент, жестикулируя, опрокинул в этот момент стакан с водой. Извинился.
— Ничего, господин президент, — шутя заметил я, — со стаканом воды неосторожность — это не страшно. А вот если с ракетами…
Посмеялись. Зато и дискуссия, обещавшая приобрести ненужный «накал», вошла в спокойное русло.
— Мы считаем, — сказал я, — что СОИ — это не только программа оборонительного характера, но и путь к созданию космического оружия, способного наносить удары по земле. Кроме того, возникает вопрос: если кто-то собирается создать систему космической ПРО, то зачем нам облегчать его задачу? Ведь одно дело, когда ей будет противостоять определенное число ракет, и совсем другое, когда ей будет противостоять большее число ракет. Вот и получается, что стороны будут создавать космическое и стратегическое наступательное оружие, тратя на эту гонку свое национальное достояние. Но ведь при этом просто обесценивается смысл переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, подрывается стратегическая стабильность, под сомнение ставится капитал, накопленный на протяжении многих лет наших переговоров. Возникает вопрос: а можем ли мы вообще иметь дело с вами? О чем же в таком случае надо нам думать и что делать? И мы уже думаем об этом.
«РЕЙГАН. Еще в Женеве я говорил, что мы предлагаем вам наблюдать за работами, ведущимися в рамках СОИ, присутствовать при экспериментах.
ГОРБАЧЕВ. Позвольте высказать сомнения на этот счет. Прежде чем делать такое предложение, вам следовало бы убедить господина Карлуччи, господина Шульца и ваш военно-морской флот открыть для инспекции всего лишь два типа ваших кораблей с целью контроля крылатых ракет морского базирования. Но, как мы знаем, ваши моряки уперлись, они не хотят давать согласие на инспекции ваших кораблей, и в этом их поддерживает господин Карлуччи. Так как же вы откроете для инспекции секретные исследования в рамках СОИ, если даже не можете допустить наших инспекторов всего на два типа кораблей? Это просто несерьезно».
Вступил в разговор Карлуччи и стал уверять, что СОИ не может выполнять функции оружия.
— Это неубедительно, — возразил я. — Такие аргументы не могут нас убедить, господин министр.
Затем мы обсудили спорные проблемы контроля, а также американское предложение о подписании отдельного соглашения об уведомлениях запусков МБР и БРПЛ не только за пределы, но внутри национальных территорий. Договорились доработать такое соглашение и подписать документ уже сейчас в Москве.
Разговор об обычных вооружениях был облегчен тем, что за полмесяца до того Шеварднадзе и Шульц нащупали развязку вопроса о предмете переговоров (вооруженные силы, обычные вооружения и техника; никакие их виды не будут исключаться из переговоров). Возникла возможность согласовать мандат переговоров по этой проблеме.
Но Рейган опять поднял вопрос о советском превосходстве в области обычных вооружений. Я со своей стороны напомнил, что мы спорили по этому поводу еще в Вашингтоне, и предложил: чтобы снять все споры, давайте обменяемся официальными данными о наших вооруженных силах и опубликуем их. Собеседники восприняли мое предложение весьма сдержанно.
Пытаясь добиться более существенного сдвига, я сделал следующее заявление, которое воспроизвожу по протокольной записи:
«ГОРБАЧЕВ. Мы предлагаем завершить обсуждение предмета переговоров, начать наконец сами переговоры. В ходе этих переговоров было бы три этапа. На первом этапе были бы выявлены и ликвидированы дисбалансы и асимметрии. С тем чтобы сделать это, мы хотим внести сейчас новое предложение: сразу же с началом переговоров о сокращении обычных сил провести проверку исходных данных при помощи инспекций на местах, устранить таким образом различия в оценках. На этом этапе стороны определили бы пути ликвидации дисбалансов и асимметрий, способы сокращения вооруженных сил и вооружений под строгим контролем.
На втором этапе, после ликвидации дисбалансов и асимметрий, стороны провели бы сокращение своих вооруженных сил примерно на 500 тысяч человек каждая.
На третьем этапе вооруженным силам обеих сторон был бы придан чисто оборонительный характер, чтобы они не были способны к наступательным операциям. На всех этапах переговоров мы готовы пойти на взаимное сокращение вооружений, имеющих наступательный характер, — тактического ядерного оружия, ударной авиации, танков. Могли бы обсуждаться и такие меры, как создание коридоров, в которых не было бы ядерного оружия, они раздвинули бы наши войска друг от друга.
Вот наша логика. Я не понимаю, что в ней не подходит вам. Что удерживает вас от того, чтобы всерьез обсуждать эти вопросы?»
Весьма примечательным был ответ на это государственного секретаря.
«ШУЛЬЦ. Мы видим, что вы хотите продвинуться вперед по проблеме обычных вооружений. Мы и наши союзники тоже хотим продвинуться вперед. Вопрос в том, как это сделать. Начать надо в Вене. Надо завершить там работу над мандатом. Вы прочитали формулировку, которая действительно обсуждалась нами в Женеве. Это хорошая формулировка. Теперь надо «продать» эту формулировку союзникам, нашим и вашим. Сделка эта будет легче, если она будет выглядеть как предложение, рассмотренное всеми, а не как формулировка, которую мы с вами согласовали. Они боятся, что мы договоримся за их спиной. Таким образом, этот процесс должен идти в Вене. Что же касается существа дела, то формулировка нас устраивает. Главное — аккуратно выдвинуть ее в Вене.
ГОРБАЧЕВ. А что мы запишем по этому вопросу в нашем совместном документе?
ШУЛЬЦ. Здесь надо действовать очень осторожно. Учтите, что большая часть обычных сил, о которых идет речь, не принадлежит США. Так что лучше, если эта работа будет завершена не в Москве, а в Вене. Мы со своей стороны можем дать импульс этой работе».
К концу встречи Рейган заговорил о необходимости предотвратить распространение баллистических ракет.
— Мы, — сказал он, — видим остроту этой проблемы на Ближнем Востоке, в Южной Азии. Если не остановить такого распространения, оно превратится в серьезную угрозу. Такие страны, как Иран и Ливия, могут соединить ракетную технологию и технологию химического оружия, что приведет к самым тяжелым последствиям. Поэтому надо подумать, какое давление можно оказать на соответствующие страны, как повлиять в нужном направлении на наших друзей, чтобы остановить или поставить под контроль эту тенденцию.
Я согласился с тем, что это действительно серьезная проблема, и выразил готовность взвесить ее конкретные аспекты.
Утром 31 мая встретились снова один на один. По просьбе Рейгана я подробно рассказал ему о перестройке, о трудностях и дальнейших планах. Обратил его внимание на то, что США по-прежнему проводят дискриминационную политику в торговле с СССР. Подозреваю, отметил я, что власть старых стереотипов сковывает американское руководство. Выглядит это примерно так: зачем помогать Советскому Союзу становиться более сильным? Лучше иметь дело со слабой страной. Рейган энергично стал возражать. Но одновременно и оправдывал дискриминационные меры, ссылаясь на еще не до конца решенные проблемы эмиграции из СССР.
Подытоживая, я сказал примерно следующее: если мы с вами добились принципиального понимания, что необходимо продвигать двустороннее сотрудничество, то давайте совместно убирать завалы прошлого. Убежден, что сам Бог велел нам сотрудничать, развивать связи. Кстати, большая зависимость друг от друга обеспечивает и большую предсказуемость в политике каждого из партнеров.
Рейган обещал сделать все, что в его силах, для сохранения конструктивного духа американо-советского диалога, добавив при этом, что он иногда молится, чтобы его преемником был Буш, поскольку он разделяет его основные убеждения, стремление к более конструктивным отношениям с СССР.
Прощание с «империей зла»
После утренних переговоров мы с президентом совершили прогулку по Кремлю. Его приветствовали экскурсанты, он им отвечал, обменивался дружелюбными возгласами, охотно вступал в разговор. В одной из таких спонтанных своего рода «пресс-конференций», как раз у царь-пушки, кто-то из толпы спросил Рейгана: «Господин президент, вы и до сих пор считаете Советский Союз империей зла?» Рейган ответил: «Нет». Я стоял рядом и подумал про себя: принимаем это к сведению. Как говорили древние греки, «все течет, все меняется».
Об этом я на другой день рассказал на пресс-конференции по итогам визита. А когда Рейган в этот же день давал свою пресс-конференцию, ему напомнили этот эпизод. Причем журналист дотошно допытывался, почему Президент Соединенных Штатов изменил свою оценку. «Усвоили ли вы что-то, господин президент, — спрашивал он, — имели ли возможность больше узнать об этой стране и произошло ли это благодаря вам или только благодаря Горбачеву?» Рейган ответил: «В значительной мере это произошло благодаря господину Горбачеву как руководителю. И мне кажется, что здесь (то есть в СССР) произошли перемены в процессе усилий по осуществлению перестройки. И, судя по тому, что я о ней читаю, со многим я мог бы согласиться».
Я бы отнес это признание Рональда Рейгана к главным результатам его визита в Москву. Значит, он убедился, что не обманула интуиция, которая еще в Рейкьявике «подсказала» ему, что с меняющимся Советским Союзом действительно «можно иметь дело», и дело это — спасение от ядерной войны — небезнадежно. Значит, он мог себя поздравить в душе с тем, что сделал правильный выбор и не случайно сказал мне накануне, что молится, чтобы его преемником на посту президента был человек, который согласен с этим выбором.
В этом я вижу историческое величие сорокового президента Соединенных Штатов Америки.
Мы прошлись с президентом по Кремлю, вышли через Спасские ворота на Красную площадь, прошли мимо Мавзолея. Он проявил большой интерес к архитектурным достопримечательностям исторического центра России. Был оживлен, явно доволен тем, что происходит.
Затем мы вернулись в Кремль и направились к Большому Кремлевскому дворцу, где в Красной гостиной состоялось подписание документов. Приглашенные официальные лица были уже на месте. Шеварднадзе и Шульц поставили свои подписи под Соглашением о проведении совместного эксперимента по контролю, Соглашением об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Была подписана программа сотрудничества и обменов на 1989–1990 годы, в которой, в частности, предусматривалась реализация идеи Рейгана об обучении на принципах взаимности в 100 американских и в 100 советских школах по 1000 учеников в год. (Кстати, не знаю, реализуется ли эта договоренность.)
Заключительная встреча состоялась 1 июня утром в присутствии делегаций. Мы заслушали сообщения Шеварднадзе и Шульца о результатах их переговоров.
Особенно основательно на этой встрече была обсуждена проблема региональных конфликтов. Я изложил президенту наш подход к их урегулированию, подчеркнув, что он предполагает не только учет интересов союзников или тех, к кому они испытывают политические симпатии, но также и законные интересы США. Пример тому — Афганистан. Подписание соглашения по Афганистану представляет собой прецедент, значение которого выходит за рамки региональной проблемы. Это — первый случай, когда Советский Союз и США, наряду с конкретными участниками конфликта, подписали соглашение, открывающее путь к политическому решению.
Продвинулись мы вперед и в решении вопроса о международной конференции по Ближнему Востоку. Убедились в возможности развязок на Юге Африки, в Центральной Америке, в Кампучии.
При обсуждении текста Совместного заявления на высшем уровне я возобновил предложение, о котором сказал президенту еще на первой беседе, а именно — зафиксировать в документе неприемлемость решения спорных вопросов военным путем, признание мирного сосуществования в качестве универсального принципа международных отношений, а равенство всех государств, невмешательство во внутренние дела и свободу социально-политического выбора — как неотъемлемые и обязательные международные нормы. Тогда, на первой беседе, как помнит читатель, президент обещал «проработать» мое предложение со своими сотрудниками.
«Сотрудники» решительно выступили против. Не прошла и значительно смягченная формула, которую мы предложили. То, что осталось, читатель может прочесть в окончательном тексте Заявления, неоднократно публиковавшемся. Да, еще раз оказалось, что политика — это искусство возможного.
Итак, последняя официальная беседа завершена. Во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца все готово для торжественной церемонии обмена ратификационными грамотами о введении в действие советско-американского Договора о РСМД.
Одиннадцать часов сорок пять минут 1 июня 1988 года. Рейган и я садимся за стол и подписываем протокол. Совершился акт, который с полным основанием может быть оценен как свидетельство торжества разума, как победа политики оздоровления международной обстановки.
Начало положено. Но — лишь начало. Мир еще напичкан страшным оружием массового уничтожения. Противостояние великих держав сохранялось. Значит — продолжать работать.
Обо всем этом я думал во время официальных проводов Президента США, состоявшихся в Кремле 2 июня. И именно это имел в виду, говоря на прощание Рейгану:
— Диалог наш не был легким. Но нам хватило и реализма, и политической воли, чтобы, преодолевая препятствия, свернуть с опасного пути и вывести поезд советско-американских отношений на более безопасное направление. Хотя идет он пока куда медленнее, чем требует реальная обстановка и в наших странах, и во всем мире. Но как я понял, господин президент, вы готовы и дальше совместно работать. Со своей стороны могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать идти вперед.
Думал я и о других итогах встречи, о которых мы потом порассуждали на заседании Политбюро. Она как бы обозначила рубеж в том прогрессе, который произошел за эти годы в американском руководстве. СССР уже не рассматривался как страна, с которой могут быть только отношения конфронтации. Но от ставки на силу далеко еще не отказались. Можно было заключить, что военная мощь остается главным принципом политики Соединенных Штатов. Нежелание согласиться с моим предложением включить в итоговый документ положение об отказе от использования силы в международных делах достаточно красноречиво об этом свидетельствовало.
Еще один аспект встречи. В дни визита Рейгана американцы круглые сутки могли смотреть на своих экранах не только протокольные мероприятия и отчеты о переговорах, а нашу жизнь, нашу страну, какой она становилась в ту пору[19]. Сам факт подобного советского «присутствия» в Америке в таком объеме и с таким размахом — важнейший феномен встречи. Как никогда ранее, она выводила нашу перестройку и связанные с ней демократизацию, гласность, открытость — прямо на американский народ. Да и не только американский, поскольку к Москве в эти дни" было приковано всеобщее внимание.
Президент и его супруга в рамках программы имели много контактов с москвичами. Разные это были контакты: с литераторами, учеными, студентами, школьниками, гуляющими по Арбату и на других улицах. Раиса Максимовна и Нэнси побывали в Третьяковке. Госпожа Рейган съездила в Ленинград. В честь американских гостей вечером был показан балет в Большом театре с участием всемирно известных наших мастеров. В дружеской атмосфере прошли обеды в Грановитой палате, в резиденции американского посла в Спасо Хаузе.
Вообще гуманитарный разрез встречи в Москве отличался тем, что она шла не по накатанному пути взаимных упреков и «разборок» — у кого что плохо. Ее отличало стремление налаживать сотрудничество в самых различных формах.
Главный же итог встречи — углубление политического взаимопонимания и взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов. Их диалог отныне включил в себя все узловые проблемы двусторонних отношений и мировой политики.
Рубеж: выступление в ООН
В 1988 году окончательно сложились концепция и политика нового мышления, наиболее полно изложенные в моем выступлении в Организации Объединенных Наций.
Подготовка к поездке в Нью-Йорк началась заблаговременно. Обдумывал я ее, еще будучи в отпуске. 31 октября пригласил ближайших сотрудников по международным делам, чтобы вместе поразмышлять о направленности и основном содержании предстоящего выступления. Это были Шеварднадзе, Яковлев, Черняев, Добрынин, Фалин. «С чем поедем в ООН?» — поставил я вопрос и стал размышлять вслух.
Каковы итоги нашей внешней политики, что произошло за три года в умах народов, политиков, военных. Как изменились мы сами и как изменился мир. Связь этих изменений с перестройкой в СССР. Попытаться дать общую картину современных процессов — как мы ее себе представляем.
Представить членам ООН основные идеи, которые мы закладываем в новую военно-политическую доктрину. И показать, что новое военное мышление — это часть нашего нового политического мышления. Что мы не только призываем, а и действуем. Дать наш ответ на озабоченности, существующие в мире. И в этом контексте изложить наши намерения по односторонним шагам в деле разоружения. Я вспомнил, как недавно в московском Дворце молодежи ребята наседали на меня, требовали вразумительно объяснить, зачем нам столько танков, зачем нам такая огромная армия?
Участники первой «прикидки» к речи были согласны, что пора пойти на серьезные сокращения вооружений и вооруженных сил. И надо исходить из того, что предстоящая пятилетка будет у нас пятилеткой разоружения.
Словом, речь в ООН должна быть «Фултоном наоборот», «анти-Фултоном». Причем мы можем опереться на факты, показать реальное движение. Верить нам будут только в том случае, если будем подтверждать делом свои намерения, а не только призывать.
Специальный раздел речи я намеревался посвятить Организации Объединенных Наций как инструменту мира, еще раз подчеркнуть, что наступила пора, когда она действительно может развернуть потенциал, заложенный в ней при основании. Я считал возможным предложить «доктрину» деятельности ООН в новых условиях. Основательно провести мысль о значении демилитаризации мышления в мировом сообществе, о демократизации и гуманизации международных отношений. Высказать наше мнение о той роли, которую ООН должна сыграть в налаживании нового мирового экономического порядка, в создании справедливых экономических связей на линии Север — Юг.
В конечном счете концепция и конкретные предложения для речи в ООН были подготовлены, обсуждены и одобрены на Политбюро. Никаких принципиальных возражений не было. Особенно много пришлось разбираться с цифрами задуманных односторонних сокращений вооруженных сил. Много тут потрудился маршал Ахромеев. Слухи, особенно на Западе, будто он был противником этой нашей акции, абсолютно ложны. Все конкретные проработки этой инициативы проходили под его непосредственным руководством.
Потом была работа над составлением текста речи. Тут уже был заведенный порядок: проекты я нередко передиктовывал по нескольку раз. В этом случае — трижды. Но работа продолжалась (тоже уже стало обычаем) и в самолете, взявшем курс на Нью-Йорк. Продолжался обмен мнениями с сопровождавшими меня сотрудниками, оценивалась новейшая информация, нюансировались позиции.
За несколько часов до посадки я решительно отключился от всех внешних раздражителей. Предстоящие дни обещали быть очень нагруженными, требовалась максимальная собранность. И хотя все, казалось, было продумано и подготовлено, я попытался мысленно выделить самое существенное, что предстояло сделать во время визита.
Что мне казалось наиболее важным в той речи? В ней был ряд конкретных предложений, рассчитанных на дальнейшее улучшение международной ситуации. Я сообщил о решении сократить в ближайшие два года численный состав Вооруженных Сил СССР на 500 тысяч человек и, соответственно, обычные вооружения. О договоренности с нашими союзниками по Варшавскому Договору вывести к 1991 году из ГДР, Чехословакии и Венгрии шесть танковых дивизий и расформировать их. О некоторых других мерах по сокращению нашего наступательного потенциала. Однако главное состояло не в этом: я стремился показать мировому сообществу, что мы все вступаем в принципиально новый период истории, когда старые, традиционные принципы отношений между государствами, основанные на соотношении сил и их соперничестве, должны уступить место новым — отношениям сотворчества и соразвития.
Если бы меня сейчас попросили предельно кратко воспроизвести содержание тогдашней речи, я бы ограничился упоминанием нескольких изложенных в ней универсальных посылок и принципов.
— От всех, а тем более от сильных стран в первую очередь, требуется самоограничение и полное исключение применения силы вовне.
— Принцип свободы выбора как условие реализации многовариантности общественного развития разных стран.
— Деидеологизация межгосударственных отношений.
— Совместный поиск пути к верховенству общечеловеческих идей над множеством центробежных, пусть даже законных, эгоистических мотивов.
Среди ряда практических мер, предложенных в речи, стержневое место занимал вопрос о новой роли ООН. Перед ней открывались новые возможности во всех сферах — военно-политической, экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной.
Прежде всего это касалось проблемы развития. Условия существования сотен миллионов людей в ряде районов третьего мира становились просто опасными. Никакие замкнутые образования, ни даже региональные сообщества государств, при всем их значении, не в состоянии развязать главные узлы, которые возникли на основных линиях мировых экономических связей: Север — Юг, Восток — Запад, Юг — Юг, Юг — Восток, Восток — Восток. Здесь нужны объединенные усилия, нужен учет интересов всех групп стран. А это в состоянии обеспечить лишь такая организация, как ООН. В частности, она могла бы помочь развязать узел международного долгового кризиса. Просто устрашающая ситуация сложилась в ряде районов с экологией. В качестве первого шага я предложил создание при ООН центра срочной экологической помощи. Его функции заключались бы в том, чтобы оперативно направлять в районы резкого ухудшения экологической обстановки международные группы специалистов.
Представление о том, что мы все вступаем в новую фазу миропорядка, повысило значение международного права. В тексте моей речи немалое внимание было уделено и этой стороне дел. Я исходил из того, что идеалом должно стать мировое сообщество правовых государств, которые свою внешнеполитическую деятельность подчиняют праву, и только праву. Достижению этого способствовала бы договоренность в рамках ООН об единообразном понимании принципов и норм международного права, их кодификация с учетом новых усилий, а также разработка правовых норм для новых сфер сотрудничества. Действенность международного права в наш век должна опираться не на принуждение к исполнению, а на нормы, отражающие баланс интересов государств. Вместе с осознанием объективной общности судьбы это создало бы искреннюю заинтересованность каждого государства в самоограничении себя международным правом.
С этим напрямую связана проблема гуманизации международных отношений. Межгосударственные связи только тогда будут отражать подлинные интересы народов и надежно служить делу их общей безопасности, когда в центре всего будет человек, его заботы, права и свободы.
Работая над мемуарами, я вновь перечитал текст этой речи. Годы существенно обогатили наш опыт. Если бы я готовил ее сейчас, то, наверное, кое-что уточнил бы, сказал иначе, дополнил. Но и сегодня я не откажусь ни от одной из высказанных там основных мыслей. Более того. Мне кажется, пафос этой речи звучит сейчас еще актуальнее.
Краткое приветственное слово председателя 43-й сессии Генеральной Ассамблеи, министра иностранных дел Аргентины Данте Капуто, и я на трибуне. Волнуюсь. Начинаю речь замедленно, иногда запинаюсь. Однако постепенно чувствую растущий контакт с залом. Ощущаю как бы кожей, что мои слова доходят, мысли воспринимаются. Становлюсь увереннее и, видимо, красноречивее. Бурные, долгие аплодисменты по окончании речи — вроде бы не просто дань вежливости.
Было интересно, как воспримут речь влиятельные американские газеты. Пресс-служба подготовила сводку. Конечно, многие зацепились прежде всего за конкретные предложения по разоружению, которые показались им информационно более выигрышными. Но самые серьезные все-таки ухватили глубинный смысл моего выступления в ООН.
«Нью-Йорк тайме» в редакционной статье писала: «Возможно, с тех пор, как Вудро Вильсон огласил свои четырнадцать пунктов в 1918 году, или с тех пор, как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль изложили в 1941 году Атлантическую хартию, ни один мировой деятель не показывал такого видения мира, какое продемонстрировал вчера в ООН Михаил Горбачев. Как и те, кто назван выше, советский руководитель призвал к коренной структурной перестройке международной политики — к власти закона, а не силы, к многостороннему, а не к одностороннему подходу к экономическим, равно как и политическим, свободам. Как и они, он использовал удобную возможность и ораторское искусство, чтобы привлечь к себе внимание планеты. В отличие от них он пообещал в одностороннем порядке пролагать путь, сокращая советские вооруженные силы, переводя военную промышленность на мирные рельсы. Захватывающая дух, рискованная, смелая, наивная, отвлекающая внимание, героическая… Любой эпитет подходит. Его повестка дня настолько масштабна, что потребуется несколько недель, чтобы в ней разобраться. Однако, каковы бы ни были мотивы Горбачева, его идеи заслуживают, более того, требуют самого серьезного ответа от избранного президентом Буша и других руководителей».
Роберт Кайзер поместил в «Вашингтон пост» следующий комментарий: «В одной из самых выдающихся речей, которые когда-либо произносились в ООН, Михаил Горбачев сегодня предложил изменить правила, по которым жил мир на протяжении четырех десятилетий… Горбачев в буквальном смысле слова призвал мир перековать мечи на орала, провозгласив, что применение или угроза силы больше не должны быть инструментом внешней политики… Приглашение Горбачева продвинуться вперед, за пределы «холодной войны», к новой эре международного сотрудничества будет нелегко отвергнуть западным лидерам. А сопроводив его поразительным признанием недостатков и ошибок СССР в прошлом, советский руководитель продемонстрировал откровенность и искренность, которые увеличивают притягательную силу его призыва. Смелость сегодняшнего выступления удивительная».
В пятнадцати минутах езды на пароме от центра Нью-Йорка в устье Ист-Ривер расположен небольшой островок Гавернорс-Айленд (Губернаторский остров). Там у меня должна была состояться встреча с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем. Честно говоря, я рассчитывал немного расслабиться и отдохнуть во время этой краткой поездки. Но не тут-то было. Накануне произошло землетрясение в Армении. О самом факте я уже знал. Первой о нем сообщила мне Тэтчер в своей ночной телеграмме. По пути на Губернаторский остров прямо из машины на пароме у меня состоялся разговор по телефону с Рыжковым. Он сообщил, что произошло в действительности: о масштабах разрушений, огромных человеческих жертвах. Это была трагедия, не знавшая себе равных, — по крайней мере, в последние годы.
Сойдя с парома, я сразу же прошел в отведенный для меня дом хозяина острова, вице-адмирала Джеймса Ирвина и продиктовал телеграмму соболезнования. Нетрудно представить себе, какое у меня было в этот момент настроение. Для себя я уже твердо решил прервать пребывание в Соединенных Штатах, отменить все связанные с поездкой визиты, принести извинения Фиделю Кастро и просить его с пониманием отнестись к переносу моего посещения Кубы. Срочно вернуться домой.
А пока программа. Подготовлена торжественная церемония, собралось множество журналистов. Пытаюсь сохранить внешнее спокойствие, произношу вежливые фразы и поторапливаю Рейгана и Буша уединиться в «каминной гостиной» небольшого особняка, отведенной для нашей встречи. Первые минуты разговора были посвящены несчастью в Армении.
Сначала мы вели беседу втроем. Затем присоединились Шеварднадзе, Яковлев, Черняев, Добрынин, Бессмертных, Дубинин, Шульц, Пауэлл, Дуберстайн, Риджуэй, Мэтлок. Для меня важно было определить, что ждет «американское направление» нашей политики при передаче власти от одного президента к другому. Разговор как бы перескакивал с одной темы на другую. С американской стороны ее вел главным образом Рейган, хотя, по определению американских газет, он был уже «хромой уткой», сошедшим со сцены руководителем. Буш, проявляя такт, намеренно играл роль лояльного вице-президента.
В той или иной степени оказались затронутыми все основные вопросы советско-американской «повестки дня». Оценили состояние переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений, обменялись мнениями о проекте СОИ и трактовке договора по ПРО. Я выразил полную готовность работать на этом важном направлении с любой администрацией Соединенных Штатов.
Перешли к региональным проблемам.
— Знаете, господин президент, — сказал я, — сейчас, может быть, удобный момент вспомнить одну беседу с государственным секретарем Шульцем. Когда-то мы встретились с ним накануне его поездки на Ближний Восток. Он вез туда свой план. Я ему заметил: хорошо, что Соединенные Штаты Америки пришли к выводу, что ближневосточный узел пора развязать. У вас свой план, мы готовы предложить свой конструктивный план. Иначе говоря, мы за активное сотрудничество и по этой проблеме, по всем региональным проблемам.
Если мы говорим что-то о Тихоокеанском, Азиатском регионе, — продолжал я, обращаясь к нему прямо, — или хотим что-то сделать там, то вовсе не потому, чтобы навредить Соединенным Штатам, вообще ослабить позицию Соединенных Штатов, например, связь с Западной Европой… Реально то, что и мы, и вы есть. Реальны наши интересы. Я бы предложил идти тем путем, на который мы уже встали с господином Рейганом. Нам невыгодно, чтобы безопасность Америки была худшей, чем наша. Мы не строим ни воздушных замков, ни иллюзий. Есть реальная жизнь, реальная политика. Давайте ею и будем заниматься. Если у нового президента будут возникать вопросы при изучении тех или иных международных проблем и он захочет нам о них сказать — очень хорошо. Особенно я поддерживаю вашу идею, господин Рейган, чтобы традиция, которая сложилась, сохранялась. Я встретил у господина Буша такое же понимание, признание значения американо-советских отношений для мировой политики.
В целом от встречи на Губернаторском острове, искренней и дружественной, у меня осталось хорошее впечатление. Можно было думать, что с новым президентом мы пойдем еще дальше по намеченному пути.
Рейган проводил меня до паромной переправы. Еще несколько минут — и кортеж наших автомашин, выехав на Бродвей, оказался в плотном людском коридоре. На протяжении часа мы ехали по улицам города. Дважды я выходил из машины, пожимал руки, обменивался репликами. Неумолимый протокол предусматривал еще несколько мероприятий. Сначала я посетил Международный центр торговли.
Вечером был грандиозный прием у генерального секретаря ООН. Но в голове у меня, на душе была одна мысль, одна тревога — о катастрофе в Армении. Я покинул прием и, вернувшись в резиденцию, дал указание срочно собираться домой. О своем решении проинформировал прессу. Утром мы улетели в Москву.
Пауза в Вашингтоне
23 января 1989 года позвонил Буш. К этому времени в средствах информации уже утвердилось мнение, что новая администрация не будет спешить с развертыванием новых отношений с Советским Союзом. Осведомленные обозреватели, основываясь и на разговорах с близкими к президенту людьми, писали: предстоят «пауза для размышлений», «стратегический обзор», «общая переоценка». На встрече на Губернаторском острове я говорил уходящему и вновь избранному президентам, что готов с пониманием отнестись к желаниям новой администрации «осмотреться и определиться». Раз есть согласие насчет преемственности, это не вызовет у нас беспокойства.
Незадолго до своего вступления в должность Буш прислал с приезжавшим в Москву Генри Киссинджером письмо. Вот что он писал: «Хочу подтвердить то, что я говорил Вам в прошлом году. Мне потребуется время, чтобы обдумать весь круг вопросов, особенно в области контроля над вооружениями, имеющих центральное значение для наших двусторонних отношений, и сформулировать нашу линию в интересах дальнейшего развития этих отношений. Наша цель — сформировать солидный и последовательный американский подход. Речь ни в коем случае не идет о попытке затормозить или обратить вспять позитивный процесс, которым отмечены последние один-два года».
Был в письме президента еще один момент, который не мог не обратить на себя внимания. «Полагаю, — писал он, — что важно приподнять диалог, особенно между Вами и мной, над деталями предложений в области ограничения вооружений и выйти на обсуждение вопросов более широких политических отношений, к которым мы должны стремиться».
И вот звонок президента. Разговор прошел на оптимистической ноте. Казалось, были основания ожидать, что дело пойдет не только в конструктивном русле, но и в необходимом темпе. Между тем шли недели и даже месяцы, а администрация не спешила раскрыть ориентиры своей внешней политики, и в особенности — на нашем направлении Первая встреча Шеварднадзе с госсекретарем Бейкером, состоявшаяся в Вене в середине марта, почти через два месяца после инаугурации нового президента, оставляла впечатление осторожности новой администрации — она как бы выжидала неизвестно чего. А сигналы в это время шли разные, порой настораживающие. И у нас, в том числе в руководстве, были люди, готовые истолковать затягивавшуюся паузу как свидетельство того, что в Вашингтоне вынашиваются недобрые планы в отношении нашей страны, уж во всяком случае, нет желания наращивать взаимодействие.
Информация, поступавшая по разным каналам из Соединенных Штатов, была противоречивой. Примаков, побывавший в США с делегацией, докладывал, что общественное мнение, особенно в глубинке, заметно изменилось в пользу Советского Союза. Укоренившееся недоверие к нам сменялось волной доброжелательности и интереса. Есть основание считать, что общественность в своем повороте намного обогнала правящие круги, и это будет сказываться на поведении администрации. Если еще недавно ей приходилось постоянно делать реверансы в сторону правых, то сейчас руки у нее в большей мере развязаны.
Несколько иную картину рисовали доверительные сообщения о дискуссиях, которые велись в непосредственном окружении президента. Возросла активность сторонников так называемой жесткой линии. События в нашей стране, а также в Восточной Европе расценивались в этих кругах как приближение желанной «победы в холодной войне». А отсюда установка — давить еще больше, выжимать уступки у Советского Союза.
Возобладай полностью в администрации Буша такой подход, многое из достигнутого в отношениях с США при Рейгане пошло бы насмарку. А в нашей стране те, кто с самого начала рассматривал нормализацию отношений с Соединенными Штатами, другими западными странами как дело вредное и неприемлемое, получили бы веские аргументы. Поэтому во время встреч с государственными деятелями Западной Европы — а их в эти месяцы было немало — я то и дело обращался к проблеме наших отношений с США, не скрывая своего беспокойства на этот счет. И был уверен, что мои замечания в том или ином виде доводились собеседниками до сведения их главного союзника по НАТО.
В этом смысле, учитывая «особые» отношения между Великобританией и США, думаю, небесполезны были мои разговоры о перспективах и характере советско-американских отношений с Тэтчер во время моего визита в Лондон в апреле 1989 года.
В середине мая в Москву прибыл госсекретарь Бейкер. Этому предшествовал сигнал от президента: «стратегический обзор» завершен, Бейкер будет готов к серьезному разговору по всему спектру двусторонних отношений, разоружения, региональных проблем, глобального взаимодействия наших стран.
Бейкер привез послание президента Буша — в целом позитивное. Но обратил на себя внимание такой момент: президент писал о возможности того, что «более сильный Советский Союз мог бы более решительно проявлять свою военную мощь, а это вызвало бы у США озабоченность». Все-таки довлели еще стереотипы прошлого. И дело не только в том, что не было у нас таких намерений, наоборот, мы шли на серьезные сокращения избыточных вооружений, сокращали их поставки за рубеж (накануне визита Бейкера я сообщил Бушу, что Советский Союз больше не поставляет оружия Никарагуа). Был тут еще один, даже более важный момент, о котором я сразу сказал госсекретарю:
— Хочу заверить: все, что мы делаем в процессе перестройки, стремясь придать новое дыхание нашему обществу, сделать наше государство сильнее, повернуть его лицом к людям, все это пойдет на пользу не только Советскому Союзу, но и Соединенным Штатам. Вы слышали на этот счет много различных мнений, рекомендаций, советов, в том числе и такой: зачем, дескать, спешить, в Советском Союзе и так все развивается в направлении дестабилизации и распада, пусть это яблоко созреет и само упадет к нам. Такой подход надо отбросить.
После такого знакомства и часовой беседы с Бейкером, прошедших в узком составе, разговор продолжился с участием официальных лиц. Я подробно изложил свое видение процесса перемен:
— Перестройка оказалась труднее, чем мы первоначально думали. Процессы идут болезненно и в экономике, и в политической, духовной жизни, в партии. Тут не арифметика, а высшая математика. Все мы вышли из того времени, из прошлого, и все должны измениться.
Я сказал американским гостям, что мы видим и свои ошибки, но подчеркнул главное:
— Наш народ распрямился, говорит во весь голос. Перестройка выталкивает вверх новых людей, и это исключительно важно. Много дебатов сейчас по вопросу тактики реформ, их темпов. Есть такие, кому хотелось бы достичь результатов одним махом, чтобы назавтра все было прекрасно. Другим кажется, что мы движемся слишком быстро и надо остановиться. Вот почему так важно не сбиться с курса, держать главное направление.
Как видно из этих высказываний, я исходил из того, что отношения с США позволяют общаться с американскими деятелями вполне доверительно. Бейкер оценил это. Вот как реагировал он на мои слова:
— Мы рассматриваем происходящие в Советском Союзе перемены как действительно коренные, революционные. Очень хотим, чтобы все задуманное у вас получилось. Есть, правда, в США небольшое число людей, считающих, что если перестройка провалится, то Советский Союз станет слабее и США от этого выиграют. Но в администрации никто не согласен с этой точкой зрения. У нас иное мнение: успех перестройки сделал бы Советский Союз более сильной, стабильной, открытой, безопасной страной. Хотя среди нас есть некоторые различия во взглядах относительно ваших шансов на успех. Мы также считаем, что успех перестройки зависит от Советского Союза, советского руководства, советского народа, а не от того, что сделает и чего не сделает Запад.
Как политик, занимавшийся три с половиной года экономическими вопросами, я пришел к выводу: такие трудные экономические решения, как реформа цен, лучше принимать раньше, чем позже. Лучше принимать их тогда, когда люди склонны обвинять в трудностях прежние администрации, ибо позднее они будут обвинять в них уже нынешнюю администрацию. Впрочем, в одном я убедился за эти три с половиной года: политическому руководству каждой конкретной страны виднее, на что оно может пойти, а на что не может. Ясно, что вам определять, в каком темпе двигаться вперед. Так что мы понимаем сказанное вами, уважаем вашу линию. Спасибо, что вы поделились с нами этими мыслями.
После этого мы перешли к конкретным вопросам. Договорились возобновить переговоры по СНВ во второй декаде июня. Я приветствовал высказывание Бейкера о том, что администрация будет возобновлять переговоры не на пустом месте, а в духе преемственности. Но все же пауза в переговорах получалась больше чем полугодовая, да и подход американской стороны к некоторым вопросам (КРВБ, КРМБ и др.) вызывал у меня беспокойство, о чем я откровенно сказал Бейкеру.
— Очень важно, — говорил я госсекретарю, — не подорвать доверие, не допустить возникновения подозрений в том, что одна из сторон пытается поставить другую в сложное, невыгодное положение. Это было бы тяжелым ударом по переговорам.
Серьезный разговор состоялся по тематике Венских переговоров о сокращении обычных вооружений в Европе. Я рассказал Бейкеру об основных параметрах наших предложений, направленных на радикальное сокращение вооруженных сил и вооружений в Европе. Сообщил также о том, что в 1989 году Советский Союз в одностороннем порядке выведет из Восточной Европы 500 боеприпасов тактического ядерного оружия.
В той беседе я напомнил, что в 1987 году мы согласились на то, чтобы в Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности была включена ракета «Ока» (которую на Западе называли СС-23), хотя ее дальность меньше 500 км:
— Тогда же мы договорились с госсекретарем Шульцем, что подобные ракеты впредь не будет развертывать ни одна из сторон. И вот сейчас оказывается, что вы собираетесь в 90-е годы развертывать ракету, аналогичную нашей ракете СС-23. Я уж не говорю о том, как это выглядит с моральной стороны. Ну а как это влияет на перспективы переговоров? Во всяком случае, ясно, на ком будет лежать ответственность за последствия.
Бейкер, помнится, чувствовал себя при этих словах не совсем удобно. Ответ он передоверил своему заместителю Розэн Риджуэй, которая утверждала, что обещание Шульца касалось другой американской ракеты, а в данном случае речь идет лишь о модернизации ракет «Лэнс».
Мы — я, Шеварднадзе, Ахромеев — возражали. Не думаю, что наши аргументы «не дошли» до Бейкера. Он ссылался то на преимущество СССР в обычных вооружениях, то на наше превосходство в области тактических ядерных вооружений. Я парировал: если сосчитать все, то по тактическому ядерному оружию между нами имеется равновесие, но жуткое равновесие, на очень высоком уровне. А мы ведь как раз и предлагаем начать переговоры по этим проблемам с целью устранения любых диспропорций.
Бейкер отреагировал:
— Мы понимаем политическую привлекательность вашей позиции.
На этом тогда разговор и окончился. А в 1990 году американцы отказались от этой «модернизации». Потом договорились и о радикальных мерах по сокращению и ликвидации большинства категорий тактического ядерного оружия.
Знакомство с Бейкером в целом получилось удачным. Он произвел впечатление человека серьезного, твердого в отстаивании своих позиций, но готового и слушать собеседника, более того — прислушаться к здравым аргументам. Да и настроен он был, как всем нам показалось, конструктивно. Но все же оставался вопрос: готова ли администрация США двигаться вперед в быстром темпе? Пока еще трудно было дать однозначно положительный ответ. Вот и разговор о встрече на высшем уровне решили пока отложить до осени[20]. Правда, вскоре жизнь подправила эту «неторопливость».
Мальта. Начало конца «холодной войны»
В июле 1989 года Ахромеев, вернувшись из США, передал мне письмо Буша, в котором предлагалось провести в декабре 1989 года предварительную ознакомительную встречу. Предложение было сугубо конфиденциальным.
Как мне стало потом известно, с ним были ознакомлены лишь самые близкие сотрудники Президента США.
Я ответил согласием, и мы начали интенсивную подготовку. Как сейчас уже хорошо известно, не менее интенсивно готовились и американцы.
Сроки намеченной встречи неуклонно приближались. Была окончательно определена протокольная сторона дела. К рейду порта Валлетты должны были подойти советский крейсер «Слава» и американский «Белкнап». Переговоры предполагалось проводить поочередно на советском и американском военных кораблях. Кроме того, в порт Валлетта мы направили экскурсионный теплоход «Максим Горький», который должен был стать нашей гостиницей.
Встреча на Мальте по многим причинам являлась символичной. Она — первая после смены администрации США. Место встречи — на стыке трех континентов, перекрестке мировых дорог, пересечении многообразных интересов. Переговоры — на военных кораблях, что указывало на мощь, стоящую за руководителями СССР и США. Все говорило о вступлении мира в новую эпоху.
Нас ждала в высшей степени ответственная работа. На это были настроены я и мои коллеги, хотя сохранялась надежда выкроить время и для знакомства с этой экзотической страной.
Вечером 2 декабря, после завершения визита в Италию, мы прибыли в Валлетту. Сначала все шло, как и предполагалось. Встреча с Президентом Мальты Ч.Табоно, премьер-министром Э.Фенек Адами, членами мальтийского правительства. Короткие, но очень дружественные контакты с массой людей, которые приветствовали нас на улицах и у президентского дворца.
Однако на другой день природа внесла существенные коррективы в наш протокол. На море разгулялся шторм. Добраться на катерах к находившемуся на рейде крейсеру «Слава», где должны были начаться переговоры, оказалось непросто. Как наши, так и американские моряки решительно выступили против такого «десанта». Была выдвинута идея организовать первую встречу на борту «Максима Горького», пришвартованного в бухте у причала. Задержка с началом встречи оказалась минимальной.
Первый день переговоров прошел несколько этапов: беседа с президентом Бушем с глазу на глаз; обмен мнениями между Шеварднадзе и Бейкером; беседа за завтраком; переговоры в расширенном составе при участии Шеварднадзе, Яковлева, Бессмертных, Черняева, Добрынина, Ахромеева — с советской стороны, и Бейкера, Сунуну, Блэкуилла, Росса, Грэйвса — с американской. Предполагавшуюся вечернюю встречу из-за усилившегося шторма пришлось отменить.
Буш выразил желание первым изложить свои соображения. Для меня было крайне важно услышать непосредственно от американского президента, к каким выводам пришла его администрация в определении своей линии по отношению к Советскому Союзу. Поэтому я был предельно внимателен, как бы «пробуя на зуб» каждую фразу, каждую формулировку нового Президента США.
— Я, — заявил Буш, — полностью согласен с тем, что было сказано вами в Нью-Йорке: мир станет лучше, если перестройка увенчается успехом. Еще некоторое время назад в США было много сомневающихся на этот счет. Не буду утверждать, что таких элементов не осталось. Но можно со всей определенностью сказать, что серьезные, думающие люди подобных взглядов не поддерживают. Это в полной мере относится к тем, с кем вы имеете дело: к администрации США и конгрессу, которые хотят, чтобы ваши преобразования увенчались успехом.
Затем Буш изложил свое представление о тех позитивных шагах, которые, по его мнению, могли бы способствовать подготовке официальной встречи на высшем уровне в США. Для начала следует уточнить возможные сроки. Американская сторона предлагает, чтобы визит состоялся в последних числах июня следующего года.
Администрация намерена предпринять шаги, направленные на приостановку действия поправки Джексона — Вэника, которая препятствует предоставлению Советскому Союзу режима наибольшего благоприятствования. С учетом намечающихся в СССР перемен можно приступить к консультациям о заключении нового торгового договора, чтобы подготовить его текст еще до предстоящей встречи в верхах. Одновременно администрация взяла курс на отмену поправок Стивенсона и Бэрда, ограничивавших возможность предоставления кредитов советской стороне.
Те меры в области советско-американских отношений, которые предлагают США, счел необходимым подчеркнуть Буш, отнюдь не направлены на то, чтобы продемонстрировать американское превосходство.
— Мы, в США, разумеется, глубоко убеждены в преимуществах нашего способа хозяйствования. Но сейчас вопрос не об этом. Мы стремимся составить наши предложения таким образом, чтобы не создавалось впечатления, будто Америка «спасает» Советский Союз. Говорим не о программе помощи, а о программе сотрудничества.
Затронув в этой связи вопрос об отношениях СССР и ГАТТ, Буш, в частности, сказал:
— Раньше мы были против вступления вашей страны в данную международную организацию. Теперь позиция пересмотрена. Мы — за предоставление советской стороне статуса наблюдателя. Однако надо дать членам этой организации некоторое время.
Сейчас уже создана и функционирует советско-американская рабочая группа по проблемам инвестиций. Это хорошо. Быть может, настало время приступить к изучению возможностей по выработке договоренности о гарантиях капиталовложений.
Значительное место в заявлении Буша заняла проблема разоружения. Президент изложил, в частности, несколько модифицированную позицию по вопросу химического оружия. Если советская сторона дает принципиальное согласие на предложение США, изложенное в речи Буша на Генеральной Ассамблее в сентябре 1989 года, то США могли бы пойти на отказ от своей программы модернизации, то есть дальнейшего производства бинарных средств поражения после вступления в силу всеобъемлющей конвенции о запрещении химического оружия. Практически это означало, что уже в ближайшее время стороны могли договориться о значительном сокращении запасов химического оружия, доведя его количество до 20 процентов от имеющегося у США в настоящее время и до 2 процентов через 8 лет после вступления конвенции в силу. Если постараться, то к середине будущего года можно подготовить для подписания проект соответствующего соглашения.
Говоря об обычных вооружениях, Буш сформулировал следующую цель: ориентироваться на подписание соглашения о радикальных сокращениях обычных вооруженных сил в Европе в 1990 году в ходе встречи на высшем уровне представителей стран — участниц переговоров в Вене.
Обратившись к теме будущего договора о сокращении СНВ, президент высказал надежду, что министры иностранных дел в ближайшее время поищут решение таких вопросов, как порядок засчета крылатых ракет воздушного базирования большой дальности, шифрование телеметрии, ограничение на неразвернутые ракеты и т. д. Соединенные Штаты, добавил он, приветствовали бы присоединение Советского Союза к режиму ограничений на распространение ракет и ракетной технологии, который уже практикуется семью западными государствами. Был поставлен также вопрос о возможности опубликования Советским Союзом данных о своем военном бюджете.
Отвечая Бушу, я высказал прежде всего несколько замечаний общего порядка.
Перейдя к конкретным вопросам, поставленным Бушем, я положительно оценил его предложения, касающиеся двусторонних экономических связей, и выразил надежду, что президент проявит в этом деле политическую волю. Нужен сигнал с его стороны. Американские бизнесмены — народ дисциплинированный и на проявления нового мышления в экономической сфере отреагируют.
Естественно, большое место на мальтийской встрече заняли проблемы разоружения.
Я поддержал предложение Буша о заключении соглашения по обычным вооружениям в Европе еще в 1990 году. В отношении стратегических вооружений констатировал наличие предпосылок к тому, чтобы к встрече на высшем уровне в Вашингтоне в 1990 году подготовить проект договора. Однако обратил внимание Буша на то, что он в своем вступительном слове полностью обошел проблему крылатых ракет морского базирования, где США имели серьезное преимущество. Наш Верховный Совет, заявил я, не ратифицирует договор, если в вопросе о КРМБ не будет приемлемого сдвига.
Американцы с обостренным вниманием следили за нашей позицией в отношении Центральной Америки. Эту тему Буш выделил в особый разговор со мной один на один. Собственно, с этой получасовой беседы в отдельной каюте и началась «встреча на Мальте». Буш, ссылаясь на просьбы латиноамериканских политиков, настойчиво предлагал оказать воздействие на Фиделя Кастро, чтобы тот прекратил поставки оружия в «государства, где демократическая система правления и без того является весьма хрупкой». В качестве «гигантской колючки» в советско-американских отношениях он назвал также ситуацию в Никарагуа и Сальвадоре, опять же сведя проблему к поставкам оружия.
Отвечая президенту, я подчеркнул, что у нас нет никаких особых целей в Центральной Америке. Мы не хотим завладеть здесь плацдармами или опорными пунктами. Реакция Соединенных Штатов на события в этом регионе наводит на мысль, что кто-то снабжает американское руководство тенденциозной информацией. Мы договорились не поставлять оружия в Никарагуа и не поставляем. В свою очередь, отметили, что и конгресс США приостановил военную помощь «контрас».
Что касается Кубы, то наиболее простой и испытанный способ прояснить ситуацию, подчеркнул я, напрямую поговорить с Кастро. Командовать им никто не может. Во время моего визита на Кубу, в разговоре один на один, Фидель попросил содействия в деле нормализации отношений с США. Недавно Советский Союз посетил начальник Генерального штаба вооруженных сил Кубы. В беседе с министром обороны СССР, а также с маршалом Ахромеевым он в доверительном порядке повторил эту просьбу. Если будет такое желание, мы могли бы помочь в завязывании диалога.
Должен признать, что ответная реакция Буша на это предложение была весьма жесткой. Он откровенно дал понять, что США не готовы в этом вопросе ни на какие компромиссы, стал настойчиво рекомендовать нам свернуть экономические отношения с Кубой, высказав при этом удивление — почему это еще не сделано, хотя кубинцы открыто осуждают нашу перестройку.
В этой связи мне пришлось напомнить, что Куба — независимая страна со своим правительством, своим пониманием вещей, своими амбициями. Наши экономические отношения с ней мы в последнее время постепенно переводим на основу взаимной выгоды. Но учить ее не собираемся.
Затронул я также и более широкий вопрос — об отношении Соединенных Штатов к таким странам, как Панама, Колумбия, а в самое последнее время — Филиппины. В Советском Союзе спрашивают: разве для США, их президента не является барьером то, что речь идет о независимых странах? Почему в Вашингтоне вершат суд, выносят приговор и сами его выполняют? Не приходит ли на смену «доктрине Брежнева» «доктрина Буша»?
Отвечая на возражение президента и стремясь сделать свою позицию предельно ясной, я привел следующий пример. Посмотрите: в Европе происходят перемены, смещаются правительства, которые тоже были избраны на законных основаниях. Возникает вопрос: а если в этой борьбе за власть кто-то попросит Советский Союз вмешаться? Как нам в этом случае действовать? Так же, как действует президент Буш?
Разумеется, мой собеседник не согласился со мной. Тем не менее он признал, что кое у кого в Советском Союзе может возникнуть и такая реакция.
Другой темой наших доверительных разговоров стала ситуация в Восточной Европе. Я высказал беспокойство тем, что слишком много суеты в связи с событиями в Германии. Объединение — дело очень серьезное, требует внимательного подхода. Пусть идет процесс, но не надо его искусственно подталкивать.
Буш заявил, что он не намерен лично штурмовать германо-германскую границу, «прыгать на стену», как шутливо выразился он. Выдержав этот тон, я тут же согласился, что «да, прыгать на стену — не занятие для президента».
Вопреки прогнозам во вторую ночь шторм разбушевался еще сильнее. Утром выяснилось, что обстановка на море не благоприятна для перемещения делегаций с одного военного корабля на другой. Оставался один выход — вновь встречаться на борту нашего теплохода. Здесь, в помещении библиотеки, и состоялся заключительный раунд переговоров — сначала в расширенном составе, а затем с глазу на глаз.
В связи с тем, что во время первого раунда я лишь коротко отреагировал на высказанные Бушем соображения по военно-политическим вопросам, мне показалось целесообразным обозначить принципиальные моменты.
— Во-первых, — сказал я, — США должны исходить из того, что СССР ни при каких обстоятельствах не начнет войны с Соединенными Штатами и, более того, готов не считать их своим противником. Во-вторых, мы за то, чтобы совместными усилиями обеспечить взаимную безопасность, намерены продолжить процесс разоружения по всем направлениям и сделать все необходимое, чтобы предотвратить создание новых, экзотических видов вооружений. В-третьих, мы приняли оборонительную доктрину, наши вооруженные силы уже охвачены глубокими переменами: меняется структура военной группировки в Центральной Европе, в дивизиях сейчас меньше танков, выводятся десантно-переправочные средства, ударная авиация перемещается во второй эшелон и т. д.
Но у нас возникают вопросы. Почему США продолжают руководствоваться принятой более 20 лет назад стратегией «гибкого реагирования»? Почему до сих пор вне переговоров остается один из трех основных компонентов их военной мощи — военно-морские силы?
В этой связи мною было выдвинуто дополнительное предложение. У ВМС СССР и США есть ядерное оружие как стратегическое — БРПЛ и КРМБ, так и тактическое — крылатые ракеты меньшей дальности, ядерные торпеды, мины. Стратегический ядерный компонент ВМС является предметом женевских переговоров. Остается тактическое ядерное оружие. Мы готовы договориться о его полной ликвидации. Такое радикальное решение сразу упростило бы и процедуру контроля.
На переговорах в Вене остаются три важные проблемы. Первая — сокращение не только вооружений, но и личного состава вооруженных сил. Предлагаем уменьшить его до одного миллиона трехсот тысяч человек с каждой стороны, то есть по миллиону с обеих сторон. Вторая проблема — сокращение численности войск на иностранных территориях. Предлагаем ограничить ее потолком в 300 тысяч человек. Нам говорят о готовности сократить лишь советские и американские войска. А ведь есть еще английские, французские, бельгийские, голландские, канадские. Третья проблема — размеры военно-воздушных сил. Мы предложили для каждого союза уровень в 4700 самолетов тактической фронтовой авиации и отдельный уровень для самолетов-перехватчиков. Но пока и здесь дела идут медленно. Кстати, подчеркнул я, мы поддерживаем предложение президента Буша по «открытому небу», в нем есть смысл.
Шеварднадзе напомнил о вчерашнем интересном предложении Буша по химическому оружию. Я подтвердил положительное к нему отношение.
Затем мы вновь обратились к европейским делам.
Не повторяя сказанного ранее, я сделал упор на некоторые фундаментальные проблемы: перемены, происходящие в Европе, имеют глубокий характер. В дни, когда происходят такие динамичные изменения, следует действовать особенно взвешенно и ответственно, на основе консенсуса. Эту точку зрения поддерживают практически все европейские деятели.
В чем практическое содержание такого подхода? Прежде всего надо вести дело к продолжению и развитию хельсинкского процесса. Отсюда потребность в Хельсинки-2, где мы должны осмыслить новую ситуацию, выработать совместные критерии и ориентиры.
Другой важный вопрос — как в новой ситуации поступать с межгосударственными образованиями, созданными в другое время. Тут также требуется взвешенный и ответственный подход. Реально существующие инструменты поддержания баланса надо не сокрушать, а видоизменять в соответствии с требованиями времени. Политические, экономические и военные союзы, созданные на востоке и западе Европы, должны не конкурировать, а сотрудничать.
Варианты европейской интеграции, продолжал я, могут быть самыми различными, в том числе неизведанными. И это будет происходить небезболезненно. Мы судим об этом хотя бы по Советскому Союзу. Было бы опасно не использовать открывающиеся исторические возможности для сближения Востока и Запада. И хотелось бы, чтобы дальнейший ход событий не ослабил возникшего взаимопонимания.
Здесь у меня с Бушем возникла небольшая дискуссия по поводу понимания «западных» и общечеловеческих демократических ценностей. Я еще раз подчеркнул, что новое политическое мышление, которое мы отстаиваем, предполагает право каждой страны на свободный выбор без вмешательства извне. Надо уметь учиться, в том числе на чужом опыте, но брать из него только то, что тебе органически подходит. Буш в основном согласился со мной.
Детально обсудили мы в тот день и положение на Ближнем Востоке. Буш рассказал, как Соединенные Штаты стараются свести Израиль и палестинцев для серьезного диалога. В свою очередь, я подтвердил, что мы готовы внести свой конструктивный вклад в это дело. Нет никаких принципиальных препятствий и для установления с Израилем дипломатических отношений. Мы договорились об обмене консульствами. Как только завяжутся мирные переговоры на Ближнем Востоке, восстановим и дипломатические отношения с Тель-Авивом.
Буш обратил мое внимание на то, что политика США на Ближнем Востоке развернулась в сторону взаимодействия с Советским Союзом. Шеварднадзе, не удержавшись, прокомментировал это заявление: «Правда, консультируетесь вы с нами в последнее время уже после принятия планов и решений. А ведь взаимодействие вроде бы предполагает заблаговременное обсуждение».
Завершающим аккордом переговоров этого дня стал вопрос об Афганистане. Шеварднадзе сделал краткий обзор текущей ситуации, назвал возможные направления практического перехода к решению конфликта: созыв международной конференции с целью создания временного коалиционного правительства и организации свободных выборов, привлечение ООН к организации такой конференции, стимулирование межафганского диалога, взаимное прекращение поставок оружия.
Буш и Бейкер делали главный упор на то, что для афганской оппозиции неприемлема фигура Наджибуллы. Вместе с тем к концу беседы Бейкер все же упомянул, что согласно поступившей к нему информации афганская оппозиция вроде бы готова начать переговоры о переходном периоде за одним столом с Наджибуллой — но только при том условии, что в конце этого периода он уйдет и будет сформировано новое правительство.
Мне показалось, что высказанную идею стоило бы обсудить. В конце концов, состав предполагаемого правительства — дело самих афганцев. Пусть они его и решают. Договорились продолжить разговор на эту тему.
Стержнем беседы с глазу на глаз, состоявшейся после этих переговоров, была ситуация в Прибалтике. Буш изложил известную позицию США, не преминув при этом сказать, что общественное мнение Америки весьма чувствительно к событиям в Прибалтийских республиках. Я разъяснил президенту специфику ситуации, возникшей в Советском Союзе.
На Мальте был создан еще один прецедент — впервые за всю историю встреч руководителей СССР и США состоялась совместная пресс-конференция прямо на палубе теплохода «Максим Горький». Общий итог — отношения вышли на новый уровень.
Глава 22. Объединение Германии
Германский вопрос до 1988 года
После Мальты у меня появилась уверенность, что мы перешли наконец Рубикон. Стрелка политического барометра в отношениях с Западом впервые за послевоенные годы перестала скакать из стороны в сторону и остановилась на отметке «ясно». Я верил, что нам удалось разорвать порочный круг, когда редкие «оттепели» сменялись долгими «заморозками».
Мы, пожалуй, сами не сразу отдали себе полностью отчет в том, что произошло. А ведь ни много ни мало начинался качественно новый этап во всей послевоенной истории международных отношений. Вместе со встречей на Мальте заканчивалась «холодная война», хотя тяжелые ее последствия, конечно, сохранились. Мы не обманули ожиданий людей, живших в расколотой Европе.
В 1989 году в Германии, этом «невралгическом узле» многих европейских и международных проблем, начался процесс, подвергший испытанию все то позитивное, что было накоплено к этому времени и в советско-американских, и в советско-западноевропейских, и в советско-немецких отношениях.
Испытание это было трудным и болезненным для всех, для Советского Союза и Германии — в особенности. Но так или иначе все главные участники событий, я считаю, в целом его выдержали.
Я бы погрешил против истины, сказав, что заранее предвидел, каким путем на деле пойдет решение германского вопроса и какие проблемы возникнут в этой связи перед советской внешней политикой. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из ныне здравствующих политиков (как на Востоке, так и на Западе) за год-два до главных событий мог предсказать то, что произошло. После кардинальных перемен, происшедших в ГДР, события развивались в таком головокружительном темпе, что была реальная опасность вообще утратить над ними контроль. сегодня, оглядываясь назад, я могу с чистой совестью сказать: в той конкретной ситуации мы сделали максимум возможного как с точки зрения обеспечения интересов нашей страны, так и с точки зрения сохранения мира в Европе, спасения общеевропейского процесса.
Разумеется, в 1985 году вся германская проблематика виделась из Москвы совсем в ином свете, чем сегодня. ГДР была нашим союзником; ФРГ, оставаясь для СССР на Западе торговым партнером № 1, в военно-политической табели о рангах проходила по разряду «потенциальных противников».
Оттепель в советско-западногерманских отношениях, наступившая во времена «восточной политики» Брандта, к началу 80-х годов вновь сменилась заморозками. В условиях общего усиления напряженности курс ФРГ оценивался в Москве прежде всего в контексте советско-американского противостояния. При такой постановке вопроса вся дальнейшая цепочка рассуждений выстраивалась сама собой: ФРГ — ближайший союзник США в Европе и проводник американской линии на континенте; ФРГ — вторая после США военная «опора» НАТО, бундесвер — «первая армия» Североатлантического союза; на территории ФРГ размещены американские «першинги», способные за несколько минут достичь территории СССР. Я говорю обо всем этом без иронии, потому что в рамках глобальной конфронтации приведенные аргументы были достаточно серьезны. А на них накладывалось психологически тяжелейшее наследие войны.
Составным элементом вытекавшей отсюда логики было и отношение в СССР к идеям «германского воссоединения». Не стану вдаваться в историю и выяснять, кто больше виноват в расколе Германии. Думаю, до последней поры Сталин все же был готов заплатить свою цену за ее «нейтрализацию». Но после создания НАТО и включения в нее ФРГ любые разговоры о планах объединения Германии приобрели ритуально-пропагандистский характер как на Западе, так и в Советском Союзе.
Конечно, Брежнев и Громыко совершили просчет, пойдя на поводу руководителей ГДР и официально остановившись в начале 70-х годов на варианте, подкупающем своей «простотой», — сформировались две немецкие нации, германский вопрос «закрыт» и к нему нет смысла возвращаться. Но дело было не в теоретических построениях Ульбрихта — Хонеккера по национальному вопросу. Главное заключалось в искренней убежденности советских руководителей в том, что интересы безопасности СССР диктуют увековечение раскола Германии во что бы то ни стало.
Признаться, я тоже принимал подобную категоричность, хотя и сомневался, что можно законсервировать что-либо на веки вечные: мир находится в постоянном движении, игнорирование этого объективного закона может вести лишь к поражению, проигрышу. Когда я пришел в большую политику, существование двух германских государств было данностью и вопрос о воссоединении просто не возникал.
Когда в июне Г987 года Президент ФРГ К. фон Вайцзеккер очень осторожно и деликатно затронул вопрос о единстве германской нации, я ответил так: «Сегодня два немецких государства — реальность, из этого надо исходить. Реальностью являются Московский договор, ваши договоры с Польшей и Чехословакией, ГДР, другими государствами. На этой базе возможно эффективное развитие политических, экономических, культурных и человеческих контактов. Всякие попытки подкопаться под эти договоры достойны сурового осуждения. Советский Союз уважает послевоенные реальности, уважает немецкий народ в ФРГ и немцев в ГДР. На основе этих реальностей мы намерены строить наши отношения в будущем. История нас рассудит в свое время».
Иначе говоря, в принципе я не исключал воссоединения германской нации, но считал постановку этого вопроса в политической плоскости преждевременной и вредной.
Вопрос этот «решился», как известно, очень скоро — в контексте глубоких перемен, мощный импульс которым дала сама наша политика. И конечно, немалую роль сыграло благоприятное развитие отношений между СССР и ФРГ.
В течение первых двух лет перестройки эти отношения, что называется, оставались замороженными. Официальный Бонн с немецкой педантичностью повторял все виражи рейгановского курса, у нас в Москве возникло ощущение, что мы слышим с берегов Рейна добротный перевод с английского на немецкий знакомых текстов. Федеральному правительству явно не хватало то ли фантазии, то ли политической смелости, чтобы по-новому реагировать на перемены в Советском Союзе. Когда же канцлер Коль в одном из своих выступлений заявил, что разговоры о реформах в Советском Союзе, о новом политическом мышлении — всего лишь демагогия в духе геббельсовской пропаганды, то у меня и вовсе закрались сомнения в способности западногерманского руководства адекватно оценивать происходящее.
Уже состоялись мои встречи с Рейганом в Женеве и Рейкьявике, шел активный политический диалог с Францией, Италией, Англией, а с ФРГ все оставалось без существенных изменений. Ненормальность складывающейся ситуации в какой-то момент почувствовали обе стороны. Для меня становилось все более очевидным, что никакой серьезной европейской политики без Германии у нас не будет. Не раз и по разным поводам говорил я об этом на Политбюро, в узком кругу своих единомышленников. Европейское направление обладало для нас не только самостоятельной ценностью, оно было важным фактором в диалоге с американцами.
После Рейкьявика, когда улеглись страсти, где-то во второй половине 1987 года в Бонне заметно активизировались. Я получил несколько писем от канцлера Коля. (В одном из них автор принес формальное извинение за допущенные вольности, отнеся, правда, большую часть ответственности за происшедшее на счет прессы.) Весьма конструктивным и полезным был упоминавшийся обмен мнениями с президентом Вайцзеккером.
Мы во второй раз встретились с министром иностранных дел Геншером. Нашли общий язык и с Ф.-Й.Штраусом, посетившим Москву в декабре 1987 года. Должен сказать, что, вопреки расхожим клише, которыми обычно пользовались наши журналисты для характеристики этого политика, Штраус произвел на меня сильное впечатление как человек, твердо стоящий на своих позициях, но способный широко и реалистически смотреть на мир, на ситуацию в Европе, роль СССР и ФРГ в мировой политике.
В начале февраля 1988 года я имел беседу с заместителем председателя ХДС, премьер-министром земли Баден-Вюртемберг Л.Шпэтом. Он прилетел в Москву, чтобы прозондировать возможность проведения встречи в верхах. В принципе, к этому времени мы были уже готовы к такой встрече, и через Шеварднадзе я передал канцлеру приглашение посетить Москву в мае. Но после нашей довольно резкой реакции на неуклюжую попытку федерального правительства исключить из соглашения по РСМД ракеты «Першинг-1А» немцы, видимо, начали беспокоиться за судьбу визита. Во всяком случае, в этом вопросе Шпэт проявил явную нервозность и настойчивость. Чувствовалось, что в Бонне боятся остаться в стороне от новых процессов в Европе. Вот характерная выдержка из нашего разговора:
«ШПЭТ. Канцлер Коль убежден в необходимости встречи с вами. Для канцлера нет проблем, кому первым ехать в Москву и кому — в Бонн. Его проблема заключается в том, что если у вас предстоят визиты в Западную Европу, то хотелось бы, чтобы при этом была предусмотрена и ФРГ. Психологически это очень чувствительный аспект. Канцлер, если говорить откровенно, будет переживать, если вы, уже побывав во Франции и Англии, нанесете визиты в другие западноевропейские страны и оставите при этом в стороне ФРГ.
ГОРБАЧЕВ. Думаю, этот вопрос можно решить. Канцлер прав: сейчас надо определиться со сроком встречи, чтобы можно было начать к ней подготовку. Поэтому я и пригласил канцлера в Москву к ма_е — через Шеварднадзе.
ШПЭТ. Уверен, что вопрос о встрече мы сможем решить очень быстро.
ГОРБАЧЕВ. Можно решить этот вопрос уже сегодня вечером.
ШПЭТ. Канцлеру со всех сторон советуют поскорее и без сложностей встретиться с вами.
ГОРБАЧЕВ. Давайте будем идти к встрече. Мы уже многое обговорили с некоторыми западногерманскими политиками. Теперь надо договариваться на высшем уровне».
Первая встреча с федеральным канцлером Колем
Но визит состоялся осенью. 24 октября 1988 года произошла наша первая встреча с федеральным канцлером Гельмутом Колем. Моя отправная мысль в разговоре с ним заключалась в том, что отношения СССР — ФРГ в своем прежнем виде уже не могут устроить ни нас самих, ни немцев, ни Европу, ни мировое сообщество.
— Мы хотим, — сказал я, — чтобы наши отношения строились на доверии и реальностях. Словом, отвечали бы духу времени, его императивам. Настроены на очень откровенный серьезный диалог по главным проблемам, близко затрагивающим обе наши страны. Убежден, что нужна новая страница в советско-западногерманских отношениях.
Ответ Коля прозвучал вполне определенно:
— Полностью согласен с вами. Я все обдумал и именно с этим приехал в Москву.
Подчеркнув готовность своего правительства динамично развивать отношения с Советским Союзом по всем направлениям, Коль добавил:
— Личным отношениям с вами я придаю исключительное значение. Я приехал в Москву и как Федеральный канцлер ФРГ, и как гражданин Коль. Мы с вами примерно одного возраста, принадлежим к поколению, которое пережило войну. Я, правда, некоторое время служил во вспомогательных зенитных частях. Как участие в войне это рассматриваться не может. Однако наши семьи пережили войну со всеми ее ужасами. Ваш отец был солдатом, получил тяжелое ранение. Мой брат погиб в возрасте 18 лет. Жена была беженкой. Мы — настоящая немецкая семья. У вас есть дочь, у меня — двое сыновей, 23 и 25 лет. Оба — офицеры запаса.
Нам с вами предстоит решить очень крупную задачу. Через 12 лет кончается XX век и второе тысячелетие. Война, насилие уже не являются средством политики. Думать иначе — значит вести дело к концу света. Наши личные контакты в обстановке гласности тоже должны носить принципиально новый характер. Я готов к интенсивному личному диалогу с вами — обмениваться посланиями, разговаривать по телефону, посылать доверенных представителей.
…Не скрою, мне импонировал такой подход как в чисто человеческом, так и в деловом отношении. Я исходил из того, что в новой атмосфере, которая уже чувствовалась, личная «совместимость», понимание побудительных мотивов собеседника будут приобретать все большую роль в международной политике. А это может появиться только в процессе совместной работы, регулярного общения, в результате взаимной проверки «словом и делом». Многие трудные вопросы при наличии доверия между руководителями решаются проще, быстрее, без излишних дипломатических ходов и формальностей. Постепенно у нас с Колем установилось хорошее не только политическое, но и человеческое взаимопонимание. Без этого было бы значительно сложнее решать весь тот комплекс проблем, который буквально «свалился» и на него, и на меня в результате пошедшего стихийно, «снизу» процесса объединения Германии.
Тогда же, в октябре 1988 года, мы сумели перейти Рубикон в становлении отношений между нашими странами на долгосрочную перспективу. Были достигнуты договоренности и подписаны документы в области экономического, научно-технического, культурного, природоохранного сотрудничества. Впервые в послевоенной истории отношений между СССР и ФРГ за одним переговорным столом оказались и наши министры обороны, которые могли сами оценить, как выглядит недавний «потенциальный противник». Мы получили принципиальное согласие немцев содействовать становлению контактов между НАТО и ОВД. Тогда это был «прорыв», о котором 3–4 года до того трудно было даже помыслить.
Канцлер ФРГ возложил венок на могилу Неизвестного солдата и посетил кладбище немецких солдат в Люблино. С большим успехом в эти дни в Колонном зале выступил Мюнхенский симфонический оркестр, исполнив произведения Бетховена и Мусоргского. И мы с Колем, с супругами, участниками переговоров, москвичами получили от этого концерта огромное удовольствие.
Затем были поездки во Владимир и Суздаль, посещение Патриархии Московской и всея Руси (Свято-Данилов монастырь), осмотр выставки Гюнтера Хокнера в Доме художника СССР. Канцлер встретился с учеными-экономистами. Госпожа Коль посетила психоневрологическую больницу и передала в дар ценное оборудование, побывала в Музее-усадьбе Л.Н.Толстого.
Особое место в этом визите заняла встреча в загородной резиденции. Она как бы придала визиту еще одно измерение наряду с политическим — человеческое. Это был действительно хороший вечер, где мы уже больше говорили об общих проблемах и тревогах, поделились пережитым и передуманным, познакомились с историей обеих семей. Расстались, как мне показалось, в самом хорошем расположении друг к другу.
За визитом внимательно следили на Западе. Канцлеру регулярно докладывали о реакции союзников по НАТО. Насторожило Коля выступление газет «Котидьен де Пари» и «Фигаро», которые прямо писали, что характер визита ставит под сомнение верность канцлера союзническим обязательствам. А на пресс-конференции в Москве французские корреспонденты спросили Коля: вы столько надавали русским, а что получили взамен, несколько их узников совести, которых русские обещали отпустить? Или: как теперь быть с франко-германским альянсом, совместной армией и другими обещаниями в отношении французов, не изменил ли Коль крен — с французского Запада на советский Восток?
Не прошли без внимания — и нашего и Коля — намеки американских газет и дипломатов. Поэтому май 1989 года для моего ответного визита в ФРГ, как оказалось, был назван канцлером не случайно. Он прикинул: за это время в СССР съездят французы, будут у нас контакты и с американцами. Да и не только с ними. И все это происходило в конце 1988 года! Кажется, к тому времени так много изменилось, но, оказалось, и очень мало! С трудом наши партнеры выбирались из джунглей «холодной войны». Тогда я все чаще и чаще стал говорить: измениться должны не только мы в Советском Союзе, во многом должны измениться и вы — западные страны. Не все так просто!
Весной 1992 года, оказавшись в Соединенных Штатах, мне не раз пришлось услышать от многих американцев: нам нужна своя американская перестройка. Сегодня глубокие радикальные перемены охватили все страны. А политики, упивавшиеся «победой» в «холодной войне», оказались во многом не готовы принять новые вызовы времени.
Возвращаясь к первому визиту Гельмута Коля в СССР, можно сказать: тогда мы сделали крупный шаг навстречу друг другу, открыли новую главу в советско-германских отношениях. Последующие шаги в этом направлении имели далеко идущие последствия — мы оказались подготовленными к событиям конца 1989–1990 годов.
Официальный визит в ФРГ
Мой ответный визит в ФРГ начался 12 июня 1989 года. Незадолго до того меня избрали Председателем Верховного Совета СССР. Федеративная Республика Германии — адрес первой зарубежной поездки в новом качестве выглядел в этом контексте символически. Этим шагом мы как бы еще раз подтверждали значение, которое придаем сотрудничеству с ФРГ.
Программа была исключительно разнообразной и насыщенной, дала возможность побывать в нескольких землях ФРГ, во многих городах и поселках, встретиться с политиками, предпринимателями, деятелями культуры, рабочими, представителями партий и общественных движений.
Визит начался церемонией у резиденции Президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера. Уже здесь мы вступили в контакт с жителями Бонна. Особенно трогательной была встреча с группой учащейся молодежи. В присутствии президента состоялась живая беседа. Молодые люди хотели донести до меня свои чувства солидарности с реформами в Советском Союзе.
Потом — завтрак у президента в резиденции на берегу Рейна. Уже в первой беседе за столом я понял, почему таким высоким авторитетом среди граждан ФРГ пользуется президент Вайцзеккер: обширные знания, интеллигентность, естественность, доброжелательность. С тех пор мы поддерживаем контакты. Наши беседы с каждым разом становились более откровенными и доверительными.
Незабываемая встреча произошла в Бонне на площади Ратуши. Уже на прилегающих улицах мы попали в настоящее половодье человеческих чувств, дружбы и симпатий. Возгласы, пожелания… Всех не запомнишь. Но вот некоторые: «Горби! Творите любовь, но не стены», «Пожалуйста, так держать, Горбачев!».
Когда мы поднялись на площадку, или, точнее, балкон ратуши, по площади прокатился шквал аплодисментов и приветствий. А потом четырех- или пятилетний мальчик Г.Себастиан Шиллинг поднялся к нам с букетом цветов. Мы с Раисой Максимовной подняли его на парапет. Площадь ликовала. Этот момент обошел многие телеэкраны и страницы бесчисленных газет.
В программе Раисы Максимовны была поездка в поселок Штуккен-брок на мемориальное кладбище советских военнопленных. В начале войны здесь был создан лагерь для военнопленных и насильственно угнанных из разных стран, которых использовали на работах в шахтах, на военных предприятиях, в сельском хозяйстве. Их держали на скудном пайке: на день выдавали 200 граммов собственно не хлеба, а какого-то суррогата. И изнурительная работа. Через этот лагерь прошли сотни тысяч советских людей, а также граждан Польши, Англии, Франции. Около 65 тысяч наших соотечественников погибли (расстреляны, умерли от голода, болезней) и похоронены рядом с лагерем.
Освободили узников этого лагеря 2 апреля 1945 года американцы. Инициативная группа представителей советских военнопленных настояла на благоустройстве могил своих погибших товарищей. В мае 1945 года по проекту бывшего узника лагеря, художника-архитектора Александра Антоновича Мордана (умер в 1984 году) на кладбище был сооружен обелиск в память о замученных в Штуккенброке пленных.
В разгар «холодной войны» кладбище стало приходить в запустение. Но все же небольшая группа людей во главе с пастором Дистель Майором по собственной инициативе стала следить за состоянием могил и памятника. А в 1963 году эта группа преобразовалась в рабочий кружок «Цветы для Штуккенброка», который стал выступать с лозунгом: «На могилах павших протянем руку русским».
Местные власти вначале относились подозрительно к деятельности кружка. При их попустительстве неофашистские молодчики оскверняли могилы, пытались разрушить памятник. Тогда появились молодежные отряды охраны. А в 70-х годах «Цветы для Штуккенброка» — уже не просто кружок, а активная общественная антивоенная организация, объединяющая многие тысячи людей из всех уголков Западной Германии.
Каждый год в конце августа — начале сентября на территории кладбища проводится массовая манифестация, на которую со всех концов страны собираются тысячи людей, приезжают делегации из европейских стран. Но, как сказал организатор этого движения, ни одной официальной делегации — ни западногерманской, ни советской — на кладбище не было.
На этот раз с Раисой Максимовной отправились не только члены делегации, но и деятели культуры, сопровождавшие меня во время визита, представитель Православной Церкви Питирим. Вместе с ними были Ханнелоре Коль и госпожа Рау — супруга председателя правительства земли Северный Рейн-Вестфалия.
В тот день на кладбище собрались жители близлежащих поселков. К памятнику возложили венок с длинной красной лентой, а госпожа Коль и госпожа Рау — цветы. Прозвучали слова митрополита Питирима. Было сделано то, что давно должно быть сделано: поклонились могилам соотечественников, которых погубила навязанная фашизмом война, и сказали доброе слово гражданам новой Германии. Немецкая пресса много и подробно об этом писала, считала происшедшее знаменательным событием — «жестом примирения».
«Что вы чувствуете после посещения кладбища?» — спросили Раису Максимовну журналисты. «Прошли десятилетия, но нет ни одной нашей семьи, которая бы не оплакивала своих близких, безвременно погибших в те страшные годы. Мы знаем, что эти годы — трагедия и для немцев. Спасибо тем, кто заботится о могилах наших соотечественников».
Тяжелые воспоминания, ничем не утолимая пронзительная боль. В такие минуты особенно понимаешь, каким трудным был путь к примирению, сближению между СССР и Германией, нашими народами.
Волнующей была встреча с металлургами на заводе «Хеш» в Дортмунде. Выйдя из машины, мы попали в живой коридор приветствовавших нас тысяч людей. Огромный цех в десятки метров высотой — и, насколько мог охватить глаз, он был весь заполнен. Помимо импровизированного «партера» люди громоздились на станках, перекрытиях, забрались на несущие конструкции, на подъемники, поочередно влезали на плечи друг к другу. На платформе для ораторов поместились наша делегация, руководство завода и представители рабочих. После первых же слов, сказанных в наш адрес, я понял, что говорить по заготовленному тексту, даже отступая от него, невозможно. И прерываемый криками и овацией почти после каждой фразы стал говорить, как положено в рабочей среде, прямо и без словесных красот, о роли трудового человека в любом обществе, о немецком народе, его заслугах, о нашем с ним непростом прошлом, о том, что от них, людей труда, практичных и ясных, зависит многое — как будут строиться отношения между нашими двумя великими нациями.
Переводчик едва успевал, а мне, охваченному ответным порывом симпатии к этой многотысячной аудитории, так горячо и искренне принявшей нас в свои объятия, казалось даже, что меня понимают без перевода.
В этой встрече с рабочими приняли участие В.Брандт, Х.-Й.Фогель, бывший в то время председателем СДПГ, Г.Шмидт, с которыми мы в вагоне по пути из Бонна в Дортмунд дружески поговорили едва ли не по всем главным вопросам тогдашней ситуации в мире.
Мы побывали также в Дюссельдорфе и Кёльне. Там состоялась сердечная, неформальная встреча с премьер-министром Рау, его коллегами, с политиками и представителями делового мира. Повсюду в ФРГ проявлялся огромный интерес к событиям в нашей стране, люди «разных званий и состояний» выражали искреннюю симпатию к нашему народу, с энтузиазмом говорили о перестройке.
Все это тронуло и взволновало меня. Я был в ФРГ в 1975 году, 14 лет назад, и, конечно, перемены в общественном сознании, в настроениях, в отношении людей к Советскому Союзу были разительными. Невольно вспомнилось тогда одно из любимых изречений Л.Эрхарда: внешняя политика начинается дома.
Переговоры с канцлером
Мы провели три встречи наедине: две — в Ведомстве федерального канцлера и одну — у него дома, в «Бунгало». Примерно за месяц до моего визита прошла сессия совета НАТО в Брюсселе, где была принята декларация о политике на перспективу. В нее были включены предложения президента Буша по сокращению вооружений и вооруженных сил в Европе, представлявшие собой ответ на крупную инициативу СССР и его тогдашних союзников по ОВД — об устранении асимметрии между НАТО и ОВД как по личному составу, так и по количеству вооружений в Европе, и о радикальном сокращении численности войск и вооружений до уровня, исключающего возможность внезапного нападения.
Документ, принятый в Брюсселе, вызвал у меня двойственное чувство, о чем я и сказал Колю. Вроде бы впервые наша крупная разоруженческая инициатива встретила не подозрение и критику с ходу, а серьезный и конкретный ответ. И именно конструктивная позиция ФРГ во многом способствовала принятию таких решений, идущих нам навстречу.
Колю была явно приятна эта оценка роли ФРГ, и он не раз повторил, что считает вполне возможным прорыв на переговорах в Вене в течение ближайших 12 месяцев и готов лично способствовать поиску взаимоприемлемых развязок. Коль дал понять, что не считает предложения Буша последним словом со стороны НАТО и у него не вызывает аллергии постановка вопроса о более радикальных сокращениях войск обеих сторон.
Два или три раза он настойчиво повторил, что именно в успехе Венских переговоров видит ключ к решению всех остальных проблем разоружения. С этим тезисом можно было спорить, но побудительные мотивы такой постановки вопроса были мне понятны. Находясь в течение десятилетий в эпицентре военного противостояния двух блоков, ФРГ была особенно чувствительна к проблематике переговоров в Вене. Это были для нее не «чужие» переговоры, в которых она не принимала прямого участия, а именно «свои», где на карту были поставлены интересы ее безопасности и где к ее голосу прислушивались как на Западе, так и на Востоке.
У меня не было причин спорить, являются ли переговоры в Вене просто «важными», «очень важными» или «самыми важными». И для нас тогда вывод из тупика длившихся с начала 70-х годов переговоров о сокращении войск и вооружений в Европе стал одним из самых приоритетных направлений. Пора было признаться самим себе, что даже по логике «холодной войны» превосходство СССР по обычным вооружениям в Европе после достижения ядерного паритета с Соединенными Штатами теряло политический смысл. Оно не только вредило нам в глазах общественного мнения, помогая сохранять Советский Союз в «образе врага», но и создавало все новые «вызовы» интересам нашей безопасности. Ведь это же факт, что США и НАТО, используя тезис о «советском превосходстве» в Европе, протаскивали разнообразные военные программы, включая ядерные. Получалось, что мы сами помогаем им в этом. Словом, от мелочной военной бухгалтерии пора было выходить на широкие политические подходы. И в этом мы с Колем были в общем одного мнения.
У Коля не вызвали протеста мои критические замечания по поводу тех разделов брюссельского документа, где речь вновь шла о «ядерном устрашении» в качестве концептуального фундамента натовской стратегии. В отличие от Маргарет Тэтчер, не упускавшей случая убедить меня в достоинствах «ядерного устрашения», он не стал тратить на это время, философски заметив, что у всякого, мол, своя вера. Зато в другом очень важном практическом вопросе мы довольно быстро поняли друг друга.
Пожалуй, одним из самых тревожных и настороживших нас моментов в Брюссельском документе НАТО было декларированное там намерение приступить к модернизации тактического ядерного оружия в Европе. После нашего согласия включить в договор по РСМД ракеты СС-23 с дальностью до 500 км, хотя формально они не подпадали под условия договора, такой шаг мог вызвать у нас только одну оценку — однозначно отрицательную. Я без обиняков заявил об этом Колю.
Нам было известно, что по вопросу о модернизации в НАТО не было полного единства. Наиболее горячим поборником этого американского плана выступала Англия. Остальные занимали сдержанную позицию. Была и такая точка зрения (ее отстаивала в Брюсселе и ФРГ), что параллельно с переговорами в Вене следует начать переговоры о судьбе тактического ядерного оружия в Европе. В результате был достигнут компромисс: фраза о модернизации осталась, но ее реализация была отодвинута по срокам.
Со слов Коля я понял, что европейские союзники США без особого энтузиазма согласились с такой формулировкой. Но главное, что я вынес из этой части нашей беседы, состояло в следующем: Коль был убежден, что вопрос о модернизации тактического ядерного оружия в Европе будет снят при первых признаках серьезного продвижения на Венских переговорах. Это был для нас важный сигнал, а позиция ФРГ имела здесь тем большее значение, что в планах модернизации главная роль отводилась замене старых американских ракет «Лэнс», стационированных именно в ФРГ.
Значительное место в наших беседах заняли, естественно, двусторонние отношения. Конкретные проекты прорабатывались в совместных рабочих группах. Мы же с канцлером обсудили прежде всего вопросы, которые, как он подчеркивал, имеют для немцев «особое психологическое значение».
Речь шла о судьбе пропавших без вести военнопленных, об открытии для посещения кладбищ немецких солдат на территории СССР, о возможности поездок граждан ФРГ в Калининград, бывший Кенигсберг, о воссоздании автономии для советских немцев. Я заверил Коля, что по всем этим вопросам он найдет у нас понимание.
В целом у меня было ощущение, что визит дал максимально возможный тогда результат. Советско-западногерманские отношения приобретали новое качество. Нам удалось подписать 11 соглашений, среди которых главным политическим документом стало Совместное заявление. В нем было зафиксировано наше общее видение на перспективу развития общеевропейского процесса и отношений между нашими странами.
Падение Берлинской стены
Это было куда как своевременно. Спустя несколько месяцев, осенью 1989 года, в «социалистической части» Европы развернулись события, которые стремительным темпом привели к коренному изменению всей ситуации. В итоге первых свободных выборов коммунисты потеряли власть в Польше и Венгрии. Ушел в отставку Хонеккер. Рухнула Берлинская стена.
Естественно, происходящее в Венгрии, Чехословакии, потом в Румынии и Болгарии вызывало у нас огромное беспокойство. Но ни на минуту не приходило в голову поступиться основополагающими принципами политики «нового мышления» — свободой выбора и невмешательством во внутренние дела.
В разговоре с Колем мне не раз приходилось слышать: Хонеккер не понимает перестройки и не принимает ее, продолжает проводить догматически «жесткую» линию и т. д. Это давало основания думать, что «жалобы» Коля продиктованы его желанием найти во мне «союзника» на случай, если он сам решит воздействовать на развитие событий в ГДР. Во всяком случае, я каждый раз ясно давал понять Колю, что мы не будем указывать руководителям ГДР, как им вести дела у себя дома.
Мы были, конечно, не слепые, у нас было свое мнение о политике тогдашнего руководства ГДР во главе с Хонеккером. И происходившее там нас сильно тревожило. Я покривил бы душой, если бы сказал, что мы вообще сидели сложа руки. Но самым решительным образом отводил и отвожу намеки, будто мои и других членов советского руководства контакты с руководителями ГДР на этом критическом этапе были попыткой давления, навязывания, шантажа и т. п.
Начиная с 1985 года я, наверное, раз семь-восемь встречался и беседовал с Хонеккером и у меня сложилось определенное мнение о нем как руководителе и человеке. Об этом еще пойдет речь в соответствующем разделе книги. Сейчас скажу только, что мои осторожные попытки убедить его в необходимости не затягивать с началом реформ в стране и в партии ни к каким практическим результатам не привели. Каждый раз я словно натыкался на глухую стену. С последней нашей встречи в октябре 1989 года, когда я участвовал в празднованиях по случаю 40-летия со дня образования ГДР, я вернулся особенно обеспокоенным. Невооруженным глазом было видно, что страна напоминает кипящий котел с плотно закрытой крышкой. Предчувствия меня не обманули.
Буквально через две недели кризисные тенденции в ГДР достигли кульминационной точки. Прежнее партийно-государственное руководство потеряло контроль над страной. Хонеккер вынужден был уйти. Инициативу взяла на себя «улица»: демонстрации и митинги приобретали все более массовый и радикальный характер, охватили практически всю республику.
Слава Богу, у пришедших к руководству в СЕПГ людей хватило разума и мужества не пытаться потопить в крови народное недовольство. Думаю, определенную роль в этом сыграла и наша позиция. Тогдашним руководителям ГДР было ясно, что советские войска при всех обстоятельствах останутся в казармах.
Трудно сказать определенно, был ли шанс у пришедшего к власти в стране «второго состава» партийно-государственного руководства сохранить ГДР. Коль говорил мне позднее, что с самого начала был уверен в неспособности Эгона Кренца овладеть ситуацией. Не знаю. Все мы, как говорится, задним умом крепки. Что касается меня, то, честно говоря, у меня одно время теплилась надежда, что новым руководителям удастся перевести стрелку событий в республике в русло новых отношений между двумя германскими государствами… на основе коренного изменения внутренней политики.
1 ноября 1989 года я принял в Москве Кренца по его просьбе. Мы были согласны в том, что наивно сводить причины политического кризиса в стране только к событиям последних нескольких месяцев. В действительности многие проблемы накапливались годами. Соответственно и в политике требовались радикальные реформы, а не косметический ремонт. Разумеется, много времени было потеряно, но сейчас требовалось незамедлительно приступать к делу. На этом мы и расстались.
Однако вскоре оказалось, что уже никакое правительство или партия, действующие во имя сохранения ГДР, неприемлемы для большинства населения, которое видело решение всех своих проблем только в одном — в скорейшем объединении с ФРГ. Массовое бегство «на Запад», грозно нараставшая волна манифестаций, митингов, гражданского неповиновения и угроз в адрес властей разных рангов несли уже прямую опасность мирному разрешению кризиса. Начался, по существу, распад структур государственной власти, в первую очередь на коммунальном уровне, где особенно болезненно сказалась фальсификация прежним руководством ГДР итогов выборов в местные народные представительства 7 мая 1989 года.
Страна оказалась на грани социального взрыва, политического развала и экономического коллапса.
«10 пунктов» Коля
В этот момент от всех главных участников событий требовались особая политическая выдержка и ответственные действия. События в Германии получили сильнейший резонанс во всей Европе. Разумеется, и в Советском Союзе. На карту была поставлена судьба хельсинкского процесса.
Я не считал, что выступление канцлера Коля в конце ноября со своими «10 пунктами» является адекватным ответом на «вызов» политического момента. Появление этого документа было неожиданностью не только для нас, французов, англичан, но и для самого министра иностранных дел ФРГ Геншера. Складывалось впечатление, что интересам предвыборной борьбы подчиняются интересы исторического значения — и не только для немецкого народа.
По моему мнению, односторонние попытки форсировать процесс объединения могли только дополнительно накалить страсти в самой Германии и дестабилизировать обстановку в Европе. Ведь не далее как 11 ноября у нас с Колем состоялся телефонный разговор. Он заверял меня, что федеральное правительство хорошо понимает свою ответственность в связи с развитием событий в ГДР, будет действовать осторожно и продуманно, поддерживая тесный контакт и консультируясь с нами. Приведу отрывок из нашего разговора, чтобы было понятно, в каком политическом контексте «всплыли» эти «10 пунктов».
«ГОРБАЧЕВ. Всякие перемены — это определенного рода нестабильность. Поэтому, когда я говорю о сохранении стабильности, я имею в виду, чтобы мы делали продуманные шаги по отношению друг к другу.
В настоящее время происходит исторический поворот к другим отношениям, к другому миру. И нам не следовало бы неуклюжими действиями допустить нанесения вреда такому повороту. Я надеюсь, Гельмут, ты используешь свой авторитет, политический вес и влияние для того, чтобы и других удерживать в рамках, адекватных требованиям времени.
КОЛЬ. Только что завершилось заседание правительства ФРГ. Если бы ты на нем присутствовал, ты бы, возможно, удивился, как совпадают наши оценки. Этот исторический час требует соответствующей реакции, исторических решений. Хотел бы заверить тебя: я особенно остро осознаю свою ответственность».
И вот спустя всего две недели Коль выступает в бундестаге с планом объединения Германии на конфедеративной основе, выдвигает ряд, по существу, ультимативных требований к внутреннему переустройству ГДР в качестве предварительных условий реализации этого плана.
Обо всем этом у нас состоялся откровенный и довольно резкий разговор с Геншером, который в начале декабря 1989 года был в Москве. Геншер чувствовал себя неловко. Ситуация была действительно пикантная. Он вынужден был защищать политическую позицию — и делал это настойчиво! — о которой сам не был своевременно информирован и с которой, я думаю, в душе был не совсем согласен. Уж слишком очевидно в «10 пунктах» просвечивало стремление ХДС перехватить инициативу в преддверии выборов, слишком прямолинейно были сформулированы «советы» по демонтажу ГДР и присоединению этой части Германии к ФРГ.
Не особенно заботясь о дипломатическом этикете, я сказал Геншеру:
— По идее, с таким документом («10 пунктов») надо было выступить после соответствующих консультаций с партнерами. Или федеральному канцлеру все это уже не нужно? Он, видимо, уже считает, что играет его музыка, и он сам начал под нее маршировать. Не думаю, что такие шаги будут содействовать укреплению доверия и взаимопонимания, вносить вклад в наполнение жизнью достигнутых между нами договоренностей.
Вы знаете, что мы разговаривали с канцлером Колем по телефону. Коль заверял меня, что ФРГ не хочет дестабилизации обстановки в ГДР, будет действовать взвешенно. Однако действия канцлера расходятся с его заверениями. Выдвигаются ультимативные требования. Даются указания, каким путем должна идти ГДР, какие структуры создавать.
Идет общеевропейский процесс. В этих рамках и должны развиваться отношения между двумя немецкими государствами. Они, видимо, будут более тесными. Но все эти процессы должны идти нормально. Всякое искусственное их подталкивание только осложнило бы весь огромной значимости поворот, который происходит в развитии европейских государств, а это значит — в центральном пункте мировой политики.
Разговор получился напряженный и неприятный для нас обоих. Я высоко ценил Геншера как политика, его личный вклад в непростое дело налаживания отношений между нашими странами, но должен был это ему сказать, так как нам и дальше нужно было взаимодействовать. Мы решили не выносить на публику подробности беседы, поэтому заявление для печати носило «округлый», как у нас говорят, характер. Но я рассчитывал, что к сигналу из Москвы в Бонне отнесутся с должным вниманием.
Надо сказать, что коалиционному правительству Модрова с невероятным трудом удавалось удерживать республику от полного развала. Я несколько раз встречался с ним и был из первых рук информирован о проблемах его кабинета. Это был, по существу, своеобразный штаб «кризисного регулирования». Он проделал огромную работу в крайне неблагоприятных для себя условиях и сделал возможным проведение демократических выборов в парламент республики.
Но обстановка менялась уже не по неделям, а по дням. На встрече 30 января 1990 года Модров прямо сказал мне:
— Идею существования двух немецких государств уже не поддерживает растущая часть населения ГДР, и, кажется, ее невозможно уже сохранить. Тенденция к объединению особенно остро дает себя знать в приграничных районах, например в Тюрингии. Сдерживать эти тенденции не могут не только старые, но даже и те новые партии, которые этого хотели бы.
Вывод Модрова звучал однозначно:
— Формулировки, которые мы использовали до сих пор, уже не действуют. Большинство общественных сил, за исключением мелких левых сект, так или иначе группируются вокруг идеи объединения. Если мы не проявим сейчас инициативу, начавшийся процесс будет продолжаться стихийно и скоротечно, уже целиком помимо какого-либо нашего воздействия.
Формула «2+4»
Надо сказать, такая постановка вопроса не была для меня неожиданной. К этому выводу подводил и наш собственный анализ. За несколько дней до приезда Модрова я провел у себя в кабинете совещание по германскому вопросу в узком кругу. Были Рыжков, Шеварднадзе, Яковлев, Фалин, Крючков, Ахромеев и два моих помощника Черняев и Шахназаров. Дискуссия длилась 4 часа.
В конечном счете мы согласовали линию поведения на ближайшую перспективу. Итог совещания:
— следует исходить из неизбежности воссоединения Германии;
— выступить с инициативой об образовании «шестерки»: четыре державы-победительницы и «две Германии»;
— не обрывать связей с руководством ГДР;
— теснее координировать нашу политику в «германском вопросе» с Парижем и Лондоном;
— Ахромееву проработать вопрос о выводе войск из ГДР.
Германская тема была центральной в беседе 9 февраля с Бейкером, прибывшим в Москву.
Опускаю детали беседы. Бейкер сделал акцент на нескольких ключевых пунктах: исход выборов 18 марта предрешен и большинство населения ГДР отдаст свой голос в пользу объединения. Таким образом, объединение неизбежно, и Соединенным Штатам вместе с Советским Союзом следует строить свою политику, исходя из этой предпосылки.
Как я уже сказал, наш собственный анализ подтверждал такой прогноз. Значительно больше меня интересовало, как намерены США вести себя в этой ситуации. Бейкер был согласен с тем, что ни США, ни СССР не могут и не должны оставаться в роли постороннего наблюдателя.
— Самое главное, — сказал он, — чтобы этот процесс (то есть объединение Германии) протекал в стабильных условиях и обеспечивал стабильность на перспективу. — Спустя несколько минут он еще раз вернулся к теме стабильности и подчеркнул:
— Я хочу, чтобы вы знали: ни президент, ни я не намерены извлекать преимуществ из происходящих процессов.
Я принял к сведению это заявление, и мы перешли к обсуждению возможных механизмов взаимодействия. Довольно быстро прояснили, что по ряду ключевых пунктов наши позиции довольно близки. В ходе обсуждения стала вырисовываться примерно такая схема. Внутренние аспекты объединения — дело самих немцев, они обсуждают все связанные с этим вопросы самостоятельно. Главная причина «соучастия» в переговорном процессе четырех держав-победительниц — это их ответственность за сохранение мира и стабильности в Европе. Соответственно, главная тема обсуждения между ними — внешние аспекты объединения.
Как и Бейкер, я считал, что вести основные переговоры на эту тему в рамках СБСЕ — идея малопродуктивная в силу слишком большого количества участников. В то же время было ясно, что отдельная конференция «четверки» может вызвать аллергию и реакцию отторжения в Германии. Таким образом, формула «4 + 2» или «2 + 4» оказалась наиболее приемлемой. Мы договорились, что официально ставить вопрос о запуске этого механизма следует только после выборов в ГДР и начала переговоров между ГДР и ФРГ об объединении, чтобы не давать немцам повода обвинять нас во «вмешательстве».
Ключевым пунктом, где наши позиции расходились, был вопрос о военно-политическом статусе объединенной Германии. Бейкер пытался объяснить мне преимущества сохранения Германии в НАТО по сравнению с ее «нейтрализацией». Его аргументы сводились примерно к следующему: сохранение американского военного присутствия в Германии и ее членство в НАТО дают США и Западу определенные рычаги контроля над внутренней и внешней политикой Германии. Нейтральная Германия, выпадающая из системы союзнических связей Североатлантического союза, может вновь стать генератором нестабильности в Европе.
— Если Германия будет нейтральной, — убеждал меня Бейкер, — она необязательно будет немилитаристской. Наоборот, вполне может принять решение о создании своего собственного ядерного потенциала вместо того, чтобы полагаться на американские силы сдерживания. Хочу задать вам вопрос, на который необязательно давать ответ сейчас. Предполагая, что объединение состоится, что для вас предпочтительнее: объединенная Германия вне НАТО, полностью самостоятельная, без американских войск, или объединенная Германия, сохраняющая связи с НАТО, но при гарантии того, что юрисдикция или войска НАТО не будут распространяться на восток от нынешней линии?
По существу, последняя часть фразы Бейкера и стала ядром той формулы, на основе которой позднее был достигнут компромисс о военно-политическом статусе Германии. Но тогда я еще не был готов ее принять.
Я тоже считал, что нужны подстраховочные механизмы, которые гарантировали бы и нас, и остальную Европу от всяких неожиданностей со стороны Германии в будущем. Но в отличие от американцев я считал, что таким механизмом должны стать не НАТО, а новые структуры, создаваемые в рамках общеевропейского процесса. Разумеется, расширение зоны НАТО является неприемлемым. Бейкер же не верил, что, например, СБСЕ когда-нибудь будет в состоянии заменить НАТО.
Буквально на другой день состоялась моя очередная встреча с Колем. Главным для него, как я понял, было стремление убедить меня в том, что положение в ГДР стремительно идет к краху. После выборов в Народную палату ГДР (18 марта), считал канцлер, будет сформировано правительство, которое выскажется за объединение, а население и парламент однозначно поддержат это решение. Задача, по его мнению, состоит в том, чтобы стабилизировать, насколько это возможно теперь, положение в ГДР, предотвратить экономический коллапс и политический хаос, сократить поток переселенцев из ГДР в ФРГ. Добиться этого, убеждал меня Коль, можно, только проводя активную политику, в частности, создав сразу же после выборов валютный и экономический союз. Мне было ясно, что Коль намерен форсировать объединительный процесс. И были основания полагать, что он заручился в этом поддержкой американцев. В то же время Коль не уставал повторять, что «вынужден» под давлением обстоятельств действовать так, а не иначе, но по-прежнему намерен согласовывать свою линию с Москвой. Вот характерная выдержка из монолога Коля:
— Я хочу действовать в тесном контакте с вами, господин Генеральный секретарь. Происходящие перемены — не в последнюю очередь результат политики перестройки, поэтому мы хотим быть рядом друг с другом. Надо готовиться к тому, чтобы адекватно реагировать на надвигающиеся события. Я не хочу их ускорения. Но на меня, я вижу, движется волна, и я не смогу ей противостоять. Это — реальность, не могу с ней не считаться.
По центральному вопросу, в том, что касалось принципиального отношения СССР к объединению Германии, я был готов к ответу:
— Наверное, можно сказать, что между Советским Союзом, ФРГ и ГДР нет разногласий по вопросу о единстве немецкой нации. В главном исходном пункте есть понимание — сами немцы должны сделать свой выбор. И они должны знать эту нашу позицию.
— Немцы это знают, — отреагировал Коль. — Вы хотите сказать, что вопрос единства — это выбор самих немцев?
— Но в контексте реальностей, — дополнил я.
— Согласен с этим.
Для меня главным в сложившейся ситуации было, чтобы Коль не поддался эйфории и отдавал себе отчет в том, что «германский вопрос» не сводится к объединению и удовлетворению национальных чаяний немцев. Он затрагивает интересы соседних государств, включая Советский Союз, ситуацию в Европе и в мире. В этой связи возникала масса вопросов: гарантии нерушимости границ и признание послевоенных территориально-политических реальностей, военно-политический статус объединенной Германии, сопряженность общеевропейского процесса и процесса объединения Германии.
Коль в целом с пониманием отнесся к моим аргументам, хотя сразу высказался против любых вариантов «нейтрализации» Германии. В целом же мы остановились на том, что все проблемы, связанные с объединением, следует начать обсуждать в рамках «шестерки»: СССР, США, Англия, Франция, с одной стороны, ФРГ и ГДР — с другой,
Коль сказал, что идея конференции «4 + 2» (позднее немцы при активной поддержке США настояли, чтобы она называлась «2 + 4») ему нравится, а вот против отдельной конференции четырех держав по «германскому вопросу» он стал бы категорически возражать. Я заверил, что без участия немцев ничего решаться не будет. На том мы и расстались.
Возникшие недоразумения были сняты, что в то время имело исключительно важное значение. Но надо было еще пройти трудный, полный опасностей путь.
Судьба «плана Модрова»
Политическая и социальная дестабилизация в ГДР дала беспрецедентные шансы конкурирующим политическим кругам ФРГ. Каждая из основных партий — ХДС/ХСС, СДПГ, СВДП — развернула бурную деятельность в пользу объединения Германии. Различие их тактики сводилось в основном лишь к темпам и формам такого объединения. Во всяком случае, поначалу преобладала линия на плавное, поэтапное сближение и равноправное сотрудничество. Этим целям отвечал «трехэтапный план» Модрова. Разрабатывая его, Председатель Совета Министров ГДР имел в виду создание «договорного сообщества» ГДР и ФРГ, развитие самого тесного взаимодействия в экономике и других областях через конфедерацию двух суверенных государств с постепенным приобретением ими нейтрального статуса и, наконец, образование Немецкой федерации, или Немецкого союза, активного участника общеевропейского процесса.
Модров обнародовал свой план. Ему предстояла поездка в Бонн. 12 февраля у нас состоялся телефонный разговор. Я подробно информировал его о результатах моих переговоров с Колем в Москве.
О предложениях правительства ФРГ по валютному союзу, заметил Модров, он узнал из сообщений средств массовой информации. Хотя незадолго перед тем, во время встречи в Давосе, он договорился с Колем образовать рабочую группу экспертов из 8 человек (по 4 человека из ГДР и ФРГ) для обсуждения вопросов сотрудничества в экономической и финансовой сферах. Были названы представители в эту группу, но их в ФРГ не пригласили, и никакого обсуждения идеи валютного союза не состоялось. Зато внезапно появилось заявление правительства ФРГ на этот счет.
Настроения в ГДР в пользу объединения с ФРГ, продолжал Мод-ров, сильны. Но одновременно растет и озабоченность трудящихся за социальные последствия объединения. Большинство ведущих политических партий ФРГ на стороне Коля. Пока нет однозначно четкой позиции у социал-демократов.
Сегодня на заседании «круглого стола» в Берлине будет обсуждаться концепция предстоящей его (Модрова) встречи с Колем. Каков будет итог этого обсуждения — сказать трудно, первые результаты станут известны к вечеру. Экономическое положение ГДР тяжелое, промышленное производство не просто в состоянии стагнации, оно быстро падает.
В целом же Модров считал, что каких-то основополагающих решений между ГДР и ФРГ до 18 марта принято не будет. Но при этом указал, что ФРГ хочет повлиять на ход предвыборной кампании в ГДР, добиться выгодного для Бонна результата и формирования такого правительства ГДР, которое подталкивало бы процесс объединения.
В ответ я изложил свои соображения, подчеркнув необходимость твердо отстаивать выработанные позиции, не упуская из виду в процессе сближения двух германских государств законные права и интересы других европейских государств.
Тем временем правительство Коля пришло к выводу о нецелесообразности подписания с правительством Модрова договора о сотрудничестве и добрососедстве. В Бонне взяли курс на активную поддержку на предстоящих в марте 1990 года выборах в Народную палату ГДР оппозиционных, антикоммунистических организаций и группировок. Обстановка им благоприятствовала. В ГДР резко ухудшилось положение с теплоснабжением, продовольствием, общественным порядком. Бушевали волны массового недовольства прежним режимом, подогреваемого сенсационными разоблачениями злоупотреблений и иллюзиями о благах быстрого присоединения к ФРГ.
На выборах 18 марта 1990 года ПДС потерпела поражение, набрав менее 17 процентов голосов, другие левые партии — около 8 процентов. На первое место в политическом спектре выдвинулся «Альянс», который поддерживался ХДС/ХСС из Западной Германии. Вместе со своими партнерами из других партий и групп «Альянс за Германию» контролировал более 2/3 депутатов Народной палаты ГДР.
Коалиционное правительство за объединение
Образованное в апреле коалиционное правительство во главе с Лотаром де Мэзьером выступило за объединение Германии по статье 23 Конституции ФРГ, которая предусматривала вступление ГДР или отдельных ее частей в состав ФРГ без промежуточного этапа конфедеративных связей. Это было совершенно не то, что планировал Модров.
Л. де Мэзьер, как и следовало ожидать, оказался фигурой переходной. Этот сдержанный по манерам человек — адвокат, музыкант, евангелист и политик — был связан с христианскими демократами востока и запада Германии и отражал их стремление обеспечить быстрейшее вхождение Восточной Германии в ФРГ. Вместе с тем надо отдать ему должное, он хорошо понимал важность сохранения лояльных отношений с Советским Союзом и экономических связей с ним, от которых напрямую зависело благосостояние большинства населения ГДР.
Я хотел бы привести наиболее характерные фрагменты из моей беседы с де Мэзьером 29 апреля 1990 года в Москве, документально свидетельствующие о сложности и стремительности событий вокруг проблем объединения Германии, о позиции участников этого процесса и положении в самой ГДР.
«ГОРБАЧЕВ. Приветствую вас как главу правительства ГДР, на плечи которого выпала столь высокая ответственность перед своим народом, перед всеми европейскими странами на нынешнем переломном историческом этапе.
Де МЭЗЬЕР. Могу вас заверить, что ощущаю тяжесть бремени, взятого на себя… Высказанная вами в беседе мысль, когда вы были в Берлине в октябре прошлого года, что тому, кто не прислушивается к вызовам времени, приходится тяжело расплачиваться за это и проигрывать, эта мысль благодаря средствам массовой информации облетела буквально всю страну.
ГОРБАЧЕВ. В те дни в Берлине я ясно ощутил, что вас ждут большие события.
Де МЭЗЬЕР. Это чувствовал весь народ. Но, к сожалению, этого не понимало бывшее тогда у власти руководство.
ГОРБАЧЕВ. Крупные делегации, прибывшие из всех регионов республики, фактически демонстрировали свое несогласие с режимом. Я наглядно убедился, что Хонеккер и его ближайшие коллеги уже не улавливают того, что происходит в стране.
Де МЭЗЬЕР. К сожалению, очень многие в нашей стране годами не понимали сигналов к обновлению, которые дал апрельский Пленум вашей партии в 1985 году. И то, что осенью прошлого года события у нас развернулись так бурно, со всей очевидностью подтвердило, что было упущено слишком много времени.
ГОРБАЧЕВ. Да, это так. Похоже, сейчас в обеих частях Германии несколько прибавилось реализма по сравнению с тем, что было во время предвыборной кампании. Это было тяжкое время. Оно выпало на плечи правительства Модрова. Думаю, история воздаст должное тем, кто выстоял на этом отрезке времени. К счастью, все-таки наиболее тяжелых, трагических поворотов удалось избежать. Да и у вас сейчас миссия тоже не простая. Ведь речь сейчас идет о том, что закладывается будущее Европы.
Сейчас мы считаем, что стремление к объединению ГДР и ФРГ — это естественный, органический процесс. При этом мы с уважением относимся к интересам ГДР, с которой нас связывают десятилетия тесного плодотворного сотрудничества. Это миллионы людей со своими интересами, судьбами. Это реальность, с которой никто не может не считаться.
Понимая чаяния немцев, уважая их право на самоопределение, мы, соответственно, относимся и к процессу объединения Германии, не собираемся ни в коей мере препятствовать ему. Но этот многогранный процесс, имеющий важные и довольно острые международные грани, должен протекать достойно, солидно.
Де МЭЗЬЕР. Вы правы, господин президент, что период, начавшийся в ноябре, и вся предвыборная кампания — это было время больших страстей. Я входил в кабинет Х.Модрова, и у нас тогда были три главные цели: сделать все возможное, чтобы наступившей зимой народ не замерзал, не голодал и не истек кровью. Вся деятельность правительства была реакцией на эти реальные опасности того времени. И их удалось избежать. На какую-либо иную активность у нас не хватило сил. Теперь же наше правительство старается удержать инициативу в своих руках, быть во главе общественных движений. Но это удается только в той мере, в какой мы правильно воспринимаем желание людей. Подавляющее же большинство народа желает быстрейшего объединения Германии. Важно, что за последнее время возрастает понимание необходимости упорядоченного протекания этого процесса. Это не удастся, если процесс объединения не будет включен в контекст формирования новой системы европейской безопасности.
К сожалению, процесс объединения двух немецких государств сейчас сильно опережает общеевропейский процесс. Видимо, мы вместе с вами должны подумать, как сообща гармонизировать эти два процесса. Наше правительство выражает свою твердую волю — быть надежным и предсказуемым партнером. Для нас представляет очень большой интерес сохранение и расширение экономических отношений с Советским Союзом. Переход к новым формам хозяйствования сопряжен с большими трудностями. Нам важно иметь надежных партнеров, заказчиков с советской стороны. 35 процентов всех занятых в производственной сфере работает над выпуском продукции для Советского Союза. Видите, какая это большая доля.
Важно уже сейчас договариваться о возможности трехсторонних переговоров, то есть с участием ФРГ, прежде всего по экономическим вопросам.
ГОРБАЧЕВ. О таком треугольнике уже я говорил по телефону с Колем. История взаимоотношений наших стран отягощена мировыми войнами. К счастью, кажется, мы вышли теперь на такой уровень отношений, который учитывает тяжелые уроки прошлого. Это надо ценить, ни в коем случае не подрывать наметившегося восстановления доверия. Прямо скажу, если возникнет ощущение, что с немецкой стороны проявляется неуважение к интересам советского народа, то реакция будет острой. Возникнут серьезные осложнения, Надеюсь, мы избежим такого регресса. Здесь на первое место выступает человеческий аспект межгосударственных отношений. С этим нельзя не считаться, иначе может быть отброшено далеко назад все то позитивное, доброе, что созидалось совместными усилиями.
Но есть и другие важные аспекты, которые затрагиваются процессом объединения. Нашим самым большим торгово-экономическим партнером среди всех стран СЭВ является ГДР.
А самым крупным партнером среди западных стран — ФРГ. Если будет нарушено взаимопонимание, то возникнут трудные проблемы для всех трех стран. Таким образом, есть что обсуждать в рамках треугольника.
Словом, речь идет о современном понимании отношений между Россией и Германией. Из моих бесед с Колем вытекает, что он понимает важность сохранения рынка, который создан экономическими связями между Советским Союзом и ГДР. Но дело, конечно, не только в его понимании этого вопроса. Решать принципиальные и практические экономические вопросы в рамках треугольника надо уже в ближайшие месяцы. Это дело безотлагательное».
Нейтралитет или союз?
Директивы для Шеварднадзе на встрече «2 + 4», которая должна была собраться в начале мая в Париже, обсуждались 3 мая на Политбюро. Все были едины относительно нашей позиции. Министру давалось поручение настаивать на «нейтралитете» объединенной Германии, в крайнем случае — на ее вхождении в оба блока, НАТО и ОВД. Но по этому пункту мы оказались в единственном числе.
В конце мая 1990 года я отправился с визитом в США. Уже в первой беседе 31 мая при обсуждении повестки дня переговоров Буш заявил: — У нас нет расхождений насчет того, что Германия не должна быть источником угрозы для кого-то. Она должна быть привержена демократическим принципам, дать гарантии, что прошлое не повторится… Мы по-разному смотрим на военно-политический статус будущей Германии, но и у вас, и у нас есть беспокойство за будущее. Германии можно доверять. Она заплатила свои долги.
Основная дискуссия развернулась во второй беседе в тот же день вечером. Я настаивал на постепенном, поэтапном решении вопроса о германском объединении в органичной связи с преобразованием ОВД и НАТО, направленным на ослабление и снятие конфронтационной сути этих военно-политических союзов. Буш, видимо, уже имея договоренность с Колем и ссылаясь на встречу «2 + 4» в начале мая, категорически не соглашался. Ваши опасения можно понять. Американские жертвы не идут в сравнение с 27 миллионами русских жизней, принесенных в жертву вооруженной борьбе с нацистской Германией. Тем не менее нельзя игнорировать 50-летний опыт демократии на немецкой земле. И все же, как мне кажется, наш подход к Германии более перспективен и лучше просчитан во времени. Ведь процессы объединения разворачиваются быстрее, чем кто-либо из нас мог себе представить, и нет силы, которая может их затормозить. Поэтому подозрительность, обращенная в прошлое, здесь особенно плохой советчик.
Мне кажется, наш подход к Германии как к близкому другу более прагматичен и конструктивен, хотя, скажу откровенно, его разделяют далеко не все и на Западе. Некоторые западные европейцы, как и вы, не доверяют ни ФРГ, ни немцам в целом. Однако все мы на Западе едины в целом: главная опасность в том, чтобы выделить Германию из сообщества демократических стран, навязать ей какой-то особый статус и унизительные условия существования. Как раз такое развитие событий могло бы привести к возрождению немецкого милитаризма и реваншизма, которых вы опасаетесь.
…Я, конечно, понимал, в чем причина настойчивого желания Соединенных Штатов включить объединенную Германию в НАТО. Буш и его коллеги боялись, и в какой-то степени обоснованно, что, окажись такая мощная сила вне НАТО, судьба этого блока будет предрешена. А вместе с ним, как они считали, потеряет основу и военное присутствие Соединенных Штатов в Европе.
С нескольких заходов, используя разную аргументацию и ссылаясь на прежние свои заявления, в том числе публичные, я убеждал Президента США в том, что СССР не заинтересован в «уходе» американцев из Европы.
Полемика была довольно жесткой, причем обе стороны упрекали друг друга в том, что они боятся немцев, боятся, что Германия опять поставит под угрозу мир в Европе, а значит, и во всем мире.
«ГОРБАЧЕВ. Вы утверждаете, что мы не доверяем немцам. Но почему же тогда мы дали добро их стремлению к объединению? Зажечь красный свет мы могли — механизмы у нас были. Однако предоставили им возможность сделать свой выбор демократическим путем. Вы же говорите, что доверяете ФРГ, а тянете ее в НАТО, не позволяете самой определить свою судьбу после окончательного урегулирования. Пусть она сама решает, в каком союзе ей состоять.
БУШ. Вы согласны с нашим исходным тезисом, что объединенную Германию нельзя ставить в особое положение?
ГОРБАЧЕВ. Соглашусь, если… за этим последует реформа самих блоков в органической увязке с венским и общеевропейским процессом. Страшные жертвы, которые мы понесли в ходе Второй мировой войны, — это тоже психологическая и политическая реальность сегодняшнего дня. И никто, ни мы, ни вы, не может ее не учитывать.
БУШ. И все же мне трудно вас понять. Может быть, потому что я не испытываю страха перед ФРГ, не вижу в этой демократической стране агрессивной державы. Если вы не поломаете своего психологического стереотипа, нам будет трудно договариваться. А договоренность возможна, ведь и мы, и Коль хотим сотрудничать с вами во всех областях.
ГОРБАЧЕВ. Тут не должно быть неясности. Мы никого не боимся — ни США, ни ФРГ. Просто мы видим необходимость изменения отношений, ломки негативной и создания конструктивной модели в отношениях блоков».
Весь этот драматический разговор завершился все-таки согласием, и выглядело это следующим образом:
«БУШ. Если Германия не захочет оставаться в НАТО — ее право выбрать иную участь.
ГОРБАЧЕВ. Давайте сделаем публичное заявление по итогам наших переговоров: Президент США согласился, что суверенная объединенная Германия сама решит, какой военно-политический статус ей избрать — членство в НАТО, нейтралитет или что-то иное.
БУШ. Выбирать союз — право каждой суверенной страны. Если правительство ФРГ — я рассуждаю чисто гипотетически — не захочет оставаться в НАТО, даже предложит нашим войскам убраться, мы примем этот выбор.
ГОРБАЧЕВ. Значит, так и сформулируем: Соединенные Штаты и Советский Союз за то, чтобы объединенная Германия по достижении окончательного урегулирования, учитывающего итоги Второй мировой войны, сама решила, членом какого союза ей состоять.
БУШ. Я бы предложил несколько иную редакцию: США однозначно выступают за членство объединенной Германии в НАТО, однако если она сделает другой выбор, мы не будем его оспаривать, станем уважать».
Я согласился с этой формулировкой.
В середине июля 1990 года в Москву приехал Коль, чтобы окончательно согласовать весь комплекс вопросов, связанных с объединением Германии. Мы несколько раз беседовали один на один, а также вчетвером: мы с Шеварднадзе и Коль с Геншером. Начали переговоры в Москве в особняке МИДа на улице Алексея Толстого, продолжили на Ставрополье.
Сначала президентский ИЛ-62 приземлился в Ставрополе, и я вместе с Гельмутом Колем, Раисой Максимовной, нашими спутниками оказались в кругу моих земляков. Мы прошлись по местам, где по повелению Екатерины II в составе Моздокской военной линии была построена в конце XVIII века крепость. Из крепостной части хорошо видна нижняя часть города, а дальше, в сторону Астрахани, ставропольские степи. У подножия горы — мемориал павшим в войнах. К нашему приезду там собралось много людей. Возложили цветы, поклонились, затем состоялся разговор с ветеранами войны. Они пришли в орденах. И мне и канцлеру запомнились слова: «Хорошо, что вы вместе. Мы поддерживаем ваши усилия по налаживанию добрых отношений между русскими и немцами, между Германией и СССР».
Затем на вертолетах взяли курс в сторону Главного Кавказского хребта, в Архызское ущелье. По пути приземлились на колхозном поле, где крестьяне убирали новый урожай. Земляки были рады этой встрече. Да и мы остались очень довольны. Короткая беседа, сердечные приветствия, фотографирование, и дальше — у всех дела. Во второй половине дня наши вертолеты, продвигаясь к Большому Кавказу, достигли конечного пункта — горного туристического центра Архыз. Это древнее поселение, в окрестностях которого сохранились остатки памятников X–XII веков. Расположились в особняке у реки Большой Зеленчук. Высота — 1600 метров. Вокруг нас в хвойных лесах горы Кавказа высотой 3–3,5 тысячи метров. Короткий отдых, и сразу за работу. Вечером хозяева угостили нас блюдами карачаевской и черкесской кухни. Потом короткая прогулка под звездным небом. Воздух «чист и свеж, как поцелуй ребенка» (Лермонтов), насыщенный горными запахами. Высокое и близкое небо, звезды, силуэты гор, тишина, лунные отблески в реке.
Здесь и состоялся завершающий этап наших с канцлером Колем переговоров. В них приняли участие помимо Шеварднадзе и Геншера министр финансов Вайгель, С.Ситарян, ведавший тогда внешнеэкономическими связями.
Коль был очень собран и напорист. Мы разговаривали на пределе откровенности. Основное для нас было ясно, но многие проблемы требовали дополнительного обсуждения и прояснения.
Речь шла прежде всего о нераспространении на территорию ГДР военных структур НАТО и сохранении там на определенный согласованный период советских войск. Надо было четко определить правовую и финансовую основу пребывания наших войск на территории объединенной Германии. Нам нужны были также гарантии, что и после вывода наших войск территория бывшей ГДР не будет использована для создания угрозы безопасности Советскому Союзу. По всем этим вопросам мы договорились, и договоренности были зафиксированы. Я настоял на существенном сокращении численности вооруженных сил объединенной Германии и установлении верхнего потолка в 370 тысяч человек. Было достигнуто взаимопонимание, что Германия раз и навсегда отказывается от обладания ядерным, химическим и бактериологическим оружием.
Мы были общего мнения, что следует стремиться к большей синхронизации общеевропейского процесса и процесса объединения Германии, в частности, путем создания новых структур безопасности в рамках СБСЕ.
Большое внимание уделили согласованию фундаментальных идей, которые следовало заложить в основу будущего «Большого договора» между СССР и ФРГ (впоследствии он получит название Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве), призванного определить магистральное развитие советско-германских отношений на перспективу.
Короче говоря, это были комплексные переговоры, в которых нашло отражение наше понимание того, что объединение Германии — не изолированный вопрос, а составная часть совместного движения к новой Европе. Не боясь повториться, я еще и еще раз считал необходимым сказать канцлеру Колю:
— Наше общественное мнение постепенно, шаг за шагом перестраивается в сторону понимания того выбора, который сделал немецкий народ, встав на путь объединения. Прошлое мы не можем забыть. В каждую семью у нас в свое время пришло горе. Но надо повернуться лицом к Европе, встать на путь сотрудничества с великой немецкой нацией. Это и есть наш вклад в укрепление стабильности в Европе, в мире.
Там, в горах Кавказа, взяли ту высоту в политике, с которой открылись широкие горизонты в отношениях между нашими народами. На следующий день на вертолетах прибыли в Железноводск — город-курорт на Кавказских Минеральных Водах, где нас тепло встретили тысячи людей, приехавших на лечение со всех уголков СССР. В санатории «Дубовая роща» провели пресс-конференцию, на которой сообщили о достигнутых договоренностях.
Визит в новую Германию
9—10 ноября 1990 года я совершил визит уже в объединенную Германию. Состоялись торжества и подписание документов, которые заложили международно-правовые и морально-политические основы нормальных, современных, действительно дружественных отношений между Германией и Советским Союзом.
Была подведена черта под нашей совместной старой, новой и новейшей историей, открыт, надеюсь, навсегда, такой период отношений Германии и России, когда заработает все ценное, накопленное за века в русско-немецких связях. Был поставлен крест на том, что обоим народам приносило столько бед и горя.
Дав «зеленый свет» объединению Германии, Советский Союз и его бывшие союзники по антигитлеровской коалиции руководствовались, помимо прочего, и таким соображением: демократическая, политически стабильная и экономически здоровая Германия, определившаяся в своих границах, довольная общественно-политическим устройством, своей ролью в Европе и в мире, станет крупнейшим фактором европейского и международного процесса.
Однако было бы наивно полагать, что объединение Германии уже само по себе автоматически ведет к достижению этой цели. Сегодня, наверное, уже всем ясно, что предстоит еще сравнительно долгий период, в течение которого одной из главных забот единой Германии будет выравнивание условий жизни в ее восточной и западной частях. Это потребует громадных усилий, гигантских капиталовложений, продуманной и тщательно взвешенной социальной политики, учета специфических особенностей «новых» земель. И конечно, крупнейшая и долговременная задача — «перемены в мозгах», выработка менталитета вновь объединенной, единой нации, преодоление психологии, унаследованной от периода раскола. Без этого тоже не обеспечить полной устойчивости единого германского государства. В этом заинтересована и вся остальная Европа, для которой всякая дестабилизация в ее центре, как хорошо известно из истории, чревата тяжелыми последствиями.
Это одна сторона проблемы. Вторая же заключается в преодолении разрыва в качестве жизни между Западной и Восточной Европой. От решения этой задачи Германии (и Западу в целом) не отмахнуться. Все политические, экономические, социальные, экологические проблемы в обеих частях Европы сплетены в один тугой узел. Пытаться игнорировать эту реальность — значит в конечном счете поставить под угрозу собственные интересы.
Партнерские отношения между Германией и Россией — один из ключевых элементов любого серьезного проекта общеевропейского строительства. Какие-то аналогии с «новым Рапалло» в этом контексте неуместны, несут на себе налет политических спекуляций. Мое горячее желание — чтобы все позитивное, что было накоплено в отношениях между нашими странами на рубеже 90-х годов, не было утрачено ни Россией, ни Германией в нынешнее трудное время.
Кратким, но очень важным, рубежным стал этот визит в Германию.
Наша ноябрьская программа включала поездку в родные края канцлера Коля — землю Рейнланд-Пфальц. Мы побывали в городе Шпайер, где нас приветствовали тысячи людей. Посетили собор, построенный в XII веке, один из самых замечательных памятников романского искусства. Слушали органную музыку Баха, осмотрели собор, где покоятся останки четырех императоров Германии и четырех королей. Я наблюдал за канцлером: он весь как бы углубился в себя, его лицо стало строгим и торжественным. «Здесь царит немецкий дух», — услышал я слова Коля.
В Дайдесхайме, центре виноделия, в ресторане «Романтик» нам устроили обед — угощали традиционными блюдами местной кухни. Когда мы были еще на площади, над нами барражировали два спортивных самолета с транспарантами: «Горби, не ешь «свиной желудок» Коля!». Но любимое блюдо канцлера нам понравилось. Здесь же бургомистр Штеффан Гиллих вручил сертификат, свидетельствующий, что в центре виноделия для меня посажены пять виноградных лоз и я буду ежегодно получать по бутылке вина с каждого куста.
В Оггерсхайме мы побывали в гостях у Гельмута Коля, пообщались с его соседями. Вся поездка в Рейнланд-Пфальц прошла в теплой атмосфере, еще больше сблизила нас с канцлером.
…У себя дома нас ждали трудные дни и месяцы.
Глава 23. От взаимопонимания к партнерству
Визит в США в 1990 году
Прошло около полугода после Мальты, и мы встретились с президентом Бушем вновь, на этот раз в Вашингтоне.
В последний раз я был там в декабре 1987 года, когда хозяином Белого дома был Рейган. Теперь предстояло продолжить путь уже на новом уровне отношений между нашими странами, придать им стабильность, избавиться от перепадов между эйфорией и депрессией, оттепелью и заморозками.
Задача непростая. Надо сказать, что советско-американским отношениям все еще недоставало запаса прочности. От конфронтации мы ушли, но в мышлении, в подходах еще не была изжита до конца логика военно-политического соперничества. Сотрудничество постепенно налаживалось, но до настоящего партнерства было далеко. Наконец, не была радикально изменена и вся инфраструктура противостояния.
Тем не менее я был убежден в невозможности возврата назад. Осознание целостности, взаимозависимости мира уже достаточно глубоко проникло в политику. Заметно потускнел и «образ врага», который десятилетиями питал «холодную войну» и конфронтацию. Я считал, что лучшей гарантией против отката являются новые шаги вперед: и в вопросах сокращения вооружений, которые продолжали отставать от политических перемен, и в сотрудничестве по транснациональным проблемам, и в экономических, научно-технических, культурных обменах, в простом человеческом общении людей разных поколений и занятий.
На Мальте мы с президентом Бушем согласовали своего рода перспективную программу конкретных шагов в наиболее важных сферах развития советско-американских отношений. Пришла пора приступить к ее реализации. Значение Мальты в свете опыта прошедших за полгода бурных событий мне представлялось гораздо более масштабным, чем даже в момент встречи, хотя и тогда я ее оценил высоко. Это, конечно, была не просто «промежуточная станция» на перегоне развития советско-американских отношений. Не будь Мальты, не установи мы вовремя с Бушем личный контакт, не наработай наши министры опыта взаимодействия, уверен — мы оказались бы неподготовленными к событиям в Восточной Европе, и особенно в Германии. По-иному выглядел бы, вероятно, и международный контекст прибалтийской проблемы.
Всего этого, к счастью, не произошло. Я прилетел в Вашингтон 30 мая 1990 года, имея серьезные основания рассчитывать на то, что при всех возможных разногласиях по некоторым вопросам нам удастся сохранить конструктивную атмосферу диалога и о многом существенном договориться.
— Чтобы сотрудничество стало возможным, — сказал я президенту, — надо определиться, какими хотят видеть Советский Союз Соединенные Штаты, а США — СССР. Скажу прямо: мы не считаем, что ослабленные США, США с уменьшенной ролью в мировых делах — к нашей выгоде. В этом не может быть выигрыша для нас, поскольку ослабленные или в чем-то ущемленные Соединенные Штаты — это нестабильность в мире.
Эта тема и стала центральной в дискуссии на этой встрече. Из моих встреч с представителями сената и конгресса, деловых и академических кругов я вынес впечатление, что и в США наметился перевес в пользу понимания того, что интересам их страны отвечает новый Советский Союз.
Для меня эта констатация (поскольку до нас доходила информация, свидетельствующая о колебаниях в администрации) перевешивала все остальное. Но в политике за словом должно следовать дело. Я не упрощал ситуацию, учитывал политические реальности американского общества, в котором еще были достаточно сильны антисоветски настроенные круги. В этой обстановке нужно было всячески стимулировать начавшийся процесс взаимопонимания, продвигать советско-американские отношения к партнерским.
Повестка дня была исключительно насыщенной: пакет разоруженческих проблем, включая согласование основных положений будущего договора по СНВ; европейский процесс, и прежде всего внешние аспекты германского объединения; перспективы заключения торгового соглашения; ситуация в зоне региональных конфликтов. В общей сложности тогда было подписано 24 документа. Главное было, конечно, не в количестве документов, а в их значимости для создания стабильной инфраструктуры сотрудничества.
После того как мы «покончили» с германским вопросом, о чем я уже рассказывал, настала очередь разоруженческого пакета.
Договоренности по сокращению ядерных и обычных вооружений, достигнутые в Вашингтоне, потребовали почти четырех лет кропотливой работы. На этот раз мы завершили начатое еще в Рейкьявике согласование основных положений договора по сокращению СНВ на 50 процентов. Удалось наконец решить проблемы, которые до последнего момента были предметом разногласий.
Для нас было важно исключить сценарий, когда США могли по этим типам вооружений быстро вырваться вперед и нарушить баланс, который образуется на пониженном уровне после 50-процентного сокращения. Согласие США урегулировать проблему с крылатыми ракетами морского базирования в отдельном документе — приложении к Договору — и ограничить дальность пуска крылатых ракет воздушного базирования 600 километрами во многом снимало эти опасения.
Не обошлось, конечно, и без разногласий, причем в таких вопросах, где, казалось, существовало взаимопонимание. Американцы, ссылаясь на особые отношения с Великобританией в области стратегических вооружений, вдруг стали настаивать на своем праве практически без всяких ограничений передавать ей технологию их производства и любые виды. В условиях, когда СССР и США готовы были пойти на радикальные сокращения своих ракет, заметно возрастал удельный вес потенциалов Англии, Франции и Китая в общем ядерном балансе. Поэтому двойной стандарт в трактовке договора был для нас совершенно неприемлем.
Почти по всем главным вопросам будущего договора по СНВ в основном вышли на договоренности.
В эти же дни было подписано соглашение о 80-процентном сокращении химических вооружений с последующей договоренностью о полном их уничтожении. Открывалась дорога к заключению многосторонней конвенции по химическому оружию, подготовка которой долгие годы топталась на месте.
В Вашингтоне были приняты протоколы к договорам об ограничении испытаний ядерного оружия и о подземных ядерных взрывах в мирных целях. Тем самым стало наконец возможным ратифицировать договоры, подписанные еще в середине 70-х годов.
Особо подчеркну значимость достигнутого тогда соглашения о мерах против распространения ядерного, химического оружия, боевых ракет, способных нести такое оружие, и соответствующих технологий. Ведь в мире уже тогда было, по крайней мере, полтора десятка стран, способных в недалеком будущем производить ядерное оружие. Без предотвращения этого советско-американские усилия по ядерному разоружению теряли свой смысл.
Отдельно рассматривался вопрос о сокращении вооруженных сил в Европе. Мы с Бушем констатировали, что в этой сфере наметился заметный прогресс. Согласились, что уже к концу года можно собраться на общеевропейскую встречу в верхах и подписать соответствующее соглашение.
Словом, если выделить то главное, что удалось согласовать за эти дни в Вашингтоне и Кэмп-Дэвиде, я бы сказал так: удалось заметно ускорить расчистку грандиозного «порохового погреба холодной войны».
Выступая 12 июня 1990 года на сессии Верховного Совета с отчетом о визите в США, я так определил значение достигнутых в его ходе результатов в продвижении процесса разоружения: «И СССР, и Соединенные Штаты несут свою долю ответственности за то, что послевоенный период принял характер изнурительной и опасной конфронтации, которая истощала ресурсы и деформировала не только экономику, но и все общественное развитие. И беспрецедентно и знаменательно, что именно они, эти две страны, взяли на себя ответственность за то, чтобы по возможности скорее были демонтированы механизмы военного противостояния Востока и Запада в целом, чтобы использова'ть разоружение для высвобождения ресурсов на решение проблем улучшения жизни людей. Если мир изменился за последние годы и продвинулся в сторону настоящего мирного периода, то решающий вклад в это принадлежит СССР и Соединенным Штатам Америки».
В комплексе проблем двусторонних отношений наиболее остро проходили переговоры по поводу заключения торгового соглашения. До самого последнего момента не было уверенности, что американцы согласятся подписать его. Накануне визита в американской печати, в конгрессе громко заявили о себе противники торгового соглашения: Соединенным Штатам, мол, не следует делать Советскому Союзу «экономических подарков» до тех пор, пока он не примет закон о свободе эмиграции и Москва не «отпустит» из СССР Литву, всю Прибалтику.
Что касается первого пункта, в котором речь шла о свободе эмиграции, то здесь больших проблем не возникло. Американской администрации и, конечно, Бушу было хорошо известно, что закон о выездах и въездах прошел в Верховном Совете первое чтение и вскоре будет принят. Этот шаг мы не рассматривали как некую уступку. Он был естественным продолжением политики перестройки, разумеется, с учетом интересов как самих граждан нашей страны, так и интересов государственной безопасности.
Главным камнем преткновения стала Литва. Мне было известно, что на Буша оказывают сильное давление, собственно, он и сам не скрывал этого. Примерно за месяц до начала визита я получил от него конфиденциальное письмо, в котором Буш пытался объяснить мне, в каком сложном положении оказался.
«БУШ. У вас тяжелое положение с Прибалтикой. Но и у нас в этой связи огромные трудности. Поверьте, мне тяжело продолжать проявлять сдержанность в этом вопросе. Я ее проявляю, потому что понимаю, каковы ваши трудности с Литвой. Меня ругают за это и справа, и слева. Ругают за отход от поддержки принципа самоопределения.
ГОРБАЧЕВ. Это похоже на ситуацию в нашей стране. Нас тоже ругают и справа, и слева.
БУШ. Да, это так. Я понимаю, что Ландсбергис бросает вам вызов, провоцирует вас.
ГОРБАЧЕВ. Я иногда говорю: если бы что-либо подобное возникло в США, американский президент решил бы проблему за 24 часа, потому что в вашей стране уважают Конституцию. У нас отношение к Конституции иное. Прежде само руководство страны ее не соблюдало, и никто с ней не считался. Теперь положение изменилось, и приходится учиться уважению к Конституции. Это сложно. Нас почти 300 миллионов человек с разными историями, традициями, привычками.
БУШ. Ландсбергис сравнил меня с Чемберленом. Мне это не нравится. Это неправда. Он критикует меня за то, что я поддерживаю вас, а не великие американские принципы демократии и свободы».
Я хорошо понимал, что Президент Соединенных Штатов, принимая то или иное решение, должен учитывать расклад политических сил внутри страны. Но ведь и у меня были свои проблемы в ситуации с Литвой. Не менее сложные, чем у Буша. Речь не шла о нашем принципиальном отказе признать право Литвы на самоопределение, вплоть до выхода из СССР. Мы настаивали на соблюдении определенной законодательной процедуры и сроках оформления «бракоразводного процесса».
Буш с сочувствием выслушивал мои аргументы, соглашался, что проблемы должны решиться на основе внутренних законов СССР, и он не намерен указывать мне, что и как следует делать. Однако вполне корректно, но настойчиво продолжал гнуть свою линию, доказывая, что без определенных уступок с нашей стороны он при всем желании не может поставить свою подпись под торговым соглашением.
На второй день наших переговоров с глазу на глаз по этому вопросу был момент, когда, казалось, мы зашли в тупик. Тогда я поднялся, давая понять, что это мое последнее слово, и сказал:
— Ну что ж, я высказал вам свои соображения, вы высказали мне свои. Надо делать выбор. Вы выбираете, по-видимому, поддержку Прибалтики и не откликнулись на мои доводы. Я тоже не могу навязывать Президенту США какой-то образ действия. Если сегодня поддержка Прибалтики более важна для Президента США, чем все остальное, я принимаю это к сведению. Будем жить с этим. У меня все. Давайте присоединимся к делегациям.
Но Буш постарался разрядить ситуацию, предложив не ставить сейчас точку и еще раз попробовать найти приемлемое решение завтра, в более спокойной обстановке Кэмп-Дэвида.
В Кэмп-Дэвиде
Кэмп-Дэвид — загородная резиденция Президента США, расположенная примерно в двухстах километрах от Вашингтона. Мы отправились туда на вертолетах, поднявшись с лужайки у Белого дома. С любопытством наблюдали окрестности столицы, где уютно расположились сотни благоустроенных компактных небольших городков. Туда служивый люд отправляется на автомобилях после работы в городе. Президент и его советники выполняли роль экскурсоводов. Вокруг столицы много важных объектов не только регионального, но и национального масштаба. Конечно, нам показали комплекс Пентагона.
По совету хозяев мы прихватили нужную одежду, переоделись и начали знакомство с Кэмп-Дэвидом, объезжая на электромобилях. Место красивое, в лесу. Все для отдыха предусмотрено, много укромных уголков и, конечно, спортивных площадок и сооружений. В Кэмп-Дэвиде я овладел новой игрой — в «подковку», и, думаю, оказался способным учеником. Буш, который очень гордился своим умением играть в «подковку», был страшно удивлен, когда я после небольшой тренировки «поражал» цель.
Этот приезд в Штаты значительно отличался от предыдущего и своей атмосферой, и программой пребывания. Он проходил в другое время, да и хозяева в Белом доме сменились. Это был визит действительно в страну, а не только в столицу, дал нам возможность по-настоящему войти в контакт с Америкой.
Раиса Максимовна и сопровождавшие нас деятели науки и культуры Г.Ягодин, Д.Лихачев, Ю.Рыжов, О.Ефремов, З.Соткилава, М.Плетнев, Б.Рахимова, Л.Арутюнян, Т.Исмаилов, всех я не смогу просто назвать, открыли грандиозную выставку древнерусских рукописей и книг в библиотеке конгресса. Выставка подобного рода проводилась впервые и давала возможность наглядно представить непрерывность русской книжной традиции с XV века и до наших дней — впечатляюще и очень интересно.
Задолго до визита Барбара Буш прислала Раисе Максимовне письмо и предложила в дни визита побывать в Бостоне, чтобы поучаствовать в торжествах, посвященных очередному выпуску в колледже Уэлзли, довольно известном учебном заведении для женщин с преподаванием преимущественно гуманитарных дисциплин. Поездка превзошла все ожидания и вызвала большой резонанс в Америке, а выступления Барбары и Раисы Максимовны транслировались по телевидению. Вернувшись под огромным впечатлением из Бостона, она сказала мне:
— Это было чудесно. Столько молодых лиц, полных энтузиазма. Я на какой-то миг вернулась в свою стихию. И знаешь, американцы сейчас по-другому относятся к нам — с доверием и надеждой.
А в Миннесоте Раиса Максимовна побыла в семье учителя и медсестры. Из ее записной книжки: «Средняя американская семья. Четверо детей. Дом свой — в кредит на 20 лет. Доходы требуют жить экономно: мясо покупают редко — дорого, берут бройлеров, овощи, молоко. Отпуск обычно проводят дома: занимаются ремонтом машины, разной домашней утвари. Детей водят в сад на неполную неделю — дорого. Настроение хорошее. Американцы, как правило, на судьбу не жалуются — свободный человек должен сам искать выход из любой ситуации».
В Сан-Франциско знакомство с Америкой было продолжено через непосредственные контакты с жителями города на улицах, в трамвае, в кафе и закончилось встречей с представителями общества «Друзей Раисы Горбачевой». Тогда и было решено выделять ежегодно две стипендии для обучения молодых женщин из России в Стэнфордском университете.
Мне подарили на память подкову, поскольку я отличился в блиц-соревновании. Когда все закончилось, Джордж пригласил меня на минуту в кабинет и показал там мой «сувенир», который я «подарил» ему на Мальте, — карту с американскими базами, составленную нашей разведкой специально для передачи. В шутку и всерьез сказал мне: все указано правильно, неточности небольшие. Посмеялись. Я сказал:
— Вы о нас тоже знаете не хуже нашего.
После дня общения и продолжительных переговоров по региональным проблемам Буш с легкой улыбкой, но как бы мимоходом сообщил мне, что принял все же решение подписать торговое соглашение. Не могу не сказать в этой связи: Президент Соединенных Штатов сделал тогда мужественный и принципиальный выбор — отдал предпочтение главному в мировой политике и не уступил конъюнктурным, преходящим соображениям.
Все это я по достоинству оценил. В тот момент дело было даже не столько в экономической стороне. Учитывая реальный уровень наших торговых обменов с США, мы не могли практически быстро воспользоваться преимуществами, которые давало соглашение. Главное заключалось в политическом значении этого акта на остром, переломном этапе в Советском Союзе. Это было начало перехода от словесной поддержки перестройки к реальным делам.
Региональные проблемы
Обстоятельно и подробно вчетвером — я, Буш, Шеварднадзе и Бейкер — проговорили все аспекты ближневосточного конфликта. Обнаружили точки соприкосновения в оценках причин периодического обострения ситуации и общей заторможенности урегулирования. При наличии оттенков в подходах, все же и у американской стороны в конце концов проявилось понимание того, что надо брать курс на созыв международной конференции и вместе действовать. Конечно, затрагивался вопрос о расселении иммигрантов из Советского Союза на оккупированных Израилем палестинских землях. Я вновь категорически выступил против подобной политики. Буш заявил, что и США против создания новых поселений за линией 1967 года, то есть на оккупированных Израилем территориях. Это было важное совпадение позиций.
Я сказал: либо в Израиле будет услышана наша совместная озабоченность и там сделают какие-то выводы, либо Советскому Союзу придется обдумать, не следует ли, например, на время отложить выдачу разрешений евреям на выезд из СССР, пока нет соответствующих заверений со стороны Израиля.
У Буша и Бейкера мои слова большого энтузиазма не вызвали, но они согласились, что Израилю следует знать о мнении президентов СССР и США по этому вопросу и действовать рассудительно.
Совершенно в иной, чем прежде, неконфронтационной, я бы сказал даже, «согласительной» тональности обсуждалась афганская проблема. Буш заявил, что США не намерены разыгрывать «афганскую карту» и «не заинтересованы в том, чтобы в Афганистане установился радикалистский режим, враждебный Советскому Союзу». Он изложил в общих чертах свое видение перспективы урегулирования ситуации, которое, надо сказать, в ряде пунктов перекликалось с нашими собственными соображениями. Сводилось оно примерно к следующему: организация и проведение свободных выборов под контролем ООН, формирование на переходный период до выборов коалиционного правительства на широкой основе. При этом Буш заверил меня, что после начала переходного периода США готовы будут прекратить военные поставки моджахедам и начать вывод военной техники и оружия, если Советский Союз и другие страны поступят так же.
Мой ответ был адекватным:
— Наши министры иностранных дел вместе с экспертами уже поработали над этими вопросами. Между нами существует, видимо, взаимопонимание относительно необходимости переходного периода с применением механизма организации и проведения свободных выборов, которые привели бы к формированию правительства на широкой основе. Мы признаем роль ООН в Афганистане в переходном периоде, а также в подготовке и проведении выборов.
Одним из острых вопросов, постоянно муссировавшихся за кулисами переговоров, был статус тогдашнего Президента Афганистана Наджибуллы. Непримиримая оппозиция в самом Афганистане, Саудовская Аравия, Пакистан, влиятельные круги в американском конгрессе требовали немедленного его ухода с политической арены. Такой путь был чреват обострением конфликта, ведь Наджибулла отнюдь не был «марионеткой» в наших руках, как представляли себе некоторые, а имел определенную политическую поддержку и влияние в ряде районов страны.
Из наших контактов мы знали, что он готов подчиниться результатам выборов, но хочет уйти, «сохранив лицо», не примет никаких ультиматумов о немедленной отставке. Я постарался разъяснить все это Бушу и Бейкеру:
— У нас такое впечатление, что Наджибулла готов отойти в сторону, но хочет сделать это только в результате нормального процесса. Нужно что-то такое, что сбалансировало бы ситуацию. Он имеет свои сферы влияния, как и оппозиция.
Буш согласился с моими аргументами.
Было ясно главное: позиция США по афганской проблеме заметно изменилась. Американцы демонстрировали явное желание содействовать урегулированию конфликта. В вопросе об Афганистане СССР и США были теперь скорее партнерами, чем противниками.
Довольно остро, но без всякой враждебности прошло обсуждение обстановки в Латинской Америке. Речь шла прежде всего о Кубе.
— Мы не вправе диктовать Ф.Кастро, как ему вести дела в своей стране. Этого я не делал в отношениях с руководителями Восточной Европы и с кем бы то ни было, — об этой своей позиции я и сказал Бушу. Ему ничего не оставалось, как принять ее к сведению.
Трудно было не признать, что продолжавшаяся помощь кубинцев сальвадорским партизанам создает реальные трудности на пути мирного урегулирования в этой стране.
Буш и Бейкер просили меня довести до сведения Кастро, что начало переговоров о нормализации отношений станет возможным лишь после прекращения ею поддержки повстанцев, воюющих против правительства Сальвадора. Я обещал сделать это и все же посоветовал Бушу побыстрее начать прямой диалог с кубинцами. Опыт показал, что, если с ними вести диалог на равных, они занимают взвешенную и разумную позицию.
Не могу не упомянуть и о совместном советско-американском заявлении по Эфиопии. В нем наши страны продемонстрировали не только общность принципиального политического подхода к урегулированию конфликта в этой измученной голодом и гражданской войной стране, но впервые предприняли вместе гуманитарную акцию — было решено доставлять американское продовольствие советскими самолетами и тем самым хоть как-то облегчить участь голодающих.
3 июня закончилась «переговорная», официальная часть визита в США. Пролетев на вертолетах над Вашингтоном, отправились из аэропорта в Миннеаполис (штат Миннесота).
Средний Запад — это, как у нас говорят, житница Америки, традиционный центр сельскохозяйственного производства. Новое советско-американское соглашение по зерну, настоятельная потребность в радикальной модернизации пищевой промышленности обязывали поближе познакомиться с интереснейшим опытом Америки.
Из аэропорта ехали под дождем. Природный ландшафт Миннесоты напоминает родную среднерусскую природу: ощущение таково, что ты на Орловщине. И окончательно нас растрогало, что, прикрывшись зонтами, газетами, на протяжении десятков километров стояли люди, с энтузиазмом нас приветствовавшие. А когда въехали в город, пришлось двигаться по живому коридору.
После оживленного, какого-то уютного и доброго общения с нашими хозяевами на завтраке, устроенном губернатором штата Миннесота Р.Перпичем и его супругой, мы присутствовали на церемонии открытия советско-американского института глобальных технологий. Здесь американским, советским и европейским ученым предстояло проводить исследования по вопросам общечеловеческого значения — охраны окружающей среды, потепления климата, здравоохранения и т. д.
Затем состоялась встреча с представителями деловых кругов и агропромышленного комплекса Среднего Запада.
Иногда полезно бывает посмотреть на себя со стороны, проверить в дискуссии с оппонентами собственные аргументы и представления. С этой точки зрения встреча в Миннеаполисе дала мне много. Когда от моего монолога перешли к диалогу с присутствовавшими бизнесменами, дискуссия приняла отнюдь не благостный характер. Я остро почувствовал, насколько велик интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов Америки, настолько-же велико и недовольство среди тех, кто уже имел опыт общения с нами, испытал на себе нашу бесхозяйственность, необязательность, запутанность и забюрократизированность принятия решений, всего экономического механизма. Встал, разумеется, и вопрос о гарантиях иностранных инвестиций, о порядке вывоза и реинвестиции капитала, о конвертируемости рубля.
Нас ждали в Сан-Франциско. Тот, кто хоть однажды побывал в нем, не может остаться равнодушным к обаянию и красоте этого города. Спускающийся с холмов к океану, окруженный живописной природой, сочетающий разнообразие архитектурных стилей, впитавший в себя несколько культурных укладов, этот крупнейший на Тихоокеанском побережье порт подкупает своим неповторимым колоритом.
Центральным пунктом программы нашего пребывания на Западном побережье стало посещение Стэнфордского университета. У входа во внутренний двор нас встретили президент университета Д.Кеннеди, давнишний и хороший знакомый Шульц. Состоялась беседа с преподавателями и представителями студенчества, а в заключение я выступил перед многотысячной аудиторией.
Это было обращение к молодым людям — студентам и преподавателям. Их было большинство в зале, но еще больше за его пределами, на улице. «Вам не только созидать новый мировой порядок, но и жить в нем. Наверняка он будет отличаться во многом от того, что мы сейчас можем вообразить, и от того, что я вам сейчас говорю. Но главное, чтобы людям в этом новом мире жилось лучше и свободнее. От людей науки зависит это в огромной степени. Успеха вам в этом великом, не имеющем прецедента предприятии».
В ответной речи Шульц сказал лестные для меня слова. Позволю себе кое-что процитировать:
— Большое спасибо, господин Горбачев, за такое глубокое и важное выступление. Вы буквально зажгли нас. Вы — великий лидер, и величие ваше многообразно. Вы сказали, что формируется новый мировой порядок. Это не просто новый европейский порядок, а воистину мировой порядок. Мы сейчас живем в тот уникальный момент, когда от нас зависит, каким будет будущее. Вы, господин президент, человек-мыслитель, и вам в этом принадлежит огромная роль.
Я также знаю, что вы тот человек, который готов вплотную заниматься будущим. Вы прекрасно знаете, что такое будущее. Мы живем в век информации, поэтому роль информации и знаний возрастает. В этом еще один аспект, символичность прибытия вашей делегации в Стэнфорд.
…В Сан-Франциско мы встретились с представителями крупнейших промышленных и финансовых компаний, видными политическими деятелями Тихоокеанского побережья США. Как и на других подобных встречах, доминировали проблемы безопасности, доверия, партнерства, внутренних преобразований в Советском Союзе.
Нас с Раисой Максимовной ждала встреча с Рональдом Рейганом и Нэнси. Вспоминали встречи в Вашингтоне и Москве, с которых начинались поиски улучшения отношений между СССР и США. Я вручил Рейгану памятную медаль и почетную грамоту Армянской ССР за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Перед тем как расстаться, мы вышли на балкон, и нашему взору открылся великолепный вид на город — радостный, живой белый город Святого Франциска.
По окончании визита в США меня в гостинице «Фермонт» посетил Президент Южной Кореи Ро Де У, прибывший специально из Сеула по нашей взаимной договоренности. Уже тогда было ясно, что нельзя больше (по устаревшим идеологическим мотивам связей с КНДР) воздерживаться от установления нормальных отношений с этой страной, которая продемонстрировала редкостный динамизм, стала заметной величиной в АТР и международном сообществе. Я подтвердил нашу принципиальную позицию в поддержку мирного объединения Кореи. Сказал, что с учетом общего оздоровления политической ситуации в регионе появляется возможность установления дипломатических отношений. После этой встречи отношения с Южной Кореей стали быстро набирать темп.
Короткий визит в Оттаву
Советско-канадские отношения имели для нашей новой политики самостоятельное значение. К сожалению, раньше их явно у нас недооценивали. Руководители СССР и Канады до визита Малруни в Москву в ноябре 1989 года не встречались 18 лет.
Наш первый контакт с Брайаном Малруни имел место в 1985 году во время похорон Черненко. В ноябре 1989 года он приехал с официальным визитом в Москву, и мы с ним основательно познакомились, в спокойной, деловой обстановке обменялись мнениями. Он заявил, что главный замысел его визита в том, чтобы оказать содействие процессу реформ в нашей стране. Это были не просто слова. Недаром же Малруни «привез» с собой в Москву 240 ведущих бизнесменов. В результате были подписаны соглашения и сделки на сумму свыше одного миллиарда долларов. Они охватывали самые различные проекты — от передачи технологии до сотрудничества в строительстве и сельском хозяйстве.
Со свойственным для канадцев стремлением подчеркнуть свою самобытность и отличие от американцев Малруни с энтузиазмом рассказывал мне об особенностях экономической системы Канады, подчеркнув в конце:
— Американцы видят мир просто: свободное предпринимательство, капитализм, американский флаг, «Макдональдс» — и все в порядке… В отличие от США государство в Канаде играет довольно важную роль. Наш путь — смешанная экономика. Этот путь подходит нам и в экономическом, и в политическом отношении. Канадцы не хотят радикально менять свою систему. Они чувствуют себя в безопасности лишь в том случае, если стихия рынка ограничивается государством.
Мне подумалось, что в этом вопросе у нас, пожалуй, больше сходства с канадцами, чем с американцами.
И вот 29 мая 1990 года настал мой черед посетить Канаду с государственным визитом.
Переговоры в столице были насыщенными, хотя и сравнительно короткими. Встретился я также и с бывшим премьер-министром П.Э.Трюдо, бывшим генерал-губернатором Канады Ж.Сове, своим старым знакомым и добрым другом бывшим министром сельского хозяйства Ю.Уэланом.
С членами действующего кабинета мы обсудили вопросы торговли продовольствием, участия Канады в крупных экономических проектах, в частности, в связи с реконструкцией Ленинграда.
Малруни с самого начала выступал за решительное содействие нашим реформам. Это сыграло свою роль в раскладе мнений среди лидеров «семерки». Энергично в том же духе он выступал и на самом заседании в Лондоне. А потом в моей резиденции состоялся дружеский разговор, который окончательно нас сблизил. Говорили о многом, но и тут Брайан не изменил присущей ему деловитости: помимо того, что было обещано сделать «коллективно» в рамках «семерки», он сообщил о мерах экономической поддержки, которые Канада примет сразу же, до конца года. И сдержал слово.
Глава 24. Преодоление раскола Европы
Европейский процесс
В 1989 году, как я считаю, европейский процесс вступил в новую, более динамичную фазу. Это было связано прежде всего с социально-политическими сдвигами в странах Восточной Европы.
Реакцией на глубинные перемены был конструктивный ответ Соединенных Штатов и НАТО на инициативу Варшавского Договора по сокращению личного состава войск в Европе. Я имею в виду брюссельскую декларацию НАТО в мае 1989 года. Впервые крупная разоруженческая инициатива стран ОВД встретила не подозрения и критику с ходу, а серьезный и конкретный ответ. Хотя декларация и оставляла много вопросов, требующих прояснения. В НАТО тогда еще не отказались от стратегии «ядерного устрашения». Философия, лежавшая в основе брюссельского документа, отражала вчерашний день в мировой и европейской политике.
Летом 1989-го, как уже говорилось, я был с визитом в ФРГ, и мы с канцлером Колем сопоставили свои оценки того, как идет европейский процесс, высказались за совместные усилия по преодолению разобщенности Европы. В совместном заявлении перечислялись элементы европейского строительства, которые обе стороны признавали принципиально важными с точки зрения будущего Европы, в том числе такие, как «безоговорочное уважение целостности и безопасности каждого государства», «безоговорочное уважение права на самоопределение народов» (к сожалению, не было должным образом оценено то, что эти две позиции могут противоречить друг другу), энергичное продвижение процесса разоружения и контроля над вооружениями, поэтапное создание структур общеевропейского сотрудничества и т. д. Советский Союз и ФРГ обратились к государствам СБСЕ с призывом включиться в общую работу над будущей архитектоникой Европы.
Такая работа уже шла по многим направлениям. В Париже 23 июня завершился первый этап Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Впервые завязались контакты между НАТО и ОВД, ЕЭС и СЭВ, Европейским парламентом и Верховным Советом СССР. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение предоставить Советскому Союзу статус «специально приглашенного государства». Переданное мне приглашение выступить на заседании ПАСЕ в Страсбурге было логическим результатом такого развития событий.
В своем выступлении в Страсбурге я не стал уклоняться от полемики с теми, кто под преодолением раскола Европы имел в виду «преодоление социализма». Такой линии, подталкивающей к новой конфронтации, я противопоставил политику нового мышления, исходным пунктом которой является признание свободы выбора. Время подтвердило мою правоту: то, что произошло в Восточной Европе, — результат внутренних процессов, а не навязанное извне. Идеологизированный же подход был особенно рискованным и опасным в условиях начавшегося там брожения, сулившего бурный характер перемен. И то, что не всем удалось к переломному моменту в полной мере освободиться от старых стереотипов, сильно осложнило ситуацию.
В страсбургской речи я отверг взгляд на Европу как на арену конфронтации, расчлененную на «сферы влияния» и чьи-то «предполья», как объект военного противоборства, «театр военных действий». Между тем именно такими стереотипами прошлого подогревались подозрения, будто Советский Союз по-прежнему вынашивает гегемонистские замыслы, намерен оторвать США от Европы. А кое-кто даже настаивал отказаться от деголлевского понимания Европы «от Атлантики до Урала», ограничить ее пространством «от Бреста до Бреста». СССР якобы слишком велик для совместного проживания, другие будут чувствовать себя не очень уютно рядом с ним.
— СССР и США, — заявил я, — являются естественной частью европейской международно-политической структуры. И их участие в ее эволюции не только оправданно, но и исторически обусловлено. Хельсинкский процесс уже начал эту большую работу всемирного значения. Вена и Стокгольм вывели его на принципиально новые рубежи. Теперь всем нам предстоит как можно полнее использовать созданные общим трудом предпосылки. Этому служит и наша идея общеевропейского дома…
Раскрытие этой идеи применительно к конкретной ситуации середины 1989 года и было основной темой моего выступления. Речь шла о такой перестройке сложившегося в Европе порядка, которая вывела бы на первый план общеевропейские ценности, позволила заменить традиционный баланс сил балансом интересов, исключить вероятность вооруженных столкновений, саму возможность применения силы или угрозы силы, и прежде всего военной — союза против союза, внутри союзов, где бы то ни было. На смену доктрине «сдерживания» должна прийти доктрина «сдержанности». Выступление перед европейскими парламентариями получило благоприятный отклик.
События, развернувшиеся в странах Восточной Европы осенью 1989 года, по-новому поставили проблему безопасности. Задача создания новых структур безопасности для всей Европы вышла на передний план европейского процесса. Наши дипломатические усилия в тот период были сконцентрированы на переговорах в рамках формулы «2 + 4» по германским делам, на венских переговорах и подготовке совещания руководителей государств — членов СБСЕ. Увязка этих трех направлений позволяла на деле синхронизировать процесс объединения Германии с формированием новой структуры безопасности в Европе. Это было одной из главных тем переговоров, которые я вел летом 1990 года с Бушем, Тэтчер, Миттераном, Андреотти и, конечно, с канцлером Колем. В результате был открыт путь к Парижскому саммиту.
Предложение провести вторую после хельсинкской 1975 года общеевропейскую встречу в верхах, не дожидаясь намеченного для нее срока (1992 г.), было высказано мною в Страсбурге. К этой инициативе сначала отнеслись настороженно, но потом подхватили и включились в подготовку. Правда, Хельсинки-2 остались «на своем месте», то есть их по-прежнему планировали на 1992 год. А решено было провести специальную встречу в Париже, приурочив ее к заключению договора об обычных вооруженных силах в Европе. Она состоялась 19–21 ноября 1990 года. В ней приняли участие главы государств и правительств 34 стран — участниц СБСЕ.
Накануне открытия Общеевропейской встречи в верхах в зале торжеств Елисейского дворца собрались главы делегаций и министры иностранных дел стран — членов НАТО и Организации Варшавского Договора. В торжественной обстановке они подписали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (подготовленный на переговорах в Вене) и Совместную декларацию 22 государств. Было торжественно заявлено, что отныне подписавшие Декларацию государства не являются противниками, будут строить новые отношения партнерства и протягивают друг другу руку дружбы.
Уходила в прошлое эпоха, отмеченная двумя мировыми войнами и почти полувековым ядерным антагонизмом двух военно-политических блоков и общественных систем. Итогом встречи стало принятие документа, получившего название «Парижская хартия для новой Европы», под текстом которого поставил свою подпись каждый из 34 руководителей стран — участниц СБСЕ, а от имени Европейских сообществ — председатель Комиссии ЕС Жак Дэлор.
Помимо подтверждения общих для всех участников СБСЕ принципов Хартия содержала положения о новых структурах и институтах общеевропейского процесса. Решено было создать Совет в составе министров иностранных дел как центральный форум для проведения регулярных политических консультаций; Комитет старших должностных лиц; Секретариат СБСЕ; Центр по предотвращению конфликтов; Консультативный комитет.
Парижская конференция знаменовала новый, постконфронтационный этап международных отношений в Европе. Предстояло ввести в действие (ратифицировать) Договор об обычных вооруженных силах в Европе, провести третий этап Конференции по человеческому измерению СБСЕ, развернуть подготовку к Хельсинки-2.
Но произошли события, к которым изменившаяся во многом Европа оказалась неготовой. Августовский путч в СССР, дезинтеграция страны, а затем и ликвидация Советского Союза, к тому времени ставшего одной из главных опор нового, мироутверждающего баланса в Европе и в мире, междоусобная война и распад Югославии кардинально изменили ситуацию в Европе. Общеевропейский процесс вступил в полосу серьезных испытаний, вновь созданные структуры не успели заработать на полную мощность и накопить опыт, не сумели оказать сколько-нибудь серьезное сдерживающее влияние на возникшие в Европе вооруженные конфликты.
Все-таки усилия в этом направлении предпринимаются. Можно не сомневаться, что совместные действия европейских государств позволят избавить континент от войн. К этой теме я еще вернусь. А пока остановлюсь на двусторонних отношениях с главными актерами европейского процесса в этот период.
Франция: откровенные беседы с Франсуа Миттераном
В декабре 1989 года по инициативе Миттерана у нас состоялась короткая встреча в Киеве. Его интересовала прежде всего моя оценка только что прошедших на Мальте переговоров с Бушем. Вторым крупным вопросом, который мы обсуждали, были события в Германии (Коль только что выступил со своими «10 пунктами» — «нажимной» программой объединения Германии). Не первый раз мы говорили на эту тему, последний такой разговор состоялся по телефону всего за полтора месяца перед встречей в Киеве.
На 20 декабря у Миттерана был запланирован визит в ГДР, и его интересовала моя оценка хода событий.
«Ситуация противоречива, — сказал Миттеран. — Конечно, когда народ проявляет сильную волю, высказывает ее, трудно это не учитывать. Точно так же трудно не учитывать то, что граница между двумя Германиями — это не то же самое, что граница, разделяющая разные народы.
С другой стороны, в Европе никто не хочет, чтобы на континенте произошли глубокие пертурбации в результате объединения Германии, которое неизвестно что принесет. Нам надо совершенствовать свое сообщество на западе континента. Вы должны увидеть, как дальше пойдет дело в странах, входящих в Организацию Варшавского Договора. И естественно, мы должны все вместе работать над дальнейшим углублением общеевропейского процесса. База европейского развития — решения совещаний общеевропейского характера. Необходимо добиться того, чтобы общеевропейский процесс развивался быстрее германского вопроса, обгонял немецкое движение. Мы должны создать общеевропейские структуры. А германский компонент должен быть одним из элементов европейской политики… Это не только моя точка зрения. Так думают практически все европейцы. Они считают, что мы должны вместе идти вперед, чтобы минимизировать германскую проблему. Я не боюсь воссоединения Германии. Но надо, чтобы оно проходило демократически и мирно.
Я сделал, признаюсь, замечание нашим немецким друзьям, выразив удивление по поводу того, что они, выдвигая свои соображения, не упомянули о границах с Польшей. Это — серьезная проблема».
Я согласился с Миттераном, так как наш подход был таким же в отношении перемен и на Востоке, и на Западе. И в том, что касается новой ситуации в германском вопросе.
Он должен рассматриваться в контексте общеевропейского процесса, найти в нем свое место.
К германскому вопросу мы с Миттераном вернулись во время его визита в Москву в мае 1990 года. Восприятие этой острой проблемы в нашем обществе, в том числе и мое собственное, претерпевало быструю эволюцию. Если еще пару лет назад я считал практическое решение этого вопроса делом будущего, то теперь стремление немцев в обеих частях Германии к воссоединению страны стало таким мощным, что надо было это учитывать, чтобы не сорвался весь европейский процесс.
Вопрос был не в том, чтобы блокировать объединение, а в том, как, какими темпами, на каких условиях этот процесс будет идти. Как он отразится на ситуации в Европе, к каким последствиям приведет с точки зрения интересов безопасности нашей и общеевропейской. Этот вопрос задавали себе не только в Москве, но и в Варшаве, Праге, Брюсселе, Гааге, Лондоне и в других столицах. И конечно, в Париже.
Несмотря на официальную поддержку со стороны НАТО и ЕЭС, отношение к тому, что происходило в эти месяцы в Германии, было весьма неоднозначным. Об этом я могу судить на основании моих личных встреч со многими западноевропейскими политиками.
Суммируя мои тогдашние впечатления, можно сказать так: большого энтузиазма не испытывал никто, в разных странах были разные представления о том, какими методами и в каких масштабах следует реагировать на происходящее.
На определенном этапе у меня возникло ощущение, что Бонн форсирует процесс объединения при поддержке США, пытаясь поставить остальных перед лицом свершившихся фактов.
Миттеран довольно ясно дал понять, что, по его мнению, в сложившихся условиях ставить вопрос о неучастии объединенной Германии в военно-политических союзах или об одновременном участии в НАТО и ОВД — дело малоперспективное.
Едины мы были в том, что в качестве условий воссоединения должно быть обязывающее заявление германской стороны о нерушимости восточных границ объединенной Германии, ее однозначный отказ от всяких притязаний на обладание ядерным, химическим и другими видами оружия массового уничтожения, а также нераспространение зоны действия НАТО на территорию ГДР и неразмещение здесь натовских войск.
В ходе проявилось общее понимание необходимости синхронизировать насколько возможно развитие общеевропейского процесса и германского объединения.
Миттеран, пожалуй, как никто другой, остро чувствовал необходимость форсировать общеевропейское сотрудничество в этот переломный период. Мне особенно импонировала его способность подняться выше сиюминутных проблем и заглянуть за политический горизонт, широко и масштабно очертить перспективы. Тонкий аналитик, он трезво оценивал не только позитивные, но и потенциально опасные последствия головокружительных темпов перемен в Восточной Европе.
Мы оба исходили из того, что в любом деле, а в политике особенно, опасно разрушать старое, не создавая одновременно нового. Обвальный характер крушения коммунистических режимов в Восточной Европе, роспуск Варшавского Договора, а затем и СЭВ породили новые проблемы, о которых тогда мало кто задумывался.
Стремясь разом перечеркнуть прошлое и начать жизнь, что называется, с новой страницы, многие из политиков, пришедших к власти на волне демократических перемен, готовы были вместе с водой выплеснуть и ребенка. В то время как Западная Европа шаг за шагом продвигалась по пути углубления интеграционных процессов, в восточной части континента развернулись центробежные тенденции. Шел стремительный разрыв традиционных связей — политических, экономических, торговых. Лозунги национального возрождения с удивительной быстротой трансформировались в национализм и сепаратизм. Словно из небытия всплывали старые территориальные споры и претензии. Уже стоял перед глазами пример Югославии и Нагорного Карабаха. Вовсю шли разговоры о разделе Чехословакии. Венгрия и Румыния готовы были силой выяснять отношения из-за Трансильвании. Появился лозунг «великой Румынии», включающей территорию Молдавии.
Я сказал Миттерану, что для меня все эти факты являются свидетельством возникновения новых источников напряженности, дополнительным аргументом в пользу того, что с реализацией планов общеевропейского сотрудничества следует спешить. Если не канализировать процессы в рамках общеевропейской кооперации и общеевропейских структур, то в скором времени мы можем столкнуться с опасной ситуацией. Попросил конкретизировать выдвинутую Миттераном идею «европейской конфедерации», поделиться соображениями о том, как можно ее перевести в план практической политики.
Обмен мнениями убедил, что не только анализ ситуации, но и концептуальные наши подходы в основном совпадают.
«МИТТЕРАН. Перед завтрашней Европой может возникнуть несколько опасностей. Первая — страны Восточной и Центральной Европы достаточно слабы. Каждая из них может вступить на путь поиска неупорядоченных соглашений или же оказаться в трагической изоляции. Вторая опасность — развал многих из этих стран, а в результате дробление всей Европы, превращение ее в хаос государств, из которых ничего не слепишь.
У вас в СССР и еще больше в Югославии тоже дают себя знать центробежные тенденции. Необходимо любой ценой продумать создание структур, которые позволили бы удержать все эти движения, предложить им иной выход из положения.
В целом я за то, чтобы придать активную жизнь структурам СБСЕ в духе Парижской хартии. Считаю, что в этом плане имеет место отставание. Развивая общеевропейский процесс, мы должны быть благоразумными. Иначе возродятся старые расколы. Ведь существуют традиции, история, идеологии.
Вы предложили прекрасное выражение — общеевропейский дом. Этот дом должен включать всех, без изъятия. Там надо говорить и об окружающей среде, и о технологии, экономике, культуре, а затем мы логично перейдем к политике. Европейские сообщества начинались с экономического объединения, но теперь мы говорим обо всем. Это хороший пример.
Я употреблял понятие «конфедерация». Можно, конечно, предложить что-то другое. Но иметь общее учреждение, общую структуру надо. И если даже потребуется девять лет для того, чтобы от отдельных переговоров перейти к такой структуре, то это совсем не так долго. Может быть, мы с вами пустим поезд, а другие встретят его на вокзале.
ГОРБАЧЕВ. Мне кажется очень важной ваша мысль о роли наших стран. Она верна не потому, что мы с вами сидим здесь, завтра нас не будет, но роль двух стран останется. По существу, на всем протяжении последних лет, когда мы размышляли о Европе от Атлантики до Урала, наши страны, их политика внесли большой вклад в развитие этих идей. Я хочу подчеркнуть одно: ситуация, возникшая на континенте в связи с новыми обстоятельствами, порождает особую актуальность, даже неотложность дальнейшей разработки общеевропейской идеи и ее трансформации в политику.
Очень важно сделать так, чтобы глубокие и сложные процессы в Европе, утверждающиеся здесь новые тенденции разворачивались по этапам, не приобретая хаотических форм. Если бы это случилось, возникли бы серьезные опасности. Именно поэтому разработка общеевропейской идеи стала столь важной.
Судя по нашему собственному опыту, опыту перестройки, функционированию наших политических институтов, могу сказать: ничто не обходится так дорого, как отставание в разработке политики. Это лишь еще одно подтверждение того, что налицо императивы, которые надо воспринять и трансформировать в сотрудничество».
Тема, которая постоянно присутствовала в наших беседах с Миттераном, — это будущее Советского Союза. В октябре 1991 года Франсуа и Даниэль Миттеран пригласили меня и Раису Максимовну заехать по пути из Мадрида к ним в загородный дом на юге Франции, в Лаче. Это у самой границы Испании, в нескольких километрах от Бискайского залива. Около 30 лет назад супруги Миттеран приобрели несколько гектаров леса и крестьянский дом, построенный в XVII веке, обосновались здесь. Мы поняли, как им нравятся эти места, как близки им люди, живущие по соседству (с некоторыми они нас познакомили). Приехали уже к вечеру, заночевали. Было, конечно, застолье, местные блюда, вино, камин, дружеские беседы.
С президентом в тот вечер мы проговорили несколько часов в «кабинете» — небольшом, уютно обставленном деревянном домике. На этот раз больше всего говорили о моей стране. Она переживала трудный период, когда после путча дезинтеграция достигла опасных масштабов. Хотя еще была надежда, что удастся через возобновление ново-огаревского процесса сохранить союзное государство, решительно его реформировав. Я рассказал президенту о сложностях на пути к новому Союзному договору, охарактеризовал позицию республик. Изложил аргументы, почему для меня неприемлема форма самоопределения через выделение из Союза. «Это — путь к конфликтам и катастрофам».
В принципе мне была известна точка зрения Миттерана на этот счет. Он неоднократно давал мне понять, что в интересах Франции было бы иметь дело с реформированным, демократическим, но целостным Союзом. Но говорил об этом обычно очень осторожно, несколько даже витиевато. На этот раз Миттеран отбросил дипломатические экивоки. Говорил четко, ясно, рублеными фразами. Чувствовалось, что это не экспромт, а хорошо продуманная, выношенная позиция:
— Я рассуждаю, — чеканил он, — совершенно холодно: в интересах Франции, чтобы на востоке Европы существовала центральная сила.
Любой распад целостности на Востоке несет нестабильность. Вот почему мы не хотим и не будем поощрять сепаратистские амбиции.
Я за то, чтобы за 2–3 года ваша страна восстановилась на федеративно-демократической основе. Это наилучший выход для всей остальной Европы.
Вы, господин Горбачев, руководствуетесь соображениями патриота своей страны. Я в данном случае исхожу из констатации исторической логики в развитии нашего континента.
…Наутро, за завтраком, мы вновь вернулись к теме, которую я бы назвал «Европа и Россия». Это был мой последний официальный визит во Францию в качестве Президента СССР, и сказанное тогда Миттераном надолго останется у меня в памяти.
Уже прощаясь, Миттеран задержал мою руку в своей и, глядя в глаза, произнес:
— Повторяю, я убежден, что Европа сформируется. Вся наша политика нацелена на то, чтобы содействовать как можно скорее достижению этой цели. Если это произойдет не так быстро, как хотелось бы, то возникнет ситуация, последствия которой Европа будет ощущать на себе веками.
Я уверен и в том, что Европа будет формироваться вместе с вами. Когда я выдвинул идею европейской конфедерации, меня тотчас же во Франции стали расспрашивать: «Как вы собираетесь создавать это вместе с коммунистической Россией?» Я отвечал: «Да, вместе с Россией, причем России самой решать, какой будет ее дальнейшая судьба».
…Что же, действительно, каждый выбирает свою судьбу сам. Когда 14 декабря Миттеран вновь позвонил мне и я рассказал ему о решениях, принятых в Беловежской пуще, он помолчал и наконец спросил: «Как же такое могло произойти, если была договоренность о заключении нового Союзного договора?»
«Вы, конечно, вправе задать такой вопрос: что же это у меня за партнеры, которые не видят очевидной опасности, отбрасывают уже согласованные позиции и решения, простите меня, ведут себя как разбойники с большой дороги?» Это все, что я мог ему тогда сказать.
Мы попрощались, договорившись держать друг друга в курсе событий. Россия и теперь уже бывшие республики бывшего СССР перевернули страницу в своей истории.
В течение семи лет мы поддерживали с президентом Франсуа Миттераном регулярный, весьма содержательный диалог. Я насчитал 17 личных встреч с глазу на глаз. Плюс к этому объемистая переписка и многочисленные телефонные разговоры.
Известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал: самая большая роскошь на земле — это роскошь человеческого общения. Судя по моему опыту, общение далеко не с каждым собеседником — роскошь. Но Миттеран стал для меня не только партнером в политике, но и человеком, которого я глубоко уважаю. В трудную минуту он мог, например, позвонить и сказать: «Я вам звоню, чтобы просто засвидетельствовать: мы — ваши друзья и поддерживаем вашу позицию».
Разумеется, Миттеран прежде всего политик. Политик, что называется, с большой буквы. Его отличают широта взглядов и дальновидность, понимание глубинных интересов своей страны, мужество и гибкость в проведении избранной линии, умение учитывать меняющуюся реальность и считаться с интересами других.
Англия: продолжение диалога и новые лица
На британском направлении продолжение контактов в «послемальтийский» период тоже было отмечено обоюдной тревогой в связи с начавшимся объединением Германии. Еще в октябре Тэтчер прислала мне письмо, в котором информировала о своей встрече с Колем. Спустя несколько дней я принял в Москве нового министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хэрда.
— Зная взгляды премьер-министра и ваши высказывания, — сказал я Хэрду, — могу констатировать, что наши позиции по германскому вопросу очень близки. Нам надо ускорить создание новых структур безопасности в Европе и синхронизировать его с процессом объединения Германии. Тогда мы сможем смотреть по-другому и на само объединение.
Хэрд отреагировал на это в конструктивном духе:
— Советский Союз и Великобритания могли бы объединить свои усилия по трем крупным направлениям: действия в рамках формулы «2 + 4», Венские переговоры и перспективы проведения в конце этого года совещания на высшем уровне стран — членов СБСЕ.
Собеседник перевел разговор на ситуацию с Литвой. Он сказал, что встречался с Тэтчер вскоре после нашей с ней беседы по телефону и, по его впечатлению, она была расстроена. Видимо, предположил я, госпожа премьер-министр пришла к такому выводу в связи с моим замечанием, что возможности для маневрирования сужаются. Об этом она сообщила Бушу, который сразу же прислал мне тревожное письмо. Я обрисовал Хэрду всю сложность создавшейся ситуации. Сказал, что будем проявлять максимум гибкости, действовать ответственно. Но мы обязаны руководствоваться мандатом Третьего съезда народных депутатов, который очертил рамки возможного компромисса.
Говоря о положении в стране в целом, я информировал Хэрда, что намерен искать пути радикализации экономической реформы. Подчеркнул, что мы стоим перед необходимостью сжать переходный период. Кто знает, сколько для того потребуется времени — месяцы, год, полтора?..
В июне 1990 года Тэтчер приехала в Москву с рабочим визитом. Прошло всего несколько дней, как я вернулся (5 июня) из поездки в Соединенные Штаты и Канаду. Итоги визита явно произвели на нее большое впечатление: она и начала с того, что поздравила меня по поводу «чрезвычайно успешной встречи» с Бушем. Действительно, переговоры с Президентом США сняли ряд взаимных озабоченностей, в том числе и тех, которые мы не раз обсуждали с Тэтчер.
Остальная часть беседы была посвящена в основном внешним аспектам германской проблемы. Тэтчер рассказала о своей встрече (накануне) с Бейкером — они обсуждали ситуацию в Европе в контексте германского объединения. Отметила актуальность создания европейских структур безопасности, роль процесса СБСЕ. Я как бы размышлял вслух о проблемах европейской безопасности, возникших в связи с объединением двух германских государств. Реакция Тэтчер меня обнадежила, укрепила уверенность в том, что решение, которое бы устраивало всех, может быть найдено.
Последняя встреча с Тэтчер в бытность ее еще премьер-министром состоялась в Париже в моей резиденции 20 ноября, во время общеевропейского совещания. Много говорили о ситуации в Персидском заливе. Накануне мы обсуждали эту тему с Бушем, и Тэтчер «одобрила» наши размышления. Отвечая на мой прямой вопрос, призналась, однако, что не верит в возможность политического решения и считает применение военной силы неизбежным. Поэтому она высказалась за то, чтобы новая резолюция Совета Безопасности (о чем у нас был разговор с Бушем) была сформулирована возможно более жестко. Даже посетовала, что американцы «несколько осторожничают». Конечно, говорили, как всегда, о положении в Советском Союзе. Тэтчер не скрывала своей обеспокоенности: как опытный политик она видела подстерегающие нас опасности. Прощаясь на ступеньках у выхода из моей резиденции, тихо произнесла: «Благослови вас Господь!»
В отсутствие Тэтчер проводились перевыборы лидера консервативной партии, и Тэтчер не получила в первом туре необходимого большинства. Она говорила мне, что у нее есть враги. За одиннадцать с половиной лет у власти нельзя, мол, не нажить врагов. Но, похоже, не собиралась сдаваться. Получив в Париже сообщение о результатах голосования, заявила журналистам: вот, мол, вернусь и покажу им! Но вернувшись в Лондон, объявила о своей отставке. Это был благородный шаг. Тем не менее я воспринял его с огорчением.
В конце ноября она прислала мне «прощальное» письмо. Я ответил ей дружеским посланием. Позволю себе привести здесь два ее письма ко мне, связанные с ее уходом.
Послание премьер-министра Президенту М.С.Горбачеву
Уважаемый господин Президент!
Вероятно, к тому моменту, когда Вы получите данное послание, Вы уже услышите заявление, сделанное сегодня утром на Даунинг-стрит, 10, о моем решении освободить место для преемника и подать в отставку с поста премьер-министра, как только парламентская фракция консервативной партии завершит необходимую подготовку к избранию нового лидера партии. Разумеется, я останусь во главе правительства до тех пор, пока не будет назначен мой преемник.
Мне хотелось бы поблагодарить Вас за то великолепное сотрудничество, которое установилось между нами, и большую дружбу, которую Вы проявляли по отношению ко мне в течение всего периода, когда мы с Вами занимали свои должности и когда так многое было достигнуто, и я шлю Вам самые горячие, добрые пожелания на будущее. Я знаю, что мой преемник будет, как и я, придавать самое большое значение отношениям между нашими странами.
Я рада, что мы смогли провести свою последнюю встречу в Париже, и шлю Вам самые лучшие пожелания успеха в осуществлении тех великих реформ, которые Вы проводите. Мы будем по-прежнему следить за Вашими успехами с огромнейшим интересом.
Дэнис вместе со мной выражает Вам и Раисе Максимовне самые теплые чувства и шлет самые добрые пожелания.
Искренне Ваша,
Маргарет ТЭТЧЕР
Дорогой Михаил Сергеевич,
Я чрезвычайно благодарна, получив от Вас теплое и великодушное послание. С Вашего визита в Чекерс в декабре 1984 года до самого последнего нашего разговора в Париже я помню каждую нашу встречу, которые были чрезвычайно интересны и имели практические результаты. Я верю, что мы вместе действительно внесли вклад в изменение нашего мира. А Ваш собственный вклад является поистине выдающимся. Я разделяю Вашу надежду, что мы сможем и впредь при случае встречаться. Дэнис присоединяется ко мне, посылая Вам и Раисе Максимовне наши самые теплые пожелания.
Искренне Ваша,
Маргарет ТЭТЧЕР
Мы встретились спустя полгода, в мае 1991 года, когда Тэтчер приехала в Москву — уже в качестве частного лица. Она выступила с лекцией в Институте международных отношений, общалась со студентами, с молодежью. Живо интересовалась обстановкой в стране, задавала много вопросов. Речь зашла о позиции Запада, о «семерке>>, возможности моего участия в лондонской встрече. Тэтчер обещала использовать свое политическое влияние, связи в пользу положительного решения.
На посту лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании проявился большой политический талант Тэтчер. Более того — в масштабах своей страны ей было «тесновато». Стремясь утвердить свою роль в мировой политике, она, надо сказать, сделала много полезного в поддержку нашей перестройки. Конечно, она понимала ее по-своему, как перетягивание Советского Союза на западные позиции, как советский вариант «тэтчеризма». Но искренне хотела нам помочь, мобилизовать усилия Запада для содействия перестройке. А в дни августовского путча подняла голос в защиту демократии и Президента СССР, его семьи.
Нельзя отрицать ее заслуг перед своей страной. Она застала ее в ситуации перманентного отставания от других крупных в западном мире государств. И сумела существенным образом изменить положение Великобритании внутри и вовне. Однако жесткие методы Тэтчер, свойственный ей авторитаризм раздражали даже ее окружение, не говоря уже об оппозиции, приводили к конфликтам. Мне казалось, что с нею могли работать лишь те, кто готов был безропотно мириться с ее стилем и характером. Ее авторитарность проявлялась и во внешней политике, в ее склонности к силовым методам. В кризисных ситуациях она выступала за военные санкции. Даже после ухода из правительства иногда вдруг доходила информация, что она выдвигает идею бомбовых ударов. Эта жесткость проявилась особенно рельефно в ее подходе к кризису в Персидском заливе, о чем я уже упоминал.
Так что для нас Тэтчер была непростым партнером, особенно принимая во внимание ее яростный антикоммунизм, который иногда мешал ей смотреть на вещи более реалистично. Хотя во многих случаях она могла иллюстрировать свои обвинения фактами, которые мы потом сами стали подвергать переоценке и серьезной критике. В общем, защита интересов Запада, его ценностей нашла в ее лице сильного адвоката. В ней много сохранялось от старой Англии, как мы, русские, привыкли это себе представлять, — приверженность традициям, прочным, испытанным ценностям. Во время официальных встреч она была очень- внимательна, вежлива. А когда мы узнали друг друга ближе, то, несмотря на различия во взглядах и политические споры, в ее отношении ко мне, Раисе Максимовне проявлялась настоящая человеческая теплота.
Премьер-министром Великобритании в ноябре 1990 года стал Джон Мейджор — представитель нового поколения политиков. Наше первое знакомство было телефонным: 23 февраля 1991 года я позвонил ему, чтобы информировать об ответе иракского руководства на предложения по урегулированию кризиса в Персидском заливе. Поблагодарив за информацию и прокомментировав ее, Мейджор сказал, что ожидает предстоящей встречи в Москве (договоренность об этом была достигнута заранее), чтобы продолжить диалог, начатый у нас с Тэтчер.
Спустя две недели Мейджор приехал в Москву с рабочим визитом, и состоялось первое наше очное знакомство. За несколько дней до этого закончились военные операции союзных сил в Персидском заливе. Международое сообщество пережило кризис, ставший серьезным испытанием для новых критериев в мировой политике. Перед поездкой в Москву Мейджор встретился с Бушем и Колем. Поэтому переговорам с ним я придавал большое значение: важно было устранить возможное недопонимание с Западом в новых условиях.
Я изложил мотивы нашей позиции в связи с кризисом в Персидском заливе. Подчеркнул, что с самого начала с огромной ответственностью отнесся к тому, как все будут действовать в Заливе. Слава Богу, к этому времени уже была некоторая степень доверия между политиками.
Поступила конфиденциальная информация, признался я Мейджо-ру, что некоторые люди начали в тот момент поговаривать, не пора ли пересмотреть отношения с Горбачевым. Главная задача для меня была в том, чтобы уберечь достигнутое нами в международных делах, в советско-американских отношениях. И мне, и президенту Бушу приходилось испытывать огромное давление. Хорошо, что нам удалось до конца остаться на позициях взаимопонимания. Никому, в том числе и Хусейну, не удалось вбить клин между нами. Это — огромное достижение!
При обсуждении проблем, связанных с подготовкой договора о 50-процентном сокращении СНВ, я отметил положительную роль заявления Англии о необходимости договора. Собеседник затронул положение в Прибалтике, упомянув о том, что январские события, по его словам, «вызвали огромное чувство разочарования во всей Западной Европе». Мне пришлось в связи с этим сказать:
— Европа, очевидно, придерживается весьма избирательного подхода. Она молчит, когда гибнут люди в Средней Азии, в конфликте между осетинами и грузинами. А события в Прибалтике вызывают обостренную реакцию. Получается двойной стандарт, деление людей на первый и второй сорт.
Думаю, мне удалось передать собеседнику ощущение огромного психологического напряжения, которое я испытывал в те месяцы. Он сказал, что прекрасно понимает меня. Выразил удовлетворение состоявшимся обменом мнениями конкретно по Прибалтике. Чуть позже, когда мы продолжили беседу за завтраком с участием Раисы Максимовны и Нормы Мейджор, я обрисовал нашу общую ситуацию в экономике и политической сфере. Он высказывал интересные соображения, касающиеся опыта приватизации в Англии, сложностей перехода к рыночному хозяйству, роли управления экономикой в переходный период. В общем, получилась содержательная и полезная беседа.
Советско-английский диалог вступил в довольно интенсивную фазу. Вскоре в Москву вновь приехал Хэрд, и мы продолжили работу, начатую в ходе визита премьер-министра. После нашей встречи с Мейджором прошло всего две недели, но за это время в Советском Союзе произошел ряд крупных событий, важнейшим из которых, несомненно, явился референдум 17 марта. Комментируя его итоги, я обратил внимание министра на то, что фактически это означало одобрение Союзного договора, проект которого к тому времени был опубликован. Хэрд расценил организацию и проведение референдума как большое достижение.
— Многие журналисты, издатели и редакторы на Западе, и в частности в Великобритании, пытаются «переписать», переиначить нашу политику, — сказал он. — Уже сейчас на свой лад «перетасовывают», переделывают Советский Союз. Мы не участвуем в подобных упражнениях. Не стремимся к подрыву ваших планов или вашего политического курса. Конечно, имеется ряд проблем, которые вызывают у нас озабоченность. Однако нам никогда не придет в голову претендовать на то, чтобы решать их за вас. Даже если абстрагироваться от интересов СССР, западные страны нуждаются в сохранении Советского Союза как государства. Распад страны имел бы самые негативные последствия для нас, нарушил бы упорядоченное развитие и наших собственных стран.
Италия: надежный партнер и в трудные времена
В конце июля 1990 года Джулио Андреотти посетил Москву. Инициатива исходила от него, но она целиком отвечала и моему желанию. Нашей встрече предшествовал ряд важных событий: мой визит в Соединенные Штаты и встреча с Колем в Москве и Архызе. Приветствуя Андреотти как старого и доброго партнера, я сказал:
— Мы уже осенью прошлого года понимали, что столкнемся в Европе с развитием гораздо более динамичным, особенно в связи с ситуацией в Германии. Чрезвычайно важно, несмотря на все трудности, этот процесс канализировать. Не думаю, что все нам удалось, как хотелось, но главное в том, что у всех европейцев — в том числе и у Миттерана, и у Тэтчер и, естественно, у нас с вами — сохраняется такое понимание. В нынешней обстановке это дает нам возможность как-то удерживать события «в узде».
Андреотти рассказал о том, как проходила встреча в Хьюстоне, где (по уже имевшейся у меня информации) проявилось нечто новое, что сближало европейцев и Советский Союз. Итальянский премьер, в сущности, подтвердил это. Встреча, сказал он, «была по-настоящему насыщена политическим содержанием. Центральной проблемой было отношение к вашей политике, перестройке, ее значению для мирового развития».
Разговор о Хьюстоне вывел нас на обсуждение того, как Запад мог бы поддержать перестройку в конкретном плане — политическом, экономическом, финансовом, торговом. Я посвятил Андреотти в наши ближайшие планы по переходу к рынку. Не скрывал огромных трудностей. Совершая такой поворот, мы испытываем необходимость в страховочных механизмах.
Обрисовав сложившуюся в обществе ситуацию, я поставил вопрос, который попросил изучить и дать ответ:
— Мы хотели бы получить от Италии несвязанный кредит, аналогичный тому, который нам предоставила ФРГ. Во-вторых, речь идет о совместной акции европейцев и американцев — выделении 15–20 миллиардов долларов для решения проблем, связанных с переходом к рынку. От этого будет зависеть, какие шаги мы сможем сделать.
Выслушав меня, Андреотти заявил, что еще больше утвердился в необходимости скорейших и решительных шагов со стороны Сообщества и Италии. Мы понимаем, добавил он, что фактор времени приобретает сейчас решающее значение.
В канун Общеевропейской встречи в Париже (в подготовку которой итальянское руководство внесло очень большой вклад) я совершил однодневный рабочий визит в Рим. Предстояло подписать Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Италией — первый такого типа договор с натовской страной, — а также ряд других документов. Кроме того, мне должны были вручить международную премию, присужденную в 1990 году генеральным советом фонда «Фьюджи».
Среди других подписанных документов следует выделить экономические соглашения.
Начало 1991 года по многим причинам оказалось особенно сложным в дипломатическом плане. Поэтому понимание, которое я встретил со стороны итальянских партнеров, было большой поддержкой.
В мае мы вновь встретились с Андреотти в Москве. Отталкиваясь от нашей внутренней ситуации и с прицелом на «семерку» в Лондоне, я поставил вопрос о новых формах сотрудничества с Западом, об определенной синхронизации наших действий с западными партнерами. Если этого не произойдет, то, очевидно, и выбор наш должен быть другим. В общем, настаивал я, нужен разговор в рамках «семерки», Европейского сообщества.
Для себя я отметил, что Андреотти не только согласился с моими выводами, но и выразил готовность действовать. Он заявил о полной поддержке приглашения СССР (в форме, которая подлежала согласованию) на лондонскую встречу. Чувствовалась, что Андреотти всерьез обеспокоен возможным усилением негативных тенденций в Европе. Его настораживала ситуация в Югославии, за которой он уже угадывал нечто большее, чем локальный конфликт.
— Мне представляется неприемлемым ужасный парадокс, с которым мы можем столкнуться, если столь позитивные события, связанные с преодолением старых режимов и началом строительства демократической жизни, приведут к процессам распада государств в Европе. Это будет поистине страшная вендетта старых демонов.
Спустя два месяца, 18 июля, мы вновь увиделись в Лондоне в неофициальной обстановке. Присутствовали Де Микелис, другие официальные лица с итальянской и нашей стороны. Я сердечно поблагодарил за поддержку в «марафоне» к встрече «7 + 1». («Без вашего вклада могло бы и не хватить сил. В Лондоне положено доброе начало».) Отметил значение предоставленной нам Италией финансовой помощи. Обсудили некоторые текущие вопросы двусторонних и международных отношений.
События, однако, развивались так, что нашим планам не суждено было осуществиться.
Северная Европа: восприимчивость к переменам. Финляндия
Так уж распорядилась история, что общественный климат в этой части Европы оказался более восприимчив к переменам в международных делах. Знаменательно, что хельсинкский процесс начался здесь. Знаменательно, что крупный шаг в развитии этого процесса — принципиальная договоренность о мерах доверия — был сделан в другой северной столице — Стокгольме. Рейкьявик стал символом надежды, что ядерное оружие не вечно и человечество не обречено жить под этим дамокловым мечом.
С именами известных политических деятелей Северной Европы связаны крупные инициативы в вопросах международной безопасности и разоружения. Это Урхо Кекконен. Улоф Пальме, гибель которого глубоко меня потрясла. Калеви Сорса, на протяжении многих лет возглавлявший Консультативный совет Социнтерна по разоружению.
Финляндии принадлежит особое место в налаживании международных связей по критериям нового мышления. Советско-финские отношения носили в течение всего послевоенного периода уникальный характер. Это во многом объясняется тем, что Финляндия сумела сохранить себя вне рамок «холодной войны». А советскому руководству хватило здравого смысла не провоцировать и не втягивать ее в конфронтацию между Западом и Востоком. В результате наши отношения являли собой как бы модель мирного существования в его первоначальном варианте и своего рода образец отношений между большой страной и малой — соседями, находящимися в разных социально-политических системах.
Мне никогда не нравился термин «финляндизация». В нем присутствовал некий намек на то, что Финляндия вроде бы не до конца свободна в своей международной политике, вынуждена постоянно «оглядываться на Москву». Что сказать на это? Довоенная история советско-финских отношений очень непроста. Финляндия была первой из провинций царской России, получившей после Октябрьской революции полную государственную независимость. Это произошло в декабре 1917 года, спустя месяц с небольшим те же люди, которые подписывали акт о признании независимости Финляндии, не могли удержаться от искушения, чтобы не поддержать «красным штыком» начавшуюся в этой стране революцию.
В 20-е и 30-е годы идиллии тоже не наступило. И виной тому не только сталинская дипломатия. В одном из своих выступлений во время моего визита в Финляндию в октябре 1989 года президент Мауно Койвисто публично признал, что в тот период и «со стороны Финляндии не прилагалось больших усилий для развития отношений между двумя странами». Печально известная «зимняя война» 1939/40 годов не была, конечно, «оборонительной» со стороны Советского Союза. Одним из следствий ее было то, что в июне 1941 годов Финляндия вступила в войну против нас на стороне Гитлера.
В 1948 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Именно в этом документе были заложены основы дружественных, доверительных отношений.
Несмотря на отнюдь не благостное прошлое, а временами даже жестокую вражду, русские и финны сумели извлечь из истории необходимые уроки. Так что известный парадокс «история нас учит тому, что она нас ничему не учит» верен не всегда.
Мы впервые встретились с президентом Койвисто в Москве через несколько месяцев после моего избрания на пост Генерального секретаря — в сентябре 1985 года. Это не был официальный визит, скорее короткая рабочая встреча, где мы оба подтвердили обоюдную линию на дружбу и доверие между нашими странами.
Официальный визит Койвисто состоялся в начале октября 1987 года.
За несколько дней до приезда Койвисто в Москву я совершил поездку по северным районам страны, выступил в Мурманске с конкретными предложениями по радикальному снижению уровня военной активности на Севере в целом — как в Восточном, так и в Западном полушарии.
К этому времени мы уже демонтировали в одностороннем порядке пусковые установки ракет средней дальности на Кольском полуострове и большую часть таких ракет на остальной территории Ленинградского и Прибалтийского военных округов. Было принято решение об ограничении военных учений во всех районах, близких к нашим северо-западным границам.
В Мурманске я предложил вновь вернуться к идее, выдвинутой в свое время Президентом Финляндии Кекконеном, — о создании безъядерной зоны в Северной Европе. Причем мы были готовы пойти достаточно далеко, в частности, в качестве первого шага вывести из состава Балтийского флота подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами. Сказал я и о нашем позитивном отношении к инициативе Койвисто об ограничении военно-морской активности в прилегающих к Северной Европе морях и распространении на них мер доверия. Среди таких мер, по моему мнению, могли быть договоренности об ограничении соперничества в противолодочном оружии, уведомлении о крупных учениях ВМС и ВВС.
Мы придавали большое значение мирному сотрудничеству по освоению ресурсов Севера, Арктики, международной кооперации в деле охраны здесь окружающей среды. В Мурманске мною было сказано, что при определенных условиях мы могли бы открыть Северный морской путь для иностранных судов. Словом, смысл моего выступления был в том, чтобы призвать и страны Северной Европы, и Запад, США вести дела в этом регионе таким образом, чтобы климат здесь определялся теплым «Гольфстримом» общеевропейского процесса, а не полярным дыханием накопившихся подозрений и предрассудков.
В беседе с Койвисто я обратил внимание на то, что мое выступление в Мурманске было своеобразной подготовкой к его визиту в Москву:
«ГОРБАЧЕВ. В речи в Мурманске мы учли вашу мысль — она нам представляется очень важной — о том, что процесс разоружения не должен сопровождаться наращиванием вооружений на морях.
КОЙВИСТО. Это очень опасно. К сожалению, на Западе многие действительно стремятся увеличить количество ядерных и обычных вооружений в других районах при сокращении их на Европейском континенте. В свое время я с ужасом читал высказывания американского адмирала Уоткинса о том, как намерен действовать флот США в кризисных ситуациях в морских районах. О том, какими поэтапно будут его действия по уничтожению, скажем, советского ядерного оружия обычным оружием. И это был не просто какой-то адмирал, а начальник штаба ВМС США. Я высказал на этот счет свое удивление в беседах с Кроу — председателем Объединенного комитета начальников штабов США, Шульцем и некоторыми другими американскими представителями. Они отвечали, что не надо к этому относиться серьезно. Но как же не относиться серьезно? Ведь человек, высказывающий эти мысли, занимает такой пост!
Мне понятно, что представители различных видов вооружений стараются таким способом получить из бюджета дополнительные средства, причем именно на развитие своего оружия. Американцы на переговорах проявляют готовность сокращать ракеты наземного базирования. Но надо видеть и другое. У Запада есть беспрепятственный доступ во все моря мира. С нашей точки зрения, наибольшую опасность представляет рост морских вооружений. А их становится все больше и больше.
Новые советские инициативы встретили положительный отклик во многих странах мира. Все народы хотят мира, хотят избавиться от страха. Но процесс этот трудный, долгий, болезненный. Тем не менее я убежден, что у вас хватит терпения.
Прошло 24 года, как Кекконен высказал идею безъядерной зоны на севере Европы. Она тогда нашла слабый отклик на Западе. Да и сейчас США относятся к ней отрицательно. Но народы Севера широко поддерживают идею создания здесь безъядерной зоны. Это естественно.
ГОРБАЧЕВ. МИД СССР дано поручение продумать шаги, чтобы предложения, выдвинутые в Мурманске, продвигались в плоскость реальной политики. Мы видим, как Мурманск вскрыл настроения в самых различных кругах. Есть первая реакция северных стран, в целом позитивная. Но есть и реакция Запада. В Америке она сдержанная и мало что обещает. Мы не ждали аплодисментов. Но главное, чтобы завязался диалог. Подумаем, и вы подумаете, что можно сделать. С интересом будем рассматривать любые предложения. Мы намерены держать эти вопросы постоянно в поле зрения».
Мой ответный визит в Финляндию состоялся 25–27 октября 1989 года. Это был очень насыщенный встречами и переговорами визит, запомнившийся мне. Проезжая по улицам, общаясь с незнакомыми людьми, я не мог скрыть удивления — финны ли это, — настолько эмоционально, бурно нас приветствовали. Особенно запомнилась в этом смысле поездка в университетский город в Центральной Финляндии Оулу — открытостью, простотой, добросердечием десятков тысяч людей, встречавших нас на площади Ратуши, в самой ратуше, в университете.
Внутренние проблемы Советского Союза заняли большое место в беседах с финскими руководителями. Финнов интересовало буквально все. Койвисто откровенно сказал мне:
— Нам требуется ясность — в случае осложнений у нас должна быть одна политическая линия, в случае успеха вашего курса — другая.
Собеседников особенно интересовали два сюжета, и мотивы пристального внимания к ним были мне понятны. Первый был тесно связан с перспективами развития торгово-экономических связей с СССР, на который приходилось около 60 процентов финского экспорта. Второй непосредственно затрагивал судьбу региона, с которым Финляндия традиционно имела близкие связи. Речь шла о Прибалтике, и прежде всего об Эстонии. По этому вопросу и президент, и премьер-министр Х.Холкери заняли взвешенную позицию.
В политическом отношении своеобразной кульминацией моего визита в Финляндию стало подписание советско-финляндской Совместной декларации. Это был неординарный документ международного значения: крупнейшее ядерное государство, «сверхдержава», член одного из двух главных военных союзов, с одной стороны, и относительно небольшое нейтральное государство Северной Европы — с другой, заявили о своей решимости действовать совместно во имя укоренения в межгосударственных делах принципов свободы выбора, демократизации и гуманизации отношений, примата международного права, верховенства общечеловеческих интересов. И призвали к этому другие страны и народы.
В документе содержалась важная мысль: в современных условиях нейтралитет не означает ни безразличия к происходящим в мире процессам, ни пренебрежения обязательствами и ответственностью, которые каждый член мирового сообщества принимает на себя, вступая в цивилизованное общение с другими государствами.
В дни пребывания в Финляндии мы с Раисой Максимовной еще ближе познакомились с Мауно Койвисто и его супругой. Запомнился вечер, который мы провели в уютной гостиной вчетвером — при свечах. Много говорили… и обо всем! О собственности вообще и на землю в частности. О заработках и ценах. Об условиях жизни президента и нагрузках, которые он несет. Жена Койвисто, в прошлом известная журналистка, теперь больше занята протокольными делами и гуманитарными вопросами.
Но особенно их интересовало, что происходит у нас, какие надежды на успех. Оказалось, почти каждый вечер смотрят телепередачи из СССР. Роль переводчика выполняет президент. И тут жена президента призналась, что она, наблюдая за нашими политическими баталиями, всегда согласна со мной, на моей стороне. А потом спросила меня: как я все это выдерживаю, откуда берутся силы? Вопрос оказался неожиданным. Я ответил: наверное, надо благодарить родителей — исконных крестьян, Раису Максимовну, разделившую со мной все, что выпало на мою долю. И, наконец, я верю в свой выбор.
Нобелевская премия мира
В октябре 1990 года Комитет по Нобелевским премиям принял решение присудить мне премию мира. Это решение вызвало у меня, откровенно говоря, смешанные чувства. Конечно, было лестно получить одну из самых престижных международных премий, которой до меня были удостоены такие выдающиеся люди, как Альберт Швейцер, Вилли Брандт, Андрей Сахаров. Я получил много поздравлений — от своих коллег, соотечественников и из-за рубежа.
Но отношение в советском обществе к Нобелевским премиям, особенно за общественно-политическую деятельность, было, мягко говоря, специфическим. Как известно, присуждение премий по литературе Пастернаку и Солженицыну произошло при обстоятельствах, которые выдвигали на первый план их диссидентство. И расценивалось у нас как антисоветская провокация. Исключением, правда, было присуждение Нобелевской премии по литературе Шолохову. А в общем, серьезно воспринимались, причем лишь в академических кругах, только премии за достижения в области точных и естественных наук.
Все это сказывалось на оценке присуждения Нобелевской премии мне: она была далека от цивилизованной, достойной. К тому же в этот период крайне обострилась ситуация в стране. Нападки на меня усиливались с разных сторон. Соответственно Нобелевская премия была оценена как демонстрация прямого одобрения моей деятельности со стороны тех, кого значительная часть общественного мнения считала выразителями «империалистических» интересов Запада. Но поразительно, что по этому случаю особенно злобствовали в руководстве Российской Федерации.
В этот момент я не счел возможным лично принять участие в церемонии вручения премии, происходившей в Осло 10 декабря. Поручил эту миссию тогдашнему первому заместителю министра иностранных дел Анатолию Ковалеву (в порядке исключения такая процедура допускалась). Он зачитал мое благодарственное слово и от моего имени принял премию.
Согласно установившемуся порядку Нобелевскому лауреату полагалось выступить с лекцией — сразу при вручении премии или позднее, но в пределах ближайших шести месяцев. Я получил приглашение выступить с такой лекцией в первой декаде мая 1991 года. Между тем политическая ситуация внутри страны еще более осложнилась, особенно после январских событий в Вильнюсе и Риге. На меня посыпались обвинения и дома, и за рубежом. Обыгрывался и факт присуждения Нобелевской премии мира: некоторые даже заявляли, что это было «ошибкой», Комитет должен «пересмотреть» свое решение и т. п. В этих условиях я, несмотря на напоминания, несколько раз откладывал решение о поездке в Осло. Рассчитывал поехать в начале мая, но не удалось. Должен признаться, до сих пор испытываю чувство неловкости из-за того, что такая ситуация могла быть воспринята как неуважение к Нобелевскому комитету. Но постепенно созрело решение: воспользоваться его международной трибуной, чтобы еще раз изложить свое кредо роли перестройки и нового мышления для нас и всего человечества.
С нобелевской лекцией я выступил в Осло 5 июня 1991 года. Конечно, попытался прежде всего загладить неловкость, возникшую из-за затяжки с выступлением. Подчеркнул, что воспринимаю решение Комитета как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен к политике нового мышления, как акт солидарности с громадностью дела, которое уже потребовало от нашего народа неимоверных усилий, затрат, лишений, воли и выдержки.
Мой исходный тезис состоял в том, что современное государство достойно солидарности, если проводит и во внутренних, и в международных делах линию на соединение интересов своего народа с интересами мирового сообщества. А это сложнейшая задача, ее решение требует соединения политики с нравственностью. Перестройка позволила нам открыться миру, вернула нормальную связь между внутренним развитием страны и ее внешней политикой. Но давалось это непросто. Народу, убежденному, что политика его правительства всегда отвечала делу мира, мы предложили во многом другую политику, которая действительно служила бы миру, но расходилась с привычными представлениями о самом этом мире, с устоявшимися стереотипами.
«Мы хотим быть понятыми» — этими словами начиналась моя книга о перестройке и новом мышлении. И на первых порах представлялось, что это уже происходит. Но мне хотелось вновь повторить эти слова, повторить со всемирной трибуны. Потому что понять нас по-настоящему — так, чтобы поверить, — оказалось непросто. Слишком грандиозные были перемены. Масштабность преобразований страны и их качество требовали основательного размышления. Тех, кто выставлял условие: мол, поймем и поверим, когда вы, Советский Союз, станете полностью похожими «на нас», я должен был предупредить: это бессмысленно и опасно. Использование опыта других — да, мы это делаем и будем делать. Но это не значит стать точно такими же, как другие. Наше государство сохранит свое «лицо» в международном сообществе. У многоязычной страны, уникальной по межнациональному взаимопроникновению, культурному разнообразию, по трагичности своего прошлого, величию исторических порывов и подвигов ее народов, — у такой страны свой путь в цивилизацию XXI века, свое место в ней. Да и невозможно «выпрыгнуть» из собственной тысячелетней истории, которую, кстати говоря, нам самим предстояло еще основательно осмыслить, чтобы взять в будущее только правду о ней.
Мы, говорил я, хотим быть органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими ценностями, по нормам международного права, соблюдать «правила игры» в экономических связях с внешним миром. Нести бремя ответственности со всеми народами за судьбу нашего общего дома. Но наша демократия рождалась в муках. На шестом году перестройка вступила в самую драматическую полосу. Уже пролилась кровь. Поэтому я предупредил: от правильной оценки того, что происходит в Советском Союзе на данном этапе, очень многое зависит и в мировой политике. Сейчас и на будущее. «Приблизился, — сказал я, — может быть, самый решающий момент, когда мировое сообщество, прежде всего государства, обладающие большими возможностями влиять на ход событий, должны определиться по отношению к Советскому Союзу, причем в реальных действиях».
В те месяцы многое в стране должно было решиться для создания предпосылок выхода из системного кризиса. Конкретные задачи, с этим связанные, виделись мне на трех главных направлениях:
— стабилизация демократического процесса на основе широкого общественного согласия и нового государственного устройства нашего Союза как подлинной, свободной, добровольной федерации;
— интенсификация экономической реформы в сторону создания смешанной рыночной экономики на основе новой системы отношений собственности;
— решительные шаги к открытости страны в мировую экономику через конвертируемость рубля, признание цивилизованных «правил игры», принятых на мировом рынке, через вступление в члены Мирового банка и Международного валютного фонда.
Все это требовало разговора на «семерке» и в Европейском сообществе, какой-то совместной программы действий на ряд лет. И означало также, что необходимость перехода к новой фазе сотрудничества должны осознать обе стороны. От этого зависел успех наших реформ, от этого зависела реальная возможность продвижения к новому мировому порядку, к цивилизации XXI века.
Заключил лекцию следующими словами: «В присуждении мне Нобелевской премии я увидел понимание моих намерений, моих устремлений, целей начатого глубокого преобразования страны, идей нового мышления, признание вами моей приверженности мирным средствам реализации задач перестройки. За это я признателен членам Комитета и хочу их заверить: если я правильно оцениваю их мотивы, они не ошиблись».
Поездка в Осло дала возможность возобновить контакты с Гру Харлем Брундтланд — премьер-министром Норвегии, лидером Норвежской рабочей партии, видной деятельницей Социнтерна. Состоявшаяся беседа охватила и наши двусторонние отношения, и широкий круг международных проблем. Мы пришли к выводу, что у нас много общего в их понимании.
Подчеркнув нашу общую, совместную ответственность за обеспечение безопасности на севере Европы, за управление процессами в рамках природоохранительного, экономического, культурного, другого сотрудничества, Брундтланд высказалась за то, чтобы придать ему дальнейшее развитие в рамках Парижской хартии для новой Европы.
Норвегия, сказала Брундтланд, озабочена тем, чтобы сделать процес СБСЕ более структурно развитым, более институциализированным. И стремится принимать активное участие в создании новой европейской архитектуры. Я предложил подумать о каком-то постоянном механизме обсуждения северной проблематики с участием министров иностранных дел.
Мы затронули тему — о нашей интеграции в мировую экономику. Брундтланд повторила то, о чем заявила ранее в Париже: Норвегия активно поддерживает идею Любберса в отношении европейской хартии по вопросам энергетики. Мы были согласны с этой идеей, более того, начали заниматься ею вполне предметно. Поддержал я и предложение создать какой-то форум, на котором обсуждались бы во взаимосвязи вопросы развития экономики, энергетики и охраны окружающей среды. По мысли Брундтланд, такое обсуждение помогло бы найти подходящую модель смешанной рыночной экономики, которая сработала бы как надо.
Мы покинули Осло, но этот город в сиреневом цвету (столько сирени я не видел нигде и никогда) стоит перед моими глазами.
На следующий день, по приглашению премьер-министра Швеции Ингвара Карлссона, я прибыл в Стокгольм. Мы нанесли визит вежливости королю Швеции Карлу XVI Густаву.
С Карлссоном мы провели обстоятельные переговоры. Они начались беседой в узком составе, посвященной в основном ситуации в Прибалтийских республиках. Премьер-министр счел нужным объяснить довольно эмоциональное восприятие этой ситуации в Швеции; я, со своей стороны, изложил нашу принципиальную позицию.
Карлссон говорил о том, как ему видится роль Швеции на международной арене, о системе совместной безопасности. Швеция, сказал он, готова всеми средствами способствовать созданию новой системы безопасности в Европе. Но этот процесс не должен ограничиваться только Европой. Впереди главные проблемы — преодоление нищеты и бедности третьего мира.
Незадолго до моего визита, в конце апреля, в Стокгольме по предложению Карлссона собрались около 30 известных политических деятелей, ученых из разных стран, чтобы обсудить перспективы развития мира. Центральной темой дискуссии стал вопрос о том, как надо реформировать ООН, чтобы эта организация смогла лучше выполнять свою роль в будущем. В этой связи Карлссон попросил меня высказать свое мнение о будущей роли ООН.
Я охотно откликнулся на это. Пожалуй, впервые ООН, благодаря изменениям в международных делах, оказалась в такой среде, что могла играть свою изначально запрограммированную роль. Оказалось, что ООН необходима и для Соединенных Штатов, которые к ней ранее особо не благоволили. Через ООН уже удалось решить много сложных проблем — как при посредстве генерального секретаря, так и с помощью Совета Безопасности, всей организации.
Поэтому, сказал я, мы в принципе поддерживаем общую позитивную направленность стокгольмской инициативы, касающуюся повышения эффективности этой уникальной международной организации. Вместе с тем я высказался за то, чтобы проявить определенную сдержанность в плане реформирования ООН. Я считал, что надо дать этой организации возможность еще показать себя, имея в виду прежде всего такие сферы приложения усилий, как регионы мира, отстающие от общего развития.
Воспользовавшись случаем, сказал, что с определенной дозой критичности отношусь к деятельности «семерки», так как она пытается как бы вытянуть из ООН группу наиболее экономически сильных государств. Гармонизируя свои интересы, не возводят ли они стену между своей группировкой и остальными, государствами — членами ООН? И зачем придумывать какой-то новый институт, когда он уже есть, существует. Это — ООН, организация демократическая, центр, где встречаются интересы всего международного сообщества.
Договорились с Карлссоном продолжать обмен мнениями.
Испанский мотив в новом мышлении
Испания и Россия расположены на противопо- ложных сторонах Европы и во многих отношениях разительно отличаются друг от друга — по географическим условиям, климату, характеру своих народов и т. д. Но в истории наших стран есть поразительные параллели. В период средневековья нашим народам пришлось вести многовековую борьбу против чужеземного ига, завершившуюся примерно в одно время образованием сильных централизованных государств.
Испании и России выпала в чем-то сходная роль в эпоху великих географических открытий. Носители духа искателей и первооткрывателей, испанцы шли на Запад, россияне — на Восток. Отважные испанские мореходы достигли далеких берегов Америки, а затем вышли на ее западное, Тихоокеанское побережье. Примерно в то же время русские землепроходцы с не меньшим упорством продвигались за Урал, к берегам Тихого океана, а затем пришли на Аляску и, двигаясь на юг, оказались в пределах испанских владений, в Калифорнии. Круг замкнулся: от Форт-Росса до Сан-Франциско рукой подать. Так вдали от Европы произошла встреча представителей двух европейских народов. Это была мирная встреча, закрепленная живыми человеческими контактами.
И Испания, и Россия знали периоды подъема и упадка, национального величия и национального унижения. В памяти наших народов запечатлелись кровавые драмы иноземных нашествий. Наши страны сотрясали революции и гражданские войны. Но никогда мы не вели войн друг с другом. В тяжелые для Испании годы гражданской войны 1936–1939 годов зародилась взаимная расположенность испанцев и советских людей, и она сохранилась, несмотря на длительный разрыв в период господства франкистского режима.
Став членом НАТО, Испания во внешней политике сохранила важные особенности. Средиземноморское направление в значительной степени определяет круг ее интересов и связей. Она пользуется большим влиянием в Латинской Америке, поддерживая «привилегированные» отношения со странами этого континента. Все это придает особый вес Испании как самостоятельному фактору в европейской и мировой политике.
Когда мы взяли курс на перестройку, опыт Испании, опыт перехода от тоталитаризма к демократии, оказался для нас особенно интересен. Прежде всего тем, что Испании удалось преодолеть тяжелое наследие гражданской войны и достичь национального согласия — необходимого условия политической стабильности и экономического прогресса. С 1982 года правительство Испании возглавили социалисты, а председателем правительства стал лидер социалистической партии Фелипе Гонсалес.
Впервые я встретился с Гонсалесом в 1985 году накоротке. А в мае 1986 года, когда он посетил Советский Союз с официальным визитом, у нас состоялся продолжительный, искренний, глубокий разговор, положивший начало очень важному для меня, думаю, и для нас обоих, диалогу, который мы продолжили в последующие годы. Гонсалес задавал много вопросов по нашей внешней политике. Позднее он так вспоминал об этом разговоре:
— Мне было важно знать цели СССР на международной арене по линии Восток — Запад и т. д. Тем не менее не знаю, заметили ли вы, уже тогда для меня было главным не это. Я видел и понимал, что внешнеполитический курс взаимозависим с вашей внутренней политикой. Понимал, что внешняя политика должна соответствовать курсу внутри страны. Именно поэтому меня предельно интересовала ваша концепция перестройки.
Это был многочасовой, энергичный, страстный диалог. Я к нему не раз потом возвращался мыслью, думая о проблемах своей страны, значении обмена опытом, советско-испанском факторе, о Европе и о третьем мире, перспективах цивилизации. В Гонсалесе я видел одного из представителей нового поколения лидеров Социалистического интернационала, подлинного демократа, человека с большим кругозором, способного видеть противоречивую сущность явлений, рассматривать все в движении. Все это определило характер наших личных отношений.
Наша следующая встреча произошла, к сожалению, только через четыре года, когда мне удалось совершить долго откладывавшийся визит в Испанию. С 1986 года мы довольно регулярно обменивались посланиями. Кроме того, все больше активизировались контакты между официальными представителями двух стран, а также по парламентской и общественной линии. В марте 1989 года я принял министра иностранных дел Испании Фернандеса Ордоньеса, передавшего мне новое личное послание Гонсалеса. Ознакомившись с посланием председателя испанского правительства, я констатировал совпадение наших подходов по проблемам сокращения стратегических вооружений, глобального запрещения и ликвидации химического оружия.
Ордоньес заверил меня, что Испания — надежный партнер для Советского Союза, на нее можно смело положиться.
Визит в Испанию
Президентский самолет приземлился в мадридском аэропорту. Оказалось, что гостей до резиденции везут в «роллс-ройсе» старой модели.
Мы расположились в нем, и машины двинулись в Мадрид. С любопытством смотрим на все, что встречается на пути. Так всякий раз, когда попадаешь в страну впервые. Пригороды Мадрида застроены домами современной индустриальной архитектуры и очень похожи на наши. Но как красива и неповторима старая часть столицы: Пласа Майор, дома с портиками, Дворец кортесов, Королевский театр, памятник Дон-Кихоту.
Наша резиденция в Пардо: когда-то дворец для королевской охоты, потом резиденция Франко, а после реконструкции — резиденция для высокопоставленных гостей.
После официальной церемонии встречи у дворца Пардо состоялась краткая беседа с Хуаном Карлосом I. Я был глубоко тронут радушным приемом. Король заверил, что в Испании сознают, какое напряженное и ответственное время переживает наша страна.
— Здесь, — сказал он, — вы встретите людей, которые искренне хотят оказать помощь Советскому Союзу. — Упомянув о предстоявшей беседе с председателем правительства, король подчеркнул, что главный вопрос будет один: чем может Испания помочь Советскому Союзу в этот переломный для его истории момент.
Я и до личного знакомства знал о достоинствах и заслугах монарха современной Испании. Королева София в феврале 1990 года посетила Москву как гостья Верховного Совета СССР.
Королева произвела на Раису Максимовну глубокое впечатление своими познаниями в культуре и искусстве, а также желанием поближе узнать, оценить увиденное в Москве. Знакомясь с нашей столицей, она обнаружила большой интерес к тому, как люди живут, одеваются, питаются. Запомнились ее некоторые суждения: «По печати, у вас уже катастрофа, но я не могу с этим согласиться». «Какие газеты вы читаете?» — спросила ее Раиса Максимовна. Оказалось, «Московские новости». В метро, от которого она была в восторге, королева поинтересовалась, какую цену платят за проезд, а узнав, сказала, что в этом случае ей понятны жалобы на недостаток финансов. Королева продолжала удивлять и в других вопросах. Она читала Маркса и считает, что для своего времени он точно и талантливо проанализировал условия жизни людей. Добавила, что для общества неприемлемы резкие социальные контрасты.
Самым насыщенным событием первого дня визита стала беседа с Гонсалесом. Поскольку на следующий день, 27 октября, в Риме должна была открыться сессия Европейского Совета, Фелипе попросил меня со всей прямотой сказать: что может сделать Испания, что может сделать лично он в Риме, чтобы обеспечить поддержку Сообщества реформам в Советском Союзе?
«Сделать так, чтобы римская встреча встала на позиции Гонсалеса!» Посмеялись. Но у меня были веские основания для такой «формулы». Опыт нашего общения позволял мне видеть в Фелипе политика, который лучше других понимает суть происходящего в Советском Союзе.
Конечно, я дал развернутый анализ ситуации в нашей стране. Изложил, в чем она срочно нуждается: кредитование импорта для отраслей, работающих непосредственно на потребительский рынок; кредитование модернизации, прежде всего легкой и пищевой промышленности; несвязанные кредиты, чтобы покрыть образовавшуюся задолженность. Ознакомил его с ближайшими планами по созданию нормальных, общепринятых в мире условий для взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инвесторами и фирмами.
Значительная часть беседы носила, если можно так выразиться, философский характер: мы говорили о соотношении рынка и социалистических ценностей, о смысле социалистической идеи. Я рассказал Гонсалесу, что в одном из писем мне Пьер Моруа (позже, в сентябре 1992 года, он стал президентом Социнтерна) выразил обеспокоенность относительно судьбы социализма. Я ответил ему так же, как отвечал критикам внутри страны: социализм — это не тот казарменный тоталитарный режим, который мы прежде называли «социализмом». Для меня социализм — это движение к свободе, развитие демократии, поиск лучших форм жизни, обеспечивающих возвышение человеческой личности, реализацию социальной справедливости.
Гонсалес подхватил эту тему. Видимо, считал важным поделиться со мной своими размышлениями на этот счет. Он начал со ссылки на известного писателя, лауреата Нобелевской премии Октавио Паса, которого левые силы в Латинской Америке считали правым — он всегда выступал против коммунистической системы. Но, заметил Гонсалес, у него есть социальная совесть. Думаю, Гонсалес в такой форме хотел передать и собственную позицию: провал коммунистической системы не означает, что проблемы, вызвавшие к жизни такую попытку их решения, исчезли сами по себе. Они требуют ответа в духе социальной справедливости.
— Смешивая идеологический и политический анализ, — продолжал он, — мы в течение многих лет — и ответственность за это несем в определенной степени все — абсолютизировали противостояние между капитализмом и социализмом, в значительной степени искусственно, поддерживали такой антагонизм. Многие мои коллеги по партии, — сетовал Гонсалес, — долгое время отказывались понять, что рыночная экономика — это инструмент для достижения главных целей социалистов. Именно инструмент, но не сама цель. Рынок вовсе не синоним демократии.
— В Испании, — не без гордости заметил Гонсалес, — за 80-е годы мы сумели обеспечить три основных социальных института для всех без исключения граждан. Я бы сказал, что нам удалось выполнить великие цели социализма XX века: мы дали бесплатное здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение каждому гражданину. Добились этого для нашего общества впервые. Если, — добавил он, — сегодня какой-либо политик в Испании скажет избирателям, что собирается приватизировать эти три вида социальных услуг, он обречен на политическую смерть.
Недопустимо смешивать подлинные цели социализма и методы их достижения, подменять одно другим — так мы констатировали совпадение взглядов. То, о чем мы говорили, в сущности, затрагивало проблему смешанной экономики, смешанного общества. Именно такой тип общества преобладает ныне в Западной Европе, хотя соотношение рыночных и нерыночных факторов разнится от страны к стране. Я подтвердил, что подготавливаемый нами план экономической реформы, предусматривающий и реформирование отношений собственности, направлен на замену тоталитарной государственной собственности смешанными формами.
Гонсалес сформулировал очень точно:
— Худшей ошибкой, которую только можно совершить, является стремление навязать единообразное понимание какого бы то ни было политического проекта, политической идеи. Это ведет к искушению тоталитаризма, и проект превращается в религиозную догму.
— Тогда этот проект становится схемой, действительно догмой, — поддержал я эту мысль, — и тут конец диалектике, конец научному анализу, а значит, и разумной политике.
Остро обсуждался вопрос о будущем Союза. По его высказываниям я мог убедиться, насколько внимательно он следит за развитием внутриполитической ситуации у нас, как основательно разбирается в сложных вопросах взаимоотношений между центральным правительством и местными — республиканскими и автономными — властями, как хорошо представляет себе наши трудности. Видимо, здесь сказалось то, что в государственном устройстве обеих стран просматривались некоторые аналогии. Испания — это государство автономий, там несколько автономных областей со своими правительствами: Каталония, Андалусия, Страна Басков и другие. И хотя, как признал Гонсалес, он не испытывает такого давления со стороны автономных сообществ, какие приходилось испытывать центру у нас, все же с проблемой разграничения полномочий сталкивается постоянно. Испанцы провели децентрализацию существовавшей при Франко жесткой центральной власти. Но при этом она сохранила достаточно мощные рычаги, гарантирующие общегосударственное единство и способность центральных властей нести ответственность по международным обязательствам, например в ЕС.
В высказываниях Гонсалеса сквозила большая тревога, да он и не скрывал ее: что станет с Советским Союзом, сохранится ли союзное государство? Он дал понять, что в политических кругах Запада нарастает ощущение неясности при решении вопросов экономических отношений: с кем им придется иметь дело в будущем, с единым государством или с множеством самостоятельных партнеров? Поэтому его вывод был определенен: какова бы ни была внутренняя реформа в Советском Союзе, он должен оставаться единым субъектом международных отношений. По его словам, трудно было бы представить себе худшую ситуацию для всех, если произойдет дезинтеграция Союза. Это привело бы к разрушению складывавшейся инфраструктуры взаимоотношений Восток — Запад, имело бы крайне негативные последствия для европейского строительства, стабильности в мире, начавшегося разоруженческого процесса.
Я подробно информировал Гонсалеса о том, как мы решаем задачи реформирования структур власти в условиях нашего многонационального государства, об особой сложности и специфике этих задач в наших условиях. Сообщил, что незадолго до отъезда в Мадрид руководство всех республик получило мою записку с приложенным к ней проектом нового Союзного договора. Суть реформы Союза состоит в уходе от унитарного государства к суверенным республикам при эффективном центре, который, видимо, получит выражение в президентском варианте демократической структуры государственности.
— Своего рода территориальный пакт, то есть пакт между территориями, входящими в единое государство, — отреагировал Гонсалес.
— При том понимании, — уточнил я, — что наши национальные территориальные формирования будут иметь положение суверенных государств, добровольно объединяющихся в Союз. — Мы пришли к общему пониманию по этому вопросу.
Одним из важнейших событий первого дня визита стало посещение генеральных кортесов (парламента). Председатель конгресса депутатов Ф.Понс произнес очень теплую и содержательную речь. Затем слово было предоставлено мне. Я говорил о роли и месте Европы на новом этапе мирового развития, об ответственности европейцев за то, чтобы не был упущен открывшийся шанс.
Король Испании и королева София дали официальный обед. В тот день мне приоткрылось то, что я знал по рассказу других, — великолепный дар Хуана Карлоса I объединять людей разных взглядов и состояний.
Королевская чета пригласила нас на ужин во дворец Сарсуэла — личную резиденцию короля. Здесь мы познакомились с их сыном Фелипе, дочерьми Кристин и Элен. Для нас было интересно почувствовать тот внутренний мир, в котором живет семья короля Испании. Редко выпадают такие встречи, как в тот вечер под Мадридом. Было приятно отметить неподдельный интерес молодых людей к переменам в Советском Союзе, к нашей семье. Охотно они делились рассказами о своих занятиях. Гостеприимство располагало к продолжению беседы, но мы не забывали, что в гостях у короля и королевы.
Во дворце Монклоа — резиденции главы испанского правительства, где проходили официальные переговоры, — состоялось подписание совместных документов. Была принята Советско-испанская политическая декларация. Наши представители подписали также целый пакет документов по конкретным направлениям сотрудничества.
Из других важных событий визита отмечу встречи с генеральным секретарем ИКП Хулио Ангитой, с профсоюзными лидерами Испании — Антонио Гутьерресом (Рабочие комиссии) и Николасом Редондо (Всеобщий союз трудящихся).
Итоги официальной части визита мы с Гонсалесом подвели на совместной пресс-конференции.
Гонсалес высказался развернуто. Перестройка, сказал он, «с моей точки зрения, имеет один особый аспект. Речь идет о преодолении моделей конфронтации, поиске общей основы сосуществования для всего мира. Этот проект, этот советский план означает новую эпоху в международных отношениях. И наша страна заинтересована в политическом и экономическом успехе этой программы с тем, чтобы мы могли создать общие ценности, которые позволят нам жить вместе… Да, я социалист. Есть либералы, есть консерваторы. Пускай они остаются такими, но я хотел бы со всеми разделять ценности, о которых я говорил: свободу личности, свободу коллективов людей и свободу народов».
Волнующим событием стала встреча с учеными, преподавателями и студентами двух мадридских университетов, присвоивших мне звание почетного доктора.
Утром того же дня в студенческом городке университета «Комплу-тенсе» был открыт Институт советской науки и культуры, созданный этим крупнейшим в Европе университетом. Раиса Максимовна передала в дар институту библиотеку русской и советской литературы.
После официальной церемонии проводов, проходившей в королевском дворце Пардо, мы направились в Барселону. Там нас встречал наследник престола принц Астурийский Фелипе и председатель автономного правительства Каталонии Жоржи Пужоль. Пребывание в этом втором по величине городе Испании было недолгим. Но и здесь местные жители устроили нам самый горячий прием.
Фелипе Гонсалес в Москве
Следующая моя встреча с премьер-министром Испании произошла в первой декаде июля 1991 года в Москве.
Гонсалес был серьезно обеспокоен последствиями кризиса в Персидском заливе и событиями в Югославии, остро поставил вопрос об ответственности Европейского сообщества, о трудностях, связанных с выработкой единой политики, в том числе в отношении югославского кризиса. Рекомендовал на предстоявшей встрече с Бушем (который вскоре должен был прибыть в Москву) основательно обсудить ситуацию в Восточной Европе, дать Президенту США представление о реальном положении дел там.
Это вновь вернуло нас к международным делам. Солидаризировался с мнением, что у определенных сил могло появиться искушение использовать переходный этап, чтобы попытаться изменить соотношение сил, причем в целях, сходных с целями «холодной войны». Развязку в Персидском заливе некоторые попытались использовать отнюдь не на пользу новым международным отношениям. Я не мог отделаться от ощущения, что западные партнеры дальше разговоров о необходимости форсирования работы по созданию общеевропейских механизмов, предусмотренных Парижской хартией, не идут, выжидают. Рассказал о состоявшейся незадолго перед тем встрече с Колем в Киеве, обсуждении на ней ситуации в Югославии и в этой связи о соотношении принципов Парижской хартии и тех ее пунктов, которые касаются прав меньшинств. Тогда я сказал: настало время поднять вопрос об угрозе любого сепаратизма и националистического экстремизма в Европе.
Поделился с Гонсалесом своими размышлениями по поводу предстоявшей в Лондоне встречи с «семеркой», подчеркнув: без серьезных глубоких перемен в экономическом сотрудничестве политический диалог будет обречен на медленное удушение.
Фелипе воспринял все сказанное с пониманием. Откровенно поделился своими мыслями и тревогами.
— Исходной точкой нашего размышления с позиций международного сообщества, — сказал он, — является ясное осознание того, что Советский Союз, как бы он ни назывался, нам абсолютно необходим. Нам нужен Союз прежде всего как демократическое государство, и чтобы оно было сильным, а помимо демократии это недостижимо. Нам нужен Союз, где были бы решены территориальные проблемы и создана эффективная экономика, то есть четко определено движение в сторону создания смешанной экономики.
При этом Гонсалес весьма критически отозвался о рекомендациях гарвардских профессоров.
— При всем моем уважении к их авторитету, — отметил он, — я как политик предпочитаю больше доверять интуиции и здравому смыслу обычного главы семейства. Такую предельно централизованную экономическую систему, как ваша, невозможно изменить ни за 500 дней, ни даже в более длительные сроки. У вас идет процесс реформ, не описанный ни в одном учебнике. Адекватной теории для ваших конкретных условий нет и, думаю, быть не может.
Гонсалес высказал мнение, что нам легче пройти через фазу перехода за счет таких форм экономической организации, которые получили название «государственный капитализм». Именно государственный капитализм, считал он, может служить связующим звеном при переходе от засилья государственной собственности к нормальному рынку. Это тем более необходимо, что нельзя даже в условиях глубоких реформ допустить развала производящих отраслей. Нужно сохранить дееспособность общества, а это возможно путем мобилизации всех возможных ресурсов.
— Не следует, — откровенно сказал он мне, — возлагать чрезмерные надежды на внешние ресурсы. Во всяком случае, чтобы обеспечить приток зарубежных инвестиций, необходима особая внутренняя решимость самого Советского Союза. Положительное решение проблемы сохранения Союза позволило бы оказаться в выигрыше всем республикам. Те, кто полагает, что союзные структуры только мешают их благополучию, — уверенно заявил Гонсалес, — ошибаются, и жизнь, — провидчески заключил он, — неизбежно докажет это.
Скептически оценил Гонсалес возможности «семерки» и ЕС как-то компенсировать центробежные тенденции в Союзе. Очень критически отозвался о рекомендациях МВФ, сравнив его с врачом, который предлагает больному пациенту пробежать марафон, прежде чем начать лечение. Но если можно выдержать этот марафон, зачем лечение?
Поэтому, заключил Фелипе, встреча в Лондоне будет для нас нелегкой. Он высказал свой прогноз: ее результат не будет негативным, но не настолько позитивным, как того хотелось бы нам. И выразил надежду, что «семерка» даст ясный сигнал доверия политическим и экономическим переменам в Советском Союзе, подтвердит свою заинтересованность в сохранении единого Союза. Это, по его словам, уже было бы достаточным позитивным результатом.
На следующий день за завтраком Фелипе по своей инициативе поделился впечатлениями о встрече с Ельциным. Беседа с Президентом России утвердила Гонсалеса в том, что ключ к решению наших внутренних проблем лежит в политической области.
— Я как никогда остро, — сказал он, — ощутил правоту вашего настойчивого стремления быстрейшим образом заключить Союзный договор.
Поглощенные целиком размышлениями о ситуации в СССР, мы забыли, что находимся «за завтраком». Тревога не покидала нас. Глубоко переживали, слушая нас, иногда включаясь в беседу, Кармен и Раиса Максимовна.
Шел июль 1991 года.
В конце октября 1991 года я был в Мадриде в качестве сопредседателя Международной конференции по Ближнему Востоку.
В те тревожные, драматические дни после путча мы особенно сильно ощутили внимание и заботу, искренность чувств поддержки со стороны королевской семьи. Королева София предложила Раисе Максимовне поездку в Толедо — бывшую столицу, великолепный памятник архитектуры разных времен, город Эль Греко. На Раису Максимовну эта поездка, знакомство с сине-желтым Толедо, где сожительствуют, радуя поколение за поколением, христианский, мусульманский и еврейский стиль архитектуры, где на каждом шагу чувствуешь дыхание истории, произвела неизгладимое впечатление. Ее растрогало идущее эт души сочувствие королевы в связи с перенесенным нашей семьей предательством в дни августовского путча. Проведенные вместе в этой поездке часы еще больше их сблизили.
Программа Раисы Максимовны включала и ужин от королевы. Он состоялся в ресторане на тихой мадридской улочке. Ресторан популярный, демократичный, любимое место многих, в том числе членов королевской семьи. К 11 часам ночи весь зал заполнился. За каждым столом оживление, своя тема беседы. Когда королева София и Раиса Максимовна закончили ужин и отправились к выходу, весь зал, стоя, приветствовал и тепло проводил их.
С королем и королевой мы еще раз встретились в августе 1992 года на острове Пальма де Мальорка, куда они пригласили нас с Раисой Максимовной во время нашего отпуска в Испании.
Фелипе и Кармен пригласили нас в их родной город Севилью. Мы побывали на выставке ЭСПО-92. В летней резиденции премьер-министра провели незабываемые часы.
Установление отношений с Ватиканом
В течение всего советского периода отношения с центром католицизма были крайне враждебными. О Ватикане у нас писали не иначе как об источнике реакции и мракобесия. Правда, в период разрядки 70-х годов кое-что стало меняться, советское посольство в Риме вышло на контакты с представителями Ватикана. Но официальных отношений не было, и возникавшие вопросы не решались. Настало время искать новые подходы.
Летом 1988 года я встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом А.Казароли. Он приехал в Москву для участия в торжествах по случаю 1000-летия крещения Руси. Беседу я начал с констатации, что новое мышление в международных делах перекликается с новыми подходами Ватикана, причем есть совпадения и в терминах, и в оценках. Казароли согласился. Ватикан, сказал он, стремится вносить свой вклад в продвижение к миру, предлагать идеи, давать рекомендации, оказывать добрые услуги. И придает большое значение контактам с Советским Союзом.
Казароли передал мне послание Папы, выдержанное в дружественном тоне, а также памятную записку, в которой затрагивались вопросы, связанные с положением Католической церкви в СССР. Если у нас ранее не было серьезных контактов, заметил я, то, видимо, что-то мешало с обеих сторон. Собеседник, по существу, согласился и с этим, сказав: «Это были другие времена и другие люди». Он отметил, что за последние десятилетия, начиная с Папы Иоанна XXIII, во взглядах Ватикана произошли существенные изменения. Я просил передать Папе: что касается свободы вероисповедания, то мы за проведение этого принципа. Но против того, чтобы каналы церкви использовались для вмешательства во внутренние дела государств.
Казароли заявил, что в Ватикане с большим вниманием, интересом и надеждой следят за перестройкой в Советском Союзе. Рассчитывают, что реформы будут продолжаться, неизбежные трудности не поставят их под угрозу. Не скрывал, что в Ватикане все, что связано с «социализмом», вызывает подозрительность. Впрочем, из его пояснений следовало, что он проводил различие между принципами гуманного, демократического социализма и тоталитарной практикой, именовавшейся «реальным социализмом». Но, говорил он, «определенная боязнь, сдержанность» сохраняются.
Оценивая сказанное собеседником, я подытожил наш разговор:
— Главное, что должно заботить нас всех, — это человек, соответственно и гуманизация международных отношений. Отсюда вытекает наше новое мышление в мировой политике. Мы — атеисты, вы — человек верующий. Мы ставим перед собой задачу гуманизации человеческого общества, хотим сделать так, чтобы людям жилось лучше, чтобы им не угрожали ядерные и другие войны, экологические беды, разрушение нравственных основ, то есть речь идет об общечеловеческих ценностях. Поэтому, не отказываясь от наших различий, мы можем налаживать сотрудничество по тем вопросам, где у нас есть совпадение или сходство.
Встреча с Папой Римским состоялась во время моего официального визита в Италию. Через колокольную арку собора Святого Петра мы въехали во двор Сан Дамазо, где был выстроен почетный караул швейцарских гвардейцев в красочных костюмах, созданных, как говорят, еще по эскизам Микеланджело. Сразу же я направился на беседу с Иоанном Павлом II. Она проходила один на один.
Приветствуя высокую миссию Его Святейшества в современном мире, я отметил, что в моих и его высказываниях часто встречаются одинаковые выражения. «А ведь это значит, что должно быть общее и в исходном — в мыслях». Как бы откликаясь на это, Иоанн Павел II охарактеризовал нашу перестройку как процесс, который «позволяет вместе искать выход на новое измерение совместной жизни людей, в большей степени отвечающее потребностям человеческой личности, разных народов, правам индивидуумов и наций».
— Те усилия, которые вы предпринимаете, — сказал он, — не только представляют для нас большой интерес. Мы разделяем их.
Он выделил и еще одну важную мысль:
— Нельзя, чтобы кто-то претендовал на то, чтобы перемены в Европе и мире шли по западному образцу. Это противоречит моим глубоким убеждениям. Европа как участник мировой истории должна дышать двумя легкими.
— Очень точный образ, — заметил я.
Папа напомнил, что он не случайно в 1980 году объявил покровителями Европы, помимо святого Венедикта, представителя латинской традиции, также Кирилла и Мефодия, представляющих восточную, византийскую, греческую, славянскую, русскую традиции.
— Таково мое европейское кредо, — заявил Иоанн Павел П.
Естественно, в нашей беседе особое место заняла тема свободы совести как одного из фундаментальных прав человека, а также вытекающее отсюда право на религиозную свободу. Иоанн Павел II говорил о «православных братьях», отметив при этом активное развитие экуменического диалога с православными церквами, и в особенности с Русской православной церковью. Вместе с тем Папа Римский остановился на некоторых проблемах, связанных с положением католиков в нашей стране.
Я изложил свой подход к поднятым вопросам. В частности, сказал следующее:
— Мы хотим реализовать намеченное демократическими средствами. Но мои размышления над событиями последних лет говорят о том, что одной демократии недостаточно. Нужна и мораль. Демократия может приносить не только добро, но и зло. Что есть, то есть. Для нас очень важно, чтобы в обществе утверждались нравственность, такие общечеловеческие вечные истины, как доброта, милосердие, взаимопомощь. Мы исходим из признания необходимости уважения к внутреннему миру верующих граждан. Это, — добавил я, — относится и к православным, и к представителям других конфессий, в том числе католикам.
В принципе мы договорились об установлении официальных контактов и обмене постоянными представителями между Ватиканом и Москвой.
После завершения беседы мы вышли в Библиотечный зал Папского дворца, где находились Казароли, Содано, а также Раиса Максимовна, сопровождавшие меня лица. Каждому из них Папа Иоанн Павел II сказал несколько слов. Со стороны Его Святейшества в трудные моменты я получал сигналы поддержки и сочувствия. Несомненно, в лице Папы Иоанна Павла II мировое сообщество имеет не только одного из крупных религиозных деятелей, но и крупного гуманиста нашего времени.
Глава 25. Ближневосточный конфликт
Ближний Восток и мир
Ближневосточный конфликт, самый застарелый и, пожалуй, самый запутанный, занимал в нашей внешней политике особое место. До 1985 года советская политика здесь исходила из известных резолюций 244 и 336 Совета Безопасности, была нацелена на мирную развязку. СССР выступал за справедливое урегулирование, включая палестинский вопрос и признание существования государства Израиль. Однако логика «холодной войны» и стратегического соперничества с Соединенными Штатами накладывала свой отпечаток, а соревнование с США «наперегонки» в поставках оружия усиливало опасность военного взрыва.
Сначала и новое руководство СССР действовало по инерции. Но очень скоро я пришел к убеждению о необходимости порвать со стратегией «контролируемой напряженности», которая фактически лежала в основе нашего и американского курсов в регионе, искать выход из многолетнего тупика.
Размышляя над этой проблемой, я отдавал себе отчет, что мы стоим перед сложнейшей ситуацией, вобравшей в себя давний исторический контекст взаимоотношений арабов и евреев, их многолетнее военное противоборство, укоренившееся недоверие друг к другу и, конечно, конфронтацию между США и СССР. Для того чтобы показался хоть какой-то свет в конце туннеля, нужно было нам и американцам, израильтянам и арабам взять наконец курс на компромиссное урегулирование.
Тогдашнее состояние советско-американских отношений и отсутствие официальных связей с Израилем, естественно, обращали меня к той стороне, которая была доступна в качестве собеседников. Я имею в виду арабов, прежде всего сирийцев и палестинцев. С ними у СССР были многолетние близкие отношения. К тому же их ключевая роль с арабской стороны для любых переговоров была неоспоримой.
Начал я с того, что стал убеждать их представителей в необходимости ориентироваться на мирное урегулирование, а не конфронтацию с Израилем. Ясно давал понять, что мы не настроены и далее рассматривать Ближний Восток как поле схватки с американцами. Подчеркивал неприемлемость военных авантюр и иных провоцирующих действий. Из беседы 28 мая 1986 года с вице-президентом Сирии А.Х.Хаддамом: «Нельзя доводить дело на Ближнем Востоке до возникновения новой войны…» Хаддаму я рекомендовал подумать о таком варианте: «Почему бы сирийскому руководству не взять на себя инициативу организации трехсторонней сирийско-иордано-палестинской встречи и не выдвинуть там согласованные предложения по урегулированию на Ближнем Востоке?»
Надо сказать, что первоначальная реакция сирийцев была не очень ободряющая. Они, хотя и не отрицали в принципе возможности выхода на переговоры, даже заявляли о своей готовности к ним, все-таки упирали на то, что прежде всего хотели бы достичь так называемого стратегического равенства с Израилем. Правда, Хаддам всегда подчеркивал, что Сирия исходит из недопустимости вооруженного конфликта.
Разговор на эту тему я продолжил с Президентом Сирии Хафезом Асадом 24 апреля 1987 года. Мой основной тезис: «Справедливое и прочное урегулирование ближневосточного конфликта мы видим не на военном, а на политическом пути. Любые военные действия и авантюры чреваты самыми опасными последствиями как для района Ближнего Востока, так и для мира в целом. Временной лимит для локальных конфликтов явно на исходе. Именно поэтому мы считаем, что политический путь является стратегическим направлением решения ближневосточных проблем».
Мы сознательно делали акцент на диалог с правительством Сирии. В советском руководстве исходили из того, что положение этой страны в арабском мире и авторитет ее лидера позволяют ей взять на себя инициативу в повороте арабов к мирному урегулированию, в формировании единой арабской политики. Но на проблему арабского единства мы уже смотрели в контексте нашей новой внешней политики. Если раньше единство арабов ими мыслилось как инструмент борьбы против Израиля и его американских покровителей, то теперь мы стремились к тому, чтобы эта идея получила неконфронтационную ориентацию, — к выработке более или менее единого подхода арабских стран, необходимого для урегулирования конфликта с Израилем. Нужно было сформировать нечто вроде коллективной ответственности. «Речь идет о единстве действий арабов, — говорил я Асаду, — с учетом необходимости урегулирования ближневосточного конфликта».
Вскоре мы стали задумываться и над проблемой «материальных импульсов», стимулировавших военное противостояние на Ближнем Востоке. Примерно в конце 50-х — начале 60-х годов массивные поставки на Ближний Восток современного или близкого к современному оружия стали постоянным моментом и нашей, и американской политики. С 1986 года мы постепенно стали вносить коррективы, ограничивая шаг за шагом поставки оружия, но так, чтобы особенно не обидеть дружественные арабские страны. Кстати, к этому подталкивали нас и финансовые соображения. Эти вопросы занимали все большее место, особенно в контактах с представителями Сирии, поскольку именно они настаивали на постоянном увеличении и модернизации поставляемого оружия. От нас ждали и прямо-таки требовали, чтобы мы в своих поставках по количеству и качеству оружия шли «нос в нос» с США. На майской 1986 года встрече с Хаддамом мною было сказано:
— Вы знаете, кое у кого из наших друзей в развивающихся странах есть тенденция искать решение всех вопросов только с помощью оружия. Наш подход строится на том, что в ракетно-ядерный век надо ориентироваться на политические методы. Политический потенциал должен использоваться широко и с полной отдачей.
Более того, внимание сирийской стороны было обращено на то, что поставки оружия на Ближний Восток могут стать препятствием на пути урегулирования конфликта.
Известно, что в арабо-израильском конфликте ключевая проблема — палестинская. В том, что палестинский фактор не был задействован, коренилась едва ли не основная причина провала всех попыток американцев реализовать свои планы урегулирования на Ближнем Востоке. Но включить этот фактор, существенно повлиять на позицию палестинцев можно было лишь при наличии единой позиции внутри самой ООП, причем такой, которая предусматривала бы мирный путь и признание государства Израиль. Здесь решающее значение имела позиция Арафата. Из своих встреч с ним и поступавшей информации я вынес впечатление, что это — деятель сравнительно умеренной ориентации, сознающий реальные возможности палестинского движения. Но эту ориентацию можно было реализовать лишь в случае поддержки со стороны арабских государств. А среди них существовало соперничество за влияние на палестинцев.
В обоих этих смыслах сирийская позиция была, разумеется, особенно важной. Между тем сирийско-палестинские отношения в это время были очень обострены. В этих условиях мы без устали доводили до сведения руководства Сирии пожелание поддерживать Организацию освобождения Палестины. «Такая линия явилась бы поддержкой центростремительных сил в Организации, препятствовала бы потере ею своей действенной роли. Иная линия означала бы содействие расколу…»
Я отнюдь не упрекал Сирию, говорил об этом с целью преодоления раскола в палестинском движении. Когда 15 апреля 1988 года мы встретились с президентом Асадом, эта тема была одной из главных. Разумеется, мы делали все возможное, чтобы воздействовать на палестинцев, подвинуть их на реалистические позиции, что практически означало не только признание государства Израиль, но и способность согласиться с перспективой добрососедского мирного сосуществования с ним, отказ от лозунга вооруженной борьбы.
На встрече с Арафатом 9 апреля 1988 года я высказал ему свое пожелание:
— Ни в коем случае не беритесь за винтовку, хотя вас на это пытаются толкнуть. Мирное сопротивление — сильная позиция. Она встречает поддержку в мире.
По поводу «плана Шульца» мой совет Арафату заключался в том, что не следует его отвергать: мировое сообщество этого не поняло бы. Руководителю ООП было сказано, что «Советский Союз настойчиво действует в пользу справедливого и всеобъемлющего урегулирования с учетом интересов всех — и арабов, в том числе палестинцев, и Израиля. Мы готовы конструктивно взаимодействовать со всеми участниками процесса. Речь должна идти о балансе интересов».
В беседе с Арафатом я настойчиво подчеркивал важность межарабского согласия в основных вопросах ближневосточного урегулирования, особое значение сирийско-палестинского взаимопонимания. Вспоминая сейчас все эти беседы, не скажу, что они были легкими. Хотя в арабском мире уже не было установки на войну, настрой там, пусть далеко не у всех, еще не стал достаточно реалистическим. Тем более что думающих, умеренных, разумных арабских лидеров постоянно подстерегали политиканы и демагоги, всегда готовые пустить в ход ультранационалистическую и фундаменталистскую пропаганду. Да и плохо помогала делу оккупация арабских земель, вызывающие жесты и высказывания представителей правых кругов Израиля. Но, как известно, капля точит камень. И я убежден, что эти наши усилия в течение ряда лет тоже сыграли свою роль в постепенном «смягчении» арабской позиции.
Мало-помалу мы стали налаживать контакты и с Израилем, на первых порах главным образом неофициальные. Это был путь к исправлению явно ненормального положения: отсутствие дипломатических отношений, самоизоляция от страны, с населением которой мы были связаны и исторической памятью, и тысячами различных живых нитей. Но одновременно мы предпринимали эти шаги с прицелом на ближневосточное урегулирование: без конструктивной позиции Израиля никакие переговоры были, конечно, немыслимы.
Контакты, о которых идет речь, шли по разным каналам — общественным, экономическим и иным. В мае 1988 года, беседуя с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Египта А.Магидом, я говорил, предназначая это, конечно, не только для его ушей:
— У нас нет предвзятого отношения к Израилю. Отношения были разорваны в конкретной ситуации. Они могут быть восстановлены в новой конкретной ситуации.
14 сентября 1990 года я принимал в первый раз израильских министров И.Модай и Ю.Неемана и имел все основания заметить, что «действительно все меняется, коль мы сидим здесь с вами за одним столом». А осенью 1991 года дипломатические отношения между СССР и Израилем были восстановлены.
Нашей миротворческой работе на ближневосточном направлении помогла, безусловно, нормализация отношений с Египтом, которые долгое время находились в замороженном состоянии, а вернее, в ситуации явного недоброжелательства. В 1988–1991 годах я дважды встречался с Президентом Египта Хосни Мубараком и с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Магидом. Всякий раз мы основательно обсуждали ближневосточную проблему, размышляя о путях, ведущих к ее смягчению, к переговорам, а затем и урегулированию. Должен сказать, египтяне проявили понимание идей нового мышления. Обнаружилось также, что подходы к ближневосточной проблеме у нас близкие, если не совпадающие. И я с удовлетворением пришел к выводу, что в своих усилиях в этом направлении буду иметь в лице Мубарака союзника.
В ходе беседы с Магидом (май 1988 г.) мы пришли к заключению, что складываются предпосылки для всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке. Мы были согласны в том, что необходимо стоять на почве реальностей, фундаментальный вопрос урегулирования — палестинский и без участия ООП процесс этот не продвинется. Не менее важно было учитывать интересы Сирии, Иордании и Израиля. Особое значение имело, конечно, упоминание Израиля в сообщении для печати. Мы впервые поставили всех участников конфликта, так сказать, «на одну доску». Устами Магида Египет выразил согласие с нашим подходом к решению ближневосточной проблемы. И у меня были достаточные основания с оптимизмом сказать: «Передайте президенту, что мы будем действовать конструктивно, контактировать с арабами, в том числе с Египтом».
Вспоминаю обстоятельный разговор с Мубараком 15 мая 1990 года в Москве. Мы констатировали близость взглядов и целей, исходя при этом из разделения ролей наших государств в подготовительной работе к урегулированию конфликта. Вновь звучала тема согласования арабских позиций, выработки ими единой платформы.
Но конечно, первостепенное значение для перспектив ближневосточного урегулирования имело советско-американское взаимопонимание. Соединенные Штаты, действуя по логике «холодной войны», ставили своей целью (это признал на встрече в Хельсинки Буш, а еще раньше Рейган) вытеснить Советский Союз из ближневосточного региона и — это я уже добавляю от себя — утвердить свое доминирующее положение. Но такая исходная установка делала более чем сомнительной всякую перспективу урегулирования, учитывая реальное влияние Советского Союза в регионе и в не меньшей мере заинтересованность арабов в сохранении этого влияния в качестве противовеса Соединенным Штатам или другим державам. Улучшение наших отношений с США заметно, а в конечном счете и радикально повысило вероятность мирного, конструктивного разрешения и ближневосточного конфликта.
Как я уже упоминал, когда Шульц в феврале 1988 года приехал в Москву, он привез с собой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, с которым нас предварительно ознакомил посол Мэтлок. Госсекретарь, направлявшийся вскоре в страны этого региона, хотел знать наше мнение о плане. Обратились к нам за консультацией и арабы, тоже ознакомленные с американскими предложениями.
Я задал Шульцу ряд вопросов и высказался критически о некоторых сторонах американских предложений. В частности, в них не упоминались Сирия, проблема Голанских высот, не было должного учета палестинских интересов, игнорировалась Организация освобождения Палестины. Чувствовалось также, что американцы тогда еще не определились относительно международной конференции.
Потом я изложил в общих чертах нашу позицию.
— Мы, — сказал я, — выступаем за всеобъемлющее, справедливое урегулирование с учетом интересов арабов, в том числе палестинцев и Израиля на основе возвращения оккупированных территорий и решения других вопросов. Никакой иной подход здесь не имеет шансов на успех. Игнорировать чьи-либо интересы невозможно. С этой точки зрения мы рассматриваем и ваши предложения. Конечно, между нами есть и определенные различия. Но и мы, и вы понимаем, что навязать какое-то решение невозможно, игнорировать интересы любой из сторон недопустимо.
В свете этого происходит критическое осмысление ваших предложений по Ближнему Востоку. Многие считают, что, несмотря на элементы гибкости в ваших предложениях, они тем не менее основаны на старом подходе. Под прикрытием разговоров о конференции по Ближнему Востоку проводится та же политика сепаратных сделок с ограниченным составом участников. Примером может служить негативная ваша позиция в отношении палестинского урегулирования и, в частности, ООП. Ваши предложения вроде бы направлены на то, чтобы попытаться обеспечить перемирие, снять остроту в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Если бы это делалось в увязке с общим урегулированием, то было бы понятно. Если нет, то — совсем другое дело.
Как вы знаете, мы предлагали начать работу подготовительного комитета с участием постоянных членов Совета Безопасности, который всесторонне обсудил бы все аспекты подготовки конференции. Ваши предложения носят расплывчатый характер. Может быть, они до конца не продуманы. А может быть, это сделано намеренно. Нам кажется, что, прежде чем вы поедете на Ближний Восток, их необходимо до конца продумать. Если Соединенные Штаты готовы присоединиться к нашему мнению, к мнению ваших и наших союзников и поддержать международную конференцию, если вы готовы работать в рамках поисков всеобъемлющего политического урегулирования, которое не исключает каких-то промежуточных результатов, тогда открыт реальный путь к решению ближневосточной проблемы.
Мы готовы продолжать обмен мнениями, сотрудничать, искать решения, которые отвечали бы интересам всех. Повторяю, надо найти точки соприкосновения в наших подходах. Тогда мы сможем хорошо поработать.
В ответ Шульц изложил точку зрения Вашингтона, которая, как мне показалось (а он на этом настаивал), действительно отличалась от «кэмп-дэвидского подхода».
Вот несколько выдержек из его рассуждений:
— Израиль должен быть готов сесть за стол переговоров со всеми своими соседями. Не только с Иорданией, но и с Сирией, Ливаном (с Египтом у него уже есть мирный договор). В переговорах должны принимать непосредственное участие палестинцы. Мы считаем, что это должно происходить в контексте совместной иордано-палестинской делегации. Она вела бы переговоры относительно будущего Западного берега и Газы. Что касается ООП, то эта организация дисквалифицировала себя как участник переговоров, поскольку выступает за насилие и ликвидацию государства Израиль. Мы неоднократно говорили, что пойдем на диалог с ООП, когда она изменит свои позиции по этим вопросам. Думаю, крайние требования ни к чему хорошему не приведут. Как минимум, я хотел бы провести в ходе своего визита эту мысль. Вы верно сказали, что невозможно навязать решения. Сейчас в этом убеждается Израиль так же, как раньше в этом убеждались другие.
— Полагаю, — откомментировал я, — что сейчас на Ближнем Востоке возникла уникальная ситуация. В международном сообществе имеется практическое единодушие относительно необходимости международной конференции. Просто нет другого форума, на котором можно было бы реалистически рассчитывать добиться урегулирования.
А вам мы советовали бы освободиться наконец от подозрительности в отношении намерений Советского Союза на Ближнем Востоке. Ведь это та же концепция: будто на всех параллелях и меридианах Советский Союз и Соединенные Штаты должны сталкиваться. Я же считаю, что мы должны на всех параллелях и меридианах искать общие подходы, искать возможности сотрудничества.
По мере дальнейшей положительной эволюции в отношениях между СССР и США налаживалось активное взаимодействие и по ближневосточной проблеме. Соответственно шло продвижение к международной конференции. Но тут мир столкнулся с иракской агрессией против Кувейта. Событие это, надо сказать, оказало противоречивое воздействие на ближневосточную проблему. С одной стороны, вроде бы отодвинуло, по крайней мере временно, на задний план палестинский вопрос и в целом урегулирование. С другой, как я говорил Магиду 27 августа 1990 года, «то, что произошло между Ираком и Кувейтом, лишний раз подтверждает актуальность проблемы ближневосточного урегулирования, ее надо решать».
В конечном счете события в Заливе все же подтолкнули дело урегулирования. Этому способствовало несколько обстоятельств. Советско-американские отношения, проверенные в пламени войны в Заливе, приобрели достаточно прочный характер, и американцы встали, фактически впервые, как об этом мне сказал в Хельсинки Буш, на путь лояльного сотрудничества с нами на Ближнем Востоке. Арабы же, столкнувшись с агрессией, идущей «изнутри», стали более восприимчивы к идее мирного урегулирования. В этом же направлении сдвинулся и Израиль: его позиции укрепились в результате военного разгрома Ирака, но в то же время он еще острее ощутил, чем угрожает отсутствие мира. Наконец, ошибочная линия, взятая палестинцами в ходе кризиса и нанесшая им существенный ущерб, побудила их пересмотреть позицию.
Исходя из такой оценки ситуации, мы и американцы, тесно взаимодействуя, предприняли активные усилия с тем, чтобы не упустить шанс и приблизиться теперь уже к общей искомой цели — международной конференции. 11 сентября 1991 года я принимал Бейкера. Знамением времени было то, что теперь уже не только я, но прежде всего американский госсекретарь активно высказывался в пользу нашего сотрудничества на Ближнем Востоке. У нас были все основания сообщить прессе, что мы обсуждали ближневосточную проблему, исходя из взаимопонимания, высокой степени согласия, которые между нами установились, и будем еще активнее сотрудничать в организации мирной конференции.
Хотя на публике больше мелькали американцы и Бейкер действительно провел большую работу в ходе своих челночных поездок на Ближний Восток, на деле существовало нечто вроде разделения труда. Соединенные Штаты разговаривали прежде всего с Израилем и другими своими друзьями, а мы — с Сирией и палестинцами.
Мы были вознаграждены — Международная конференция по Ближнему Востоку открылась в Мадриде 30 ноября 1991 года. Это был подлинный прорыв в ближневосточной проблеме. Конечно, впереди был и до сих пор остается большой и трудный процесс переговоров, нахождения взаимоприемлемых решений.
Осенью 1993 года в Вашингтоне в торжественной обстановке было подписано Соглашение между Израилем и ООП. Событие историческое. Я с тем большим удовлетворением констатирую это, что оно было бы невозможно без тех больших усилий, о которых частично рассказано выше и в которых наряду с министрами Шеварднадзе, Бессмертных и Панкиным, другими советскими дипломатами участвовали наши американские партнеры и коллеги. Причем я особенно хотел бы выделить роль Джима Бейкера. Говорю об этом потому, что в 1993 году об этом «случайно» забыли.
Как бы то ни было, конец военной перспективе развития ближневосточного конфликта положила именно Мадридская конференция. Она решительно перевела этот конфликт на путь политического поиска. И в этом ее историческое значение.
Иракская агрессия. Испытание нового политического мышления
Международный кризис, вызванный агрессией Ирака против Кувейта, стал вехой в развитии постконфронтационных отношений Восток— Запад.
В период «холодной войны» такой конфликт мог бы привести противостоящие блоки вплотную к военному, ядерному столкновению. Во всяком случае, обуздание агрессии было бы более чем проблематичным. В новых условиях стало возможным объединение всего мирового сообщества на платформе противодействия агрессии, и это определило ее поражение, как бы завершив эпоху, когда агрессоры могли действовать безнаказанно.
Советскую политику события в Заливе поставили перед особенно трудными проблемами. Советский Союз был связан с Ираком Договором о дружбе и сотрудничестве. И значительной части советской общественности претила перспектива «предать» союзника. Делало свое дело и укоренившееся недоверие к американским внешнеполитическим мотивам.
В Ираке в различной роли — военных советников, технических специалистов и т. д. — находились тысячи наших людей. Наконец, с Ираком были связаны крупные, можно сказать, миллиардные экономические интересы, что было особенно чувствительно, учитывая наше трудное экономическое положение.
Тем не менее я немедленно, без каких-либо промедлений и колебаний осудил агрессию и выступил за ее обуздание, добиваясь создания в рамках ООН международной коалиции, противостоящей Ираку. Этой принципиальной линии мы придерживались последовательно, несмотря на все сложности и подводные камни.
Одновременно я выступил за использование для разрешения кризиса не военных, а политических методов. Исходил не только из того, что такие методы более адекватны международной жизни после окончания «холодной войны». Я думал о больших разрушениях и человеческих жертвах, которые повлекут за собой военные действия. Имел в виду и то, что Саддам Хусейн, как это подтвердилось, постарается использовать ситуацию для вскармливания антизападных настроений в арабском и мусульманском мире, что нанесет серьезный удар по всему процессу оздоровления международных отношений.
К сожалению, эти наши усилия не увенчались успехом, натолкнувшись на слепое упрямство и иррациональное поведение Хусейна. Но они порой не встречали сочувствия и со стороны США, где было заметно влияние той части американских политиков, которая добивалась, чтобы Соединенные Штаты, так сказать, опустили военный кулак, демонстрируя свою мощь.
Второго августа 1990 года иракские танки ворвались на территорию Кувейта. Аннексированное Ираком, это небольшое государство было объявлено его девятнадцатой провинцией. Трудно сказать, на что рассчитывали иракские руководители, пускаясь в столь опасную авантюру. Наряду С различными обстоятельствами и, в частности, особенностями личности Хусейна свою роль, очевидно, сыграло и отставание иракского руководства от динамики международной обстановки, укоренившееся с конфронтационных времен представление о том, что в случае кризиса в этом районе мира США и СССР неизбежно окажутся по разные стороны баррикад.
Но именно в этом, главном, Багдад и просчитался. События в Персидском заливе обозначили своего рода водораздел в поведении сверхдержав в отношении региональных кризисов — впервые они выступили согласованно. Мы немедленно и решительно осудили акт агрессии, потребовали безоговорочного вывода войск интервентов из Кувейта, восстановления его суверенитета. Соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе о жестких экономических санкциях, были приняты при нашем активном участии. Вместе с тем мы взяли курс на поиски мирного выхода из создавшейся ситуации, выстраивая в этом направлении свои контакты с США и другими государствами, поощряя арабов воздействовать на Хусейна.
Я считал важным сохранить контакты с Ираком, стремился довести до иракского руководства наши оценки, избавить его от иллюзий гипертрофированной самоуверенности, убедить, что ему придется выполнить решения Совета Безопасности.
5 сентября 1990 года я имел длительную беседу с министром иностранных дел Ирака Тариком Азизом. Чтобы дать представление о тональности разговора, приведу пространную цитату:
— Мы видим цель этой беседы, — говорил я, — в том, чтобы узнать, появились ли какие-нибудь новые встречные соображения иракского руководства, которые облегчили бы поиск политического урегулирования. Поэтому хотели, чтобы вы приехали накануне моей встречи с Бушем…[21] Мы сотрудничали с вами в прошлом и хотели бы это сотрудничество сохранить. Нам совершенно ясно: если Ирак будет конструктивно участвовать в политических усилиях по развязке проблем, то исход будет один. Если же такого участия не будет, то все может кончиться плохо. Хотел бы вполне откровенно сказать: вспыхнувший конфликт несет в себе большую опасность.
Советую перейти как можно быстрее к поиску политических путей выхода из кризиса. На международной арене все громче раздаются голоса, призывающие применить к Ираку «жесткие меры». Ясно, что под этим подразумевается. Это вас устраивает? Не могу поверить, что иракское руководство согласится уготовить своему народу такую жестокую судьбу. Говоря откровенно, нужны конструктивные реалистические шаги с вашей стороны. Именно о них мы рассчитывали услышать, когда обратились к Президенту Ирака с вопросом, не появились ли новые моменты в иракской позиции.
Я прямо спросил Азиза:
— Есть ли у вас новые предложения?
Он заверял, что иракское руководство играет конструктивную роль в регионе. Жаловался, что против Ирака организован заговор. Но Ирак «вполне уверен в своих силах и не страшится противостояния с американцами». «При этом, — привожу его слова, — мы знаем, что конфронтация может привести к широкомасштабному столкновению по всем линиям, последствия которого затронут не только наш арабский регион, но и весь мир. Однако такая перспектива нас не пугает». Как видим, иракское руководство «не пугала» возможность всемирной катастрофы! Лишнее свидетельство, с кем столкнулось международное сообщество.
Высказываясь в духе выступления Хусейна от 12 августа, Азиз связал кувейтскую проблему со всеми другими проблемами Ближнего Востока. Тем самым иракцы делали как бы попытку утопить вопрос об агрессии против Кувейта в клубке хотя реальных, но иных проблем.
Я отверг эти аргументы, сказав, в частности:
— Мы долгие годы настойчиво ищем ключ к решению важнейших проблем Ближнего Востока, прежде всего палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта в целом, ливанского кризиса. Однако выход до сих пор не найден. Теперь же, после содеянного Ираком, задача многократно усложнилась. Нереально, — подчеркнул я, — после всего происшедшего, после принятия пяти резолюций Совета Безопасности, направления крупного воинского контингента США в зону Персидского залива вести речь о переговорах, не проявляя готовности вывести иракские войска из Кувейта.
В ответ Азиз вновь разразился тирадой относительно «уверенности» иракского руководства в том, что «нынешняя конфронтация Ирака с США в конечном счете принесет ему успех». И упрекал нас за то, что мы говорим «одним языком с американцами».
Заключая беседу, я сказал:
— Возможно, вы получаете наставления от Всевышнего, но хотел бы все же дать совет. Нам кажется, что нельзя отказываться от поиска политического решения на реалистической, конструктивной основе. Пока вы, чувствуется, не созрели. Но следовало бы учесть, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.
Принципиальное значение имела наша встреча с Бушем 9 сентября 1990 года в Хельсинки, предпринятая по его инициативе. По сути дела, ее стержнем был вопрос о сохранении и консолидации американо-советского партнерства перед лицом разразившегося кризиса.
— Хорошо, что Советский Союз и Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру, что сейчас, во время кризиса в Персидском заливе, они вместе, они рядом, — сказал тогда американский президент.
Я сделал акцент на том, что в результате общих усилий уже удалось многого достичь. Переброской войск в зону Персидского залива, активной политикой в Совете Безопасности ООН решен ряд стратегических задач: иракские вооруженные действия не распространились на другие страны Аравийского полуострова; предотвращен нефтяной кризис, угрожавший мировой экономике после того, как Кувейт и Ирак перестали экспортировать нефть; линия на решительное противостояние агрессии получила широчайшую международную поддержку, в том числе на государственном уровне.
Все это создавало необходимые предпосылки для продолжения политических усилий, которые могли оказаться эффективными в деле окончательного решения проблемы. Тем более что в то время и мы, и, как я понимаю, американцы рассчитывали на то, что неукоснительное соблюдение экономических санкций против Ирака даст скорые результаты и заставит Саддама Хусейна уйти из Кувейта.
Должен сказать, что наша ориентация на невоенные методы решения проблемы находила в тот момент понимание со стороны Буша. Он несколько раз говорил, что «не хотел бы эскалации конфликта», стоит за мирное решение. Эти заявления американского президента были особенно ценными, ибо он, как я понимал — и сказал об этом в Хельсинки, — находился под давлением определенных сил в своей стране, которые требовали немедленно пустить в ход оружие. Выступая за поиск политических средств урегулирования, как предпочтительный, можно даже сказать, единственно целесообразный путь, я в то же время полностью солидаризировался с заявлением Буша о том, что «нельзя допустить, чтобы Саддам Хусейн извлек выгоду из своей агрессии».
В наш разговор была включена еще одна тема. Я поставил вопрос так: отвергая, разумеется, попытки Саддама Хусейна свалить в одну кучу все острые проблемы, накопившиеся на Ближнем Востоке, и тем самым как-то утопить вопрос об иракской агрессии, целесообразно использовать политическое урегулирование кризиса как импульс для продвижения к решению арабо-израильского конфликта. В этом плане рассматривалась возможность созыва международной конференции с участием членов Совета Безопасности и арабских государств, которые могли бы обсудить проблему восстановления независимости Кувейта, но также и другие проблемы региона, в том числе палестинско-ливанскую, начав, разумеется, с Кувейта.
Эта тема в конечном счете нашла свое отражение в совместном советско-американском заявлении, где было сказано, что необходимо активно работать над урегулированием конфликта в регионе. США не пошли дальше этой расплывчатой формулировки, но и она открывала возможности для политической активности.
Результаты хельсинкской встречи. С моей точки зрения, она принесла два фундаментальных итога, которые, однако, не получили практического продолжения в равной мере. С одной стороны, мы продемонстрировали готовность и способность провести наши новые отношения, наше партнерство через горнило трудного кризиса, укрепив их. С другой — пришли к согласию, по крайней мере в принципиальном плане, относительно ориентировки на мирное, политическое решение проблемы, хотя и ощущали влияние тех кругов, которые, образно говоря, жаждали крови.
Срок истекает
После Хельсинки мы действовали энергично.
При этом широко использовали диалог с Ираком, поскольку этот канал был доступен главным образом нам. Если охарактеризовать наш подход в широком, так сказать, стратегическом плане, его суть состояла прежде всего в следующем: добиться пресечения агрессии, но без применения военных средств, которое могло бы повлечь за собой тяжелый политический, человеческий, экологический урон. Такой подход предполагал: вслед за выводом войск Ирака из Кувейта — именно вслед, а не в увязке — должны последовать определенные действия, призванные способствовать стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. В таком духе и в достаточно жестком тоне я направил ряд посланий Саддаму Хусейну, в частности, с Примаковым, который выезжал туда в начале октября.
Линия Советского Союза, направленная на поиски возможностей мирного решения кризиса, находила одобрение практически среди всех, кто был заинтересован в нахождении альтернативы войне. Руководители многих стран, с которыми я имел контакты или общались наши представители, высказывали достаточно энергичную поддержку наших усилий. Это относится к Миттерану, Андреотти, арабским лидерам. Исключение составляла, пожалуй, лишь Маргарет Тэтчер, которая отдавала приоритет военным методам. Со временем и в США стала набирать силу линия на то, чтобы не ограничиваться достижением вывода иракских войск из Кувейта, а нанести сокрушительный удар по Ираку, «сломать» хребет Хусейну, ликвидировать весь военный, а возможно, и промышленный потенциал страны. Сам Буш испытывал, судя по всему, нарастающее давление и изнутри и извне, но все еще колебался, не будучи окончательно уверенным в правильности военного выбора.
В такой обстановке я принял решение вновь направить своего личного представителя в Ирак, чтобы еще раз попытаться «привести в чувство» Хусейна. Судя по всему, у него не было реального представления о том, как развивается ситуация, он продолжал оставаться в плену иллюзий, будто мировое сообщество не решится на крайние меры. Примаков должен был также вновь поставить вопрос, притом в острой форме, об эвакуации советских специалистов и иностранных заложниках, которые все еще продолжали удерживаться на военных и других стратегических объектах Ирака. Наконец, ему было поручено объехать ряд арабских государств и обсудить возможности активизации «арабского» фактора в духе той двуединой платформы урегулирования кризиса, которая нам представлялась оптимальной.
Стоит заметить, что во всех арабских столицах, где побывал Примаков, фактически была высказана поддержка энергичным поискам политического выхода из создавшегося положения. Так обстояло дело и в Каире, и в Дамаске, и в Эр-Риаде. Однако контакты с Хусейном не дали желаемого результата, хотя можно было заметить изменение в тональности бесед.
А время шло, сторонники военного решения становились все настойчивее, аргументы им поставляло иракское упорство. Во второй декаде ноября Советом Безопасности при полной нашей поддержке была одобрена резолюция, которая ставила Ираку ультимативный срок. Правда, если для одних эта резолюция открывала путь к уже выношенному решению применить военную силу, то для нас значение ее состояло прежде всего в том, чтобы использовать последнюю возможность предотвратить войну. Направленный мною в Багдад заместитель председателя Совета Министров И.С.Белоусов имел задание попытаться склонить Хусейна на встречу с американскими представителями в Женеве. Мы предприняли это, несмотря на то что перспектива такой встречи, казалось, была перечеркнута, с одной стороны, отказом иракского лидера принять предлагаемые сроки, а с другой — отказом США послать в Багдад государственного секретаря в названные Ираком дни.
Встреча в Женеве все-таки состоялась. Но семичасовой разговор ни к чему не привел. Тарик Азиз в своем дипломатическом багаже не привез ничего нового, а Бейкер требовал безоговорочного вывода иракских войск.
Тем не менее я не оставил своих усилий предотвратить войну, тем более что в заявлениях Хусейна стали появляться обнадеживающие нотки. За несколько дней до истечения срока ультиматума я позвонил Бушу и сообщил ему о готовности направить еще раз своего представителя в Багдад, так сказать, в финальной попытке избежать войны. Это предложение в общем встретило у него благожелательный отклик. Но он просил, чтобы не перечеркивался временной лимит, установленный Советом Безопасности. Одновременно в Вашингтон была передана конкретизация предлагавшегося уже ранее так называемого невидимого пакета, призванного облегчить выход на политическое решение.
Положительная реакция на предложение Советского Союза прозвучала и в выступлении Буша по радио.
Однако уже через несколько часов нашему послу в Вашингтоне было сказано, что Соединенные Штаты не возражают против поездки в Багдад советского представителя, если его задачей будет лишь одно: еще раз сказать Саддаму Хусейну: «Уходи из Кувейта». Произошло весьма существенное изменение в позиции администрации США. В обстановке, когда нарушилось взаимопонимание, поездка не имела смысла.
Иррациональное упрямство Саддама Хусейна, его варварские действия, в частности разграбление и разрушение Кувейта, превращение в заложников специалистов, работавших в Ираке, укрепляли военную партию в Вашингтоне и других западных столицах.
Война в Заливе
В ночь с 16 на 17 января 1991 года Соединенные Штаты нанесли удар. За считанные минуты до того, как союзники открыли военные действия, Бейкер позвонил домой министру иностранных дел СССР и сообщил об этом. Я попросил срочно довести до Буша просьбу отложить акцию хоть на какое-то время, чтобы еще раз попытаться заставить Ирак вывести войска из Кувейта. Но Бейкер ответил, что военные действия уже начались.
В этих условиях я сделал заявление, в котором, в частности, было сказано: «Такой трагический оборот был спровоцирован отказом руководства Ирака выполнить требование мирового сообщества и вывести свои войска из Кувейта. С самого начала иракской агрессии Советский Союз делал все от него зависящее, чтобы разрешить острый международный конфликт мирным путем. До самых последних минут нами предпринимались энергичные усилия с целью предотвратить войну, политическими средствами вернуть Кувейту независимость».
Одновременно я дал указание нашему послу в Багдаде связаться с Хусейном, сообщить ему о моем обращении к Бушу, подчеркнул необходимость в интересах самого иракского народа, в интересах мира в регионе заявить о готовности уйти из Кувейта. Выразил надежду, что, руководствуясь высшими интересами своего народа и мирового сообщества, Ирак пойдет на этот единственно спасительный шаг.
Той же ночью мы обратились к руководству Франции, Китая, Великобритании, Германии, Италии, Индии, Ирана, к главам большинства арабских государств с призывом предпринять совместные параллельные шаги в целях локализации конфликта, чтобы не допустить его опасного разрастания.
Военные действия сразу приняли большой размах, по территории Ирака наносились мощные удары с воздуха. Иракцы в свою очередь сделали попытку расширить театр военных действий, подвергнув ракетному обстрелу Израиль и Саудовскую Аравию. Расчет, видимо, делался на то, что это вызовет ответную реакцию Израиля и тогда военные действия примут характер арабо-израильского противоборства с соответствующими политическими последствиями. Советский Союз однозначно осудил обстрелы Израиля и Саудовской Аравии и высоко оценил их сдержанность, ответственный подход в столь опасный для мира момент.
Между тем происходила явная эскалация военных действий. Если сначала основной целью были военные объекты, то затем налетам стали подвергаться промышленные предприятия — и не только те, которые работали на армию. Особое значение Соединенные Штаты придавали ударам по ядерным реакторам, химическим предприятиям, центрам, в которых могло разрабатываться биологическое оружие.
На третий день военных действий, 19 января, я принял решение выступить с новой политической инициативой. Было дано указание нашему послу в Багдаде вступить в контакт с Хусейном и передать следующее: если мы в конфиденциальном порядке получим заверения от Ирака о его готовности безусловно и безоговорочно вывести войска из Кувейта, то обратимся к Соединенным Штатам с предложением о прекращении огня.
Кстати сказать, эта моя инициатива была очень недобросовестно интерпретирована некоторыми политиками и органами печати Запада. Не зная истинных обстоятельств или сознательно искажая истину, они заявляли, будто мы действовали за спиной Вашингтона. На самом же деле в телефонном разговоре с Бушем 18 января в 17 часов 15 минут по московскому времени я сообщил о предпринимаемых мною усилиях. И подчеркнул: «Военные действия начались, и сейчас в первую очередь необходимо думать о том, как сократить их, не допустить расползания, а такая тенденция есть». На это Буш ответил: «Меня тоже это очень беспокоит. Думаю, когда Хусейн преднамеренно направил ракеты на Израиль, он стремился именно к разрастанию военных действий».
Я также заявил: «Мы хотим до конца быть с вами в рамках единого подхода в оценке агрессии, общей позиции в отношении действий режима Хусейна. Нет никаких сомнений и колебаний в отношении того, что вина, ответственность за происходящее лежит на нем».
В тот же день у меня был телефонный разговор с Колем, которому я тоже сообщил о нашей инициативе.
Багдад в течение двух дней хранил молчание, а затем нам было заявлено, что предложения подобного рода должны быть адресованы Президенту США.
Но и эта, казалось бы, обескураживающая реакция Хусейна не заставила меня отступиться — слишком велика была ставка. Тем более что в военных действиях стали появляться все более тревожные и тяжелые моменты. Бомбовые удары и ракетные обстрелы все чаще поражали жилые кварталы Багдада и других городов, огромный урон наносился системе жизнеобеспечения страны. Были разрушены все электростанции, перестали работать очистительные сооружения при заборе воды, помпы, применяемые в системе канализации. Возникала реальная опасность массовых эпидемий. Поражались объекты, которые трудно было назвать военными. Возникла перспектива экологических осложнений. Ирак выпустил в воды Персидского залива огромное количество нефти, что создавало страшную угрозу для окружающей среды. Мы к тому же не склонны были игнорировать иракские угрозы применить средства массового поражения — от загнанного в угол диктатора можно было ждать всего. Тем более, повторяю, речь шла о территориях, расположенных неподалеку от Советского Союза.>
Нас насторожили заявления в американской прессе и политических кругах о возможности и целесообразности применения тактического ядерного оружия против иракской армии.
Повторяю, я видел во всем этом подтверждение правильности избранного нами курса, отдающего предпочтение политическим средствам урегулирования кризиса.
29 января Вашингтон посетил наш министр иностранных дел Александр Бессмертных. В принятом советско-американском заявлении подчеркивалось, что прекращение военных действий возможно, «если Ирак даст недвусмысленное обязательство уйти из Кувейта». Министры также полагают, говорилось далее, что такое обязательство должно быть сразу же подкреплено конкретными шагами, ведущими к полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. Устранение источников конфликтов и нестабильности в регионе невозможно без полнокровного мирного процесса, включающего примирение между Израилем, арабскими государствами и палестинцами. й В Соединенных Штатах две последние части заявления были встречены довольно острой критикой. Между тем я нахожу его очень важным. Во-первых, четко формулируя основную задачу — восстановление суверенитета и независимости Кувейта, заявление в то же время открывало определенное политическое пространство для поиска мирного выхода. В то же время оно вновь как бы подтверждало и очерчивало рамки резолюции Совета Безопасности, сводя недвусмысленно дело к тому, чтобы заставить Ирак безоговорочно уйти из Кувейта, то есть противостояло всякого рода расширительным ее толкованиям.
Нараставшее ожесточение военных действий, сеявших смерть и разрушения фактически на всей территории Ирака, по своему характеру и применяемым методам уже явно выходивших за пределы резолюции СБ, наконец, все более зримая перспектива ввода в действие сухопутных сил побудили меня предпринять еще один шаг. 9 февраля я выступил с новым заявлением и одновременно решил еще раз направить в Багдад своего личного представителя.
В заявлении говорилось: «События в районе Персидского залива приобретают все более тревожный и драматический оборот. Раскручивается маховик крупнейшей за последние десятилетия войны. Множится число жертв, в том числе среди мирного населения. Военными действиями уже нанесен огромный материальный ущерб. Целые страны — сначала Кувейт, теперь Ирак, а потом, возможно, и другие — под угрозой катастрофического разрушения». В заявлении была подтверждена принципиальная линия советского руководства на поддержку резолюций ООН, но в то же время отмечалось, что «логика военных операций и характер военных действий создают угрозу превышения мандата, который определен в этих резолюциях».
Еще раньше, принимая американского посла Мэтлока 24 января 1991 года, я развивал примерно те же мысли. И эти же тезисы я излагал в беседе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Кувейт Саббахом аль-Ахмедом, которая состоялась 14 февраля 1991 года.
16 февраля в беседе с министрами иностранных дел Люксембурга Ж.Поосом, Нидерландов — Х.Ван ден Бруком, Италии — Де Микелисом я разъяснял смысл своего заявления от 9 февраля:
— Прежде всего, мы в принципиальном плане подтвердили свою приверженность резолюциям Совета Безопасности. Нельзя давать Хусейну, а также всякого рода недоброжелателям какой-либо повод надеяться, что в этом вопросе между нами могут появиться даже небольшие трещины. Это главное.
Важным в этом заявлении было и другое соображение: существует угроза, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к непоправимому ущербу стране, иракскому народу. А это уже выходит за рамки мандата Совета Безопасности. Если это случится, то одержанная победа будет пирровой.
Наконец, 9 февраля было заявлено, что мы с большой тревогой воспринимаем то, что кто-то пускает в ход тезис о допустимости применения оружия массового уничтожения. Причем эти высказывания делаются и на политическом уровне. Нельзя допускать, чтобы нас подводили к мысли о том, что это оружие может быть применено. И снова подчеркивалось: никогда не поздно задействовать дипломатические, политические методы.
Наш представитель, посланный в Багдад, сказал Хусейну: «Ирак находится на пороге направленной против него широкомасштабной сухопутной операции, в ходе которой союзники будут действовать достаточно решительно, и группировка иракских войск в Кувейте будет разгромлена». Ему предложено без отлагательств заявить о выводе иракских войск из Кувейта — полном и безусловном, определив при этом наикратчайшие его сроки.
Новые переговоры с Ираком
На этот раз, видимо, под воздействием уже понесенных поражений в иракской позиции обозначилась подвижка. Хусейн не ограничивался заявлениями, что Ирак не пойдет на капитуляцию, окажет эффективное сопротивление и т. д. Нам было представлено письменное заявление, где говорилось, что иракское руководство серьезно изучает идеи, выдвинутые советской стороной, и даст ответ через Тарика Азиза, который в воскресенье вылетит в Москву. А 15 февраля, то есть за два дня до его приезда, багдадское радио прервало свои передачи и огласило заявление Совета революционного командования. В нем говорилось о готовности Ирака действовать в соответствии с резолюцией 66 °Cовета Безопасности, требовавшей безоговорочного вывода иракских войск из Кувейта.
17 февраля вечером на специально направленном за ним в Тегеран советском самолете в Москву прилетел Тарик Азиз. 18 февраля утром я встретился с ним и сразу же задал вопрос: «Что вы привезли для меня?» Вопрос был не случайным. Совет революционного командования Ирака (СРК), заявив о своем согласии с резолюцией 660, обставил его множеством пропагандистских формул, которые позволяли толковать их как своего рода предварительные условия.
Я видел задачу в том, чтобы иракское руководство однозначно отказалось не только от каких-либо условий, но и от любых двусмысленностей, которые могли бы имитировать условия.
Беседуя с Азизом, я подчеркнул, что позиция иракской стороны выглядит противоречивой. С одной стороны, это важный шаг к политическому урегулированию, так как иракская сторона признает резолюцию 660. В то же время это признание снабжено оговорками, а резолюция требует безоговорочного ухода Ирака из Кувейта.
Я согласился с тем, что иракцы в своем заявлении называют важные ближневосточные проблемы. Но они не могут и не должны прямо увязываться с выводом войск. Это и неприемлемо, и нереально. Особенно важно знать, не является ли круг этих вопросов предварительным условием урегулирования кувейтского кризиса. Одно дело, если их выдвигают в качестве условия, другое — если лишь напоминают о наличии глубоких проблем в этом регионе.
Азиз вынужден был согласиться, что перечень проблем в заявлении СРК — это не «условие вывода», а как бы программа, которую следует реализовать в будущем.
Я предложил следующий план (цитирую себя):
«— Ирак должен заявить, что он готов вывести войска из Кувейта;
— вывод войск мог бы начаться на второй день после прекращения военных действий, которое необходимо для его практического осуществления;
— должно быть ясно определено, какой срок понадобится для вывода войск;
— должна быть полная гарантия Совета Безопасности для безопасного вывода войск из Кувейта».
Если бы иракское руководство выступило с таким планом в развитие своего заявления, это стало бы для нас и других стран основанием для незамедлительного созыва Совета Безопасности, в ходе которого была бы всесторонне проанализирована создавшаяся ситуация. Он принял бы к рассмотрению и занялся всем комплексом проблем ближневосточного регулирования.
На вопрос Азиза, что станется с «целой серией резолюций» Совета Безопасности, предполагающих, в частности, жесткие экономические санкции против Ирака, я отвечал следующим образом:
— После вывода иракских войск этот вопрос должен быть рассмотрен в Совете Безопасности. Не могу сказать, что эти резолюции будут аннулированы, поскольку создалось бы впечатление, что они были незаконными и недействительными. Однако их действие может быть прекращено. И мы готовы внести такое предложение. Во всяком случае, можно продумать, что должно следовать за чем, если мы договоримся о главном.
Обращаясь в завершение беседы к Азизу и присутствовавшему на ней другому члену иракского руководства, заместителю премьер-министра С.Хаммади, я сказал:
— Сейчас огромную роль играет фактор времени. Если вы дорожите жизнями своих соотечественников, судьбой Ирака, то должны действовать незамедлительно.
В общем, состоялся очень непростой, продолжавшийся около трех часов разговор. У меня сложилось впечатление, что иракские представители, отражая, разумеется, позицию самого Хусейна, склонны переместиться на реалистические рубежи. Они не отвергли с порога наших предложений, но, естественно, заявили, что ответ сумеют дать после того, как Азиз доложит, как он выразился, о «плане Горбачева» президенту Хусейну и всему составу иракского руководства. Немедленно после беседы иракцы отбыли домой.
Я же сразу связался по телефону с Президентом США и руководителями ряда стран Западной Европы, рассказал им о характере разговора, своих впечатлениях, указав на возможность перемен в позиции Хусейна. Я считал, что появившиеся новые моменты должны быть учтены при планировании военных действий на ближайшие дни, и мне тогда показалось, что моя информация находит понимание.
Азиз вернулся в Москву ночью 21 февраля. Но за несколько часов до этого по радио выступил Хусейн. Его выступление было сбивчивым, неконструктивным, в нем присутствовал полный набор пропагандистских штампов и даже угроз. Понятно было, что все это адресовано прежде всего иракцам и призвано как-то замаскировать согласие иракского руководства на ультиматум ООН, который оно раньше решительно и вызывающе отвергало. Но как бы то ни было, это выступление Хусейна называлось затем американским президентом в ходе моего телефонного разговора с ним 22 февраля в качестве свидетельства неискренности и невозможности доверять ему даже тогда, когда иракская сторона говорит о своем согласии с резолюцией 660.
Азиза в 12 часов ночи прямо с аэродрома привезли в Кремль. Я же в эти сутки вообще оттуда не уезжал. Состоялся разговор, который длился до трех часов утра. Забегая вперед, скажу, что вторая краткая беседа с ним была на следующий день в 12.30.
На этот раз разговор был более простым, хотя иракское руководство продолжало по ряду пунктов занимать нереалистические позиции. В конечном счете удалось выйти на более или менее приемлемую, с нашей точки зрения, линию. Главное — был четко и недвусмысленно сформулирован пункт о том, что Ирак принимает резолюцию 66 °CБ и готов полностью вывести свои войска из Кувейта. Иракцы, однако, утверждали, что не смогут сделать это в предельно сжатые сроки. На аргумент (его, кстати, приводила и американская сторона), что войска вводились за считанные часы, а на их вывод иракцы просят (поначалу) несколько месяцев, а в качестве минимального срока — 4 недели, Азиз отвечал так: вводили лишь пару дивизий, а за 7 месяцев сосредоточили в Кувейте полумиллионную армию. Я твердо заявил, что предлагаемые сроки могут и должны быть сокращены до предела.
Как и в прошлый раз, Азиз ставил также вопрос, что одновременно с объявлением согласия Ирака вывести свои войска из Кувейта должны быть отменены все резолюции СБ относительно санкций. Я заметил, что такие вопросы могут быть рассмотрены, но никакой увязки с главным пунктом о принятии Ираком резолюции 660 и выводе войск быть не может.
Было решено, что окончательный текст с этими принципиальными моментами будет сформулирован советскими и иракскими представителями, которые начнут работу немедленно.
Тем временем, а был уже четвертый час утра, я связался с Бушем и имел с ним полуторачасовой разговор. Рассказал, что наша беседа с Азизом шла на базе серьезных подвижек у иракской стороны и что иракцы «пришли к позиции, в которой все замешено на реализме, а это означает, что появились хорошие возможности найти развязки конфликта». Буш выразил признательность за усилия, которые предпринимают Советский Союз, его президент, просил срочно сообщить ему информацию, которая поступит из Багдада. И со значением добавил: «Время истекает, и истекает очень быстро».
Между тем переговоры между советскими и иракскими представителями привели к тому, что было сформулировано 6 пунктов, главным из которых был следующий: «Ирак соглашается выполнить резолюцию 660, то есть незамедлительно и безусловно вывести все свои войска из Кувейта на позиции, которые они занимали 1 августа 1990 года». В то же время, вопреки всем возражениям советских представителей, Азиз продолжал цепляться за пункт, который гласил: «Сразу же после завершения вывода войск из Кувейта причины, по которым были приняты и другие резолюции Совета Безопасности, будут исчерпаны, и в силу этого указанные резолюции прекратят свое действие».
Конечно, этот документ трудно назвать идеальным, и только что приведенный пункт был неприемлемым. Но он, несомненно, — в этом я убежден до сих пор — мог стать отправной точкой для прекращения военных действий. Азиз, сделавший оговорку, что необходимо одобрение согласованного документа всем руководством, в первую очередь Хусейном, прибавил, что уверен в положительном ответе. Чтобы ускорить дело, мы предложили ему послать телеграмму через советское посольство в Багдаде даже иракским шифром. Именно таким путем указанные 6 пунктов были переданы иракскому руководству 23 февраля, а в 2 часа ночи по московскому времени (в Вашингтоне еще было 22 февраля) пришел положительный ответ.
Однако еще до этого, в 7 часов вечера по Москве, президент Буш предъявил ультиматум Ираку с требованием вывести войска с территории Кувейта в недельный срок, в том числе из города Эль-Кувейт — за 48 часов, и начать этот вывод в субботу, 23 февраля, до 12 часов дня по нью-йоркскому времени, то есть в 8 часов вечера по московскому.
По нашему мнению, заявление, с которым выступило руководство Ирака, привело к возникновению новой ситуации, появился осязаемый шанс перевести военный конфликт в политическое русло. Проблема состояла теперь в том, что коалиция, и прежде всего США, не принимали это заявление в качестве ответа на ее требования. 23 февраля, в 12 часов 05 минут, Азиз огласил журналистам решение иракского руководства незамедлительно и безусловно вывести войска из Кувейта, но при этом сослался на весь комплекс вопросов, проработанный в Москве. Он закончил свое выступление словами о том, что решение о безусловном и безоговорочном выводе войск из Кувейта является ответом на требования президента Буша.
В новой телефонной беседе с Бушем (22 февраля вечером) я предложил в срочном порядке провести заседание Совета Безопасности, рассмотреть в течение суток всю ситуацию и выйти на интегрированное решение, включающее все приемлемые моменты, выдвигавшиеся в ходе состоявшихся политических контактов, тем самым обеспечить освобождение Кувейта без дальнейшей эскалации военных действий.
Отвечая мне, Буш вновь подчеркнул «весьма конструктивную» роль, которую сыграл и продолжает играть в ходе кризиса в Персидском заливе Советский Союз. Вместе с тем американский президент высказал сомнение в отношении использования того шанса, который дают изменения в позиции Ирака, — изменения, как я уже упомянул, им признаваемые. Буш говорил, что Хусейну верить нельзя, что его особенно беспокоит разрушение иракцами Кувейта, судьба пленных, находящихся в тягчайших условиях. Он считал также невозможным «пройти мимо колоссального материального ущерба, нанесенного агрессией Ирака Кувейту…» Соглашаясь с тем, что мне удалось добиться от иракского руководства отказа от увязки вывода войск с другими проблемами и согласия с «концепцией вывода войск», Буш подчеркнул, что «это еще отнюдь не безоговорочный вывод войск». Президент счел также неприемлемыми называемые иракцами сроки вывода войск, заявив, что они слишком длительны.
Я сослался на заверения Азиза, что иракское руководство приняло решение о выводе войск и его выполнит. Кроме того, придерживаясь своих убеждений и избранной политической линии, настаивал:
«Как мне кажется, мы и вы должны спросить себя, чему отдаем приоритет при выработке окончательного решения проблемы Персидского залива — политическому подходу или продолжению поисков военного решения». «Мы не расходимся с вами в нашей практической оценке Хусейна. Речь идет о том, чтобы воспользоваться тем, что нами уже достигнуто, внести новый крупный вклад, обеспечить достижение поставленных целей иными, политическими средствами и тем самым избежать драматической, а то и трагической развязки».
Наступал последний акт драмы. Положение складывалось предельно сложное. С одной стороны, иракское руководство наконец после длительного то ли ослепления, то ли фанфаронства (а скорее — того и другого) проявило признаки реализма, склонно было согласиться на требования мирового сообщества. Заявление Азиза в Москве было подтверждено официальным заявлением в Багдаде о согласии на полный и безоговорочный вывод иракских войск из Кувейта в течение четырех дней в соответствии с резолюцией 66 °Cовета Безопасности.
С другой стороны, антииракская коалиция, главным образом Соединенные Штаты Америки, полные решимости призвать агрессора к порядку, раздраженные вызывающим поведением Саддама Хусейна и его оскорбительными выпадами лично против Президента США, подогреваемые эффективностью военных действий, в ходе которых были испытаны новейшие средства ведения войны, все более определенно отдавали предпочтение военному выбору.
Я сделал последнюю попытку остановить эскалацию войны, особенно разрушительный ее раунд. 23 февраля целые сутки не отходил от телефона, пытаясь убедить главных моих партнеров по мировой политике в возможности все-таки повернуть развитие в невоенное русло. Сначала мною были направлены телеграммы всем членам Совета Безопасности. С 12 часов 45 минут и до 21 часа 10 минут я разговаривал по телефону с Мейджором, Андреотти, Миттераном, Мубараком, Аса-дом, Колем, Кайфу, Президентом Ирана Хашими-Рафсанджани и опять с Бушем (перечисляю в том порядке, в каком это происходило).
Разговоры, конечно, были разными, на них накладывал отпечаток тот или иной характер уже сложившихся отношений. Но политическое содержание было одним и тем же. Я подчеркивал следующие моменты.
Первое. После согласия иракского руководства безоговорочно вывести войска из Кувейта ситуация меняется, и нельзя делать вид, что ничего не произошло.
Второе. Поворот был достигнут благодаря совместным акциям всего мирового сообщества, направленным против агрессии Ирака.
Третье. Безоговорочное согласие Ирака создает реальную возможность войти в русло политического урегулирования.
Я предложил созвать Совет Безопасности ООН и интегрировать в целое план, уже принятый Ираком, с требованиями Соединенных Штатов и других государств. Обращал внимание на то, что расхождения между формулами, на которые согласился Ирак, и этими требованиями можно уладить, согласовать в Совете Безопасности в течение одного-двух дней.
Реакция на мои предложения была неодинаковой, но большинство собеседников поддержало мои усилия, отмечало их позитивный и целесообразный характер. На рассвете 24 февраля Президент Соединенных Штатов заявил, что им отдан приказ о начале наступления сухопутных войск. Дальнейшее хорошо известно. Участники коалиции, главным образом американцы, развернули мощное наступление, которое в короткие сроки принесло им полный успех, но сопровождалось огромными человеческими жертвами на иракской стороне.
В ночь на 27 февраля посол СССР в Багдаде был приглашен в МИД Ирака, где с ним встретились Хаммади и Азиз. Они попросили срочно передать по советским каналам генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности заявление министра иностранных дел Ирака о том, что иракское правительство вновь подтверждает принятие им резолюции 660 и что полный вывод иракских войск из Кувейта будет завершен в течение нескольких часов. Было заявлено также о согласии выполнить резолюции 662, 674, которые предусматривали восстановление законной власти в Кувейте и выплату репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный Ираком этой стране. А 28 февраля Бейкер сообщил Бессмертных, что в ответ на согласие Ирака принять к исполнению все резолюции Совета Безопасности ООН по кувейтскому кризису США решили приостановить военные действия.
Занавес, таким образом, над событиями в Персидском заливе опустился. Что мы имели в итоге?
Несомненным позитивным результатом явилось восстановление суверенитета и независимости Кувейта, пресечение агрессии и наказание агрессора, как бы знаменовавшее некоторую победу морали в международной жизни.
Принципиальным достижением было и то, что, несмотря на все свои усилия, Хусейн не сумел расколоть мировое сообщество, которое до конца противостояло агрессору.
Но итогом событий стали и разрушенные Кувейт и Ирак, десятки тысяч убитых и раненых, экологическое бедствие и многие другие печальные последствия. Я уже не говорю о том, что в новую эру, которая была возвещена как эра нового мирового порядка, мы вступили под грохот пушек. А это не лучший аккомпанемент…
Оглядываясь назад, я хочу сказать следующее. Мы сыграли фундаментальную роль в формировании единой реакции мирового сообщества на агрессию и ее пресечении, способствовали консолидации роли Организации Объединенных Наций. Сумели, разумеется, совместно с руководством США не только сохранить, но и укрепить советско-американское взаимопонимание, доверие и партнерство, пронеся их через перипетии острейшего конфликта — первого испытания по окончании «холодной войны».
Наконец, мы настойчиво проводили линию на политический выход из создавшейся ситуации, который исключал войну, жертвы и страдания, хотя и не добились здесь полного успеха — не по своей вине.
Буду до конца откровенным, не могу освободиться от мысли, что осуществление плана политического урегулирования кризиса в Персидском заливе было возможным и что этого не случилось из-за позиции США, в последний момент отдавших предпочтение военному решению. Думаю, в Вашингтоне возобладали аргументы, согласно которым принятие плана политического урегулирования означало бы, что руководство США допустило просчет. Реализация плана могла поднять еще больше престиж СССР, а это многими советниками президента всегда рассматривалось как не отвечающее интересам США.
С моей точки зрения, именно такие подходы возобладали в администрации в тот драматический момент — нужна была очередная победа, которая продемонстрировала бы всему миру, что такое США, надо было рассеять всякие сомнения внутри по поводу решительности президента. Другим серьезным побудительным мотивом было, очевидно, стремление до конца разрушить военный потенциал Ирака, нанести сокрушительное поражение режиму Хусейна и добиться его отстранения от власти.
Наши европейские партнеры в критических обстоятельствах действовали вяло, даже обреченно — что, мол, поделаешь, раз так ведет себя Хусейн, а США должны доказать, что только их действия являются правильными. Между тем, если бы восторжествовал мирный, невоенный метод решения конфликта, может быть, многие нынешние проблемы выглядели несколько иначе. Кто знает!..
Глава 26. Япония. Официальный визит президента СССР
Приглашение посетить Японию было одним из первых, которое я получил, став Генеральным секретарем ЦК КПСС. Это сделал премьер-министр Накасонэ, побывав в Москве. Но затем пошло «длительное вживание в тему», которая оказалась очень трудной. Нормализация и улучшение отношений с этой великой соседней страной было моим понятным желанием, о чем я заявил во Владивостоке летом 1986 года. Но я недооценил препятствий на пути к этому. Кстати, из крупных стран Азии наиболее прохладная, даже неприязненная реакция на владивостокскую речь последовала именно из Японии.
Однако все по порядку.
Первые контакты
Делегации из Японии различного уровня и с разными целями наведывались к нам довольно часто. Редкая из них не просилась на встречу со мной. Со многими я встречался.
Первыми из тех, которые отложились в памяти, были беседы с одним из руководителей Японской компартии Фувой. Отношения с КПЯ у КПСС на протяжении десятилетий были плохими. С Фувой мы обсуждали главным образом межпартийные проблемы. Особенно настойчиво японский гость убеждал меня, даже требовал (впрочем, абсолютно безуспешно!), чтобы мы порвали раз и навсегда свои контакты с Социалистической партией Японии, которая, по его словам, «служит только империализму США и своей буржуазии».
В ответ на соответствующий вопрос Фувы я определенно сказал: «Мы готовы к развитию отношений с Японией. Если она не будет предъявлять нам ультиматумов, то для этого имеется большой потенциал. А почему, собственно, Япония предъявляет ультиматум Советскому Союзу, ведь мы ей войны не проигрывали?»
Должен сказать, что продуманной политики в контексте «нового мышления» на японском направлении у нас тогда не было. Было желание подвести черту под прошлым и «начать все по новой». Эти слова я повторял на первых порах всем своим японским собеседникам, не чувствуя еще значимости — государственной, политической, эмоциональной, традиционной, психологической, всякой, — какую придают в Японии проблеме южнокурильских островов. В первых беседах даже обсуждать этого вопроса не хотел, считая послевоенное территориальное деление всюду и везде окончательным и бесповоротным. Не признавал наличия самой проблемы. Она, по громыкинской формуле, была решена «в результате войны», и потому четыре острова по праву принадлежат Советскому Союзу, у которого, мол, хоть он и большой, «лишних земель нет». Однако по мере формирования политики нового мышления, более близкого знакомства с сутью дела, под влиянием аргументов японских политических деятелей, с которыми все чаще встречался, в дискуссию «по территориальному вопросу» пришлось все-таки вступить.
Первая такая дискуссия произошла — с большим опозданием от отпущенного мне времени — с председателем ЦИК Социалистической партии Японии Т.Дои 6 мая 1988 года. Мы основательно прошлись по ситуации в мире и, конечно, то и дело касались советско-японских отношений. В конце концов она вывела эту тему на мой визит.
— Когда же Генеральный секретарь Горбачев приедет в Японию?
— Когда время наступит. Я готов. А Япония готова? — ответил я вопросом на вопрос. Посмеялись.
— Да, готова, — уверенно заявила Дои.
— Вряд ли, — усомнился я.
— Нет, она готова, — настаивала моя собеседница. — Вы намекаете, что, если с японской стороны четко скажут, что хотят вашего визита, вы поедете?
— Если в результате визита мы сможем выйти на что-либо конкретное.
— У вас есть какие-то конкретные условия?
— Нужен визит, который реально продвинул бы наши отношения вперед. Так просто путешествовать времени нет.
Дои деликатно, но все же не удержалась, чтобы не поднять тему «нерешенных проблем» и Декларации 1956 года, которая восстанавливала дипломатические отношения между СССР и Японией и содержала пункт о двух южнокурильских островах.
В том же году я вторично встретился с Я.Накасонэ, который к тому времени уже не был премьер-министром. Разговор наш с ним сразу перешел на тему советско-японских отношений. Собеседник согласился с моей оценкой их состояния, с тем, что они сильно отстают от процессов, происходящих в мире. При этом сказал, что сам он преисполнен намерений содействовать выходу из такого состояния.
Меня заинтересовали его размышления по проблемам Тихоокеанского региона, особенно оценка моей речи во Владивостоке. По Накасонэ, получилось, что у Советского Союза на Дальнем Востоке еще слабые позиции. Там нет ни одного города, который можно было бы назвать культурным и экономическим центром. Ни одного города с населением больше 500 тысяч человек. Находка, Владивосток — города, которые воспринимаются как военные базы. Кроме того, много нерешенных проблем. Иными словами, до форума типа Хельсинки далеко. Ваша страна еще не созрела для участия в общем клубе стран АТР — так, собственно, прямолинейно оценил ситуацию мой собеседник.
Я возразил Накасонэ. Во владивостокской речи мы не предлагаем завтра же принять декларацию типа хельсинкской. АТР — огромный и очень сложный регион. В нем живут сотни народов с непростой историей отношений и множеством современных проблем. Здесь сконцентрировалась огромная военная мощь, накопилась масса взрывного материала, и в то же время нет системы, которая гармонизировала бы интересы стран, снимала опасности и противоречия. Может быть, кто-то такую ситуацию считает очень выгодной, но это заблуждение. Пришло время по-новому взглянуть на АТР.
Владивосток — это приглашение начать движение через динамизацию двусторонних отношений, политический диалог, отдельные шаги по созданию зон доверия. Надо начать движение. Никто не говорит: давайте завтра Хельсинки! Вы правы, что рано говорить о Хельсинки, но если ничего не предпринимать, то проблемы так и останутся.
Накасонэ гнул свою линию — СССР надо интенсивнее активизировать связи районов Приморья со странами Японского моря. Тогда в регионе действительно будут развиваться дружеские отношения. Вот из Японии каждый год выезжает до 6 миллионов человек в зарубежные страны. А в восточные районы СССР практически никто не едет. Здесь надо строить гостиницы, подумать об организации лыжных центров и т. д. — ведь масса интересных мест. Это будет лучше и гораздо дешевле, чем ездить в Канаду, что очень популярно в Японии. Японцы до сих пор воспринимают Владивосток как какую-то опасную военную базу, а надо, чтобы о нем думали как об экономическом, культурном центре, центре туризма. Тогда резко переменится и представление о регионе в целом, возникнут совместные предприятия. Надо, чтобы во Владивостоке выступали известные коллективы, такие, как оркестр Ленинградской филармонии, Большой театр. Тогда и японцы сюда поедут.
Реагируя на мой анализ процессов в СССР, Накасонэ продемонстрировал довольно хорошее знание нашей ситуации. А в конце концов вежливо подошел к болезненной теме — к «препятствиям в советско-японских отношениях».
Хочу воспроизвести эту часть нашей беседы текстуально.
«НАКАСОНЭ. Я очень хочу добиться улучшения японо-советских отношений. За этим и приехал в Москву. Во-первых, существует территориальная проблема. Когда в переговорах она возникает, советская сторона сразу гневается и не хочет ее обсуждать. Я думаю, что после 1956 года, когда были восстановлены дипломатические отношения, было сделано с обеих сторон слишком много заявлений, являющихся политическим блефом. Вы, господин Горбачев, юрист, заканчивали Московский университет. Я тоже юрист, заканчивал Токийский университет. Давайте поговорим об этих проблемах хладнокровие, как юристы. Еще раз обдумаем, каким образом были восстановлены дипломатические отношения, какие вопросы существуют и как их решить. Надо вернуться к исходному пункту положения, зафиксированного после Второй мировой войны.
В то время нашим главным желанием было восстановить дипломатические отношения и начать движение в сторону дружеских отношений. Декларация была принята 19 октября 1956 года, ее подписали Хатояма и Булганин. А 29 сентября был проведен обмен письмами между Мацумото и Громыко. В этих письмах обе стороны согласились после восстановления нормальных дипломатических отношений продолжить переговоры о мирном договоре, включая территориальный вопрос.
В 1960 году в новой форме был подписан японо-американский договор безопасности. Советский Союз направил меморандум, смысл которого, как нам кажется, состоит в отрицании договоренности, зафиксированной в письмах Мацумото — Громыко. Но договор безопасности 1960 года имеет ряд положительных моментов, поскольку он фактически восстановил полную независимость Японии. Во-первых, Япония получила юрисдикцию над американскими войсками на ее территории. Во-вторых, исключается возможность участия американских войск в подавлении внутренних беспорядков в Японии. В-третьих, в отличие от предыдущего бессрочного договора нынешний необходимо продлевать каждые 10 лет. В нем предусмотрена процедура аннулирования.
Важным этапом были переговоры Танака — Брежнев. Они ознаменовали попытку вернуться к исходной точке. Но тогда во время переговоров было слишком много политических эмоций.
Мы не думаем, что наши северные территории сразу будут возвращены. Но очень важно опираться на исходные договоренности, которые зафиксированы в международных соглашениях между нашими двумя странами. Это внесет большой вклад в развитие отношений между нами. Я прошу вас серьезно отнестись к этому и изучить этот вопрос. Надо, чтобы настроения наших двух народов в этом вопросе были освобождены от эмоций и проблемы решались спокойно.
ГОРБАЧЕВ. Могу повторить наш принципиальный подход. Мы заинтересованы в добрых отношениях с Японией. Они должны охватывать политический диалог, экономическое, научно-техническое, культурное сотрудничество, обмен людьми. Мы за самые широкие связи. В 1985 году, когда мы с вами встречались впервые, я тоже говорил об этом. Что произошло за три года'? Со многими странами наши отношения расширились, стали продуктивными. А с Японией не только не продвинулись, застыли, кое в чем откатились. Мы об этом сожалеем. Нам кажется, что в Японии сложилось мнение, будто Советский Союз больше, чем Япония, заинтересован в улучшении отношений. До меня доходят сведения, что японцы делают вывод: Советский Союз нуждается в новой технологии и поэтому он обязательно придет на поклон к Японии. Это большое заблуждение. Если такой подход лежит в основе японской политики, ничего у нас не получится. В наших отношениях образовался какой-то пат.
Японские представители, говоря о советско-японских отношениях, начинают отсчет с 1956 года. А их надо начинать с послевоенной ситуации. Тогда и 1956 год выглядит иначе. В контексте того периода для восстановления отношений с Японией, их нормализации Советский Союз решил пойти на благородный шаг — отдать два острова. Это была добрая воля Советского Союза. А со стороны Японии сразу было выдвинуто требование четырех островов. И все завершилось ничем. Но потом последовал 1960 год. Япония пошла на сближение с США. Присутствие США в этом регионе возросло и приняло нынешние размеры. Это потребовало от Советского Союза ответных шагов».
…В общем, полезная и содержательная наша дискуссия с Накасонэ в тот раз практически тоже ни к чему не привела: оба исходили из зафиксированных позиций, каждый считал себя правым.
Накасонэ подтвердил свое прежнее, сделанное в бытность премьер-министром приглашение «от имени всей Японии» — посетить его страну.
Продвигая процесс взаимопонимания
5 мая 1989 года я принимал министра иностранных дел Японии Уно. К этому времени у меня был уже опыт общения, по крайней мере, с десятком японских официальных лиц. Но заметного продвижения в отношениях не было, о чем я и сказал министру. Однако мы уже могли оценить тот факт, что с декабря 1988 года начался диалог между нашими правительствами на уровне министров иностранных дел. Уно передал мне и Шеварднадзе «пять пунктов», по которым японская сторона предлагала вести этот диалог: продолжить работу по заключению мирного договора; укреплять доверие в отношениях; продвигать торгово-экономические связи; содействовать расширению контактов между людьми; обеспечить визит в Японию Горбачева.
При этом, однако, Уно официально подтвердил неизменность позиции своего правительства по островам: Япония не может признать соображения советской стороны, согласно которым с юридической и с исторической точки зрения четыре острова принадлежат Советскому Союзу.
Я со своей стороны не счел возможным реагировать прямолинейно, фиксируя неизменность нашей позиции. Сказал, что есть в начавшемся диалоге и какое-то продвижение. Появились рабочие группы по заключению мирного договора, они начали собираться, это укрепляет ростки доверия. Я за то, чтобы продвигать процесс взаимопонимания, не оставляя в стороне никаких вопросов.
В дальнейшей эволюции японо-советских связей большую роль сыграл посол Эдамура. Это умный, образованный дипломат высокого класса, с сильным характером. Очень определенный в суждениях и по-японски настойчивый в достижении целей, которые ставило перед ним токийское начальство. Но он вносил в эту свою служебную деятельность сильный элемент человеческого обаяния. У нас с ним сложились откровенные и доброжелательные отношения с оттенком доброго юмора.
Немалое значение имели мои контакты с японцами по общественной и культурной линии. Помню встречу с господином Икэдой летом 1990 года. Икэда — выдающийся мыслитель-гуманист, возглавляющий много лет религиозно-просветительскую организацию «Сокко-Гаккай», которая через свои культурные, учебные, университетские центры стремится служить делу духовного обновления и нравственного самоутверждения людей.
Встреча происходила в Кремле. Икэда привел своих соратников, человек двенадцать. Мы заочно немало уже знали друг о друге; когда здоровались, почувствовали, что предстоит откровенная, интересная беседа.
В ней присутствовала, конечно, и тема советско-японских отношений. Я обосновывал свою позицию — быстрее, решительнее улучшать атмосферу отношений между нашими странами, включать как можно больше людей с обеих сторон в живые контакты, тогда легче будет решать все проблемы. Икэда отнесся к этому с пониманием, но подчеркивал, что «движение вперед» и на этом направлении больше зависит от перемен в советском обществе.
В критические дни кризиса в Персидском заливе в январе 1991 года, поддерживая постоянный контакт со многими руководителями государств, я считал для себя обязательным обменяться мнениями и с Т.Кайфу, премьер-министром Японии. Разговор по телефону был весьма содержательным. С обеих сторон было понимание главного — с кризисом надо покончить по возможности так, чтобы не было слишком серьезного ущерба делу улучшения международных отношений в целом.
Этот первый заочный контакт с японским премьером занял свое место в психологической подготовке к нашей встрече в Токио.
На «подступах» к визиту
В рамках непосредственной подготовки к нему не могу не отметить приезд в конце марта 1991 года в Москву генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии Итиро Одзавы. Конечно, я знал о роли этой партии в государственной жизни Японии. Временами она правила в Японии не менее императивно, чем КПСС в Советском Союзе.
Встреча в Кремле проходила как встреча «руководителей правящих партий». И на этот раз разговор начался с констатации того, что советско-японские отношения отстают от отношений СССР со многими другими странами. Ненормальность такого положения очевидна. Ведь речь идет о двух соседних государствах, двух великих народах.
Было ясно, что появление Одзавы в Москве не было лишь его личной инициативой: руководство ЛДП хотело заранее узнать, с каким багажом я собираюсь в Японию. У Одзавы были и свои амбиции — узнать об этом первым.
В разговоре я вновь апеллировал к нашему опыту с Германией — идти через наращивание сотрудничества, изменение общественной атмосферы в восприятии народами друг друга, через изменение региональной и международной обстановки, искать оптимальный подход к решению проблем. Иначе говоря, признавая наличие проблем и необходимость их решения, я предлагал делать это в рамках постепенного и всестороннего улучшения отношений.
Моя обновленная позиция, говорил я Одзаве, состоит в следующем: давайте сотрудничать, искать пути развития наших отношений, обсуждать все вопросы. Будем продолжать работу над мирным договором, во всяком случае, у нас к этому есть добрая воля. Мы хотим, но никак не можем двинуться навстречу друг другу, а надо двигаться, выходить на новый уровень сотрудничества — тогда возникнет и новая ситуация.
Одзава не был оригинален, он повторял то, что я неоднократно слышал уже от японских деятелей: существует коренная разница между японо-советскими и советско-германскими отношениями. Япония во время Второй мировой войны не нападала на Советский Союз, не наносила ему вреда. Все в Японии надеются, что Горбачев смелыми политическими решениями сможет устранить препятствия, мешающие развитию наших отношений.
Аргументация и с моей стороны пошла по кругу. Я счел необходимым вновь разъяснить свою концепцию: проблема родилась в историческом процессе, история так или иначе ее решит. Давайте уйдем от старой позиции, двинемся друг другу навстречу. Иного пути не вижу. Я не формулирую нашу позицию в завершенном виде, лишь посвящаю вас в свои раздумья. Надо идти на сотрудничество и одновременно вести переговоры о мирном договоре. Оба процесса будут оплодотворять друг друга, приносить позитивный результат. Тут должно распорядиться время, может быть, совсем близкое, а может быть, и отдаленное.
Мне казалось, Одзава понял, что большего я не могу сказать и не скажу. Но вечером мне доложили, что он настаивает на еще одной встрече. Меня это удивило и не понравилось — случай, действительно, выпадал из всяких правил. Однако я решил «не обижать» этого деятеля, опять же ради того, чтобы исключить недоразумения в процессе, как мне казалось, начавшегося улучшения советско-японских отношений.
Одзава долго извинялся, объяснял, что не успел изложить всего, что привез из Японии, не сумел прояснить свою позицию до конца. Но мне-то было ясно: из Токио требовали большей определенности. С этим был связан и престиж Одзавы в расстановке партийно-политических сил в Японии.
Собеседник начал с «концепции визита Горбачева», которую он-де не успел изложить на первой беседе. Японское руководство исходит из того, что президент рассмотрит со своими собеседниками в Токио три момента, касающиеся «северных территорий»:
— Признать действенность совместной Декларации 1956 года и взять ее за основу для начала новых переговоров о мирном договоре.
— Подтвердить, что в дальнейшем под территориальным вопросом между СССР и Японией подразумевается решение судьбы двух других островов — Кунашир и Итуруп.
— Переговоры после визита должны определить статус Кунашира и Итурупа примерно осенью текущего года.
И в качестве «стимула» ко всему этому Одзава намекнул, что в этом случае японские фирмы готовы оказать СССР существенную экономическую помощь.
Я начал с последнего, сказав, что решительно отвергаю всякий торг как способ ведения дел. Это совершенно неприемлемо не только в диалоге между Японией и Советским Союзом, но и в принципе. Еще раз сказал собеседнику:
— Главной задачей моего визита в Японию является подготовка условий для вывода отношений на новый уровень. На этой основе мы сможем начать обсуждение всего комплекса вопросов, включая мирный договор и в его контексте — о прохождении границы. Хорошо понимаю настроения общественности Японии и зависимость от них позиций Одзавы. Но и власти в Советском Союзе должны учитывать общественное мнение.
Одзава не был доволен, продолжал настаивать, чтобы я сказал ему о предложениях, с которыми поеду в Токио.
— Сюрпризов не будет. Будут какие-то отработанные формулировки. Возможны нюансы, — таким был мой ответ.
Из второй беседы я понял, что японцы будут оказывать сильное давление на меня в ходе визита.
Переговоры с премьер- министром Т.Кайфу
Визит начался 16 апреля 1991 года. По дороге я на два дня остановился в Хабаровске. Было что обсудить с местными властями по внутренним делам. Заодно я хотел прояснить настроения наших людей, живущих поблизости от «спорных территорий». В столичных средствах массовой информации позиции разделились довольно четко: одни — за то, чтобы отдать острова и не тянуть с этим. Другие — не отдавать ни в коем случае. И у тех и у других были свои весомые аргументы. Концепция визита была обговорена с членами советского руководства: вести переговоры, нацеленные на коренное улучшение отношений с Японией, и пусть история рассудит, как быть с островами. Дальневосточники в своем большинстве были против всяких уступок в территориальном вопросе, но линию руководства на расширение связей с соседней Японией однозначно поддерживали.
В Хабаровске я возложил венок на кладбище японских военнопленных — в знак примирения и нашего желания подвести черту под давней враждой.
16 апреля в 10.30 по местному времени наш самолет приземлился в аэропорту Ханэда. Прозвучал 21 залп артиллерийского салюта. Официальная церемония с участием императора и императрицы состоялась на территории отведенной нам резиденции. После церемонии вместе с императором и императрицей мы отправились в императорский дворец, где состоялась примерно часовая беседа.
Я тоже сделал исторический обзор и воспроизвел все то, что читатель уже знает из моего диалога с представителями Японии. Обобщил сказанное так:
— Думаю, господин Кайфу, если мы хотим совершить прорыв и если мы реалисты, то надо совместно поднимать отношения на новый уровень. Мы понимаем, что не можем отложить, отбросить «проблему препятствий». Поэтому надо идти на сотрудничество и вести переговоры в другой динамике, в другом темпе. Если нужен более высокий уровень переговоров, давайте задействуем и другие эшелоны. Тогда оба процесса, расширение сотрудничества и работа над договором будут оплодотворять друг друга. Жизнь нас подведет к справедливому решению всех проблем, включая территориальную, которая стоит на пути заключения мирного договора.
Мы понимаем, что в Японии существует общественное мнение. Свое общественное мнение, однако, существует и у нас, и его мы тоже ни в коей мере не можем игнорировать. Только расширяя сотрудничество, мы можем изменять ситуацию, настроения в обществе, создать новую атмосферу и выйти на баланс интересов. Пусть поработает история, близкая и далекая. Раз речь идет о мирном договоре, мы должны обсудить весь комплекс вопросов и найти их решение, в том числе пограничного вопроса, проблемы территориального размежевания. Думаю, мы найдем ключ к их решению. Надо вместе сделать шаги навстречу друг другу.
Кайфу решил «конкретизировать» переговоры.
— Мы считаем необходимым подтвердить зафиксированную в Совместной декларации 1956 года договоренность о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан. В переговорах по мирному договору подразумеваем передачу Японии остальных двух островов — Кунашир и Итуруп. Целесообразно определить конкретные сроки завершения этих переговоров.
Я повторил свою аргументацию. Между прочим, спросил об отношении японского правительства к интересу деловых кругов Японии «работать» в Сибири, на Сахалине и т. д. Кайфу заявил, что к этому «в принципе отношение положительное», но мешает, мол, «главный вопрос».
На том первый раунд переговоров и кончился.
На другой день, после очевидной «ночной проработки» итогов первой беседы в японском руководстве, премьер-министр сразу же поднял тему Декларации 1956 года. Она, мол, является основой переговоров и историческим фактом в советско-японских отношениях.
Цитирую свой ответ: «Вы возвращаете нас к 1956 году. Но тут у нас позиции разные. Мы думаем над тем, как при наличии разных подходов отразить в итоговом документе какой-то позитив. Мы могли бы пойти вам навстречу и сделать в итоговом документе такую компромиссную запись: стороны обсудили территориальные вопросы, вернее, вопросы о территориальном размежевании, учитывая позиции, которые они занимают по вопросу о принадлежности островов Кунашир и Итуруп и малой Курильской гряды (т. е. островов Хабомаи и Шикотан).
И для советской, и для японской общественности было бы видно, что проблема принадлежности островов обсуждалась и будет обсуждаться в ходе подготовки мирного договора. В инициативном порядке, для закрепления этого позитива, мы могли бы предпринять конкретные шаги: рассмотреть вопрос о сокращении, например, в течение трех лет воинского контингента на Южных Курилах, о налаживании совместной хозяйственной деятельности в этом районе, включая морские ресурсы; о безвизовом, упрощенном посещении островов японскими гражданами. Такая политическая формула и сопровождающие ее конкретные предложения показали бы, что мы продвинулись вперед.
Если вы на это идете, можно записать, что мы продвинулись в подготовке мирного договора и вышли на общее понимание по ряду концептуальных его положений. Это значит, что договор должен будет зафиксировать окончательное послевоенное урегулирование, основанное на балансе интересов по всем направлениям, включая территориальное размежевание.
Что же касается вашей, господин Кайфу, постановки вопроса, то скажу совершенно искренне: она сейчас нереальна и неприемлема. У меня весь запас аргументов исчерпан, дальше я буду только повторяться».
Кайфу опять начал рассуждать, привлекая все новые данные о переговорах на разных уровнях на протяжении 30 лет после подписания Декларации 1956 года. И, между прочим, обронил фразу: «Вы, господин президент, говорили, что шанс тогда ушел…» Я тут же среагировал: «Боюсь, и второй шанс уходит».
Кайфу понял, что дело может обернуться полным провалом. Повторив ряд уже использованных аргументов, он все-таки продолжал настаивать на том, чтобы советская сторона в итоге переговоров подтвердила верность Советского Союза Декларации 1956 года без всяких оговорок.
Третий раунд, после обеда, был посвящен международным вопросам. Это был обзор событий и оценка их — в основном с моей стороны. Ничего оригинального из этого обмена не запомнилось. По просьбе Кайфу я охарактеризовал ситуацию в Советском Союзе. Говорили, кстати, и о предстоявшем летом того года в Лондоне заседании «большой семерки». Японский премьер был очень осторожен, сдержан на этот счет.
18-го утром, в следующем раунде, мы вернулись к «ключевому вопросу». На руках у нас уже были проекты, которыми делегации обменялись заранее: в них каждая обобщила сказанное ею ранее и сформулировала свои предложения по пунктам — для итогового коммюнике.
В наших предложениях мы постарались отразить какое-то «продвижение». Там говорилось об общении населения Хоккайдо и «спорных» островов, об упрощенном, безвизовом режиме, совместной хозяйственной деятельности. Мы предложили также сокращение военного контингента на островах. Такая конкретика как бы давала сигнал, что дебаты относительно мирного договора уже дают какой-то практический результат.
Японский проект упирал опять же на необходимость подтверждения нами Совместной декларации 1956 года и полностью обходил вопросы экономического сотрудничества. Японцы принимали не все пункты и в нашем проекте. Например, вместо постепенного сокращения войск на островах они предложили убрать их совсем и немедленно.
Пошел спор по пунктам обоих проектов. Кайфу при этом опять и опять возвращался к Декларации 1956 года. В конце концов я предложил компромиссную формулу: не называя сам документ, сказать, что «начиная с 1956 года было положено начало новому процессу, ознаменованному восстановлением дипломатических отношений и прекращением состояния войны». Мы не могли принять формулу Кайфу, потому что в ней была попытка спустя несколько десятилетий придать Декларации 1956 года роль, какой она не сыграла. Наша же формула отражала всю противоречивость происшедшего, объясняла и то, почему шанс был упущен.
Кроме того, я дал вполне определенную, отрицательную оценку увязки торгово-экономического и иного сотрудничества с «успехом переговоров по мирному договору». Считал единственно эффективным «обратный» подход, в чем все время пытался убедить собеседников.
Обмен мнениями приобрел напряженный оттенок также и в связи с нежеланием японцев зафиксировать в итоговом документе «промежуточные меры». Аргументация сводилась к тому, что поскольку они считают острова своими, то не могут допустить, чтобы «на собственной территории Японии вводились какие-то международные правила».
Возник продолжительный спор и по срокам подготовки мирного договора. Я сказал, что предложение японской стороны отвести на переговоры шесть месяцев — нереально. Кайфу в ответ повторил свои аргументы. Договорились вернуться к вопросу еще раз.
Вечером 18 апреля состоялся 6-й раунд переговоров. Премьер-министр согласился на мою формулу упоминания 1956 года, оговорив при этом, что делает очень смелый, рискованный для себя шаг: «придется отвечать перед парламентом и перед народом». Но отказался подчеркнуть в Заявлении стремление к масштабному сотрудничеству в экономической и других областях. Может показаться, какое значение имеет одно слово. Но в политике, дипломатии иной раз и оно может сыграть свою роль. Ведь какое-то, и немалое сотрудничество существует, и, раз мы вроде бы собирались обозначить новый этап в процессе сближения, надо было это как-то отразить. Но Кайфу хотел, видимо, сохранить резерв давления на Советский Союз ради «ключевого вопроса». Правда, в последний момент он все-таки пошел на небольшую уступку: вместо слова «масштабное» записали «конструктивное» сотрудничество.
Подписание политического итогового коммюнике и еще пятнадцати документов по конкретным направлениям было очень торжественным. Как и официальные проводы у моей резиденции. Потом была поездка на скоростном поезде в Киото, где состоялась встреча с деловыми кругами. Времени в нашем распоряжении было мало, и в этот раз удалось увидеть лишь несколько уголков старой столицы. Но тысячи людей, вышедших нас приветствовать, особенно дети, — это взволновало до глубины души.
Из Киото прибыли в Нагасаки, посещение которого запомнилось как впечатляющая встреча с японским народом. Несколько километров мы ехали по живому коридору, затем шли пешком. Поклонились жертвам ядерной бомбардировки в парке мира.
Мы ощутили гостеприимство японцев, общаясь с представителями политических, деловых кругов, студенчеством, детьми, спортсменами. Раиса Максимовна побывала в национальном театре Кабуки, на предприятии, выпускающем восточные сладости, знаменитом рыбном рынке Токио, посетила дом японской семьи, школу удивительного искусства аранжировки цветов.
С нами в Японию ездили известные представители советской культуры и общественные деятели: В.Розов, В.Распутин, Д.Кугультинов, Н.Губенко, А.Вольский, Г.Волчек, В.Мартынов, Н.Данилюк, Г.Боровик, О.Уралов, Г.Зайганов, Ю.Яременко, К.Саркисов… Наверное, всех не упомнил. Они своими контактами с японцами помогли сдвинуть с места поезд советско-японских отношений. Перед отъездом все мы, советские, с участием премьера Кайфу и его супруги посадили липу — дерево жизни, здоровья и дружбы.
«Лед тронулся»
Что было дальше? Японские делегации продолжали приезжать. Общаясь с ними, я чувствовал, что в результате апрельского визита «лед тронулся» — отношения действительно выходят на иной уровень.
Это нашло реальное подтверждение и в позиции японского руководства на «семерке» в Лондоне в июле этого же года. Думаю, не будь визита, японская позиция вряд ли бы столь изменилась. И это могло негативно повлиять на позицию ведущих государств Запада по вопросам экономического сотрудничества с Советским Союзом. Теперь же Кайфу присоединился к своим коллегам в «ареопаге мировой экономики», хотя и делал оговорки насчет «особых» проблем у Японии с СССР.
Я заблаговременно написал ему письмо, как и другим главам «семерки». В ответном послании, которое вручил мне посол Эдамура, говорилось о готовности Японии оказать содействие Советскому Союзу в размерах, которые «выходят за рамки чисто технической помощи».
Вот выдержки из разговора с Кайфу в Лондоне 12 июля 1991 года:
«ГОРБАЧЕВ. Хочу сказать вам, господин премьер-министр, что все, о чем мы говорили во время моего визита, легло в основу решения, которое имеет целью реализовать токийские договоренности.
КАЙФУ. Мы, как об этом было сказано в Совместном заявлении, придаем первостепенную важность ускорению работы по завершению подготовки мирного договора, включая разрешение территориальной проблемы. Наряду с Совместным заявлением в Токио было подписано 15 соглашений, касающихся сотрудничества между нашими странами в различных практических областях. Мы в Японии активно занимаемся тем, как нам двигаться по пути реализации этих соглашений. Вчера в Советский Союз выехала делегация японских специалистов, которые займутся изучением возможностей для развертывания сотрудничества в области конверсии советских военных предприятий. Успешно ведутся двусторонние переговоры по безвизовым поездкам японцев на южные Курильские острова.
ГОРБАЧЕВ. Учитывая итоги визита, теперь надо быстрее идти к новому уровню доверия. Тогда мы сумеем решить любые проблемы, даже те, которые сейчас кажутся неразрешимыми. Сотрудничая с Японией, мы пойдем настолько далеко, насколько далеко захочет ваша страна».
То, что апрельский визит «начал работать» в русле «меняем атмосферу, среду и тогда все вопросы разрешимы!», нашло подтверждение в контактах с представителями Японии осенью 1991 года, уже после путча. Я имею в виду приезд в Москву министра внешней торговли и промышленности Японии Накао (21 октября 1991 года) и встречу с вице-президентом Федерации экономических организаций Японии Т.Яхиро (27 ноября 1991 года). Обе эти встречи — выразительное свидетельство того, что практичные японцы делали вполне деловые выводы из всего, что произошло после апреля.
Министр Накао информировал меня:
— Мы готовы сотрудничать с Советским Союзом, оказывать вашей стране содействие в осуществлении реформ, в том числе и в области экономики, как соседнему дружественному государству. По этой причине, в частности, наше министерство добилось того, чтобы в качестве чрезвычайной меры в рамках предоставляемой Советскому Союзу экономической помощи в размере 2,5 миллиарда долларов 1,8 миллиарда долларов были выделены на страхование торговых операций с вашей страной. Это необходимо, чтобы Советский Союз смог увеличить свои валютные поступления путем реализации проектов разработки нефти и природного газа по линии Российской нефтяной корпорации и Газпрома.
Сейчас у японского частного сектора проявляется стремление активно участвовать в экономическом сотрудничестве с СССР, внедряться в советскую экономику. Перед нынешним визитом в Москву я встречался с руководителями крупнейших японских компаний. Они благодарили японское правительство за такое решение и просили передать вам наилучшие пожелания. Кроме того, мы решили осуществлять страхование новых инвестиций в экономику вашей страны с тем, чтобы содействовать деятельности японского частного сектора в сфере капиталовложений в СССР. Я с удовлетворением отмечаю, что в этой области сейчас осуществляются около десяти проектов с участием японских частных компаний по обработке и экспорту природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
Что касается технического содействия Советскому Союзу, то помимо сотрудничества в составлении программы экономических реформ мы готовы оказывать содействие в осуществлении конверсии военной промышленности, обеспечении безопасности АЭС, развитии малого и среднего бизнеса.
Накао передал мне справку об уже осуществляемых советско-японских проектах и планах сотрудничества.
— Мы считаем, — продолжал министр, — что в контексте реализации экономических реформ в СССР важнейшей задачей является эффективное осуществление конверсии. Поэтому призвали сотрудничать в оказании Советскому Союзу содействия в этой сфере США и Великобританию. Японо-американская делегация посетила Пермь и ряд других мест с целью изучения проблем конверсии. Хотел бы передать доклад, подготовленный по итогам поездки данной делегации. Надеюсь, вы примете его во внимание при осуществлении конверсии. Причем я не связываю оказание этой помощи с территориальной проблемой. Рад, что правительство Японии действует теперь именно таким образом.
Читатель может оценить, что значит, когда такие вещи говорит японский государственный деятель. Это как бы определило суть моего ответа:
— За последние шесть месяцев мы смогли сделать многое. У меня положительное отношение ко всему, что вы говорили по конкретным экономическим вопросам. Можно сделать вывод, что после апрельского визита у советско-японского сотрудничества другая динамика, другой темп.
Весьма симптоматичной была беседа с Яхиро (27 ноября), возглавлявшим делегацию Информационного агентства Киодо Цусин и фирму политических инноваций Японии. Он — главный советник корпорации Мицуй Буссан, вице-президент экономических федераций Японии, президент ассоциации содействия развитию торговли с СССР и странами Восточной Европы.
В делегацию входило 40 человек — руководящие деятели крупнейших корпораций Японии в сфере транспорта, энергетики, банковского дела, финансов и торговли. Они приехали, чтобы ознакомиться с конкретными объектами, определить возможности содействия реформам в России, в СССР.
В беседе речь шла о конкретных вещах — технологии массового жилищного строительства, методах повышения эффективности нефтедобычи и т. п. Яхиро высказал пожелание, чтобы выделенные Японией средства были в первую очередь направлены на повышение эффективности нефтедобычи. Поддержал идею кооперирования в этом проекте с американцами. Встреча состоялась всего за месяц до «роспуска» Советского Союза. Я вовсе не хочу сказать, что все, о чем с таким энтузиазмом говорили мне японские ответственные представители, было бы осуществлено в считанные месяцы — такие вещи у нас не так-то просто делаются. Но тенденция уже выявилась и набирала темп.
Так получилось, что в Японии я побывал и в 1992 и 1993 годах — в обоих случаях в апреле, в период цветения сакуры. В 1992 году — как президент Фонда Горбачева по приглашению национального комитета Японии, куда вошли видные политические и общественные деятели науки и культуры. Эта поездка превзошла все ожидания. Японцы в Токио, Хиросиме, Осаке, Киото, куда нас привела программа, проявили к нам удивительно теплые чувства, неподдельный интерес к моим выступлениям. Аудитории были переполнены, вопросов задавалось множество. Пресса широко освещала этот беспрецедентный диалог.
В этой поездке я застал японское общество в поисках ответов на многие вопросы. Часто интересовались, какой мне видится роль Японии в современном мире. Задавали вопрос о роли государства — в Стране восходящего солнца идет полемика между двумя течениями в„политике и общественной мысли, одно из которых выступает за усиление, как минимум сохранение, централизации, другое — за расширение прав регионов. В провинции Кансай, где сосредоточен мощный индустриально-технический потенциал, были недовольны тем, что центр ограничивает инициативу региона, особенно во внешнеэкономических делах. Впрочем, споры такого рода ведутся повсюду, правильное, рациональное распределение полномочий между центром и местами — это извечная проблема. Кое-где она нашла оптимальное решение, у нас же была и, к сожалению, еще долго останется источником серьезных недоразумений. В Японии эта проблема не так остра, но нам было поучительно услышать доводы, приводимые с обеих сторон, как говорится, век живи — век учись.
Наши японские собеседники, политики и ученые, поделились своими оценками новых явлений среди молодого поколения, в частности все более распространяющегося недовольства условиями жизни, прежде всего что касается жилья. Это при резко возросшем за десятилетия «японского чуда» жизненном уровне.
Словом, вторая поездка в Японию позволила мне намного лучше узнать страну, понять ее заботы, сблизиться с людьми. Насыщенную, интересную программу удалось осуществить благодаря усилиям газеты «Иомиури», прежде всего ее президента господина Ц.Ватанабэ, главного редактора господина Х.Като, его сотрудников А.Коджима, А.Сайто, К.Хамадзаки. Патронировали эту поездку Я.Накасонэ и Т.Кайфу.
Я и мои спутники особо оценили сделанное японскими друзьями еще и потому, что Российское посольство не только не проявило никакого к нам внимания, но старалось если не сорвать, так принизить эту поездку. Из Москвы, как нам рассказали, следовали одно за другим требования и советы японцам, кому принимать Горбачева, а кому не стоит. Делались даже попытки помешать встрече с императором. Мы уже потом поняли, почему японская пресса так много писала о том, что беседа в Императорском дворце оказалась вдвое продолжительней, чем намечалась сначала.
Впрочем, с подобным отношением приходилось сталкиваться и во всех других моих зарубежных поездках после ухода с президентского поста. Послы России получали из МИДа строжайшее указание игнорировать бывшего советского президента. Исполнялось оно настолько скрупулезно, что иной раз полномочный представитель России под надуманным предлогом уклонялся даже от участия в приеме, который давали в мою честь глава государства или правительства страны. Кажется, только в двух случаях российские послы «осмелились» пообщаться со мной.
Пишу об этом с чувством горечи за наше бескультурье, за постыдное российское злопамятство. Конечно, такое отношение никоим образом не могло и не может унизить мое достоинство — не вниманием чиновных персон дипломатического ведомства оно определяется. Но нельзя не пожалеть, что такое поведение наносит ущерб национальному престижу (о нас говорят в таких случаях как о дикарях) да и упускается возможность использовать в интересах России авторитет ее граждан, выезжающих за рубеж.
В третий раз — в 1993 году — я снова оказался в Японии, в Киото, где состоялось заседание Попечительского совета, учредившего Международный Зеленый Крест. Снова был апрель, и снова цвела сакура. С древних времен отношение японцев к природе породило специфические обычаи любования луной, снегом, деревьями и цветами. Весна в Японии — это великолепие цветущей сакуры, олицетворяющей совершенство и безупречность. Цветение сакуры длится всего несколько дней и потому еще больше ценится. Ее белоснежные и бело-розовые облака плывут по стране с юга на север с конца марта до конца апреля.
И еще остались в памяти поездки на скоростном «Хикари», когда перед глазами проплывают одна за другой картины Японии: ландшафт, непрерывающаяся цепь городов, поселков, предприятия, поля, теплицы, бесконечное число автомобилей. Над многими домами воздушные разноцветные карпы — это происходит в дни праздника мальчиков. Поезд мчится со скоростью до 270 километров, а над деревнями, поселками, городами парят карпы! Незабываемые картины.
Самые сильные впечатления остались от встреч со студентами и профессорско-преподавательским составом крупных японских университетов: «Аояма Гакуин» и «Сока» в Токио, индустриально-технологического — в Осаке. Повсюду нас встречали десятки тысяч юношей и девушек, с энтузиазмом молодости выражавших свои симпатии к гостям из России. В огромных аудиториях, где мне пришлось выступать с лекциями, чутко реагировали на каждую фразу, с одобрением встречая и всякую свежую мысль, и удачный ораторский прием. Это, впрочем, не мешало студентам задавать самые острые вопросы. Выступала и встречала теплый прием Раиса Максимовна. Она точно находила, о чем где сказать, — тут играл свою роль опыт преподавательской работы, общения со студентами.
Ну а темы моих выступлений, определявшиеся с учетом пожеланий наших хозяев, охватывали проблематику нового мышления, глобальных проблем, современного положения в мире и, конечно, ситуации у нас в России, в СНГ, наши отношения с Японией. В обществе «XXI век» предложили мне выступить с лекцией-прогнозом. Я не взял на себя смелость предсказывать, что будет через 20–30 лет, сосредоточился на том, какие альтернативные сценарии будущего могут нас ожидать и что, по моему мнению, следует делать, чтобы обеспечить прорыв к новой цивилизации.
Глава 27. Еще несколько портретов
Человеческая память избирательна, и, приступая к мемуарам, я держал в голове прежде всего события, которыми отмечены повороты в мировой политике во второй половине 80-х годов. По понятным причинам они были связаны в первую очередь с «главными актерами» на мировой политической сцене. Я имею в виду не только политиков, а государства, влияние которых на международную ситуацию наиболее заметно. Ведь говорят же о «сверхдержавах», «крупных», «средних» и «малых» государствах, что отнюдь не означает неуважения к кому-то из них в отдельности.
Что же касается политических и государственных деятелей, то, ссылаясь на собственный опыт, могу утверждать: здесь действует другая классификация. Не всегда во главе крупных и влиятельных государств оказываются политики соответствующего калибра. И наоборот. Мне доводилось часто иметь дело с очень интересными, крупными деятелями из так называемого «второго эшелона» государств. О встречах с некоторыми из них я и хочу рассказать. Возможно, иному читателю покажется рискованным объединять в одной главе впечатления от встреч с руководителями таких разных стран, как Бразилия и Австралия, Уругвай, Аргентина и Индонезия или Южная Корея, но для меня в этом есть свой смысл.
Во-первых, я хочу сказать о людях неординарных. Во-вторых, мне хотелось бы еще раз привлечь внимание читателя к одному из ключевых тезисов в моей политической философии — насколько при всех различиях и географической отдаленности друг от друга, при всей неодинаковости состояния стран в данный момент просматривается их взаимосвязь в современном мире. И в-третьих, я пишу не научную монографию, а мемуары. А потому могу позволить себе некоторую вольность и группировать впечатления не по академическим критериям, а как подсказывают мне память и политическая интуиция.
Р.Хоук, Австралия
Начну с моей встречи с премьер-министром Австралии Робертом Хоуком. Она состоялась в первый декабрьский день 1987 года в Москве. В обстановке неустойчивости наших отношений с США и Западом, когда стрелка политического барометра часто прыгала в разные стороны, надо было донести до руководителей как можно большего числа государств, с мнением которых считаются, смысл происходящих в СССР перемен и наши подлинные намерения.
Определенное значение имело и то, что Хоук — лейборист. Мы пытались тогда — и небезуспешно — вывести на новый уровень наши отношения с социал-демократами. Примерно за месяц до приезда Хоука в Москве побывал его заместитель по партии Биан, с которым я имел краткую, но интересную беседу. Так что у меня были основания полагать, что диалог с лейбористским правительством Австралии может существенно обогатить палитру наших международных контактов.
Я не ошибся в своих ожиданиях. Хоук произвел впечатление широко мыслящего политика, прекрасно ориентирующегося в деталях сложных международных проблем, искренне заинтересованного во взаимопонимании между Востоком и Западом, в улучшении отношений между США и Советским Союзом.
В самом начале беседы я сказал, что рассматриваю потенциал политического диалога и сотрудничества между СССР и Австралией как очень значительный. Тем более что речь идет о весьма влиятельной стране в таком перспективном регионе мирового плана, как Азиатско-Тихоокеанский.
— Когда мы выдвигали нашу программу во Владивостоке, — напомнил я, — мы отнюдь не претендовали на истину, не подлежащую обсуждению. Это было приглашение ко всем странам региона искать баланс интересов, строить разумные отношения.
Хоуку явно импонировал такой подход.
— Любые различия идеологического или философского характера, — сказал он, — не должны препятствовать усилиям по созданию в мире обстановки большего доверия, большей безопасности.
Я с удовлетворением отметил про себя, что с этим крупным политическим деятелем, безусловно принадлежащим к «Западу», можно открыто говорить на языке «нового мышления». Мы оба легко понимали друг друга, говоря о том, что разнообразие мира, различия в культуре, традициях, в истории не следует рассматривать как недостаток. Наоборот, это достоинство человеческого бытия, источник силы и богатства. И нельзя допустить, чтобы порожденные разнообразием идеологические различия вели к политической, а тем более военной конфронтации, препятствовали налаживанию экономического сотрудничества.
Наша беседа длилась более двух часов. Хоук живо интересовался ходом переговоров с США о сокращении ядерных потенциалов, состоянием дел в Европе, перспективами урегулирования афганской проблемы.
— В любой стране, — подчеркнул Хоук, когда мы закончили обсуждение региональных проблем, — будь то в Афганистане, в Кампучии или в Мозамбике, мы хотели бы видеть суверенные, независимые, неприсоединившиеся правительства, которые не представляли бы угрозы безопасности своих соседей и всего региона.
Это согласовывалось с моими взглядами.
Расстались мы дружески, условившись поддерживать регулярный контакт.
Генерал Сухарто, Индонезия
Хочу упомянуть о встрече с руководителем еще одной страны этого региона, отношения с которой одно время были даже «близкими», а потом оборвались. Эта страна — Индонезия, с президентом которой я встретился в Москве 11 сентября 1989 года во время его официального визита к нам.
Встреча с руководителем крупнейшего государства в АСЕАН была логическим продолжением взятой нами линии на упрочение мира и безопасности в АТР, развитие сотрудничества со всеми заинтересованными в этом государствами. Но визит Сухарто был явлением неординарным даже в этом, новом контексте. Дело было не только в том, что он прибыл из Белграда, где состоялась конференция Движения неприсоединения, о которой нам было ценно получить информацию из первых рук. В 1990 году предстояло отметить 40-летие дипломатических отношений между СССР и Индонезией.
Они были установлены в атмосфере глубоких симпатий и солидарности советских людей с освободительной борьбой индонезийцев за независимость и целостность своего молодого государства. В те годы Советский Союз активно поддержал Индонезию. Однако после печально известных «сентябрьских событий» 1965 года ситуация изменилась. И хотя тогдашнее советское руководство с осуждением отнеслось к попытке руководителей Компартии Индонезии организовать переворот, в отношениях между нашими странами, что называется, пробежала черная кошка. Визит Сухарто — первая встреча на высшем уровне между советскими и индонезийскими руководителями за четверть века — был призван снять отчуждение и подозрительность, открыть путь к новым отношениям, освободить их от идеологических установок и претензий.
Этой цели нам с президентом Сухарто удалось достичь. Было принято Заявление об основах дружественных отношений и сотрудничестве между Советским Союзом и Республикой Индонезия. Профессиональный военный, Сухарто вышел на политическую арену после событий 1965 года и проявил себя как государственный деятель, сумевший в сложных условиях укрепить экономическую независимость и поднять престиж своей страны. «Национальные приоритеты», на которые он неизменно ссылался по ходу нашей беседы, не мешали ему широко смотреть на проблемы международной политики.
Мы говорили о необходимости возрождать роль ООН, о проблемах Движения неприсоединения, о состоянии мирохозяйственных связей по линии Север — Юг и Юг — Юг, о важности интернационализации поисков решения таких глобальных проблем, как внешняя задолженность, путях урегулирования в Камбодже и других региональных конфликтов, роли АСЕАН, ситуации в АТР — и по всем этим вопросам находили общий язык.
Вспоминая о трудоемкой работе, которая была проделана для восстановления доверия и дружественных отношений с Индонезией, хочу попутно сделать одно замечание о будущем внешней политики России. Мне представляется, что, определяя внешнеполитические приоритеты, выдвигать нарочито прямолинейные альтернативы, построенные по принципу «или — или», значило бы сбивать себя на путь заведомо ложных противопоставлений. Неприемлема односторонняя ориентация на Запад. Всей своей историей и географией России предназначено иметь активную и европейскую, и азиатскую политику «по всем азимутам» — сбалансированную как в текущем, так и в перспективном плане.
Собеседники в Латинской Америке
Одним из компонентов в формировании и реализации политики нового мышления были встречи и переговоры с государственными и общественными деятелями Латинской Америки. Я застал ситуацию, когда эта огромная часть Западного полушария, одна пятая суши с почти полумиллиардным населением, олицетворялась для нас фактически (а вернее, идеологически) отношением к Кубе. «Холодная война» серьезно затрудняла советско-латиноамериканские отношения, порождала множество предрассудков, отчуждала от нас этот самобытный, богатый, перспективный регион современного мира.
Я с самого начала понимал, что никакая новая мировая политика невозможна, если Латинская Америка будет рассматриваться в качестве «заднего двора империализма» и объекта для расширения «революционного пространства». Но чтобы определиться, как с ней строить отношения, нужно было познакомиться с реальностями. И тому и другому послужили встречи с государственными и общественными деятелями многих латиноамериканских стран.
Мои собеседники принадлежали, пожалуй, ко всем направлениям идейно-политического спектра, от социалистов до консерваторов. Но в их взглядах, постановке вопросов я не увидел ничего «провинциального». В большинстве своем это были энергичные, хорошо информированные, высокообразованные, открытые для обсуждения любых проблем политические деятели современной формации. Им выпала судьба выводить свои страны из авторитарного, а то и тоталитарного прошлого на демократический путь, преодолевать тяжелейшее наследие в стремлении интегрировать Латинскую Америку в мировое сообщество конца XX века.
Уже по одному этому опыт Латинской Америки представлял немалый интерес для СССР.
Я встречался с президентами Аргентины — Р. Альфонсином (15.Х.1986 г.) и К.Менемом (25.Х.1990 г.), Уругвая — Х.М.Сангинетти (22.III.1988 г.), Бразилии — Ж.Сарнеем (18.Х.1988 г.) и Ф.Коллором (31.1.1990 г. и в июне 1991 г.), Мексики — К.Салинасом де Гортари (3.VII.1991 г.), министрами иностранных дел Мексики — Б.Сепульведой (6.V.1987 г.) и Ф.Соланой Моралесом (23.IV.1991 г.), Аргентины — Д.Капуто (7.XII.1988 г.), деятелями Ассоциации за единство Латинской Америки, включая бывшего президента Мексики Л.Эчеверрия Альвареса (12.IV.1990 г.).
Это очень разные люди — по возрасту, политическому опыту, взглядам. Но мне импонировало свойственное всем им стремление к обновлению политической и экономической жизни в своих странах, искренний интерес к преобразованиям в нашей стране.
Помню, с каким воодушевлением о значении перестройки в СССР для стран Латинской Америки говорил президент Сарней. Он связывал с ней расширение возможностей для мирного урегулирования вооруженных конфликтов, более справедливых мирохозяйственных связей, активизации мировой торговли вследствие сокращения расходов на вооружения и вообще демилитаризации международных отношений.
Сангинетти отмечал, что «сейчас в Уругвае повсеместно говорят о перестройке в Советском Союзе. Эта тема на устах не только у интеллигенции, но и у самых простых людей. Буквально все задаются вопросом, что будет, к чему приведут те процессы, которые осуществляются в Советском Союзе».
В разговоре с Сангинетти впервые — потом эта тема поднималась и в беседах с другими лидерами — присутствовал важный тезис, над которым я неоднократно размышлял. Звучал он примерно так: в Советском Союзе и в странах Восточной Европы присутствует сегодня своеобразная эйфория по поводу возможного «прорыва» в торгово-экономических отношениях с развитыми странами Запада. На деле же все обстоит далеко не так просто, следовало бы поумерить ожидания на этот счет и более целенаправленно использовать огромные возможности сотрудничества со странами, так сказать, «второго эшелона».
В самом деле, мы часто по привычке или незнанию представляем себе эту часть мира как действительно «третью», третьестепенную, где все на одно лицо и мало интересного с точки зрения наших экономических потребностей. Тогда как ряд стран той же Латинской Америки уже обладает крупным, экономическим потенциалом и опытом экономической политики, которые заслуживают серьезного к себе отношения и делового подхода.
Разумеется, в беседах с латиноамериканскими руководителями много внимания уделялось болевым точкам в Центральной Америке. Здесь наши мнения быстро сходились в установке на методы политического урегулирования. Мы выступили в поддержку «Контадоры», латиноамериканской «восьмерки» и гватемальских соглашений.
Почти во всех беседах с президентами мы констатировали чрезвычайно важное для мирового порядка возвышение роли Латинской Америки, чему способствуют демократические перемены в ряде стран, начавшееся примирение в затяжных конфликтах. И конечно, всегда подчеркивалось, что в конце XX века неблагополучие в одной части мира создает все большую угрозу целому.
Интересный и поучительный разговор состоялся у меня с К.Мене-мом. Признаться, я был поначалу даже удивлен сходству многих экономических и социальных проблем, которые приходилось решать нам у себя и с которыми пыталось справиться руководство Аргентины.
В декабре 1992 года я побывал в Чили, Бразилии, Мексике. Поездка еще раз убедила в огромном значении главного принципа нового мышления — признании за каждым народом права свободного выбора. Драматическим оказался переход латиноамериканских стран от тоталитарных режимов к демократии, но в конечном счете каждая из них должна была найти свой путь, отказавшись от навязанных извне моделей.
Канцлер Враницкий
Запечатлелось в памяти общение с руководителем страны, с которой у нас давно были нормальные добрососедские отношения. Я имею в виду Австрию и ее канцлера Франца Враницкого.
На солидном фундаменте Государственного договора 1955 года и Закона о постоянном нейтралитете советско-австрийские отношения выдержали все заморозки «холодной войны». Конструктивный курс австрийской внешней политики снискал ей заслуженную международную репутацию. Недаром Вена была избрана местом проведения наиболее важных переговоров, от исхода которых зависела судьба мира.
Мне, к сожалению, не пришлось лично познакомиться со знаменитым предшественником Враницкого — Крайским, человеком европейского масштаба, одним из влиятельнейших лидеров послевоенной социал-демократии. Естественно, перед первой встречей с канцлером (в октябре 1988 года), да и во время самой встречи, я «прикидывал» — каков он, новый, сравнительно молодой глава правительства по сравнению с общепризнанным не только в собственной стране «мэтром». Враницкий с самого начала произвел впечатление человека большой культуры, политика, что называется, высшей квалификации.
Помнится, тогда был актуален вопрос о сближении Австрии с ЕЭС. Нас еще беспокоили остаточные заботы «холодной войны». В данном случае — не приведет ли включение в западноевропейскую интеграцию нейтральной страны, находящейся в одном из эпицентров противостояния Восток — Запад, к нарушению «баланса сил».
Мне понравились разъяснения канцлера. Они учитывали изменения в Европе и мире в связи с нашей перестройкой, неотвратимость процессов интеграции и в то же время их неравномерность, обращали внимание на международную ответственность Австрийской республики и, конечно, «расклад» сил внутри страны.
Вот несколько характерных фраз, услышанных от Враницкого: «У нас есть люди, но их немного, которые хотели бы немедленно «прошмыгнуть» в ЕЭС. Я категорически против такого подхода и говорю, что не собираюсь прыгать с десятиметровой вышки в бассейн, в который не налита вода. Первоочередным условием вступления в ЕЭС должна быть верность нейтралитету, за который мы несем ответственность… Военно-политическая или экономическая замкнутость Западной Европы была бы крайне нежелательна, и мы будем этому всячески противодействовать».
Этот человек с первой же встречи расположил меня к себе своим умом, тактом, политической честностью. И потому, встретившись с ним спустя полтора месяца после путча, я с полной откровенностью изложил оценку всех перипетий перестройки, «своей судьбы» в ней. Ему, Враницкому, пожалуй, впервые так определенно.
Ро Дэ У, Южная Корея
Наконец, хотел бы оставить в этой книге свои впечатления от встреч с Президентом Южной Кореи Ро Дэ У. Я рассказал о нашем знакомстве в Сан-Франциско в июне 1990 года, где был ликвидирован еще один завал, оставленный «холодной войной». Вскоре с Южной Кореей были установлены дипломатические отношения. До этого корейцы проявляли большую настойчивость в сближении с нами, мы же (особенно наш МИД) продолжали еще осторожничать, оглядываясь на Пхеньян. Однако по мере ухудшения экономической ситуации в СССР наш интерес к одному из восточноазиатских «драконов», совершивших у себя экономическое чудо, быстро нарастал. Повысился уровень взаимных поездок различных экономических и политических делегаций. Я дважды встречался с послом Южной Кореи в Москве. В декабре 1990 года президент Ро Дэ У совершил официальный визит в СССР.
Переговоры выявили близость позиций по многим вопросам, желание корейской стороны к широкому экономическому сотрудничеству, поддержанию политического диалога. Мы договорились об ответном визите, но быстро накалявшаяся обстановка в стране мешала выбрать время. Узнав о намеченном на апрель 1991 года моем визите в Японию, Ро Дэ У предложил побывать у него в гостях на обратном пути. Я согласился.
И вот 19 апреля наш самолет через 40 минут полета от Нагасаки приземлился на острове Чеджудо у юго-восточного побережья Кореи. В центре острова красивейший ботанический сад. Зелень, множество камней, солнце и голубая вода Тихого океана, омывающая этот вулканический остров, придают ему вид сказочного уголка. Толпы отдыхающих, туристов. На берегу фигурки «женщин-русалок» — добытчиц даров моря, жемчуга. Мы первые советские люди на этом острове. И поэтому тоже — «открытие» для его жителей. Раису Максимовну, отправившуюся в пешее путешествие по острову, корейские туристы, жители острова очень внимательно рассматривали и о многом расспрашивали.
Президент, его коллеги устроили торжественный прием, атмосфера встречи была такой, будто отношения между нашими странами исчисляются десятилетиями.
Утром состоялась беседа с президентом Ро Дэ У, сначала один на один, потом с участием главных членов правительства. Я еще раз имел возможность убедиться, что в его лице Корея имела политика, с которым будут связывать один из ответственных этапов на пути возрождения нации. При неоднозначных оценках его деятельности, при непростых последствиях того, что он оставил своим преемникам, это личность и в чисто человеческом плане — с широтой взгляда на мир, решительным характером государственного деятеля, уверенного в себе, но отнюдь не претенциозного. Заслуживает особого нашего признания, что Ро Дэ У был среди немногих деятелей его уровня, проявивших действенную солидарность с нашей страной, когда она больше всего в этом нуждалась. Он не стал выжидать, как некоторые, к чему поведут перемены у нас, энергично взялся за налаживание отношений с СССР.
Мы обменялись мнениями об общей ситуации в мире, на Дальнем Востоке. Оценки оказались схожими. Констатировали, что с «холодной войной» покончено и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Корейском полуострове. Он изложил свой взгляд на будущее Кореи, перспективы ее объединения — исключительно мирным путем, только политическими средствами и постепенно. Я поделился размышлениями о ходе преобразований в своей стране, которые вышли уже тогда на опасный виток.
Заботой Ро Дэ У была проблема вступления Южной Кореи в Организацию Объединенных Наций. Препятствием являлось упорство Пхеньяна, считавшего, что даже одновременное принятие обоих корейских государств в ООН означало бы закрепление раскола нации. Я так не думал. Напротив, членство в ООН облегчало бы поиск мирного, цивилизованного сближения двух частей нации и восстановление общего государства. Поэтому обещал президенту поддержку просьбы Южной Кореи в Совете Безопасности ООН.
Ро Дэ У, естественно, очень беспокоили ядерная программа Северной Кореи и отказ ее руководства от присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Я заверил президента, что с нашей стороны не будет сделано ничего такого, что способствовало бы появлению этого оружия на севере Кореи.
К тому времени уже было в совместной с корейскими бизнесменами проработке 48 крупных проектов промышленно-технологического плана, в том числе по освоению природных ресурсов Дальнего Востока и Сибири. Шла речь также о соглашении по сотрудничеству в области рыболовства, об открытии прямого морского сообщения с Южной Кореей. Словом, и на этом направлении политики «нового мышления» был создан задел на будущее.
Глава 28. Встреча «семерки» в Лондоне. Экономическое признание перестройки
Начало сближения с «семеркой»
От прошлого мы унаследовали хозяйство с ярко выраженной тенденцией к автаркии. СССР слабо участвовал в международном разделении труда, в его внешнеэкономических связях преобладала двусторонняя торговля, причем главным образом с «братскими странами». Между тем в мире нарастали процессы интернационализации экономических отношений, производственной кооперации. Не учитывать этого было невозможно. Перестройка внутри страны требовала изменения характера внешнеэкономических связей, органичного включения в мировую экономику.
Эта тема была одной из главных в моем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1988 года в беседе с представителями влиятельной неправительственной организации «Трехсторонняя комиссия». В ту пору Комиссия готовила доклад о состоянии и перспективах отношений между Востоком и Западом. Большая группа ее членов приехала в Москву, желая получить из первых рук информацию, которая помогла бы подготовить такой доклад. 18 января 1989 года я встретился с Д.Рокфеллером, Жискар д'Эстеном, Я.Накасонэ, Г.Киссинджером. На протяжении нескольких часов мы обсуждали перспективы нашего вхождения в мировой рынок, формы участия в мирохозяйственных связях, правила многостороннего сотрудничества, условия подключения СССР к деятельности международных экономических организаций и т. п.
Позднее, зная о намеченном в Париже заседании «семерки», я решил обратиться со специальным письмом к президенту Миттерану, чтобы напрямую поставить эти вопросы перед руководителями ведущих стран Запада. С этого письма началось, по существу, сближение с «большой семеркой», приведшее спустя два года к моей встрече с нею в Лондоне летом 1991 года.
Но предстояло преодолеть немало препятствий. На очередной ежегодной встрече «семерки» в Хьюстоне (США) положение в Советском Союзе и странах Восточной Европы стало главной темой. Я направил участникам этой встречи новое послание. Все больше убеждался: нужен разговор непосредственно на «семерке».
При встречах с представителями Запада осенью 1990 года я постоянно подчеркивал: преодоление нашего экономического кризиса, реформа экономики — это наша задача, и никто не решит ее за нас. Мы это понимаем. Но в успехе ее должен быть заинтересован и Запад. Ведь создание в нашей огромной стране здоровой экономики отвечает его интересам. А значит, на самом остром, переломном этапе реформ мы вправе рассчитывать на встречные шаги со стороны наших партнеров.
Надо сказать, что первоначальная реакция была осторожной, скорее даже скептической. Прямо или косвенно в высказываниях наших западных партнеров звучал мотив: реформа в СССР идет недостаточно быстро, наша экономика все еще недостаточно «рыночна», а это сужает возможности встречного движения со стороны Запада.
Такой мотив прозвучал и в высказываниях Бейкера, которого я принял 15 марта 1991 года. Фон был сложнейший: острая внутриполитическая ситуация накануне референдума о судьбе Союза, тяжелое положение на потребительском рынке, непростая обстановка на международной арене. В прессе — и у нас, и на Западе — все чаще звучали утверждения, что чуть ли не главной причиной всех сложностей является сдвиг Горбачева вправо. Бейкер не стал скрывать, что опасения на этот счет возникли и у него с Бушем.
— Сейчас нередко утверждают, — сказал он, — что политика президента Горбачева шагнула вправо. Говорят, что вы изменили курс. Должен сказать откровенно, иногда и у нас возникает беспокойство, когда мы видим некоторые признаки, особенно в области ограничения вооружений. Однако у нас нет сомнений относительно того, что те коррективы, которые вы внесли в свой курс, направлены лишь на то, чтобы обеспечить успех реформам и демократизации, что не произошло фундаментального изменения. Мы хотим в это верить и верим.
— И все-таки, — не мог не спросить я, — хотите или верите?
— И то и другое, — ответил Бейкер. — Недавно я говорил с президентом Бушем, и мы оба пришли к выводу, что ваше место в истории обеспечено, если не измените своего курса. Все ваши колоссальные достижения будут навечно вписаны в историю, если курс не будет повернут вспять. И это — одна из основных причин, почему мы считаем, что такого поворота не будет.
В этот день я был откровенен с Бейкером. Он того заслуживал — этот лишенный сентиментальности, вдумчивый человек уже многое понимал в наших делах. Но кое о чем надо было напомнить. В обострившейся обстановке, сказал я государственному секретарю, «требуется огромный запас сил, веры, убежденности, чтобы удержать ситуацию. Требуется и определенное тактическое маневрирование». Цель при этом одна — «нейтрализовать оба радикальных крыла, как крайне левых, так и крайне правых, избежать гражданского конфликта. Я полон решимости действовать исключительно конституционными, демократическими методами».
Соображения госсекретаря по вопросам экономики были довольно прямолинейными.
— Нам кажется, — заявил он, — что здесь движение идет не в том русле.
Я возразил:
— Такая оценка нашего экономического курса ошибочна.
— Я надеюсь, что ошибаюсь, — немедленно отреагировал он.
— Мы не меняем курс, — продолжал я. — Мы хотим пройти до конца путь к смешанной рыночной экономике. Но не так, как прошли коллективизацию. Со временем мы сможем пойти вперед быстрее, но сначала надо решить некоторые вопросы. Открыты к тому, чтобы быстрее развивать сотрудничество с западными странами.
— Конечно, — сказал Бейкер, — лишь сам Президент СССР может решать, на что он готов пойти. Америка не может решать за вас. Мы, однако, твердо знаем, чего не следует делать, если вы хотите открыть страну для бизнеса и капиталов с Запада — не надо премьер-министру (Павлову. — Ред.) говорить о каком-то западном заговоре банкиров с целью подорвать советскую экономику. Или указ, дающий дополнительные полномочия КГБ. Это отпугивает западных инвесторов. Вам надо действовать очень осторожно, чтобы не растоптать первые ростки рынка в Советском Союзе.
— Есть проблема, — заявил я. — То, что у вас считается законным бизнесом, у нас — спекуляция, подлежащая уголовному наказанию. Когда я встречаюсь с рабочими, они обязательно меня спрашивают: «Почему мы развели у себя все это? Почему подобные дельцы не в тюрьме?»
Как видно из этой беседы, снова актуальными стали слова, сказанные несколькими годами ранее: мы хотим, чтобы нас поняли. Правильное понимание нашей экономической ситуации, нашего курса было особенно важно потому, что у промышленно развитых стран Запада появилась возможность реально содействовать движению нашей страны к рыночной экономике и ее интеграции в мирохозяйственные связи.
К весне 1991 года возможность приглашения Президента СССР на «семерку» в Лондоне значительно возросла. Идея получила поддержку Коля, Миттерана, Андреотти. Благоприятно отнесся к ней и Мейджор, к которому с 1 июля переходило председательство в «семерке». Ее активно поддержала Тэтчер, когда мы встретились в Москве в конце мая.
— Было бы поистине трагедией, — сказала она тогда, — если бы ваши усилия окончились неудачей только потому, что Запад оказался не в состоянии прийти вовремя на помощь. Этого будущие поколения нам не простят.
Но ситуация была непростой, особенно из-за позиции США и Японии. Буш явно не торопился. У нас были определенные проблемы в отношении интерпретации и выполнения Парижского договора об обычных вооруженных силах. Оставались и нерешенные вопросы на переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений. Не исключено, что в Вашингтоне как-то связывали эти «затруднения» в разоруженческом процессе и наш выход на «семерку».
Между тем идея нашего участия в «семерке» уже зажила своей собственной жизнью. В первой декаде мая британские газеты сообщили о желании Мейджора пригласить Горбачева в Лондон. Большой резонанс вызвало мое выступление 5 июня в Осло с Нобелевской лекцией, где, в частности, было прямо сказано о необходимости разговора на «семерке» для решения проблем, связанных с нашей интеграцией в мировую экономику. По свидетельству М.Вернера, то выступление помогло европейским державам настоять на приглашении Горбачева в Лондон.
Формально я получил приглашение на лондонский саммит в середине июня, но подготовку мы начали заранее в связи с разработкой антикризисной программы и мер по переходу к рынку.
Да и момент требовал неотложных действий. Ново-огаревский процесс открывал выход из острого общественно-политического кризиса, в котором оказалась страна. Вопрос о поддержке наших реформ со стороны международного сообщества приобретал крайне актуальное значение. Контакт с «семеркой» имел уже не только стратегический смысл — как реализация общефилософской концепции «нового мышления». Он приобрел и сугубо практическое значение — обеспечить весомую экономическую поддержку стране в тяжелейший кризисный момент.
В середине мая на заседании Совета безопасности СССР обсуждалась записка Кабинета министров о нашем вступлении в Международный валютный фонд. На этом заседании я поднял вопрос о возможном участии в лондонской встрече «семерки». Совет согласился с моей позицией.
В конце мая я подписал распоряжение по подготовке материалов и предложений для нашего участия в лондонской встрече. К этой работе, координация которой была поручена Медведеву, были привлечены ведущие специалисты и ученые, руководители экономических ведомств — Аганбегян, Абалкин, Примаков, Ситарян, Яременко, Ясин, Кокошин, Обминский, Ожерельев, Геращенко, Московский, министры финансов СССР и РСФСР Орлов и Лазарев, заместитель министра экономики Грибов. Приглашались для консультаций по отдельным вопросам Федоров, Гайдар и другие.
Рабочей группой в Волынском были проанализированы и учтены программы «Согласие на шанс» Аллисона — Явлинского, предложения Жака Аттали (Европейский банк реконструкции и развития), Брукинг-ского института (США), Института экономических исследований (Германия), Института международных отношений (Франция), Королевского института международных отношений (Великобритания), исследовательского института «Комура» (Япония).
Это я подчеркиваю, поскольку на этот счет было немало спекуляций, высказано и высказывается немало всякой чепухи, в частности, гэкачепистами, в особенности подручными Крючкова — мастерами грязных дел.
К 6 июля все материалы были готовы. Трудности возникли лишь с выкладками по финансам и денежному обращению. На очередной встрече в Волынском министр финансов Орлов при поддержке Павлова в очередной раз пытался свести все к общим рассуждениям. Сказывалась вошедшая в кровь и плоть застарелая привычка «темнить» в финансовой области, скрывать ошибки в финансовом хозяйстве страны, неудовлетворительные результаты проведенной весной реформы цен. После моих настойчивых требований была прояснена истинная картина с бюджетом, его дефицитом, эмиссией. Подготовка к Лондону помогла глубже вникнуть и в другие проблемы народного хозяйства — ситуацию с платежным балансом и валютной задолженностью, конверсией.
Результаты проделанной работы были представлены для рассмотрения руководителям республик на совещании в Ново-Огареве 8 июля. Оно прошло, для многих неожиданно, в обстановке взаимопонимания. Опасения насчет того, что Горбачеву в связи с лондонской встречей будут предъявлены какие-то жесткие требования, не оправдались. Все руководители республик, начиная с Ельцина, поддержали мои соображения и позиции. Президент СССР имел мандат на встречу и от республик.
Послание
11 июля мое личное послание с приложениями было направлено дипкурьерами западным партнерам. Бушу его вручил выехавший в Вашингтон Бессмертных. Реакция последовала буквально через 2–3 дня. «Это — фантастическое письмо, — заявил Буш на встрече с журналистами, — хотя у США существуют некоторые разногласия с отдельными его положениями».
Воспроизведу здесь лишь основные положения послания. «Мы считаем, — писал я, — что пришло время сделать решительные шаги, предпринять согласованные усилия по налаживанию нового типа экономического взаимодействия, в процессе которого советская экономика могла бы быть интегрирована в мировое хозяйство. Это укрепило бы и позитивные политические процессы в международных отношениях».
В послании указывалось, что наше представление об органическом включении советской экономики в мировое хозяйство исходит из следующего:
«— Мы рассчитываем прежде всего на мобилизацию собственных сил и ресурсов в целях стабилизации экономики и ее включения в мировое хозяйство.
— Мы считаем необходимым «встречное движение» СССР и стран «семерки», при котором крупные меры в области экономических реформ и открытия советской экономики для внешнего мира подкреплялись бы встречными шагами, облегчающими осуществление этих мер.
— Мы выступаем за перенесение центра тяжести в экономическом сотрудничестве на прямые рыночные отношения между компаниями и банками при предоставлении необходимых гарантий и режима наибольшего благоприятствования со стороны правительств.
— Мы считаем необходимым дополнить двусторонние экономические отношения активным участием СССР в системе многосторонних связей и деятельности международных финансовых и иных институтов».
Далее следовало 10 пунктов-тезисов, содержавших оценку происходивших у нас процессов, перспектив политических и экономических реформ в СССР.
«Первое. Советское руководство и сегодня в достаточно сложной обстановке твердо придерживается курса на обновление общества, последовательную демократизацию всех его сфер, радикальные политические и экономические реформы. Он предусматривает:
— признание в качестве высшей социальной ценности прав и свобод личности, включая экономическую свободу;
— коренное обновление государственного устройства, федеративных отношений;
— переход к смешанной экономике и социально ориентированному рыночному хозяйству.
Реформы не привнесены извне, не являются результатом давления с чьей-либо стороны. Это наш собственный выбор, основанный на критическом анализе пройденного пути и поиске способов обновления советского общества, перспектив его движения к новой цивилизации. Вместе с тем мы считаем, что он отвечает основным тенденциям мирового развития.
Второе. Поворотное значение для дальнейшего развития страны будет иметь заключение нового Союзного договора. Работа над ним практически закончена.
Достигнута договоренность о том, что в течение полугода после подписания Договора будет подготовлена и принята новая Конституция и в соответствии с ней еще через несколько месяцев на основе демократических выборов будут сформированы высшие органы государственной власти и управления.
Третье. Оставив сомнения и колебания, мы прочно встали на путь радикальной экономической реформы. Завершается создание правовой основы для функционирования рыночной экономики. Начался процесс разгосударствления и приватизации, либерализации цен. Создается сеть коммерческих банков, товарных бирж и других институтов рыночной инфраструктуры.
Осознавая историческую ответственность перед своим народом и перед миром, руководство СССР видит свою задачу в том, чтобы ускорить осуществление радикальных экономических преобразований.
В то же время, говорилось в послании, мы не имеем права на необоснованный риск, вынуждены тщательно взвешивать каждый шаг… Синхронизация наших общих усилий существенно облегчила бы решение накопившихся задач, уменьшила социальные издержки в процессе перехода к рынку, позволила сохранить и упрочить достижения демократизации.
Четвертое. Среди первоочередных наиболее важными мы считаем меры по макроэкономической стабилизации, в области финансов и денежного обращения. Ей будет способствовать дальнейшая либерализация цен, в том числе розничных. Масштабы либерализации цен будут зависеть от возможности проведения «товарных интервенций», способных сдержать чрезмерный рост цен, сбить ажиотажный спрос и стабилизировать потребительский рынок.
Пятое. Сложная экономическая и финансовая ситуация в стране в немалой степени обусловлена обострением проблемы внешнего долга. Мы рассчитываем на благоприятное отношение лидеров «семерки» и международных финансовых институтов к предложениям о консолидировании и реструктурировании нашего внешнего долга.
Шестое. Решающим условием перехода к рынку мы считаем разгосударствление и приватизацию собственности, демонополизацию экономики. Наш выбор сделан: мы за смешанную экономику, за равноправие всех форм собственности — государственной и частной, всех разновидностей собственности. Все они теперь находятся под защитой закона, для всех создаются равные условия, обеспечивается свободное рыночное соперничество.
Седьмое. Особое значение мы придаем осуществлению земельной реформы и радикальному преобразованию форм собственности и хозяйствования на селе. Каждая республика сама решает с учетом свободного волеизъявления своих граждан, будет ли в ходе земельной реформы осуществляться переход к долговременной аренде земли с правом наследования или будет вводиться частная собственность на землю.
Восьмое. Руководство СССР исходит из того, что переход к рынку, преодоление сегодняшних трудностей невозможны без открытия экономики, либерализации внешнеторговых связей, свободного передвижения товаров, рабочей силы и капиталов. Мы прилагаем и будем прилагать усилия по привлечению иностранного капитала. В долговременном плане мы предлагаем осуществление ряда крупных проектов, связанных со структурной перестройкой советской экономики, которые могли бы представлять интерес для западных компаний и банков.
Девятое. Одно из основных направлений нашей интеграции в мировое хозяйство — конвертируемость рубля…
Десятое. Составной частью включения советской экономики в мировое хозяйство является участие СССР в деятельности международных экономических организаций. Мы положительно расцениваем то, что наша страна получила статус наблюдателя в ГАТТ и стала учредителем Европейского банка реконструкции и развития. В нынешнем году активизировались контакты, связанные со вступлением СССР в Международный валютный фонд и Мировой банк…»
Подготовка к лондонской встрече включала в себя мои интенсивные контакты с западными руководителями: телефонные разговоры и обмен письмами с Бушем, встречи и беседы с Миттераном, Андреотти, Гонсалесом. Особенно продуктивен был разговор на эту тему с Колем в Киеве. 15 июня я принял президента Европейского банка реконструкции и развития Аттали, 20 июня — председателя Комиссии Европейских сообществ Делора.
Письмо Буша
Накануне встречи Буш прислал мне письмо. Вот некоторые выдержки:
«Я хочу подчеркнуть, что мои коллеги по «семерке» и я едины в желании увидеть успех реформ в Советском Союзе. Внедрение рынка, демократизация не только в ваших интересах, но и в интересах всего мира. Именно по этой причине я и другие руководители «семерки» активно поддерживаем процесс реформ в вашей стране и готовы оказать в этом помощь.
Хотя мы заинтересованы в успехе советских реформ, мы также знаем, что судьбу реформ определят не посторонние, а сами советские люди. Прежде всего советские ресурсы, а не импортные послужат основой для успешного поворота в экономике. В лучшем случае промышленные страны могут оказать влияние только при условии, что в Советском Союзе будет проявлена сильная и несомненная преданность демократии и рынку.
Если вы убеждены, что рыночная экономика — решение ваших проблем, тогда мы можем помочь вам создать ее в СССР. Но если вы все еще чувствуете, что быстрый переход к рынку слишком рискован и поэтому необходимо на некоторый период сохранить административный контроль в соответствии с тем курсом, который намечен в антикризисной программе, тогда нам будет труднее вам помогать.
Если вы полностью привержены реформам для внедрения рынка, тогда я бы предложил, чтобы мы двигались вперед одновременно в нескольких областях. Во-первых, необходимо установить определенную связь, чтобы дать вам возможность составить такую программу реформ для вашей страны, которая пользовалась бы международным доверием. Это лучше всего сделать, работая непосредственно с МВФ и Всемирным банком.
Если вы согласны, что это разумно, а другие руководители «семерки» поддержат такой подход, тогда немедленно, сразу после Лондона МВФ и Всемирный банк могут начать работу, чтобы не терять времени. Естественно, что руководители «семерки» будут очень заинтересованы в этом процессе, и я, разумеется, хочу быть полезным для него. Конечно, основная тяжесть работы будет выполнена вами и международными учреждениями.
Одновременно с тем, что мы начнем этот процесс, я хочу также начать расширять наши взаимные усилия для достижения прогресса в конкретных секторах, где вы можете довольно быстро и отчетливо продемонстрировать результаты. Я знаю, насколько важно иметь некоторые доказательства успеха в самом начале.
Министр сельского хозяйства Эд Мадиган продолжает работу, начатую миссией по вопросам продовольствия, которую я посылал к вам в мае.
Мы работаем с вашими людьми, выбирая подходящее время для визита заместителя министра Дональда Этвуда с группой наших ведущих специалистов в области оборонной промышленности, чтобы изучить конверсию оборонной промышленности с руководителями вашего оборонно-промышленного комплекса.
Этим летом мы направили несколько групп для работы с правительственными и хозяйственными деятелями вашего сектора энергетики, для того чтобы помочь вам разработать стратегию для привлечения капиталовложений в энергетику.
В предстоящие месяцы я буду работать вместе с вами, чтобы найти другие области, где мы можем помочь, и я надеюсь на ваши предложения о том, где мы можем сказать свое слово.
Михаил, я с нетерпением жду нашей встречи в Лондоне. Ваша перестройка преобразовала советскую внутреннюю и внешнюю политику. Я и мои коллеги по «семерке» готовы поддержать ваши усилия по осуществлению такого же революционного преобразования в советской экономике».
Таково, с большим подтекстом, даже элементами нажима, письмо Буша. За ним просматривалась особая позиция администрации США, и это проявилось на лондонской встрече.
В Лондоне
С учетом сомнений и оговорок некоторых руководителей стран «семерки» мое участие мыслилось как специальная встреча, проводимая как бы за пределами ежегодного заседания руководителей стран «семерки». Я не стал придавать значения этой детали, понимая, что формула «7+1» и без превращения ее в «восьмерку» будет громадным шагом вперед, доминантой лондонской встречи. Так оно и произошло.
Мы прибыли в Лондон 16 июля, собрались в посольстве и еще раз обменялись мнениями о ситуации. Оказалось, что в выступлениях прессы произошла перемена тональности — от оптимизма и даже эйфории к сдержанности и даже скептицизму. Не исключено, кто-то на журналистов поднажал. Да и в высказываниях некоторых лидеров появлялись сходные мотивы. Наверное, хотели оказать воздействие на Горбачева, чтобы он на многое не рассчитывал.
Утром 17 июля до начала встречи я беседовал с Бушем, Миттераном, Аттали. С Президентом США мы окончательно согласовали Договор по СНВ. Потом в Ланкастер Хауз состоялась довольно торжественно обставленная моя встреча с «большой семеркой».
Открывая встречу, меня приветствовал Мейджор. Он поздравил нас с Бушем с окончательным согласованием Договора по СНВ. Это сообщение было встречено аплодисментами — явление редкое на подобного рода собраниях. Мейджор назвал встречу исторической, потому что она первая в таком роде и особенно важна для всех ее участников. Он сказал, что мое послание было изучено, участники встречи во многом согласны с его содержанием. Но есть несколько вопросов, по которым от меня ждут пояснений: о планах приватизации и либерализации советской экономики, путях решения проблем денежной массы, бюджетного дефицита, цен; о проблеме финансов и задолженности в отношениях между центром и республиками; об основах и особенностях нашего будущего рынка. Запад, сказал Мейджор, в состоянии помочь нам на макроэкономическом уровне, главным образом в форме консультативного содействия, а на микроэкономическом уровне — по некоторым конкретным направлениям, особенно в области энергетики. При этом ключевое значение, отметил он, имеет инвестиционный климат.
Свое выступление я начал с того, что охарактеризовал лондонскую встречу как символ происходящих глубоких перемен в международных отношениях. То, что было немыслимо еще два-три года, тем более пять — десять лет назад, в изменившихся условиях стало совершенно естественным и логичным.
Советское руководство считает, что позитивные процессы в мире могут принять стабильный характер, если политический диалог, сотрудничество в сфере безопасности, дипломатии будут опираться на новый характер экономического сотрудничества.
Наша концепция включения страны в мировую экономику исходит из необходимости радикальных перемен в СССР, но также и встречных шагов со стороны Запада (снятие законодательных и других ограничений на экономические и технические связи с СССР, участие СССР в международных экономических организациях и т. д.).
Я сделал бесповоротный выбор в пользу дальнейшего продолжения и углубления демократических преобразований в обществе и ускорения движения к рынку. Но вся логика событий подвела нас к выводу, что невозможно двигаться по пути радикальных экономических реформ вне рамок мирового рынка, так же как осуществление курса на демократизацию, обеспечение прав и свобод человека немыслимо вне общецивилизационных процессов развития человечества на грани XX и XXI веков.
Раскрывая нашу формулу «нового качества» экономического сотрудничества с другими странами, привлек внимание участников встречи к пакету предложений по конкретным программам сотрудничества. Тем самым по ходу выступления фактически ответил на заданные мне в начале заседания вопросы.
Потом развернулось обсуждение, в котором приняли участие все руководители стран «семерки». Буш высказал беспокойство по поводу распределения ответственности в рамках Союзного договора — это, подчеркнул он, важно с точки зрения капиталовложений. Он обозначил в качестве главных моментов: механизм последующих действий, взаимопонимание среди участников встречи, сотрудничество с международными организациями, политический импульс со стороны председательствующего и сменяющего его в следующем году канцлера Коля. Буш пояснил, что под «политическим импульсом» он понимает поездку в Москву Мейджора, проведение консультаций и представление доклада «семерке», — это-де оставило бы отдельным странам достаточно гибкости для действий на двустороннем уровне.
На фоне суховатых, сугубо деловых суждений Буша выступление Коля выглядело более эмоциональным, сочувственным. Мы, сказал он, переживаем необычный, исторический момент. Если процесс, который мы начинаем в Лондоне, пойдет успешно, это будет иметь чрезвычайно важное значение для Европы и всего мира. Что касается практических выводов, то и Коль был достаточно сдержан. Сославшись на уже согласованную позицию, высказался за то, чтобы создать «механизм» взаимодействия вокруг председателя, который работал бы в координации с существующими структурами.
Большое впечатление произвело на меня выступление Миттерана. Взяв слово после Делора, он продолжил, как он сказал, затронутую последним «тему неверия», то есть дефицита уверенности Запада в отношении оказания нам помощи. «Есть, — говорил Миттеран, — классический спор о том, что было раньше, курица или яйцо. И есть стремление давать оценку эксперименту, когда он еще не завершен. Так вот, лучшим аргументом против неверия является то, что делает президент Горбачев. В конце концов, — добавил Миттеран, обращаясь ко мне, — вы могли бы вести себя, как ваши предшественники, а результатом была бы катастрофа. История отметит это. Она отметит не только тот факт, что вы преобразуете страну, не имеющую демократических традиций, но и то, как изменились ее отношения с другими странами. В результате народы освободились от присутствия иностранных войск, Германия стала единой. Все это результат вашей политики. И все это — аргумент веры, а не неверия. А то, что еще предстоит сделать, — повод для надежды».
Миттеран стремился представить своим коллегам веские аргументы в пользу более определенной позиции, более действенной помощи в оздоровлении экономики СССР. Он высказался за принятие нашей страны в международные экономические организации, за конкретную помощь по конкретным направлениям и проектам. Конечно, говорил и о том, что беспокоило всех: о политической нестабильности, о сохранении Союза.
Был в его выступлении и пассаж о приватизации. «Я не советовал бы вам приватизировать все и вся. Суть в синтезе частного предпринимательства, демократической борьбы, конкуренции и в то же время роли государства. Во всех наших странах государство действует, различия — в степени. И мы не можем сказать вам — сделайте так или иначе. Надо уважать традиции Советского Союза. У вас в стране есть традиции коллективной собственности, и вам надо найти средний путь. Идя по этому пути, вы сможете получить помощь. Что-то будет между нами общее, что-то нет. Но именно общее сделает вас восприимчивым к помощи. За остальное несете ответственность вы сами, ответственность перед настоящим и перед будущим».
Очень сильным и по содержанию, и по форме было выступление Андреотти. «Здесь, — сказал он, — много говорилось о том, что Советский Союз начинает переход к рынку в непростых условиях. Конечно, перед президентом Горбачевым стоят колоссальные задачи. Но я должен сказать, что и наша экономика не была сильной, когда мы начали процесс ее преобразования. Поэтому мы, может быть, лучше, чем кто-либо, понимаем, почему в перестройке советской экономики необходимо проявлять осмотрительность. Почему, например, снятие контроля над ценами нельзя провести одним махом. Но направление движения должно быть четким».
Я поблагодарил всех участников встречи за атмосферу, в которой она происходила, — очень открытую и в то же время проникнутую чувством ответственности и заинтересованности. Свое общее впечатление сформулировал так: «Если я все правильно услышал, то я могу констатировать, что вы не только проявляете солидарность с тем огромным делом, которое мы осуществляем в Советском Союзе, но и хотите дополнить эту политическую констатацию, придать конкретные рамки, найти конкретные формы сотрудничества и содействия».
В связи с отдельными высказываниями, которые прозвучали на встрече, я счел нужным вновь подчеркнуть свое принципиальное понимание характера нашей экономической реформы. Напомнил слова лауреата Нобелевской премии экономиста Леонтьева о том, что экономика — это корабль, которому нужен парус, наполняемый ветром свободного предпринимательства, и руль государственного регулирования. Думаю, сказал я, что нигде, ни в одной из ваших стран нет чистой рыночной экономики. И думаю, вы не хотите, чтобы мы провалились. Поэтому говорю: мы двинемся к экономической свободе, но пусть общество решит само. Мы должны как можно скорее принять рыночные законы, дать экономическую свободу, содействовать ее реализации, а темпы будут определяться степенью готовности самого общества.
В заключение отметил: очень важно, что мы скажем миру о нашем диалоге. Это была действительно совместная мозговая атака. И мы здесь не боролись врукопашную, а думали вместе, и, я считаю, прорывы налицо. Надеюсь, наш председатель, резюмируя дискуссию, максимально «выжмет позитив».
Мейджор согласился со мной. Подводя итоги встречи, он сказал: «Это был откровенный, непринужденный разговор, а не набор формальных речей. Задавались непростые вопросы, на которые были даны ответы. В итоге разговора у нас у всех есть единое намерение работать вместе, чтобы содействовать интеграции Советского Союза в мировую экономику».
Достигнутые договоренности были сформулированы Мейджором в следующих шести пунктах, которые он спустя несколько часов изложил и на нашей с ним совместной пресс-конференции:
«Во-первых, мы договорились о желательности предоставления Советскому Союзу особого ассоциированного статуса в международных экономических организациях (МВФ и Мировой банк) в качестве шага к интеграции в эти структуры.
Во-вторых, мы просим все международные экономические организации наладить тесное сотрудничество с Советским Союзом и предоставлять ему консультативную и экспертную помощь в переходе к рыночной экономике.
В-третьих, мы намерены оказывать Советскому Союзу различную техническую помощь и интенсифицировать сотрудничество в осуществлении проектов в области энергетики, конверсии, продовольствия, транспорта.
В-четвертых, отдавая себе отчет в том, что, как отметил президент Горбачев, произошло разрушение экономических связей между Советским Союзом и его соседями, мы будем содействовать восстановлению этих связей, доступу на советский рынок товаров и услуг из этих стран.
В-пятых, данная встреча не является одноразовым событием. Это начало процесса. Поэтому мы создадим своего рода механизм, в рамках которого председатель от имени «семерки» будет поддерживать тесный контакт с советской стороной. При этом участники считают целесообразным, чтобы до конца года я в качестве председателя посетил Советский Союз и затем доложил «семерке» о том, как идут дела. В будущем году эту функцию будет выполнять канцлер Коль.
И наконец, мы договорились о том, что в нынешнем году наши министры финансов и малого бизнеса посетят Советский Союз и обсудят конкретные вопросы, связанные с экономическими преобразованиями в СССР и нашим содействием Советскому Союзу в процессе его полной интеграции в мировое сообщество».
На следующий день у нас состоялись обстоятельные беседы с премьер-министром. Мы обсудили практические шаги, которые следовало предпринять для реализации достигнутых договоренностей. Мейджор предложил в ближайшее время направить в Москву британского министра финансов Н.Лэмонта. Он подтвердил также, что намерен сам в качестве координатора в рамках формулы «7 + 1» приехать в Москву до конца года. Со своей стороны я предложил, чтобы предварительно была проведена подготовительная работа на других уровнях — как государственном, так и экспертном, имея в виду подготовку предложений, которые мы могли бы затем обсудить со всеми лидерами «семерки». Напомнив о представленном мною перечне конкретных проектов, просил Мейджора изучить пути устранения ограничений КОКОМ, мешавших их осуществлению. Мейджор обещал «разобраться» с этим вопросом, обсудить его со своими зарубежными коллегами.
Он рассказал о «фонде ноу-хау», созданном в Великобритании для помощи странам Восточной Европы и Советского Союза в деле формирования рынка. Отталкиваясь от дискуссии, которая произошла на «семерке», Мейджор задал ряд конкретных вопросов о политических переменах у нас в стране, в том числе о расстановке политических сил, перспективах заключения Союзного договора, характере будущей системы налогообложения в Союзе и т. д. Его замечания и реплики по ходу моих ответов свидетельствовали о желании премьер-министра глубже вникнуть в существо происходивших у нас процессов.
19 июля я встретился с Тэтчер и имел возможность лично поблагодарить ее за вклад в то, что встреча с «семеркой» стала возможной. «Очень важно, — сказала Тэтчер, — что ваша встреча с «семеркой» состоялась. Фактически в эти дни все было сфокусировано на вашем присутствии и на теме включения Советского Союза в мировую экономику». Сославшись на свои беседы в те дни практически со всеми руководителями «семерки», Тэтчер резюмировала свои впечатления следующим образом:
— Во-первых, признано, что Советский Союз бесповоротно встал на путь реформ, эти реформы пользуются поддержкой народа и заслуживают поддержки со стороны Запада. Во-вторых, поскольку это так, у меня вызывает определенное разочарование тот факт, что «семерка» не выработала более конкретных и практических мер такой поддержки. И в-третьих, сейчас чрезвычайно важно ухватиться за единодушное заявление «семерки» о поддержке и сотрудничестве. Не выпускайте их, требуйте конкретных, более практических проявлений поддержки!
Эти выводы совпадали с моими впечатлениями, и я, естественно, выразил согласие.
Она довольно оптимистически оценила перспективы притока к нам иностранных частных инвестиций. В этом, по ее словам, она убедилась в беседах с американскими предпринимателями, когда в конце июня побывала в США. Важно, подчеркнула Тэтчер, чтобы сохранялись в силе, не изменялись правила игры в отношении совместных предприятий, иностранных капиталовложений, собственности и т. д. Что касается частной собственности, то некоторые американские предприниматели прямо ей заявили, что их вполне устраивает договоренность об аренде земли на 99 лет. Их не беспокоило также, будет ли немедленно решена проблема конвертируемости рубля, — они считали, что вырученные рубли вполне можно использовать в Советском Союзе для закупки оборудования, сырья. И еще она добавила:
— Конвертируемость не наступит до тех пор, пока экономика не сможет ее выдержать. В противном случае она приведет лишь к дальнейшему обесценению рубля.
1 августа, за несколько дней до отъезда на отдых в Крым, я принял министра финансов Великобритании Н.Лэмонта, приехавшего в Москву, как мы и договаривались с Мейджором, чтобы обсудить с представителями правительства, нашими хозяйственными и финансовыми руководителями практические вопросы реализации лондонских договоренностей. Лэмонт выразил надежду, что начатый в Лондоне процесс будет продолжен и приведет к интеграции СССР в мировую экономическую систему. Сказал ему, что накануне, во время пребывания в Советском Союзе Буша, мы с ним также продолжили разговор на эту тему. И подтвердили концепцию встречного движения.
Естественно, в разговоре с Лэмонтом вновь всплыли вопросы отношений между республиками и центром. Он подчеркивал ключевое значение политического урегулирования в Союзе для успешного осуществления экономических и финансовых программ. Поскольку из Москвы Лэмонт направлялся в Киев, я посоветовал ему высказать тамошним руководителям свое мнение об экономическом сепаратизме (как это сделал в июне Делор, приглашенный во время пребывания в Москве на заседание Кабинета министров с участием представителей республик).
Таковы были, к моменту путча, «наработки» для оформления нашего включения в мировой экономический механизм.
В Лондоне обозначился поворот огромного значения. Вслед за политической и военной сферой начался демонтаж барьеров на пути нашей интеграции в мировую экономику.
Глава 29. Джордж Буш в Москве за три недели до путча
В конце июля 1991 года с ответным визитом в СССР прибыл Президент Соединенных Штатов. Должно было состояться подписание Договора по СНВ.
Прежде чем написать эти и последующие строки, я внимательно перечитал сделанные тогда записи и вновь ощутил всю значимость происходившего в те дни. Встреч было несколько: доверительная беседа утром 30 июля, переговоры в расширенном составе, обмен мнениями в ходе рабочего завтрака и особенно значительная беседа в Ново-Огареве 31 июля. Для всех были характерны две особенности: высокая степень взаимного доверия, несмотря на расхождения в оценках по ряду вопросов, и большая степень согласия во взглядах не только на текущие, но и новые, лишь назревающие проблемы. Во всяком случае, многое из того, что мы обсуждали в то время, поныне является предметом дискуссий как на дипломатическом, так и на публицистическом уровне.
На веранде в Ново-Огареве
Я уже отметил, что наиболее важной была беседа в Ново-Огареве. Мы заранее с Бушем договорились, что, когда он приедет в Москву, повторим нечто подобное тому, что он устроил в Кэмп-Дэвиде во время моего визита в США. А именно — собраться в неофициальной обстановке, в узком кругу, предпочтительно за городом, «без галстуков», без всякого протокола и обязательной повестки дня. И поговорить обо всем.
Я приехал в Ново-Огарево раньше. Со мной была Раиса Максимовна. Мы прогуливались возле дома, который теперь уже достаточно хорошо известен всему миру. День был ясный, жаркий. Вскоре к нам присоединились Бейкер и Скоукрофт. Подскочил фотограф, зафиксировал всех вместе. Мы ждали президента, который, как мы вскоре увидели по проехавшим вдали машинам, направился сначала в резиденцию — к дому, который был ему отведен на территории Ново-Огарева. Через несколько минут Джордж и Барбара подошли к нам. Поговорили «о погоде», других необязательных вещах, пошутили. Раиса Максимовна и Барбара отправились по своей программе, а мы с Бушем пошли «заседать».
Вместе выбрали место для переговоров: решили, что лучше всего на открытой веранде, выходившей на южную сторону, к Москве-реке. На всем протяжении беседы, которая заняла первую половину дня, в ней участвовали только Бессмертных и Черняев, Бейкер и Скоукрофт. Ну и, разумеется, переводчики.
Главной темой для меня в такой беседе была перспектива формирования новой системы всеобщей безопасности в русле совместно (впервые за всю историю) проводимой мировой политики по новым критериям, которые уже прошли некоторое испытание на практике.
Я отметил немалые приобретения в результате усилий изменить международную ситуацию к лучшему. Пора подумать о новой концепции стратегической стабильности. В прошлом это понятие сводилось в основном к военному паритету, равенству, военному аспекту безопасности. Теперь, когда мы отказываемся от ставки на силу, на гонку вооружений, когда у нас складываются совсем иные отношения, следовало бы сильнее включить в это понятие компоненты политической и экономической стабильности. Особенно в условиях, когда все больше сказывается дестабилизирующее воздействие на мир межнациональных, а в ряде случаев и религиозных противоречий и конфликтов.
Крайне важно стимулировать демократический характер происходящих перемен, продолжал я. Мы вызвали их своими действиями и хотим, чтобы такие перемены продолжались. Однако существует проблема: как удержать этот процесс в мирных, легальных рамках, не допустить, чтобы его захлестнула стихия, чреватая хаосом и внутри и вовне государств.
Другой момент — это появление влиятельных центров силы наряду с двумя ядерными сверхдержавами. Достаточно бросить взгляд на интегрирующийся Европейский континент. К Европейскому Сообществу все настойчивее тянутся северные страны, государства Центральной и Восточной Европы. Очевидна перспектива сосредоточения здесь экономической, политической и военной мощи, которое скажется на всей геополитической ситуации.
Сложные процессы происходят в Африке. Они еще не определились, но первый этап постколониального развития, можно считать, закончился, причем больше с минусом, чем с плюсом. Место Африки в раскладе мировых потенциалов далеко еще не ясно.
Геополитический фактор Китая и Индии будет нарастать, причем в сугубо своеобразном плане, не традиционном для мировой политики XX века. Вместе — это 2 миллиарда человек. Древнейшие народы, в которых проснулась воля проложить себе свой путь. В этой связи счел возможным заметить: хорошо, что Президент США ведет себя ответственно, не пытается разыграть против нас «китайскую карту». Мы тоже не допустим действий, которые могли бы создать перекос в балансе мировых интересов. Более того, мы бы приветствовали возвращение отношений США с Китаем в нормальное русло.
В Азиатско-Тихоокеанском бассейне большие перемены могут быть связаны с тем, что Япония не будет довольствоваться ролью великой экономической державы, захочет стать влиятельным политическим и военным фактором.
Я назвал также проблему ресурсов, окружающей среды, демографические процессы. Все они, хотя и в разной степени, порождают вопрос: какую роль должны сыграть наши две страны в новых обстоятельствах, как должны складываться дальше их отношения.
Рассуждения Буша шли в том же направлении. Он счел необходимым еще раз заявить, что Соединенные Штаты хотели бы видеть Советский Союз сильным, экономически крепким, способным к коренным изменениям в демократическом духе. Я, сказал он, доверяю вашим намерениям. И сейчас больше, чем до приезда сюда, уверен, что вы знаете, куда хотите идти и как приблизиться к цели.
Обратившись к проблеме Европы, Буш признал, что у США есть определенные трудности с европейцами. Наш выбор, сказал он, сохранить свою вовлеченность в Европе. Мы и впредь будем поддерживать процесс СБСЕ, разумеется, с участием СССР. Попытаемся донести до наших западноевропейских друзей, что хотим «участвовать не только в посадке, но и во взлете». А это значит, что «мы не хотим, чтобы нас ставили перед фактами, перед какими-то экономическими инициативами — не только в отношении СССР, — не проконсультировавшись с нами».
Перейдя к вопросу об Африке, Буш подчеркнул, что США приветствовали бы любые наши шаги в поддержку де Клерка. При этом он довольно критически отозвался о политике Африканского национального конгресса, который, по его мнению, отстает от демократических перемен, заигрывает с Каддафи. Президент выразил согласие продолжить сотрудничество по проблемам Намибии, Анголы, других стран Африки.
Взвешенными, ответственными показались мне размышления Буша о Китае. «У нас по-прежнему с горечью вспоминают о событиях на площади Тяньаньмэнь. Но, во-первых, не может быть и речи о разыгрывании «китайской карты», и, во-вторых, мы хотим положительно воздействовать на Китай, а не обрывать с ним контакты. Дается это не легко. Конгресс настроен наказать Китай. Но я считаю, что этого делать нельзя: в глобальном плане Китай очень важная страна».
Буш выразил надежду, что Советский Союз сумеет донести до Индии озабоченность США в связи с проблемой ядерного оружия.
Из Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал Буш, и до нас доходит информация о существующих опасениях по поводу японской экспансии. Антияпонские настроения имеют место и в Соединенных Штатах, хотя по другим причинам. Трудности возникают потому, что нет достаточной взаимности, открытости японского рынка. Если бы у вас, у СССР, сказал он, наладилось с японцами экономическое взаимодействие, то это послужило бы стабилизации. В этой связи Буш упомянул о целесообразности для нас поискать тот или иной способ решения советско-японского территориального спора.
Бейкеру показалось, что президент выразился недостаточно дипломатично. Поэтому он счел необходимым «развить тему»: японцы, по его словам, хотят нарастить не столько военный, сколько политический вес, а американо-японские связи в области безопасности в значительной степени снимают опасения стран АСЕАН, если такие и есть.
Говоря о перспективах советско-американских отношений, Буш решительно подтвердил, что выбор его администрации — «поддержка политики Горбачева». Вместе с тем рассказал о давлении, которое оказывают на него с разных сторон. В моей собственной партии, сообщил он, есть крайние, утверждающие, что в интересах США добиться распада СССР или его экономического краха. А слева нас атакуют либеральные демократы, непрерывно поднимающие проблему прав человека и требующие от администрации, чтобы она, воспользовавшись вашим трудным положением, навязывала бы вам те или иные требования.
Атакует нас пресса. Первоначально меня и Бейкера критиковали за то, что мы якобы слишком осторожны в отношениях с СССР, не используем новые открывшиеся возможности. Теперь нападки пошли с другой стороны: дескать, Буш чересчур любит Горбачева, делает ставку исключительно на него.
В медлительности, отсутствии надлежащей активности обвиняют нас и некоторые наши европейские друзья и союзники. Впрочем, иногда создается впечатление, что они пытаются таким образом спрятаться за спину Соединенных Штатов. Я, вновь подчеркнул Буш, не меньше любого европейца хочу, чтобы реформы в СССР увенчались успехом. И для этого мы можем сделать больше, чем любая западноевропейская страна. У нас иные масштабы экономики, богаче технология, больше изобретательности.
В связи с предстоявшей поездкой в Киев Буш заверил меня: ни он, ни кто-либо из сопровождавших его лиц не допустят ничего такого, что могло бы быть интерпретировано как поддержка сепаратистских тенденций. Например, Ландсбергис активно добивался того, чтобы по пути домой Буш совершил посадку в Вильнюсе. Они, естественно, не станут этого делать. Вместе с тем, на его, Буша, взгляд, лучше всего, если бы мы нашли возможность отсечь, отпустить на волю эти республики. Это прекрасно повлияло бы на мировое общественное мнение.
Как и во время предыдущих встреч, важное место заняли экономические проблемы. Впрочем, более конкретно они обсуждались накануне в Москве, где в дискуссии принял участие Нурсултан Назарбаев. Буш там поднял вопрос о трудностях, возникших в связи с подготовкой контракта по разработке казахстанских месторождений нефти с участием фирмы «Шеврон».
Апеллируя к доверительному характеру наших личных отношений, я напомнил Бушу о серьезных препятствиях, которые создают для нашей экономики дискриминационные законы США и запретительные списки КОКОМ. Обратил его внимание на наиболее разительные примеры.
Буш признал, что в ряде случаев речь, видимо, идет о наследии «холодной войны», обещал разобраться. Однако вопрос о дискриминационном американском законодательстве и запретительных списках КОКОМ не был решен ни тогда, ни спустя два года — во всяком случае, к моменту, когда завершалась работа над этой книгой.
Перед Бушем я поставил вопрос — как обойтись без «испытательного срока» при вступлении СССР в Международный валютный фонд; для нас важно воспользоваться его услугами именно сейчас, а не когда-нибудь потом. Из его рассуждений я понял, что на серьезную поддержку со стороны США рассчитывать не следует. Правила таковы, что прежде, чем станут возможны большие займы, должны быть выполнены определенные экономические требования. И это зависит не только от американцев. Необходимо предоставление соответствующей информации, соблюдение правил Всемирного банка, МВФ, Парижского клуба. Сошлись на том, что обсуждение всех этих вопросов продолжим на уровне министров финансов.
Еще один узел проблеем, занявший у нас много времени, касался дальнейшего продвижения в деле демонтажа вооружений. Здесь активно включились в разговор Бейкер и Бессмертных. Согласились возобновить 30 сентября 1991 года переговоры по проблеме ПРО и космоса в рамках Женевских переговоров по ЯКВ[22]; на встречу экспертов по биологическому оружию; поддержали предложенную министрами идею создания двух рабочих групп — по проблемам сдерживания, предсказуемости и стабильности не только с военной точки зрения, но и в связи с ситуацией в регионах, чреватых потенциальными конфликтами; по нераспространению оружия массового уничтожения и соответствующих технологий. Подтвердили обоюдную решимость завершить работу над конвенцией о ликвидации химического оружия, сняли некоторые частные препятствия, тормозившие дело.
Министры проинформировали нас о текущей работе в области ограничения вооружений: возобновлении многосторонних переговоров по «открытому небу»; интенсификации переговоров Вена-1А, с тем чтобы завершить их до марта 1992 года, то есть до совещания Хельсинки-2; предоставлении американской стороне информации насчет ракет СС-23 в странах Восточной Европы.
Детальному обсуждению подверглось в Ново-Огареве положение на Ближнем Востоке. И мы, и американцы в последние месяцы перед тем развернули активную дипломатическую деятельность, подталкивая стороны к соглашению. Ближайшей целью наших усилий было обеспечить созыв мирной конференции по Ближнему Востоку. Я предложил, чтобы приглашения на эту конференцию направлялись от имени президентов СССР и США и чтобы именно они открыли эту конференцию. Буш поддержал.
Вместе с тем он указал на препятствия, которые могут помешать нашим усилиям. «Очень острую проблему составляют израильские поселения на оккупированных территориях. США пытаются убедить Израиль изменить политику в данном вопросе. Однако пока не получается». Я в свою очередь рассказал о том нажиме, которому мы подвергаемся со стороны арабов: «Они требуют, чтобы мы положили конец эмиграции советских евреев в Израиль. Когда здесь, в Москве, был президент Мубарак, он откровенно предупредил меня, что поднимет этот вопрос публично — что и сделал на пресс-конференции. Мы, разумеется, не намерены поддаваться нажиму, но и не считаться с этим обстоятельством не можем».
Я сообщил Бушу, что мы готовы установить дипломатические отношения с Израилем, как только договоримся о начале международной конференции. Можете, сказал я, передать это израильтянам.
Серьезный разговор в Ново-Огареве был о Югославии. В этой связи я произнес слова, которые хочу повторить и сегодня: «Даже частичный распад Югославии может породить цепную реакцию наподобие ядерной. И дело не только в Югославии. В мире огромное количество действительных и мнимых межнациональных и межэтнических проблем. Кроить по этому признаку границы государств — значит провоцировать полнейший хаос. Если бы я сейчас начал перечислять потенциальные территориальные проблемы, которые возникли бы в этом случае, не хватило бы пальцев, причем не только у меня, но и у всех присутствующих. Например, у нас, в Советском Союзе, 70 процентов межреспубликанских границ фактически не определены. Раньше этим никто не занимался и все решалось «в рабочем порядке», на уровне чуть ли не райсоветов. Межнациональные проблемы есть у болгар (турецкое меньшинство), у румын (Трансильвания). Существует проблема отношений между чехами и словаками в Чехословацкой Республике и т. д. Когда я незадолго до Лондона обсуждал этот вопрос с Гельмутом Колем, он спросил меня: как же быть с принципом самоопределения наций, если настаивать на территориальной целостности и нерушимости границ? Я ответил ему, что не вижу непреодолимого противоречия между этими принципами, однако процесс должен быть внутренним и идти в конституционных, правовых рамках».
Поскольку эта проблема, как и некоторые другие, должна была получить отражение в официальном документе, я предложил найти формулировки, из которых было бы ясно, что единственным путем решения межнациональных проблем должен стать конституционный процесс, и которые содержали бы ссылку на принципы СБСЕ, предполагающие нерушимость межгосударственных границ. Буш в принципе не возражал. Тем не менее некоторые из его высказываний, как мне показалось, свидетельствовали о том, что среди западноевропейцев набирают влияние силы, взявшие курс на перекройку карты Европы, и что они оказывают на Президента США давление. К моему глубокому сожалению, это ощущение подтвердилось дальнейшим ходом событий.
Звездный час
Подошел час возвращаться в Москву, в Кремль, где нас ждала торжественная церемония подписания Договора по стратегическим наступательным вооружениям, вынашивавшегося более девяти лет. Подписание состоялось во Владимирском зале. Выступая на церемонии, Буш, в частности, сказал: «Мы скрепляем тем самым создающиеся между нашими странами новые возможности, которые обещают дальнейшее продвижение на пути обеспечения прочного мира». Эти слова полностью соответствовали моим мыслям и оценкам этого акта.
Вспоминаю я сейчас об этом визите Президента США, последнем в Советский Союз, с некоторой горечью. Не знали мы тогда, что произойдет всего через три недели. Жили будущим. Говоря о множестве актуальных проблем, мы вместе с тем как бы подводили итог пройденного за 5–6 лет пути. Эти годы вывели мировую политику на принципиально новый, исторический рубеж, — когда она стала вершиться как общая политика держав, совсем недавно считавших себя смертельными врагами и в этой своей вражде готовых столкнуть весь мир к катастрофе. В этом смысле встречу президентов СССР и США в Ново-Огареве 31 июля 1991 года можно считать «звездным часом» нового мышления и соответствующей ему внешней политики.
Когда мы с Бушем, прощаясь у выхода из Кремлевского Дворца, пожимали друг другу руки, наступил уже август — трагический август Девяносто первого.
Рамки воспоминаний не дают возможности без ущерба для содержания описать более широко, с подробностями всю программу пребывания в СССР Президента США и его супруги. Но о двух моментах все же стоит сказать, ибо они проливают свет на то, что происходило тогда в кругах «советской» элиты.
В рамках визита состоялись два официальных обеда: с нашей стороны — в Грановитой палате, а с американской — в резиденции посла США.
Первым был наш обед. По протоколу я и Раиса Максимовна представляли президентской чете США приглашенных. В числе первых подошедших гостей оказалась супруга Ельцина, которую почему-то сопровождал Гавриил Попов. А в конце церемонии, когда гости все прошли, появился в гордом одиночестве Ельцин. Подходит и приглашает Барбару Буш в Грановитую палату. Все в недоумении (кроме меня, я-то Бориса знаю. Накануне он звонил мне и обращался с просьбой дать ему возможность выступить на обеде вместе со мной и Бушем. Я, естественно, отказал ему в этом. Зачем?). Смущена была и госпожа Буш: она ждет приглашения Президента СССР, хозяина приема. «Разве так можно?» — восклицает изумленно она.
Президент России очень хотел обратить на себя внимание. Потом уже на обеде в посольстве США Назарбаев и Ельцин были недовольны тем, что их не посадили за главные столы. И где-то в середине приема, поднявшись с мест, направились вдвоем к Президенту США. Это само по себе ничего не значило, если бы от Ельцина и Назарбаева не последовали горячие клятвенные заверения американскому президенту в том, что они «сделают все для успеха демократии в этой стране». Сидящие за столами наблюдали за происходящим не только с любопытством, но прежде всего с недоумением и естественным вопросом — что бы все это значило? И лишь наши герои не испытывали никакого смущения. Конечно, это уже выходило за всякие рамки. Это был сигнал Президенту СССР — предстоят нелегкие времена.
Часть IV. ПЕРЕСТРОЙКА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ
Глава 30. Начало поворота
Конец «доктрины Брежнева»
Когда на Пленуме ЦК меня избрали генсеком, я решил безотлагательно встретиться с руководителями стран — членов Варшавского Договора[23]. Переговорил по телефону с каждым из них — представился в новом качестве и предложил по их приезде в Москву провести встречу. Она состоялась в Кремле после похорон Черненко. В ней участвовали Тихонов, Громыко, Русаков.
Не скажу, что для меня это была простая встреча. К тому времени я лично был знаком со всеми руководителями соцстран, с некоторыми — Живков, Кадар, Чаушеску — встречался несколько раз. Но то была одна ситуация, теперь — совершенно другая. Предстояло без пауз навести мосты с людьми, которые в своем большинстве уже десятки лет возглавляли правящие партии и привыкли следовать установившимся стереотипам отношений с советским руководством. Причем это одна сторона дела, может быть, и не главная. К тому времени было ясно, что отношения с этими странами нуждаются в обновлении. «Формула», с которой я шел на встречу, включала, таким образом, два главных элемента — преемственность и необходимость перемен.
По понятным причинам встреча была непродолжительной, но она имела далеко идущие последствия. Открывая ее, я сказал, что мы за равноправные отношения, уважение суверенитета и независимости каждой страны, взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. Признание этих принципов означает одновременно полную ответственность каждой партии за положение в своей стране.
Партнеры поддержали сказанное. Но, как показалось мне, отнеслись к этому не совсем серьезно. В самом деле, мало ли и раньше заявлялось нечто подобное, а все оставалось без изменений. Наверное, и на этот раз они подумали: поживем — увидим. По существу же, наше заявление на этой встрече означало поворот к новым отношениям, отказ от так называемой «доктрины Брежнева», которая никогда не провозглашалась официально, но фактически определяла подход СССР к союзным странам.
Во главе кубинской делегации на похороны приезжал Рауль Кастро, с которым я был также знаком раньше. Он задержался в Москве на несколько дней, и у нас состоялась обстоятельная беседа. Проблем в советско-кубинских отношениях к тому времени накопилось немало. Но на том этапе я считал необходимым подтвердить приверженность взаимному сотрудничеству. Думаю, это было как раз то, что кубинцы хотели от нас услышать. Речь о каком-то кардинальном пересмотре наших отношений не велась, хотя определенные соображения на этот счет уже высказывались.
14 марта 1985 года состоялась встреча с главой делегации Китая Ли Пэном, вице-премьером Государственного совета КНР. Ли Пэн окончил Московский энергетический институт, говорил по-русски. Сам факт, что именно он был направлен тогда руководством КНР во главе делегации в Москву, служил хорошим знаком. Беседу с ним я повел в доброжелательном духе, выразил убеждение в необходимости и взаимовыгодности полной нормализации наших отношений. Ли Пэн высказался в том смысле, что Китай готов шаг за шагом их нормализовать на подлинно равноправной основе, но не хочет оказаться в подчиненной Советскому Союзу роли младшего брата. Я не только согласился, но значительно усилил этот тезис, подчеркнув, что наши отношения просто не могут нормализоваться и прогрессировать иначе как на основе равноправия, взаимного уважения и учета национальных интересов. Словом, руководством обоих государств на этой встрече были даны и соответственно приняты важные сигналы.
Ну и что, опять-таки скажет читатель, сходные намерения не раз провозглашались в прошлом — во времена Хрущева, Брежнева, да и в последующие годы. Это, конечно, так. Но, начиная с мартовских дней 1985-го, мы стремились следовать этим принципам на деле, хотя давалось это нелегко. Пришлось преодолевать упорное противодействие всяким переменам в сложившейся системе руководства «социалистическим содружеством», почти не претерпевшей изменений со сталинских времен. Разве что формы, декорум стали приличней, а суть, методы оставались теми же, за редкими исключениями. Туго, неохотно шли на перестройку партийно-государственные учреждения, ведавшие этим направлением международной деятельности. И конечно, кадры, привыкшие к определенному стилю, не спешившие избавляться от высокомерия и чванства в официальных и просто человеческих, повседневных контактах с союзниками.
Инерция патернализма долго давала о себе знать. В самих же соцстранах глубокие корни пустили традиции иждивенчества и послушного следования за лидером, стремление чуть ли не каждый более или менее значительный шаг согласовывать со «старшим братом», дабы не вызвать недовольства в Кремле. Разумеется, мера этого «послушания» была весьма различной от страны к стране, определялась ее зависимостью от экономических связей с Советским Союзом, прочностью режима, международным положением, факторами исторического порядка и, не в последнюю очередь — личностью руководителя. «Соцсодружество» к тому времени, когда мне пришлось, образно говоря, принять бразды правления, было уже далеко не таким однообразным, как в первые послевоенные периоды, в нем были свои «еретики» и «смутьяны», как тот же Чаушеску. Но в вопросах стратегических дисциплина соблюдалась, и первое слово всегда оставалось за признанным авангардом — социалистической сверхдержавой.
Новый курс в отношении соцстран сформировался не сразу. Он складывался постепенно — как составной компонент нового политического мышления и в его общем контексте.
Так случилось, что уже через месяц я снова встретился с руководителями стран ОВД в Польше в связи с продлением Варшавского Договора на последующие 20 лет. Не обошлось без дискуссий по этому поводу, но согласие было достигнуто. Причем возымело действие мое заявление в узком кругу — давайте не будем никого насиловать, пусть каждая страна решит, что ей делать.
Для меня эта встреча была не менее важна и по другой причине: мы только что — 25 апреля — провели свой Пленум ЦК. Естественно, было желание прояснить отношение коллег к его итогам, и я почувствовал вполне позитивную реакцию на идеи, прозвучавшие из Москвы. Во всяком случае, у собеседников не возникло каких-либо недоуменных вопросов и обеспокоенности.
Что касается внешнеполитических проблем, мы дали понять союзникам, что советская дипломатия берет курс на широкое мирное наступление, притом вполне серьезно, не в пропагандистском, а в практическом плане. Нужны были согласованные усилия, чтобы переломить тенденцию нагнетания конфронтации, и на очередном совещании Политического консультативного комитета (ПКК) ОВД в Софии (октябрь 1985-го) мы «сверили часы» накануне советско-американской встречи в Женеве. Пожалуй, это был первый за многие годы случай, когда советское руководство не просто поставило союзников перед фактом и потребовало формального одобрения своим инициативам, а сочло необходимым сообща обсудить их, прежде чем «запускать» в дело. Это было по достоинству оценено, да и, по существу, наша попытка договориться с США о прекращении изнурительной гонки вооружений и реальных мерах по разоружению была поддержана с энтузиазмом всеми участниками софийского совещания.
Стремясь установить доверительный контакт с моими партнерами, я предложил за рамками совещания ПКК провести неформальную рабочую встречу. За круглым столом нас собралось семеро, а за отдельными столиками — по одному помощнику. Для советской делегации было сделано исключение — кроме моего помощника Шарапова присутствовал Медведев, которого я предполагал назначить заведующим отделом.
По общему желанию встреча началась моим выступлением. Я откровенно рассказал коллегам о наших проблемах, объяснил, почему нам в Советском Союзе необходимо обновление, что мы понимаем под ускорением социально-экономического развития.
Помню содержательное и эмоциональное выступление Ярузельского, весь тон высказываний которого свидетельствовал о приверженности переменам. Он сетовал на чрезмерную заидеологизированность, что тормозит реформы, мешает выходу из положения «осажденной крепости». Да и другие благожелательно отозвались о наших тогдашних новациях. Разговор пошел вполне свободный, говорили и о том, у кого что болит. В чем сходились все, так это в критике Совета Экономической Взаимопомощи. Ругали его за бюрократизм, за недостаточную эффективность, подчеркивали необходимость основательного обновления деятельности механизма сотрудничества. Сетовали на то, что в экономической сфере, особенно в том, что касается технического прогресса, передовых технологий, интеграции, соцстраны явно проигрывают Западу. В итоге договорились посвятить специальную встречу высших руководителей проблемам перестройки экономических отношений и сотрудничества стран СЭВ.
Софийское совещание помогло мне глубже вникнуть в дела соцсодружества, которые были одной из важнейших прерогатив и одновременно забот генсека, лучше присмотреться к своим партнерам. Но у меня еще не было ни полной картины ситуации, сложившейся на этом участке, ни тем более продуманной системы мер, которые мы могли бы предложить своим союзникам. В докладе XXVII съезду КПСС был достаточно традиционно, разве что с некоторыми «новинками» изложен общий наш подход к отношениям с ними. А сразу же после съезда была развернута с моим непосредственным участием работа по оценке ситуации и подготовке конкретных предложений. Тогда же во главе отдела ЦК вместо ушедшего на пенсию Русакова был поставлен Медведев, а его первым заместителем вместо О.Б.Рахманина, известного своими консервативными взглядами, стал Шахназаров.
Исходных материалов, в том числе статистических данных, всевозможных записок, представленных Совмином, нашим представительством в СЭВе, посольствами, МИДом, научными институтами и т. д., было, как говорится, сверх головы. Нелегко было разобраться в этом ворохе и свести к сумме вполне деловых предложений. После основательной работы родилась моя записка в Политбюро ЦК «О некоторых вопросах сотрудничества с соцстранами». Я не случайно решил избрать эту форму: она позволяла с самого начала придать нашим новым оценкам и инициативам статус официального политического курса, закрепленного решениями коллективного руководства.
Записка завершалась выводом о необходимости подлинного перелома во всей системе сотрудничества с союзниками.
Перечитывая сейчас записку, я отчетливо вижу влияние традиционных взглядов и стереотипов. Да иначе и быть не могло, поскольку мы едва вступили на путь пересмотра всего, что десятилетиями вбивалось в сознание, приобрело характер веры. На заседании Политбюро состоялся обмен мнениями по моей записке (май 1986 г.), ее поддержали не формально, не склоняясь перед авторитетом генсека, а с энтузиазмом. За редкими исключениями все в руководстве видели зияющие дыры в системе сотрудничества с соцстранами, в особенности по линии народнохозяйственной. И первым практическим шагом стала реформа внешнеэкономического механизма, начатая в августе 1986 года.
В ноябре того же года в Москве состоялся «социалистический саммит» по проблемам экономического сотрудничества, о котором мы договорились в Софии. Разговор пошел основательный. Искали коренные причины общего экономического отставания и уже тогда не сводили дело к поверхностным факторам, копали, как говорят, глубоко. Прежде всего указывалось на несовершенство самой экономической модели, действовавшей в странах содружества. Шла речь и о пороке экономической политики, не обеспечивающей оптимальное соотношение эффективности и социальной справедливости, социальных программ и стимулов к труду. Нечего говорить, что сама атмосфера «вольной» дискуссии оказалась возможной благодаря тому, что было снято идеологическое табу с обсуждения всех этих вопросов.
Становилась все очевиднее убогость абстрактных рассуждений о преимуществах плановой экономики, о том, что социализм как бы априори обеспечивает гармоничное развитие производительных сил и гарантирует согласование интересов. Ученые и специалисты, которые осмеливались в прошлом подвергать сомнению эти постулаты, объявлялись антисоветчиками. В других соцстранах на них навешивали свои ярлыки, их изгоняли из научных центров, исключали из партий, некоторые вынуждены были эмигрировать. И вот плотина рухнула, начался серьезный разговор, причем не в аудитории Института экономики социалистических стран и даже не на сессии СЭВ, а на встрече высших хранителей ортодоксии.
Главная мысль в моем выступлении сводилась к тому, что прежние формы сотрудничества себя исчерпали. Привычная модель экономических отношений, когда нашим союзникам шло главным образом советское сырье, а нам — их готовая продукция, дальше не работает, становится все более невыгодной обеим сторонам. Вдобавок товарооборот между странами СЭВ в последние годы растет медленнее, чем внутренний продукт, тогда как в Западной Европе все обстоит наоборот. И главное, в рамках Содружества не продвигается внутрипроизводственная кооперация, а принятая правительствами Комплексная программа интеграции стран СЭВ наталкивается на всевозможные препятствия, в том числе откровенно прозападную ориентацию некоторых управленческих звеньев.
Участники встречи в целом позитивно восприняли выдвинутую нами идею «трехуровневого» механизма регулирования экономических взаимосвязей. На верхнем уровне, то есть в межгосударственных отношениях, предлагалось оставить принципиальные проблемы стратегической ориентации экономических отношений, прежде всего в области финансов и научно-технического сотрудничества. Конкретные задачи взаимодействия должны были сосредотачиваться на уровне отраслей (министерства, ведомства, многосторонние комиссии и т. д.). А нижним, базовым уровнем стали бы прямые связи предприятий и объединений. Предоставить непосредственным производителям максимальную свободу в выборе партнеров и форм сотрудничества — в этом, — можно сказать, была «изюминка» предлагавшейся «трехуровневой модели». Грубо говоря, на третьем ее этаже писались бы законы, на втором — составлялись программы и принимались «рамочные решения», а на первом — договаривались и делали дело.
Как я уже говорил, в августе у нас были приняты решения по коренной перестройке внешнеэкономической деятельности Советского Союза. Государственная монополия внешней торговли была существенно ограничена, нескольким десяткам крупнейших предприятий предоставили право самостоятельного выхода на мировой рынок. И всем без исключения — установления связей с партнерами в социалистических странах. Самый трудный вопрос — ценообразования по кооперационным поставкам — мы предложили передать на решение сотрудничающих предприятий при соблюдении общих параметров.
Понимая, что Монголия, Вьетнам, Куба не смогут в ближайшее время присоединиться к новым формам сотрудничества, мы предложили разработать отдельную программу совершенствования экономических отношений с этими странами.
С известными оговорками можно считать, что предложенные нами меры означали приглашение перевести экономические отношения в соцсодружестве на рыночные рельсы. Тут уже не обнаружилось знакомого единодушия. Советники и предсовмины лихорадочно подсчитывали, чем это может обернуться, каким выигрышем или, напротив, потерями. А в выступлениях лидеров наряду с одобрительными прозвучали и критические нотки. В то время как Кадар и Ярузельский полностью поддержали выдвинутые мною предложения, Гусак и Живков сделали это с оговорками. А Хонеккер и Чаушеску, высказавшись за улучшение сотрудничества на межгосударственном уровне, весьма сдержанно, по сути дела, негативно отнеслись к идее расширения прав предприятий.
В те ноябрьские дни мы достаточно откровенно обменялись мнениями и по социальной проблематике. В центре дискуссии была вечная тема соотношения социальной справедливости и экономической эффективности. Ее остро поднимали Кадар и Ярузельский. Главная их мысль: мы все за равенство, но «зашли слишком далеко» — до уравниловки, выравнивания, а значит, и подавления личных интересов людей. Это наложило отпечаток на экономику, на все общественные процессы. Гусак был немногословен, но, как всегда, обнаружил понимание перспективы. В своей обычной манере, не без претенциозности, теоретизировал Живков. Чаушеску и Хонеккер признали важность обсуждаемых вопросов, хотя присовокупили, что они ими уже успешно решены. В подтверждение приводился длинный реестр достижений — отчасти реальных, а во многом, как выяснилось потом, мнимых.
Рабочая встреча в Москве была серьезной попыткой сообща найти пути преодоления нараставших во всех странах СЭВ экономических и социальных трудностей. Они грозили перерасти в непредсказуемый по силе и последствиям кризис, но всей глубины его в полной мере тогда еще никто не осознавал. Вроде бы рассуждали основательно, не уходили от болезненных, «неприятных» проблем, а у меня все-таки оставалось впечатление некоторой теоретической отстраненности от жизни. Не слишком верилось, что наши дебаты дадут импульс к неотложным действиям. Может быть, виной тому был солидный возраст моих партнеров. О дряхлости тогда еще речь не шла, но, скажем так, усталость лидеров, перешагнувших за 70 или близких к этому рубежу, да вдобавок стоявших «у руля» по два-три десятилетия, ощущалась сильно.
В дальнейшем и атмосфера в отношениях между руководителями соцстран, и вся ситуация в содружестве все больше определялись реакцией на советскую перестройку. По информации, которая ко мне поступала, на основании многочисленных встреч и бесед могу сказать, что уже первые наши реформаторские шаги вызвали огромный интерес в союзнических государствах, особенно среди интеллигенции, студенчества, да и других слоев. Тут нашли выражение многие побуждения и надежды — на обновление опостылевших форм жизни, на демократию, свободу и, наверное, превыше всего — долгожданную возможность самостоятельно решать судьбу своих стран.
Иной была реакция большинства руководителей. Многие десятилетия связанные с опирающимися на поддержку извне авторитарными режимами, вошедшие во вкус бесконтрольной власти, вначале они не приняли всерьез наши намерения, отнеслись к ним с вежливым любопытством и даже снисходительной иронией: «Не первый случай, когда новый советский руководитель начинает с критики своих предшественников, потом все возвращается на круги своя». Но когда убедились, что советская реформация «всерьез и надолго», начали проявлять неприятие перестройки, особенно в части демократизации и гласности.
Здесь, правда, была немалая неловкость. Ведь до сих пор и политический курс, и официальная пропаганда «братских партий» строились на тезисе о ведущей роли КПСС, СССР в строительстве коммунизма. Идти по пути реформ, начатых в Советском Союзе, означало конец системы, олицетворением которой они являлись. На советские танки для охранения своей власти рассчитывать уже нельзя было. Они оставались лицом к лицу со своим народом, должны были доказать свое право оставаться у кормила правления либо уходить. Это был, что называется, мучительный выбор, не все и не сразу осознали, что приходит конец послевоенной эпохи. Одни сумели встретить вызов времени достойно, другие не приняли его, надорвались и сошли с политической арены.
Могу, пожалуй, с большой степенью вероятности указать момент, когда у некоторых лидеров соцстран проявилась реакция отторжения советской перестройки. Это — январь 1987 года, Пленум ЦК КПСС по вопросам демократизации и кадровой политики партии. Именно к этому времени относятся заявления Хонеккера, что путь перестройки для ГДР не подходит. По его указанию — беспрецедентный случай! — запрещается публикация материалов Пленума в печати республики, они заносятся в разряд диссидентской литературы и продаются по баснословной цене на черном рынке. Идеолог Курт Хагер дополняет лидера: «Если сосед решил переклеить обои, это не значит, что я должен делать то же самое».
Полное неприятие решений Пленума отмечается в Румынии. Общественности не дают никакой информации. Чаушеску откровенно заявляет советскому послу, что не может согласиться с высказываниями на Пленуме, КПСС вступает на опасный путь.
Политбюро Болгарской компартии трижды обсуждает итоги январского Пленума ЦК КПСС. Под давлением ряда его членов оценки, предложенные Живковым, смягчаются, но и здесь остается констатация неприемлемости основных принципов перестройки для Болгарии, у которой «есть свой апрельский Пленум» (намек на апрель 1956 года, когда Живков пришел к власти). Правда, через несколько месяцев болгарский лидер кардинально изменит свою позицию, начав перетряску политической системы и механизма экономического управления, попытается как бы забежать на шаг вперед по сравнению с Советским Союзом. Но что касается реальной демократизации, гласности — этим и не пахло.
В. оценках январского Пленума со стороны чехословацкого руководства сказались и на этот раз здравый смысл и осторожность Гусака. Они были в принципе положительными. Но практическую политику в КПЧ определяли в решающей мере Биляк, Фойтик, Якеш; руководство, все еще живущее памятью 1968 года, не допускало и мысли о том, чтобы «отпустить вожжи».
Наибольшая степень взаимопонимания по проблемам перестройки с самого начала сложилась с Кадаром и особенно с Ярузельским. Венгерский руководитель уже вскоре после 1956 года пришел к выводу о необходимости глубоких реформ и приступил к ним, ведя хитроумную политику и действуя осторожно из-за опасения окрика из Москвы. Серьезные шаги в направлении экономической и политической либерализации сменялись периодами движения вспять; то усиливались позиции реформаторов, то они отодвигались в тень, уступая место сторонникам жесткого курса. Я видел и чувствовал, что Кадар всем сердцем приветствовал перемены в Советском Союзе, они открывали возможность и в Венгрии действовать более последовательно. Но его физические силы уже клонились к упадку.
Горячо поддержал перемены в Советском Союзе Ярузельский. У нас с ним сложились очень тесные, я бы сказал, дружеские отношения. Приверженность генерала реформаторству объясняю для себя тем, что он на собственном опыте убедился — силовыми методами сложные проблемы страны не решить, нужны глубокие изменения в общественном и государственном устройстве. Поляки и венгры начали реформы раньше, чем у нас, отсюда — их искренняя заинтересованность в успехе перестройки.
Во второй половине восьмидесятых годов именно отношение к ней составляло стержень развития общественно-политической обстановки в восточноевропейских странах. Там, где реформаторские идеи, отражающие настроения широкой общественности, начали в том или ином виде претворяться в жизнь, удалось избежать крупных потрясений (Польша, Венгрия). Напротив, в странах, руководство которых сопротивлялось переменам, возник острейший общественно-политический кризис, массовые выступления народа смели прежние режимы.
Мне нередко приходится слышать критику и даже обвинения в свой адрес за политику в отношении стран Восточной Европы. Одни говорят, что Горбачев не защитил в них социализм, чуть ли не «предал друзей». Другие, напротив, обвиняют в том, что я слишком терпимо относился к деятельности Чаушеску, Хонеккера, Живкова, Гусака, поставивших свои государства на грань катастрофы.
Решительно отвожу эти обвинения. Они исходят из изживших себя представлений о характере отношений между нашими странами, согласно которым мы имели право беззастенчиво вмешиваться в дела «сателлитов», кого-то защищать и оберегать, а кого-то карать и «отлучать», не считаясь с волей народов. Такие порядки противоречили и формально провозглашавшимся в документах компартий принципам равноправия, самостоятельности, невмешательства во внутренние дела друг друга, полной ответственности руководства каждой страны перед своим народом. И если я не сразу и не в полной мере мог действовать в новом духе, то лишь потому, что никакая воля не могла произвольно перевести стрелки «политического времени». Многие изменения должны были вызреть и в сознании людей, и в реальной общественной обстановке.
Взявшись за перестройку, я с самого начала исходил из неотъемлемого права каждого народа самостоятельно определять свое будущее. Разумеется, мы терпеливо и настойчиво разъясняли смысл и значение задуманных преобразований, вели дискуссии с союзниками вокруг проблем социализма, если хотите — воздействовали своим примером, но никому не навязывали своего выбора. Те, кто до сих пор сетует на Горбачева, проявляют элементарное неуважение к своим народам, обретшим свободу и употребившим ее по собственной воле и разумению.
Все годы своего пребывания у власти я поддерживал интенсивные контакты с руководителями социалистических стран. Вот к этой-то исторической материи мне и хотелось бы приблизить читателя, имея в виду конкретные политические фигуры. Отнюдь не покушаюсь на воспроизведение сколько-нибудь целостной хронологической картины межгосударственных отношений. Это не моя задача и не мой жанр. Главный смысл своих заметок вижу в том, чтобы приводимыми историческими фактами, своими впечатлениями и размышлениями помочь читателю разобраться в сложной картине общественно-политического развития социалистических стран, произошедших в них переменах.
Глава 31. Янош Кадар. Судьбы венгерских реформ
Первым из лидеров союзных стран, с которым мне довелось познакомиться довольно близко, был Кадар. Однажды, когда я отдыхал в Кисловодске, позвонил Суслов: «В Кисловодск приезжает на отдых товарищ Янош Кадар. Уделите ему, пожалуйста, внимание, в котором он очень нуждается. Но, большая моя просьба, не переутомляйте гостя различными мероприятиями». Я, естественно, заверил Суслова, что все будет сделано, как он просит.
До этого мы с Кадаром уже знали друг друга в лицо, но встречались главным образом в официальной обстановке, так сказать, в протокольном порядке. В Кисловодск он приехал с супругой: работник ЦК, сопровождавший Кадара, представляя ее, назвал Марией Тимофеевной. Мы старались не докучать гостям. Спустя несколько дней я предложил Кадару съездить на экскурсию в Пятигорск или другие достопримечательные места Предкавказья. «Вы знаете, товарищ Горбачев, — последовал ответ, — я ведь не просто так приехал в Кисловодск. Меня пригласил Леонид Ильич Брежнев поохотиться на кавказских туров. Вот немножко отдохнем, я действительно устал, ничем не хочется заниматься, а потом, примерно через недельку, было бы неплохо съездить в горы».
О поездке на охоту в ущелья Кабардино-Балкарии я переговорил по ВЧ-связи с Тимбором Кубатеевичем Мальбаховым, возглавлявшим парторганизацию республики. А до этого съездили в Пятигорск, наш знаменитый курорт. Поехали на машинах — Кадар с женой, мы с Раисой Максимовной. Приехали, когда вечерело. Тысячи отдыхающих прогуливались. Кадара стали узнавать, здороваться, интересоваться, как ему отдыхается, уже через несколько минут окружили плотным кольцом. Он был несколько смущен, но явно тронут таким доброжелательным вниманием, глаза заметно потеплели, весь он радостно засветился. Кадар говорил потом: самое большое впечатление произвело то, что мы ничего не организовывали специально, все было естественно и искренне.
В санатории «Ласточка» Кадар беседовал с отдыхающими, познакомился с организацией лечения больных.
Ему был свойствен абсолютно непоказной демократизм, шедший от природы и, наверное, от общей культуры. В нем органично сочетались мудрость и обаяние. Вообще, Кадар для меня был и остается воплощением, своего рода символом всего лучшего, что я знаю о венграх. При этом я далек от того, чтобы идеализировать Кадара. Мне пришлось узнать позднее и о его слабостях, способности лукавить, о том, что он мог быть неоправданно жестоким. Но впечатление о его человеческих качествах, сложившееся еще в Кисловодске, в основе своей не изменилось.
Через какое-то время дошло дело и до охоты на туров. Выехали рано утром на газиках. Потом пересели на кабардинских лошадей — незаменимый транспорт для передвижения по горным тропам. Спуск на лошадях в ущелье был непростой, но Кадар держался молодцом. Часам к десяти достигли цели. В ущелье встретили нас Мальбахов и местные работники. Расставили по номерам согласно заведенному охотничьему правилу, и мы стали ждать появления туров. У каждого карабин, на голове кабардинская шляпа.
Откровенно говоря, охотник я такой: сел под кустик и залюбовался красотой ущелья. Какая божественная осень стояла! Солнце, багряный лес, причудливые вершины гор. По противоположному склону сначала прошел козел, затем пробежал кабан — они уже почуяли неладное. Так я, наблюдая, и просидел в обнимку с карабином.
Кадар же, как я успел заметить, имел к охоте пристрастие. Горный козел стал его добычей. Есть фотография — мы все у охотничьего трофея. Конечно, ему хотелось достать тура, но тот прошел далеко, пришлось удовлетвориться зрелищем. Кадар был очень доволен, порадовался, что красавцы туры будут еще украшать горы.
Окончание охоты отметили там же, в ущелье. Рядом с шалашом, сделанным из деревьев и покрытым сеном, разожгли костер, хозяева соорудили подобающее застолье — вместо стола пни старых сосен. Пища горцев и крепкие напитки. Разговор у нас пошел довольно интересный. Хозяева рассказали о своем горном крае, его красотах, богатствах, драматичной истории. Кадар вспомнил о своем первом приезде в Советский Союз. Было это вскоре после войны.
— Думаю, — сказал он тогда, — ни один народ не вынес бы того, что вынесли люди в России. Ведь пришлось выдержать двойной напор. Во-первых, внутри собственной страны, со стороны тех, для кого оказалась неприемлема революция. А во-вторых, основную тяжесть Второй мировой войны. Ни один другой народ не выдержал бы таких испытаний, какие выдержал советский народ. Поэтому я преклоняюсь перед вашими людьми. — Говорил он искренне, убежденно, не ради дежурной комплиментарности.
В его памяти запечатлелись картины того времени:
— Едешь на эскалаторе в метро навстречу потоку людей, лица измученные, худые, и очень грустные глаза. Так и стоят эти картины передо мной.
Вспоминал Кадар, как его поразили слова горничной в гостинице, когда он поинтересовался, где живут ее родные: «Да в общем-то, недалеко, всего километров 700 отсюда». Кадар говорил с восторгом:
— Огромная страна, огромные пространства! И характер у людей особый. Для венгра 700 километров — это же два раза из конца в конец Венгрии съездить. — Рассказывал он тогда, хотя и по-кадаровски немногословно, о жизни в послевоенной Венгрии, событиях 1956 года.
С охоты ехали сначала на лошадях, а потом уже на машинах. По дороге продолжался какой-то по-особому доверительный разговор, как это бывает, когда собеседники открывают друг в друге все более широкие «поля» для взаимопонимания.
Вторая встреча с Кадаром состоялась в сентябре 1983 года, когда я в качестве секретаря ЦК приехал в Венгрию по приглашению ЦК ВСРП. Был там целую неделю. Главным лицом, принимавшим нас, был секретарь ЦК ВСРП Ференц Хаваши, занимавшийся проблемами экономики и аграрными делами. Программа была насыщенной. В сельскохозяйственной академии провел весьма содержательную дискуссию с группой венгерских экономистов-реформаторов. Меня интересовали венгерские кооперативы, и любопытство мое было удовлетворено посещением кооперативов «Согласие» и «Красная звезда». Запомнилось посещение Баболны — сельскохозяйственного комбината, получившего широкую известность комплексным решением производственных и социально-культурных проблем на основе широкой хозяйственной самостоятельности.
Побывали и на производстве «икарусов», хорошо известных в Советском Союзе. В один из дней программа привела на рынок Будапешта, и мы долго бродили там, пораженные увиденным, — как это контрастировало с нашими рынками. Раиса Максимовна в рамках своей программы знакомилась с городом, встречалась с преподавателями общественных наук. А закончилось наше пребывание в Венгрии кратким отдыхом на озере Балатон.
28 сентября 1983 года Кадар принял меня в небольшом уютном кабинете в ЦК ВСРП. Переводила нашу беседу Надя Барта. Венгерский лидер вернулся к продолжению разговора, который начал еще в Кисловодске, — о событиях 1956 года. Он так или иначе возвращался к этой теме при каждой нашей встрече, очевидно, стремясь донести до советского руководства всю остроту реальной ситуации в своей стране. Кадар считал, что после потрясений тех лет нельзя допустить ничего подобного: Венгрия не выдержала бы, это была бы просто катастрофа. Несколько раз возвращался к воспоминаниям о своем несогласии с тем, что делалось при Ракоши, — за это Кадар поплатился четырьмя годами тюрьмы, где ему пришлось вынести унижения и издевательства. Тяжелые испытания тогда выпали и на долю семьи. От жены требовали, чтобы она осудила мужа и отказалась от него. Когда же она решительно встала на его защиту, ее выгнали из партии, лишили жилья, средств к существованию. Помогли, приютили простые люди, и Кадар не раз рассказывал о них, в том числе о семье Ацела, с которым он сохранил дружеские отношения до конца жизни.
Человеческая мудрость и политический опыт Кадара привели его к, казалось бы, простому, но столь важному и спасительному в условиях Венгрии 1956 года лозунгу: «Кто не против нас, тот с нами».
Вообще, надо сказать, что обращение именно к Кадару как к политику, способному нормализовать положение в стране после подавления восстания 1956 года, было сильным ходом Хрущева, Микояна, Андропова.
Демократичность, уважительность к добровольному выбору людьми форм жизни позволили Кадару, можно сказать, с гениальной простотой решить крестьянский вопрос. Он, по сути дела, признал право крестьян на свободный выход из колхозов, а после этого они в своем большинстве действительно добровольно объединились в кооперативы. Да и горожанам дали возможность приобрести земельные участки под сады и дачи.
Кооперативы освоили новые технологии выращивания кукурузы и сумели добиться высоких ее урожаев. Появились в огромном количестве свои комбикорма, их стали продавать свободно по всей стране. Крестьяне и рабочие поселков, даже маленьких городов занялись животноводством. На 80–90 процентов фрукты в Венгрии — производство частного сектора. Это была продуманная стратегия: ведь сырьем для тяжелой промышленности страна небогата. А вот природные условия для сельского хозяйства благодатные — уникальная «подкова» предгорий, где прекрасные земли, достаточно влаги. Вот и была сделана правильная тогда ставка на всемерное развитие сельского хозяйства и экспорт его продукции.
В развитии промышленности венгры, как бы копируя нас, допустили увлечение своего рода гигантоманией, если этот термин вообще применим к маленькой Венгрии. Я имею в виду такие крупные предприятия, как завод, выпускающий «икарусы», металлургический комбинат в Сталинвароше (как он в свое время был назван). Благополучие венгерской тяжелой промышленности, машиностроения продолжалось не менее, но и не более пятнадцати лет. Помимо добросовестного труда венгерских инженеров и рабочих их выручало доступное сырье и топливо из Советского Союза. Рассчитываясь в рублях за энергоносители и зарабатывая валюту на экспорте сельхозпродукции, венгры могли довольно удачно маневрировать и неплохо зарабатывать себе на жизнь.
Не все, конечно, в хозяйстве Венгрии шло хорошо. И в лучшие годы Кадару приходилось примерно раз в 10 лет обращаться к советскому руководству за солидной финансовой помощью, и оно шло на выделение сотен миллионов долларов. Но со временем эта возможность исчезла, венгры все чаще стали обращаться к Германии, к Западу. Переориентировав туда ряд производств, Венгрия попала в зависимость от поставок комплектующих деталей, некоторых видов сырья, полуфабрикатов. Плата за них практически поглощала поступления от экспорта, нарастал внешний долг в СКВ. Со временем дело дошло до того, что только на проценты по долгам нужно было отдавать от сорока до шестидесяти процентов всей вырученной валюты. Отсюда — настоящая закупорка, срывы производств, связанных с западными поставщиками. Отсюда и общее падение производства.
В общем, получилось так, что Венгрия жила не по средствам. Это стало главной проблемой и драмой страны, здесь был стратегический просчет. И не только у венгров. Практически все восточноевропейские страны планировали будущее, исходя из предположения, что благоприятная конъюнктура в Европе и мире сохранится. А нефтяной кризис опрокинул эти расчеты, и наши союзники оказались по уши в долгах.
Венгерский долг Западу достигал двенадцати, а по некоторым данным — четырнадцати миллиардов долларов. В этих условиях венгры искали выход на пути ускорения хозяйственных реформ. По поручению Кадара этим руководил видный экономист Реже Ньерш. Но реформа развивалась тяжело, непоследовательно — частично из-за новизны дела, частично из-за сопротивления консервативных сил. Да и сам Кадар не был лишен сомнений, действовал больше методом проб и ошибок. Взвешивал все факторы, улавливал разные политические течения, приливы и отливы настроений в обществе. Реформы затрагивали судьбы, жизнь миллионов людей. Ньерша Кадар то приближал к себе, то дистанцировался от него.
Но в целом он понимал необходимость перемен, искал новые подходы к рациональному управлению экономикой. Венгры одними из первых стали отказываться от жестких директив центра, делали ставку на формирование и реализацию планов самими предприятиями. Таким же образом они подходили к ценообразованию: держали под контролем лишь часть цен, особенно на продовольствие, и постепенно вводили договорные цены.
Все эти шаги по либерализации экономики вызывали уйму вопросов у советского руководства. Наши ортодоксы буквально шипели, глядя, как «эти смутьяны-венгры» злостно нарушают «объективные экономические законы социализма», сформулированные «самими классиками». Не раз и не два делали «реприманд» венгерским руководителям, а иные ревнители чистоты марксизма-ленинизма поговаривали даже о том, что нужно прижать Венгрию экономически. — , Кадар это хорошо знал и действовал осторожно, продуманно, дабы избежать острой реакции с нашей стороны. Терпеливо и подробно разъяснял, почему венгры вынуждены динамизировать экономические процессы, ослабить централизацию, дать больше самостоятельности и ответственности производственным коллективам, выйти на необходимые связи с Западом. Там, кстати, уловили, что Кадар — политик во многом новой формации. Шли на контакты с ним, приглашали его к себе, вели деловые переговоры. А у нас хмурились. Помню, как-то в разговоре в связи с поступившей из Венгрии информацией Брежнев произнес такую фразу: «Кадар плетет кружева». Это уже значило многое.
Новый подход к отношениям с союзниками, принятый в Москве с апреля 1985 года, нашел у Кадара, как я уже отмечал, решительную поддержку. Встретившись накоротке в дни работы XXVII съезда КПСС, мы в принципе условились о моем визите в Венгрию, приуроченном к предстоящему в Будапеште совещанию ПКК государств — участников Варшавского Договора. Начался он 8 июня 1986 года. Кадар с супругой встречали нас на аэродроме, и в тот же день начались переговоры. В общей сложности беседы продолжались 7 часов с небольшим перерывом.
Я подробно рассказал о наших намерениях в социально-экономической и политической сферах, о решимости идти по пути расширения демократии в партии, обществе, государстве. Кадар воспринимал это как бальзам на собственные душевные раны. Он словно почувствовал, что вот пришло время, когда можно откровенно, ббз излишней дипломатии и уловок ставить насущные проблемы и пытаться решать их, так сказать, рука об руку. Обращаясь к прошедшим годам, Кадар сокрушался по поводу того, как много времени упущено для совместной работы.
Незаурядный человек и государственный деятель, он одним из первых в «соцлагере» понял, что насилием можно сорвать или разгромить контрреволюционный путч, даже подавить народное восстание, но невозможно наладить нормальную жизнь общества. Благодаря ему в Венгрии раньше, чем в других странах, начались поиски реформирования привнесенной советской модели. Пусть реформы 60-х годов были непоследовательными, в чем-то односторонними (в немалой мере из-за опасения перед твердолобыми в содружестве), тем не менее они помогли запустить интеллектуальный «механизм обновления», стал постепенно накапливаться и практический опыт.
В итоге наших бесед с Кадаром были сняты многие недоговоренности между советским и венгерским руководством, создана атмосфера взаимного доверия, без чего невозможна никакая конструктивная политика. Общее понимание было найдено и в том, что касалось строительства отношений с Западом, в особенности с США и ФРГ, хотя, конечно, интересы в этом Советского Союза и Венгрии были, так сказать, «неравновесны».
Очень теплая, содержательная встреча состоялась у меня с коллективом знаменитого Чепеля, куда мы приехали с Кадаром утром 9 июня. Выступая перед чепельцами, Кадар счел нужным подчеркнуть прежде всего единый подход руководства Венгрии и Советского Союза к вопросам социалистического строительства. Это было важно для него, чтобы успокоить Москву, но, думаю, еще больше он адресовал свой пассаж тем в самой Венгрии, кто по разным причинам все чаще выражал беспокойство действиями реформаторов. Говорю об этом потому, что до сих пор бытует эдакое упрощенное, примитивно-пропагандистское представление, будто чуть ли не все трудности кадаровских реформ создавались исключительно московскими догматиками. Не мне, разумеется, преуменьшать их негативную, а порой и зловещую роль, но реальная жизнь была сложнее. Реформам сопротивлялась вся устоявшаяся десятилетиями система.
Возвращаясь с завода, мы остановили машины в центре города, пошли по узеньким улицам вдоль витрин бесчисленных магазинов и магазинчиков, которые образовывали собой как бы «торговое ущелье» Будапешта. Но вот улица Вацы стала заполняться людьми и скоро превратилась в живой человеческий поток. Шли очень медленно, то и дело останавливались из-за спонтанно возникавших своего рода пресс-конференций и просто бесед, разговоров с будапештцами. В этом стихийном половодье доброжелательства, как и во встречах на Чепеле, я почувствовал главное — венгры искренне приветствуют начавшиеся у нас перемены.
Во второй половине дня я провел несколько часов в объединении «Мериклон», где ученые и специалисты представили свои достижения в биотехнологии. Меня особенно заинтересовало получение безвирусных семян картофеля, позволяющих получить урожай в 500 центнеров клубней с гектара.
По договоренности с Я.Кадаром состоялась встреча со всеми членами Политбюро и секретарями ЦК ВСРП, на которой мы рассказали о содержании наших бесед и договоренностях. Вообще, ведя диалог с лидерами, я всегда считал целесообразным довести свою точку зрения до всего состава руководства. Кадар приветствовал такой подход, усматривал в этом пользу для себя.
На следующий день в Будапеште открылось совещание ПКК. Оно проходило спустя полтора месяца после чернобыльской катастрофы, что нашло свое отражение в его решениях. Мы предложили определить на широком международном уровне систему надежных мер, обеспечивающих ядерную безопасность, в частности, по предупреждению ядерного терроризма. Союзники поддержали выдвинутую мной 15 января 1986 года программу полной ликвидации ядерного оружия и конкретные инициативы по запрещению ядерных испытаний. Все наши партнеры решительно выступили за «деконфронтацию» международных отношений, и это было важно не только само по себе, но и как дополнительный аргумент в сложной борьбе вокруг проблем разоружения, которая шла внутри Советского Союза.
Пока мы заседали на ПКК, Раиса Максимовна продолжала знакомство с жизнью венгров, памятниками культуры. Ей удалось в те дни побывать в музее художников-примитивистов, в гостях у семьи в новом жилом микрорайоне. А в пригороде ознакомилась с приусадебным хозяйством, работой молочного завода, сельской амбулатории, отобедали в ресторане госхоза «Гельвеция» — «Хуторская корчма». С Марией Тимофеевной она совершила прогулку по Дунаю в Будапеште и настоятельно советовала мне сделать то же самое при случае — такие яркие впечатления остались у нее от архитектурных ансамблей венгерской столицы.
Улетел я из Будапешта обогащенный массой положительных впечатлений. Но в каком-то отсеке сознания мелькало сомнение — хватит ли у Кадара сил осуществить все, о чем мы условились, переломить то негативное, с чем все острее сталкивалась Венгрия?
Смена лидера
Думал ли он о своих политических наследниках?
В общем плане, наверное, да. Не случайно собирал вокруг себя в ЦК ВСРП, поддерживал, выдвигал на ответственные посты немало способных и по тем временам еще молодых людей. Это Грос, Сюреш, Пожгаи, Хорн, Берец, Барабаш, Кодаи, Миклош, Тюрмер… Да и среди секретарей обкомов и горкомов ВСРП были люди в самом активном, дееспособном возрасте. Однако они в большинстве своем оставались, пожалуй, слишком уж долго где-то на подходе к высшим постам. По сути, и в Венгрии был своего рода застой в кадрах. И когда в середине 80-х годов появилась неотложная потребность и реальная возможность влить «свежую кровь» в ведущий эшелон руководства, партия, сам Кадар оказались не готовы к этому.
А между тем экономическая ситуация в Венгрии продолжала усложняться, материальное положение населения ухудшалось, росла критика в адрес властей. В этой обстановке в начале 1987 года прошла замена на посту Председателя Совета Министров — им стал Карой Грос, работавший до того первым секретарем Будапештского горкома ВСРП. Со своих постов были отстранены Ф.Хаваши и некоторые другие деятели, отвечавшие за решение экономических и социальных проблем. Встав во главе правительства, Грос, надо сказать, проявил завидную энергию, центр политической и экономической активности из Политбюро стал перемещаться в правительство, выступившее с программой стабилизации.
Как премьер Грос приезжал в марте 1987 года в Москву. Я принимал его, беседа носила общеполитический характер. Охарактеризовав ситуацию в Венгрии, он расценил последние кадровые решения как половинчатые, с которыми многие коммунисты не согласны. Экономическая ситуация крайне сложная, говорил Грос, но идет поиск выхода из нее собственными силами, с надеждой на понимание со стороны Советского Союза. Венгерское руководство вынуждено пойти на снижение жизненного уровня и открыто сказать об этом народу.
Первые энергичные шаги Гроса принесли ему авторитет в глазах значительной части рабочих, партийного актива и усилили критический настрой по отношению к высшему эшелону руководства. Похоже, в это время Кадар начал серьезно обдумывать вопрос о своем отходе от дел. Однако он колебался, взвешивал «за» и «против» и пошел на закрытый опрос членов Политбюро. Кажется, две трети его членов высказались за то, чтобы Кадар оставался на своем посту. Это доверие (не берусь судить, насколько оно было искренним) ободрило пожилого лидера, на какое-то время дало ему «второе дыхание». Он встречался с секретарями обкомов партии, руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий, с работниками профсоюзов. В своих высказываниях того времени утверждал, что обстановка в стране не так уж плоха, упрекал средства массовой информации в необоснованном пессимизме. А к нам поступала информация, что венгерский руководитель уже не чувствует перемен в настроениях общества и внутри партии, его речи изобилуют повторением прописных истин. Его собеседники сетовали, что не слышат от генсека ничего нового, он не способен провести обновление политики партии и не понимает этого. По мере ухудшения экономической обстановки авторитет Кадара заметно падал, а недовольство в стране нарастало.
Перед общепартийной конференцией, намечавшейся на май 1988 года, руководство ВСРП провело ряд обсуждений ситуации в стране и партии. В центре внимания стоял вопрос о высшем руководстве. Мнения об этом в разное время складывались не всегда одинаково. Даже в начале апреля 1988 года преобладало суждение, что Кадар должен продолжать работать, но сам он предложил Гросу занять пост генсека. Грос тогда, насколько я знаю, высказался в том смысле, что Кадар нужен партии как авторитетная фигура, интегрирующая усилия членов руководства. В то же время, по мнению Гроса, возникла необходимость заменить 5–6 членов Политбюро. До нас дошла информация о том, что Международный валютный фонд не только пытается диктовать венгерским властям, что им делать с экономикой, но и дает понять, что им следует расширить круг общественных сил, которые принимают участие в решении основных вопросов жизни страны. Это однозначно истолковывалось как поддержка оппозиции.
В этой ситуации в ВСРП стали поговаривать о возможных переменах в высшем руководстве партии и страны. У меня сохранялись постоянные, в том числе самые доверительные, контакты с Кадаром[24]. Он, похоже, был на распутье, взвешивал различные возможности, мучительно думал, переживал и нервничал. Со своей стороны мы выразили признательность венгерским товарищам за то, что они сочли возможным поделиться своими соображениями по важнейшим вопросам политического руководства своей страны, подчеркнули, что видим в этом еще одно свидетельство доверительных отношений между нашими партиями. В то же время было однозначно заявлено: вопросы такого рода решаются только и исключительно самой партией. При этом мы уверены, что огромный политический опыт Кадара, его высокий авторитет помогут вместе с Гросом и другими соратниками принять такое решение, которое отвечает сути ситуации и масштабу задач, настроениям в партии и венгерском обществе.
Большего мы сказать не могли, да и не хотели, чтобы это было воспринято как навязывание нашей воли.
После такой нашей реакции наступила определенная пауза. Видимо, в Будапеште размышляли и искали решение. В конце апреля 1988 года в венгерской печати появилось интервью Гроса, в котором говорилось, что каждый политический деятель должен вовремя уйти в отставку, человеческие силы небеспредельны. К кому именно это относилось, понимал каждый. Незадолго перед партконференцией Пленум ЦК ВСРП не согласился с предложением Политбюро об обновлении состава ЦК на 25–30 процентов и принял решение полностью переизбрать центральные органы партии.
Кадар в беседе с советским послом В.И.Стукалиным сообщил, что продолжает размышлять над своей позицией и как только определится — даст знать в Москву. Во всяком случае, сказал он, я хочу, чтобы Михаил Сергеевич узнал о принятом решении не из газет. По его просьбе я направил в Будапешт Крючкова, который и привез информацию о принятом решении. Суть его была такова: Кадар становится председателем партии с правом присутствовать на заседаниях Политбюро, но не входит в его состав. Грос совмещает посты генсека и Председателя Совета Министров.
Накануне партконференции 19 мая я позвонил Кадару. Вот запись основного содержания того разговора:
«ГОРБАЧЕВ. Здравствуйте, товарищ Кадар! Ваша информация мною получена. Как я понимаю, на партийную конференцию вы выходите с продуманной концепцией, в которой учтена ситуация в Венгрии и обстановка в партии.
КАДАР. Все правильно. Эта концепция была обсуждена в Политбюро, товарищи выразили с ней полное согласие.
ГОРБАЧЕВ. Очень важно, что все перемены на нынешнем переходном этапе будут происходить под руководством товарища Кадара, в его присутствии, при сохранении его положения в партии. Так я понял переданную мне через товарища Крючкова информацию. Я приветствую ваше решение.
КАДАР. Да, все это так. Вначале мы думали о более широких изменениях. Но товарищи в Политбюро убедили меня, что в интересах партии надо сделать так, как это предложено в настоящий момент.
ГОРБАЧЕВ. Я понимаю, какое непростое решение вы приняли. Видимо, размышления были нелегкими. Этот факт свидетельствует о политической мудрости руководителя Венгрии, моего друга Яноша Кадара. Главное, что учтены интересы страны и партии. Буду откровенным, другого решения я не ждал. Был уверен, что решение будет принято тогда, когда оно назреет, станет необходимым.
КАДАР. Я долго размышлял.
ГОРБАЧЕВ. Разумеется, наши общие с вами дела мы не завершаем, связи наши сохраняются как в политическом, так и в человеческом плане. Я бы этого очень хотел. Буду рад встречаться с вами и обмениваться мнениями по любому вопросу.
КАДАР. Спасибо. Я тронут вашими словами.
ГОРБАЧЕВ. Обстановка и у нас, и у вас непростая. Но главное, что мы видим выход из ситуации. На наших партиях лежит особая ответственность.
Еще раз хочу вам сказать, товарищ Кадар, что мы были и будем вместе. Готов помочь Венгрии в конкретных делах, насколько позволят наши возможности. И в свою очередь рассчитываем на солидарность венгерских товарищей в нашей борьбе за перестройку.
КАДАР. Спасибо. Так и будет. Что касается наших личных контактов, то я считаю, что у нас найдена хорошая форма непосредственных и надежных связей, в том числе и сейчас (смеется). Информация передавалась точно. На этот раз разговор шел сложный. Для меня была важна не личная сторона. Помня ваше внимание к венгерским делам, я считал своим долгом, чтобы вы узнали о наших переменах не из газет. Так я сказал об этом на заседании Политбюро. И товарищи меня поддержали. Я всегда ценил, мы всегда ценили ваш интерес к Венгрии и понимание наших проблем.
Теперь некоторые вопросы, затрагивающие меня лично. Первое. Я считаю, что найдена подходящая форма изменений в высшем руководстве. За нее выступили все члены Политбюро. Думаю, что эта форма имеет еще свое значение как во внутреннем, так и в международном планах. Правда, в последнее время в Венгрии усилились настроения в пользу того, чтобы я не уходил. Но надо было решиться.
Второе. Членом Политбюро я не останусь. На конференции мы внесем предложение изменить Устав и учредить новую должность Председателя ВСРП. Не будучи в составе Политбюро, Председатель тем не менее может приходить на любые заседания руководства и высказывать свое мнение. Из чего мы исходили? Из того, что, когда в составе руководящего органа присутствуют и новый, и старый руководители, дела идут неважно.
Члены Политбюро в этом случае смотрят и туда и сюда, и ничего хорошего не получится. Если будет надо, то я всегда смогу поговорить с любым членом руководства отдельно или присутствовать на любом заседании.
Третье. К моему решению меня побудила и необходимость ослабить собственную физическую нагрузку. Она стала для меня обременительной.
Думаю, что конференция пройдет с пользой, позволит прояснить важные вопросы. Главное, будет уточнен курс партии на социалистическое развитие страны. Рассчитываем, что конференция позволит укрепить и место партии.
У нас возникла проблема, какие права имеет конференция для смены руководства. На последний Пленум ЦК мы сначала внесли предложение обновить руководство примерно на одну треть, но настроения сложились так, что потребовалось пойти дальше, чем это обозначено в Уставе. На Пленуме было принято решение предложить конференции переизбрать весь состав ЦК и ЦКК.
На конференции не будет отчетного доклада. Я сделаю только вступление, прокомментирую проект резолюции. Пленум ЦК полностью одобрил такой подход конференции.
В ВСРП есть пост заместителя Генерального секретаря, но в этот раз мы пройдем мимо этого положения Устава и оставим его вакантным. Аргумент один: если руководителю 70 лет и больше, то нужен заместитель. Если же Генеральному секретарю 57, то в заместителе необходимости нет.
Кроме того, с согласия членов Политбюро на организационном Пленуме ЦК после конференции я внесу предложение избрать не Секретариат ЦК, а секретарей ЦК. Таким образом, мы сократим одно звено руководящих кадров. Впредь, если это будет принято, партия санкционирует руководящий орган — Политбюро, которое будет выходить на все партийные организации, вплоть до первичных.
Секретари ЦК будут курировать определенные участки, руководить аппаратом, но должно быть ясно — в партии один рукодящий орган.
ГОРБАЧЕВ. Это очень интересное и важное предложение.
КАДАР. У меня эта мысль возникла давно, и я решил, что сейчас было бы актуально претворить ее в жизнь. У нас и раньше был принцип, что партией руководят выборные органы, но на практике были искажения в пользу аппарата. Сейчас все главные вопросы будут решаться в Политбюро. Одновременно отпадет надобность разделять номенклатуру кадров между Политбюро и Секретариатом.
ГОРБАЧЕВ. Могу только выразить полное согласие и понимание. Ни вопросов, ни сомнений у меня нет.
Коротко о наших делах. Сегодня заседание Политбюро. Мы обсудили и одобрили тезисы к партийной конференции. В понедельник они будут представлены на Пленум ЦК, затем опубликованы. Нам кажется, что получился интересный документ, представляющий хорошую платформу для дискуссии, для работы самой конференции. Ожидания в партии и народе в связи с конференцией огромны. Это обязывает нас быть на высоте.
Проведем встречу с Рейганом, и я полностью переключусь на подготовку доклада. Сейчас в движение пришли партия и вся страна. Мы переживаем непростое, но великое время; надо обязательно добиться успеха перестройки. Перестройка должна удаться.
Еще раз подчеркиваю, что и вы и мы стоим накануне больших событий. Рад разговору с вами. Крепко обнимаю. Желаю хорошего здоровья и успехов. Прошу передать всем товарищам в руководстве мой сердечный привет.
КАДАР. Благодарю за этот важный для меня и для наших товарищей разговор. Желаю вам всего доброго. Крепко жму вам руку. Прошу также передать привет Раисе Максимовне».
Вот такой разговор состоялся 19 мая 1988 года.
На конференции из 12 прежних членов Политбюро пятеро, в основном давних соратников Кадара, оказались забаллотированы, двое — Ацел и Мароти — прошли в новый ЦК, но не избраны в Политбюро. Это дает представление о том, что кризис в руководстве назрел.
В июле 1988 года сразу после нашей XIX партконференции я встретился с Кароем Гросом, который приехал в Москву уже в качестве Генерального секретаря ВСРП.
Конечно, зашел разговор и о Кадаре. Я высказал суждение, что в отношении него было найдено хорошее решение. Это было нелегко, сказал Грос. Он сам выступил с инициативой изменений в руководстве, но не учел, что члены партии настроены более решительно, хотят заставить руководство расплатиться за ошибки, допущенные за последние 15 лет. Кадар как-то признался, что ошибся, не уйдя в отставку раньше, в 1980 году. Но сейчас он реальней оценивает собственное положение, чем обстановку в руководстве в целом. Перед конференцией ВСРП Грос считал необходимым использовать все возможности, чтобы спасти Кадара. Вся история партии — сплошной отказ от прошлого, и если Кадара не будет, то не останется ни одного руководителя, которого можно будет уважать.
Кадар такую формулу долго не принимал, хотел уйти вообще, не соглашался и на пост председателя — чувствовалась обида. Потом выступил с предложением создать какой-то совещательный орган — он был недавно в Китае, и, видимо, ему импонировала идея Дэн Сяопина, создавшего институт советников из руководителей-ветеранов. Но в конце концов все-таки согласился на вариант, соответствующий традициям партии.
Грос сообщил мне, что теперь в Политбюро нет ни одного, кто был бы в нем до 1985 года. Его состав полнее отражает социальную базу общества со всеми ее противоречиями. Генсек ВСРП подчеркнул, что он понимает связанную с этим опасность для единства высшего органа партии, но ситуация диктует именно такой подход.
После майской конференции в руководстве ВСРП развернулась острая борьба. Пожгаи и другие реформаторы либерального направления все больше расходились с Гросом. Ему не удалось наладить взаимопонимание и взаимодействие с более широкими кругами реформаторски настроенной части партии и общества. В этом была его главная внутриполитическая трудность. Вероятно, это произошло потому, что он вообще тяготел к авторитарным методам. Сказалась и нехватка опыта. Грос действовал самоотверженно, но когда встала задача реформирования партии, ему не хватало кадаровского искусства компромиссов, маневрирования. Все кончилось расколом ВСРП, потерей ее влияния в обществе. Разумеется, было бы наивностью винить во всем одного Гроса или каких-то других деятелей. Боюсь, причины случившегося лежат глубже — в крутом переломе ориентации венгерского общества, разочаровании в существующей общественной модели. Компартия, хотя она и носила иное название после 1956 года, несла в глазах народа ответственность и за перенесенное в 1956 году национальное унижение. Ее судьба, видимо, была предопределена.
В мае 1989 года Кадар был освобожден по состоянию здоровья с поста Председателя ВСРП (в июне этот пост занял Ньерш), а 6 июня скончался. Прощалась с ним вся венгерская столица. Этот человек в каком-то смысле спас свою родину от новых кровавых тупиков, помог ей, пусть через многие зигзаги и компромиссы, нащупать пути к демократии, модернизации. Конечно, по самому большому счету не хватило у него сил, а может быть, смелости и желания, а может быть, того и другого, чтобы вовремя понять необходимость подготовки нового поколения руководителей, способных действовать адекватно не только в венгерской, но и в международной обстановке.
Уже после смерти Кадара мне приходилось встречаться с Йожефом Анталом — Председателем Совета Министров Венгерской Республики, Арпадом Генцем — ее президентом, с другими венгерскими деятелями, представлявшими различные политические партии, общественные организации и социальные слои общества. Не раз встречался я и с Дьюлой Хорном, ставшим лидером самой большой и влиятельной оппозиционной партии. И думаю, закономерно, что именно этот «выдвиженец» Кадара вместе со своими единомышленниками привел свою партию к победе на недавних общевенгерских выборах. Слежение за нынешней жизнью Венгрии, как и других стран, провозгласивших себя в свое время социалистическими, убеждает меня в том, что Венгрия менее болезненно и более цивилизованно, чем большинство ее бывших союзников, переносит адаптацию к новым условиям, к политическому плюрализму и рыночной экономике. И в этом, я думаю, по-своему продолжает жить и работать политический капитал и человеческий подвиг Яноша Кадара.
Глава 32. Войцех Ярузельский — союзник и единомышленник
«Польская заноза»
Первые беседы с Ярузельским позволили установить своего рода «интеллектуальный мост» между нами. Я уже говорил: произошло это легко, без особых усилий. А с каждой последующей встречей нас сближали и сходство задач, стоявших тогда перед Польшей и Советским Союзом, и принципиальное сходство взглядов на назревшие преобразования. Встречаться с ним всегда было интересно. Беседовали, как правило, вдвоем, поэтому можно было обо всем говорить. Русский язык он не просто хорошо знает, но и любит, тонко его чувствует.
На XXVII съезде Ярузельский присутствовал в качестве гостя. Мы встретились наедине, по-дружески беседовали. Решили всячески способствовать взаимопониманию между общественностью Польши и Советского Союза, усматривая в этом большой резерв для взаимной поддержки демократических процессов в наших странах.
На 1986 год пришелся ряд съездов правящих партий социалистических стран. В Политбюро условились, что делегации от КПСС будут возглавлять члены руководства, а на XI съезд СЕПГ поедет генсек. Одни полагали, что после моей поездки в Берлин весьма уместно хотя бы на короткое время побывать и на X съезде ПОРП. Другие, напротив, возражали, ссылаясь на то, что обстановка в Польше в последнее время стала беспокойной. Но это обстоятельство как раз и заставило меня принять решение о поездке в Варшаву. Я должен был поддержать Ярузельского и реформаторов в ПОРП.
К этому времени реформы в Польше натолкнулись на сопротивление административно-командных структур. Активизировалась оппозиция. Западные государства продолжали блокаду Польши, объявленную в момент введения военного положения, хотя оно уже и было отменено. В центр дискуссии X съезда ПОРП выносились проблемы, связанные с закреплением и развитием курса на социалистическое обновление.
Помню, как трудно давалась мне речь, с которой я выступил перед польскими коммунистами. Тогда я не был еще свободен от пут традиционных понятий, но уже остро чувствовал, насколько трудно объяснить с их помощью реалии жизни, а тем более наметить перспективу.
К исходу 70-х годов Польша оказалась в остром кризисе, который в Москве считали результатом слабости и нерешительности польского руководства. На самом деле положение было куда серьезнее. Внедрение чуждой для Польши общественно-политической модели — даже при том, что эта модель была сильно видоизменена, кое-как приспособлена к национальным условиям, — столкнулось с противодействием населения, в том числе значительной части рабочего класса. Поначалу недовольство носило пассивный характер, находило выход в анекдотах по адресу властей. Но с годами горючее накапливалось, происходили социальные и политические взрывы, от раза к разу (1953, 1970, 1979 гг.) все более мощные. Авантюристическая политика, вогнавшая Польшу в колоссальную валютную задолженность Западу, довершила дело. Она, по существу, первой вступила в стадию, которую можно назвать общим кризисом социализма. Страна оказалась на грани паралича государственных институтов, оставался буквально шаг до полного хаоса и национальной катастрофы.
В этих условиях оппозиция, набравшая силу «Солидарность» выдвинули программу самоуправляющейся Речи Посполитой, которая не без оснований воспринималась ортодоксальным руководством ПОРП и тем более КПСС, других правящих «партий содружества» как заявка на ликвидацию существующего строя и уход Польши из ОВД в НАТО. Советское руководство лихорадочно искало выход между двумя одинаково неприемлемыми для него позициями: смириться с хаосом в Польше, влекущим за собой распад всего социалистического лагеря, или вмешаться в польские события вооруженной силой. Господствовало, повторяю, мнение о неприемлемости обеих позиций. И тем не менее наши войска, танковые колонны вдоль границ с Польшей, да и довольно мощная Северная группа советских войск в самой Польше — все это при каких-то экстремальных обстоятельствах могло сработать.
Спаситель или предатель?
В этой сложнейшей обстановке Войцех Ярузельский, сменивший в октябре 1981 года С.Каню на посту Первого секретаря ЦК ПОРП, скрупулезно взвешивал и просчитывал варианты возможного развития событий. Все они были явно негативными. Верх взяло решение, которое рассматривалось как наименьшее зло, — введение военного положения в стране. Оно было объявлено в ночь на 12 декабря 1981 года. Скорее это была административно-политическая, чем военная мера, хотя готовилась и осуществлялась силами армии и полиции.
Насколько мне известно, в предшествующие годы Ярузельский был против использования армии для подавления волнений. Меры, предпринятые им в 1981-м, были, безусловно, вынужденными.
В тисках блокады, предпринятой Западом по отношению к режиму Ярузельского, стабилизирующую роль сыграла значительная материальная и финансовая помощь Польше со стороны СССР, ГДР, Чехословакии, некоторых других стран. Советский Союз выделил около двух миллиардов долларов и несколько миллиардов рублей, поддержал поляков и в последующие годы. Нашим войскам было приказано категорически исключить какое-либо вмешательство в события, и они, надо сказать, вели себя безупречно.
Впрочем, Ярузельскому не только помогали, но и мешали. Пытались подсказывать, кого он должен избегать и на кого опираться. О качестве этих советов можно судить уже по тому, что самые нелестные характеристики выдавались, например, такому незаурядному деятелю, как Мечислав Раковский. Уже после введения военного положения Москва и Берлин прозрачно намекали, что надо действовать решительней, не допускать мягкотелости и либерализма. Ярузельский вежливо, но твердо отводил попытки навязать ему линию поведения, вел свой курс, рассчитанный на успокоение обстановки, национальное примирение и постепенное преобразование политической системы. При этом, как он мне потом рассказывал, приходилось, конечно, считаться с реальной зависимостью от Москвы.
Военное положение при Ярузельском не только не положило конец реформам, но по-своему способствовало им. Польские реформаторы использовали наведение порядка в стране не для возврата назад, а, напротив, — для объединения всех здоровых сил общества, выступающих за признание политического плюрализма и развитие рыночной экономики.
В первой половине 80-х годов ситуация в Польше существенно напоминала нашу, а в плане экономических реформ поляки нас явно опережали. Мы еще только начинали постигать суть происходящего в Польше и Венгрии — понимание пришло в 1985–1986 годах.
Идея Ярузельского
Надо было преодолеть отчуждение двух стран и народов, возникшее в конце 70-х — начале 80-х годов. В немалой степени оно явилось результатом деятельности специальной комиссии Политбюро ЦК по Польше, которую долгое время возглавлял Суслов. Комиссия и ее аппарат постоянно отслеживали ход польских событий, давали им свои оценки и рекомендации для Политбюро, министерств, ведомств, общественных организаций. Вокруг бастующей, бунтующей, мятущейся Польши был сооружен, по сути, санитарный кордон, заморожены или резко сокращены все контакты гуманитарного, и не только гуманитарного свойства.
Вплоть до середины 80-х годов в корреспонденциях, поступавших в Москву из Варшавы, зачастую вымарывалось даже такое словосочетание, как «социалистическое обновление», а это ведь был официальный курс ПОРП. Страх перед «польской заразой» затмевал даже такой очевидный факт, что изолированная, по существу, от контактов с восточным соседом польская общественность оставалась один на один с теми кругами Запада, которые занимали конфронтационные позиции по отношению к Советскому Союзу и использовали сложившуюся ситуацию для подогревания антисоветских, антирусских настроений.
По инициативе Ярузельского, поддержанной реформаторами в руководстве ПОРП и КПСС, развернулась подготовка документа, цель которого — содействовать сближению стран, сотрудничеству между ними. Так родилась Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры.
Документ, разумеется, не свободен от идеологической окраски своего времени, но, по сути, многие его идеи сохраняют свою актуальность. Тогда был дан зеленый свет возобновлению и значительному расширению контактов обществоведов, литераторов, журналистов, ученых, деятелей культуры, вообще творческой интеллигенции и молодежи двух стран. Это движение навстречу друг другу демократических кругов польской и советской общественности позволяло размывать нагнетавшиеся реакцией у нас и в Польше подозрительность, неприязнь, взаимную ненависть.
«История, — говорилось в этом документе, — не должна быть предметом идеологических спекуляций и поводом для разжигания националистических страстей».
Для подписания Декларации в апреле 1987 года в Москву с кратким визитом приехал Ярузельский. После этого оживилась работа совместной комиссии советских и польских историков. Нужно было до конца устранить «белые пятна»: в связи с советско-польской войной 1920 года, сталинской расправой над Польской компартией, и в особенности более всего болезненной для поляков катынской трагедией.
Тогда, в апреле 1987-го, я откровенно поделился с Ярузельским трудностями перестройки. Надежды на поддержку партийным аппаратом идей демократизации, на обновление стиля и методов деятельности управленческих органов не оправдывались. Более того, с этой стороны нарастало сопротивление переменам. Ярузельский отнесся к моим размышлениям с большим вниманием и поделился своими переживаниями: ПОРП и после съезда, особенно на местах, мало меняется. Партийный аппарат сопротивляется реформам.
Мое открытие Польши
Мы снова встретились с Ярузельским в ноябре на торжествах по случаю 70-летия Октябрьской революции. Договорились о моей поездке в Польшу (последний официальный визит Генерального секретаря ЦК КПСС в Варшаву был в 1974 году). Поляки хотели, чтобы я побывал не только в столице, но и в Кракове, Катовице, на Балтийском побережье. Я же высказал пожелание познакомиться с жизнью польских крестьян, встретиться с представителями интеллигенции, побеседовать со священнослужителями. Визит состоялся 11–14 июля 1988 года и превзошел мои ожидания: был весьма насыщенным и эмоциональным.
В Польше хорошо знали о перестройке в Советском Союзе, советских инициативах по разоружению, прекращению конфронтации между Востоком и Западом. Ко времени визита вышли и были раскуплены четыре издания моей книги «Перестройка и новое мышление для нас и всего мира». Да и польская пресса — раскрепощенная, многоголосая — давала массу разнообразного материала накануне и в ходе визита.
Началось, естественно, с протокольных мероприятий. Затем были переговоры с Ярузельским. Но большая часть предусмотренных мероприятий проходила «на виду». Среди них наиболее значительное — выступление в польском сейме. Главная моя мысль в нем — линии исторического развития России и Польши не просто пересекаются, у нас во многом общая судьба. И еще: необходим совместный поиск качественно нового, более широкого и современного толкования социалистических идей.
Сильное впечатление произвела поездка в Краков. У хозяев были опасения, что в этом центре польского католицизма по отношению к «Коммунисту № 1» будет проявлена сдержанность. Но я этого ни в коей мере не ощутил. Напротив, на улицах и площадях старинного города, в Мариацком костеле, на митинге польской и советской молодежи в Вавельском замке царила обстановка искреннего дружелюбия и энтузиазма.
На краковской улице, носящей имя Тадеуша Костюшки, я посетил дом № 37, где в 1945 году располагался госпиталь Красной Армии. В нем после тяжелого ранения находился на излечении мой отец. Постоял. Помолчал. Подумалось: сколько же крови советских солдат пролилось на польской земле, во всей Европе.
В третий день визита мы оказались в приморском Щецине — городе судоверфей и исторических памятников, одном из оплотов «Солидарности». Здесь нас встречали отцы города, представители общественности, Войцех Ярузельский с Барбарой. В память врезались впечатления от пребывания на судоверфи имени А.Варского. Ее восстановлению помогали советские специалисты, по советским заказам к середине 1988 года было построено более 200 судов. Здесь была дана жизнь и теплоходу «Георг Отс», который служил моей резиденцией во время советско-американских переговоров в Рейкьявике. Тысячи людей приветствовали делегацию. Варшавская газета «Экспресс вечерний» писала: «У Горбачева должно быть еще много противников, поскольку то, что он делает, — генеральная уборка в собственном доме».
А в «Курьере польском» кинозвезда Беата Тышкевич (мы с женой давние ее поклонники) сказала обо мне весьма лестные слова: «Этот человек меня очаровал. Не верится, что можно выработать в себе такое внимание, такую сосредоточенность. Я, артистка, знаю, как трудно скрыть утомление, усталость. Он очень требователен к себе, это видно по каждому его шагу. Очень увлечен и потому достигает результатов. Все его удачи — это его личный успех».
Дзенькую, пани Беата!
В Щецине, как и в Варшаве, побывал в священных для всех советских и польских патриотов местах захоронений воинов. К сожалению, многие могилы советских солдат остаются безымянными. Сражения были тяжелыми, погибали порой целые воинские части со своими штабами. Тем признательнее мы таким польским энтузиастам, как писатель Я.Пшимановский, самоотверженным трудом которого удалось установить имена тысяч советских бойцов, павших за освобождение Польши от фашизма.
Под Щецином состоялись интересные встречи в сельской местности на комбинате «Гуменьце». По пути в Варшаву побывали в селе Мо-джеве на семейной ферме крестьянина Ф.Бакана. Он с женой и сыновьями хозяйствует на 28 гектарах земли. Живут в достатке, но трудностей испытывают немало, работают от зари до зари.
Встреча с деятелями науки и культуры проходила в возрожденном из руин Королевском замке, являющемся одним из главных символов польской государственности и культуры. Был, можно сказать, цвет польской интеллигенции. А с нашей стороны — приехавшие со мной Чингиз Айтматов, Святослав Федоров, Сергей Залыгин и другие яркие личности.
С приветственным словом к гостям обратился один из старейших ученых и общественных деятелей Польши Богдан Суходольский. Раиса Максимовна знала его по контактам Советского фонда культуры с Польским национальным советом по культуре, чьим председателем был профессор. Мне запомнились многие его мысли. Главная из них: культура представляет собой единое целое, нет оснований разделять европейскую культуру на западную и восточную, тем более противопоставлять их.
Коснувшись темы сталинских репрессий, жертвами которых стали многие выдающиеся деятели науки и культуры, Суходольский спросил: действительно ли социализм требует таких жертв и стоит ли платить такую цену за его существование? Он говорил о чувстве сопричастности, общей ответственности, желании действовать сообща ради совершенствования общества. Мне были близки его суждения.
Насыщенность программы не позволила побывать в Катовице — центре шахтерской Силезии. Туда поехала Раиса Максимовна. Она передала силезцам мое приветственное письмо, вместе с Барбарой Яру-зельской отдала дань памяти мучеников Освенцима. Вернулась потрясенная услышанным и увиденным.
Уже на исходе визита выдался час свободно пройтись по Варшаве. Это вылилось в дружеское общение с варшавянами на улочках и площадях Старого города, в маленьких уютных кафе. Посидели в Лазенкском парке у памятника Шопену. А Раисе Максимовне представилась возможность побывать и в Доме-музее Ф.Шопена в Желязовой воле, ее официально пригласили на XII международный конкурс пианистов им. Шопена в качестве почетного гостя.
О человеческой атмосфере, в которой проходил визит, свидетельствует письмо владельцев частной фирмы «Витрофлора» супругов Анны и Кароля Павяка.
«Уважаемая Раиса Максимовна! С большим удовольствием направляем Вам букет только что выведенного нового сорта гербер, который мы позволили себе назвать Вашим именем. Будем очень рады, если новая форма цветка, его оригинальный оттенок придутся Вам по вкусу…
С большим уважением к Вам и словами поддержки Вашей деятельности, а также работы, проводимой Вашим глубокоуважаемым супругом».
Много, очень много для меня значила встреча с поляками летом 1988 года. Содержание и атмосфера переговоров, митингов, бесчисленных стихийных встреч, бесед с людьми глубоко взволновали меня. Я был полон оптимизма относительно будущего отношений между нашими народами.
Польский «полигон»
Трудность положения Ярузельского и его единомышленников, можно сказать, драма реформаторов в ПОРП проистекала из того, что они были как бы между молотом и наковальней: оппозиция им, естественно, не доверяла, а консерваторы в ПОРП всячески противились переменам. В августе 1988 года вновь возникли волнения на севере, а затем в горнодобывающих районах страны, и Ярузельский обратился к идее «круглого стола» с участием представителей «Солидарности». З.Месснеру пришлось уйти, Председателем Совета Министров стал Раковский, с которым я вскоре встретился в Москве. Он оказался интересным собеседником.
По его мнению, главные трудности начались с переходом на второй этап экономической реформы, в центре которого было повышение цен. Польское руководство пошло на референдум по этому вопросу, то есть действовало демократически. Но введение новых цен оказалось огромной психологической встряской для общества. Ухудшилось положение на рынке, усилилась инфляция. Этим не преминула воспользоваться оппозиция: вот, видите, Горбачев ведет перестройку и не повышает цены, а у нас в Польше все иначе.
Другая причина наступления оппозиции, по словам собеседника, — это политика Запада, который открыто оказывает финансовую помощь «Солидарности». Все ее «замороженные» структуры благодаря этому активизировались. Масштабы забастовок были не столь уж велики, но на стороне бастующих было большинство рабочих, видевших в их действиях единственное средство заставить власть что-то сделать. Это, сказал Раковский, и «усадило нас за круглый стол».
Между тем события в Польше, как и у нас, развивались стремительно. В апреле 1989 года состоялась моя новая встреча с Ярузельским. У нас только что прошли первые по-настоящему демократические выборы. КПСС, несмотря на мои призывы учиться работать в условиях демократии, оказалась не готовой к ним. К тому же у людей накопилось много претензий, во многих случаях избиратели отказали в доверии руководителям партийных органов из-за того, что плохо решались многочисленные насущные вопросы — с жильем, снабжением и т. д. Кончилось время, когда вышестоящие инстанции «избирали» депутатов. Обо всем этом шел разговор на Пленуме ЦК, и вывод был один — надо быстрее перестраиваться самой партии.
Ярузельский сказал, что все это напоминает польскую ситуацию. Большинство партийных работников, к сожалению, не отличаются инициативой. Военное положение было необходимо во имя спасения самого государства, однако имело негативные последствия для партии, явилось «своего рода зонтиком, под которым иные товарищи устроились дремать». У партийного актива сложилась привычка жить под защитным колпаком армии. «Партия должна восстановить свою политическую мускулатуру, доказать в прямом состязании свое право на руководство. Если я партийный руководитель, то должен убедить народ в том, что я знаю и умею больше других, лучше буду отстаивать его интересы. А не просто — если меня поставили сверху, значит, я начальник, ты дурак».
Мы с Ярузельским констатировали, что принятая год назад Декларация начала работать. Вновь затронув тему «белых пятен», он с одобрением отозвался о документе, подготовленном совместно советскими и польскими учеными, о кануне и начале Второй мировой войны. Но с огорчением пришлось отметить все еще тупиковое положение с изучением проблемы Катыни.
Я видел, как серьезно и глубоко переживает Ярузельский, понимал: надо что-то делать. Договорились ускорить очередную встречу историков в рамках совместной комиссии, дать поручения Комитету госбезопасности, Министерству внутренних дел, архивным учреждениям. Ярузельский выразил признательность за приведение в порядок катынских захоронений, за обеспечение доступа к ним родственников погибших.
Мне было интересно узнать от Войцеха Владиславовича о причинах, побудивших польское руководство пойти на переговоры с оппозицией. Мы пошли на этот шаг, сказал он, поскольку общественное мнение было за регистрацию «Солидарности», преследуя цель добиться прекращения забастовок. Другая причина носит стратегический характер: нужно обеспечить стабильность системы, укрепить положение партии как мотора перемен и проводника национального согласия. Реализация на практике идеи политического плюрализма предполагает обновление партии, с тем чтобы она была способной в новых условиях осуществлять руководящую роль. Надо сказать, что и «Солидарность» уже не та. В центре ее умеренное большинство во главе с Валенсой. А это дает возможность договариваться и вместе вести борьбу с экстремистами.
Я внимательно слушал Ярузельского и думал, что это рассказ о нашем настоящем и будущем. С той разницей, что у нас все это будет идти сложнее. Спросил, справедлива ли моя оценка, что польское общество не хочет конфронтации, — это чувствуете вы, чувствуют костел и Валенса. Ярузельский ответил утвердительно.
«ЯРУЗЕЛЬСКИЙ. Огромное значение имела ваша перестройка. У нас ведь не все враги социализма. Многие против тех методов, которые применялись в прошлом, а теперь они видят, что и у вас, и у нас меняется модель развития. Главный урок состоит в том, что против настроения, воли народа можно идти только очень короткое время.
ГОРБАЧЕВ. Социализм просто не может функционировать без участия народа и вопреки ему, иначе это суррогат социализма.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ. Да, военные методы, применявшиеся нами в какие-то моменты, были оправданны, но постоянно жить так нельзя. В известном смысле Польша стала полигоном реформ. Беда только в том, что мы ждем, когда гром грянет, и беремся за реформы уже в неблагоприятных условиях.
ГОРБАЧЕВ. На нашем Пленуме кое у кого все же прозвучали высказывания в пользу того, чтобы сдержать реформы. Но единственно правильный вывод, и я об этом сказал твердо в своем выступлении, — идти вперед.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ. Мы сейчас уделяем большое внимание активизации партийной работы, поощряем инициативу на местах, особенно по месту жительства. Много занимаемся кадрами. И самое главное, делаем все, чтобы демократизировать партию, чтобы в ней были дискуссии, обмен мнениями, чтобы люди почувствовали интерес, у них пробудилось желание участвовать в политической работе. Вообще, я выступаю за максимальную открытость в партийной работе, в том числе в прямом смысле, имея в виду здания партийных комитетов. В домах партии двери должны быть распахнуты для всех!
ГОРБАЧЕВ. Это то, о чем я всегда говорю своим товарищам».
Я доверительно поделился с Ярузельским о намечаемой поездке в Италию и готовности, если будет соответствующее приглашение, встретиться с Папой Римским Иоанном Павлом П.
Ярузельский одобрительно отнесся к этой идее.
— У Иоанна Павла II, — сказал он, — новаторские идеи. Ему не нравится многое не только в социализме, но и в капитализме. Одновременно он отмечает положительные черты у обеих систем и делает вывод: нужно их сближение при благословении Бога.
В круг актуальных проблем, которые мы рассматривали тогда с Ярузельским, входила и тема сокращения вооружений. Образ мыслей польского лидера о ключевых вопросах обороны и политики был во многом мне близок. Надо сказать, я тогда был плотно занят подготовкой к крупным переговорам с Западом по проблемам сокращения вооружений. Эти вопросы интересовали меня и с учетом предстоящей встречи с Президентом США.
Ярузельский как высокообразованный военный хорошо представлял, какую тяжесть несет на себе Советский Союз, ибо реально знал, что такое современный танк, самолет, глобальный защитный зонт, во что все это нам обходится.
О щуке и карпах
Перманентные экономические и политические трудности не проходили даром. В июне 1989 года ПОРП потерпела серьезное поражение на выборах в сейм и сенат. Начиналась новая для страны полоса социально-политического развития. На состоявшейся 9 июля в Бухаресте встрече руководителей правящих партий стран ОВД Ярузельский представил подробный анализ случившегося. Приведу выдержку по сохранившейся у меня записи.
«Самая большая драма ПОРП в том, что от нее отвернулась большая часть рабочих. Словесной агитацией это не исправишь и силой не добьешься. Первый кризис в Польше возник в 1956 году. Пришлось выводить на улицы танки, были жертвы. Второй крупный кризис наступил в 1970 году, то есть спустя 14 лет. Третий — в 1980 году — уже через 10 лет. В 1981 году опять пришлось выводить танки на улицы. В 1988 году, то есть уже через 7 лет, — новый кризис. Но теперь мы стремимся выходить из него без использования силы, без пролития крови. Ведь нельзя бесконечно идти таким путем, при котором росла бы брешь между нами и рабочим классом, которую когда-либо, может быть, ничем уже не удастся закрыть.
У некоторых наших друзей могут возникнуть сомнения относительно наших действий. Но хотелось бы, чтобы они понимали: мы не можем вести себя волюнтаристски и будем стремиться преодолеть возникающие трудности цивилизованным образом. Ищем способ нормального функционирования государства и партии. Введение военного положения в Польше было победой с военной точки зрения, но поражением с точки зрения политической. Его пришлось вводить потому, что партия не смогла решить проблемы политическим путем. Но и под зонтом военного положения партия не проявила боевитости, которая необходима в политической борьбе. Мы не смогли привлечь к себе людей на выборах.
Теперь об оппозиции. Вначале «Солидарность», как тайфун, ворвалась в нашу жизнь. Она овладела предприятиями, внесла политику в экономику. Может быть, запрещая любую оппозиционную деятельность, мы сами толкнули оппозицию на предприятия. С ее легализацией, допуском в парламент политическая борьба на предприятиях сошла на нет. Это — шанс для нас вести открытую политическую борьбу. Конечно, не все из нас могут вести такую борьбу. Но если пустить в пруд щуку, то ожиревшие карпы могут начать двигаться быстрее.
Находясь под военным зонтиком, партия теряла зубы. Да и вообще долгое время в ПОРП существовали иллюзии, будто внутренняя критика и самокритика вполне заменяют внешнюю критику. К сожалению, это оказалось не так. В партии начались процессы окостенения, сопротивление которым изнутри оказалось недостаточным. Мы исходим из того, что если удастся активизировать жизнь партии, завоевать союзников, а также создать большую коалицию, то можно будет выработать общую конструктивную программу, особенно по вопросам экономической реформы.
Считаем необычайно важным укрепление сотрудничества социалистических стран. Надо устранять все, что нас разделяет. Само многообразие путей и форм должно вести к постоянному поиску того, что объединяет, позволяет учитывать опыт друг друга.
Но самое важное, чтобы победила перестройка. Это крупный шанс, который обеспечит огромный рост и укрепление авторитета социализма во всем мире. Мы полностью согласны с той философией перестройки, о которой говорил здесь М.С.Горбачев. Она, с нашей точки зрения, всецело отвечает нынешнему этапу социалистического строительства, хотя условия в Польше, обстановка у нас во многом иные».
Что мне в нем всегда импонировало — умение четко и ясно оценить сложнейшую ситуацию, причем сделать это не стандартно, дерюжным газетным языком, а ярко, образно. У генерала есть литературный дар.
На заседании Национального собрания 19 июля 1989 года Ярузельский был избран Президентом Польской Народной Республики. Свою политическую платформу в новой роли определил так: «Я стремлюсь к тому, чтобы быть президентом согласия, представителем всех поляков». В связи с избранием на высший государственный пост он вышел из состава руководства ПОРП, на должность ее Первого секретаря был избран Раковский.
Соотношение политических сил в стране продолжало меняться не в пользу партии, правившей страной практически сорок пять лет, но вместе с тем не прибавляло популярности «Солидарности», взявшей на себя ответственность за власть. В этой ситуации было важно поддерживать общенациональное согласие, гражданский мир. Решению этой задачи президент Ярузельский, как мне представляется, отдавал свои познания и опыт достаточно успешно.
Встреча президентов
13 апреля 1990 года я принимал в Кремле Войцеха Ярузельского уже в качестве Президента Республики Польша. Главной целью его визита было сохранить и закрепить в существенно изменившейся обстановке достигнутый нашими общими усилиями в последние годы уровень отношений между двумя странами. Как всегда, беседа была откровенной.
От Войцеха в той беседе я услышал полные горечи и переживаний слова:
— Сейчас приходится расплачиваться за то, что мы весьма поверхностно оценивали обстановку и успокаивали себя слишком оптимистическими прогнозами. Нас обманывали, а вернее, мы сами обманывали себя громом аплодисментов, «горячим и полным одобрением» всего, что провозглашалось на разного рода торжественных собраниях. На деле оказалось, что большая часть народа оценивает обстановку и думает иначе, чем мы. Это четко проявилось прежде всего в итоге прошлогодних выборов.
Есть весьма интересное явление, своего рода феномен. Опросы общественного мнения показывают высокий уровень симпатии к советскому руководству на протяжении последних лет. Так, о своих симпатиях к М.С.Горбачеву в 1987 году заявили 76 процентов опрошенных, в 1988-м;— 79,6 процента, в феврале этого года — 78,8, а об антипатиях соответственно 6,2; 5,2; 4,9 процента. Это при том, что антисоветские настроения, особенно в связи с приближением 50-летия катынской трагедии, распространялись довольно настойчиво…
Скажу откровенно, я был доволен, что в этот момент мог перебить собеседника и сказать, что полякам будут переданы документы по Катыни, найденные в архивах конвойной службы и позволяющие наконец закрыть это «белое пятно».
Создание комиссии польских и советских историков значительно стимулировало деятельность наших исследователей. К их числу принадлежали Н.С.Лебедева, В.С.Парсаданова, Ю.Н.Зоря. Они не оставляли поисков даже тогда, когда положение казалось абсолютно безнадежным. Сейчас мы уже знаем, почему поиски зашли в тупик: документы были попросту уничтожены по указанию руководства бывшего КГБ, когда его возглавлял А.Шелепин. Найденные же группой историков архивные документы косвенно, но убедительно свидетельствовали о непосредственной ответственности за злодеяния в катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Об этом я и заявил публично, передавая их 13 апреля 1990 года Ярузельскому. Речь шла о найденных советскими архивистами и историками списках и других материалах Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР, в которых значились фамилии польских граждан, находившихся в Козельском, Осташковском, Старобельском лагерях НКВД в 1939–1940 годах.
Советская сторона, как было официально отмечено в заявлении ТАСС от 13 апреля 1990 года, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма.
Что касается других документов, относящихся к катынской трагедии, то я помню о двух папках, которые показывал мне Болдин еще накануне моего визита в Польшу. Но в них была документация, подтверждающая версию комиссии академика Бурденко. Это был набор разрозненных материалов, и все под ту версию. На подлинный документ, который прямо свидетельствовал бы об истинных виновниках катынской трагедии, мы вышли только в декабре 1991 года, по сути дела, за несколько дней до моей отставки с поста Президента СССР. Именно тогда работники архива через Ревенко — руководителя аппарата президента — добивались, чтобы я обязательно ознакомился с содержимым одной папки, хранившейся в особом архиве. Печатался проект моего последнего выступления в качестве президента. Этими и другими делами я был занят целиком.
Тем не менее Ревенко продолжал настаивать и вручил мне папку накануне встречи с Ельциным, в ходе которой было условлено передать ему дела. Я вскрыл папку, в ней оказалась записка Берии о польских военнослужащих и представителях других сословий польского общества, которых органы содержат в нескольких лагерях. Записка заканчивалась предложением о физическом уничтожении всех интернированных поляков. Эта последняя ее часть отчеркнута, а сверху написано синим карандашом Сталина: «Постановление Политбюро». И подписи: «За — Сталин, Молотов, Ворошилов…» У меня дух перехватило от этой адской бумаги, обрекавшей на гибель сразу тысячи людей. Я положил папку в сейф и достал ее в ходе беседы с Ельциным, когда мы подошли к подписанию документа о передаче особого архива ЦК (в нем полторы или две тысячи так называемых особых папок, содержащих документы особой важности). Показал и прочитал документ Ельцину в присутствии Яковлева, договорились о передаче его полякам.
— Но теперь, — сказал я, — это уже твоя миссия, Борис Николаевич.
В папке находилась и другая бумага, написанная от руки и подписанная Шелепиным в бытность его председателем КГБ. В обращении на имя Хрущева он предлагал ликвидировать все документы, связанные с действиями НКВД по уничтожению польских военнослужащих, поскольку-де уже принята и утвердилась версия комиссии академика Бурденко.
Обо всем этом я рассказывал польским журналистам в 1992 году после того, как уже почти под занавес процесса по делу КПСС в Конституционном суде РФ президентская команда вдруг сочла «своевременным» предъявить документ по Катыни суду и передать копию польской стороне, заявив, что этот документ Горбачев скрыл от поляков. Польские журналисты спрашивали: почему так долго этот документ лежал у Ельцина и почему я, встречаясь с Валенсой, не сказал ему, что такое свидетельство имеется? Но именно такой вопрос возникал у меня самого: почему Ельцин не использовал свою официальную встречу с Президентом Польши, чтобы передать ему документы, касающиеся трагедии в Катынском лесу? Ведь между нами была договоренность о том, что передача документа полякам — компетенция Президента России. Сейчас уже ясно, что тяжелейшую драму в польско-советских отношениях пытались использовать, чтобы лишний раз бросить грязь в Горбачева.
Тогда, в апреле 90-го, мы долго и подробно беседовали о проблемах наших стран и мировой политики.
«ГОРБАЧЕВ. Сейчас меня критикуют и леваки, и правые. И среди первых секретарей обкомов есть такие, кто призывал голосовать против меня при выборах Президента Советского Союза.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ. Мне это уже пришлось пережить. Да и сейчас встречаюсь с довольно грубыми, несправедливыми упреками. Кстати говоря, Терек в только что опубликованных воспоминаниях заявляет, что Ярузельский — советский ставленник, в то время как он, Терек, боролся-де за независимость Польши. Пишет даже о том, будто я ездил с Гречко развлекаться на охоту в Афганистан, где я вообще ни разу не был.
ГОРБАЧЕВ. Сложность ситуации еще и в том, что многие у нас в стране не желают видеть современных реалий, требуют решения нынешних противоречий старыми силовыми методами, а отказ от таковых объявляют изменой социалистическим принципам. Получается, что социализм не может существовать без крови, насилия.
ЯРУЗЕЛЬСКИЙ. Они не хотят и, видимо, не способны понять, что речь идет о спасении от катастрофы.
ГОРБАЧЕВ. Если бы в России разыгрался румынский вариант, была бы снесена вся страна. А если учесть стратегическую мощь, которой она обладает, то, скорее всего, и весь мир. Моя цель, главная стратегическая задача — провести перестройку, реформы, демократизацию общества без крови, без гражданской войны. Сделать это очень трудно не только потому, что проблемы сами по себе сложнейшие и острейшие. Сейчас, с избранием меня президентом, усилился нажим: вы получили такие полномочия, ударьте!»
К нашей беседе присоединились с советской стороны Шеварднадзе, Маслюков, Язов, Фалин, Губенко, Марчук, Ненашев, Смирнов, Шахназаров; с польской — Чирек, Осятыньский, Дравич, Гейштор, Кульский, Онышкевич, Финдайзен, Чосек, Маршалек-Млыньчик, Пухал, Мачишевский.
Мне было известно о трудностях, с которыми сталкивался генерал на посту президента, о подозрительности и недоверии со стороны ряда деятелей «Солидарности». Ярузельский тяжело переживал незаслуженные упреки в мнимом предательстве. Однако держался он достойно, мужественно, на свою судьбу не жаловался. Я чувствовал, что поездка в Советский Союз была ему очень нужна.
Приехавшая с ним в Москву Барбара Ярузельская побывала вместе с Раисой Максимовной в Свято-Даниловом монастыре, все остальное время провела в правительственной гостевой резиденции. Настроение у нее было, мягко говоря, неважное, хотя она тоже держалась. Доверительно призналась Раисе Максимовне: «Страшно тяжело, безрадостно жить. Все то, что Войцех сделал за последние девять лет, полили грязью. Я уже не выдерживаю».
Прощаясь с Ярузельскими весной 1990 года, мы с Раисой Максимовной старались как-то поддержать наших друзей, ободрить их, но, наверное, не самым сильным утешением было признание в том, что и нам очень нелегко.
С весны 1990 года в Польше стали разыгрываться новые политические баталии, они происходили на фоне растущего недовольства экономической политикой правительства, руководимого уже одним из видных представителей «Солидарности». Выдвигались требования отставки президента, оказывавшего определенную поддержку правительству Мазовецкого. В этих условиях Ярузельский, как мне представляется, вновь проявил ответственность и стратегическую дальновидность, предложив сейму в конституционном порядке провести досрочные выборы президента путем всеобщего голосования и передать власть избранному таким образом главе государства. Выборы состоялись в ноябре 1990 года, победил на них, как и следовало ожидать, лидер «Солидарности». Кстати, еще в ноябре 1989 года в беседе с Тадеушем Мазовецким, который поинтересовался моим отношением к возможному визиту Л.Валенсы в СССР, я сказал, что в рамках советско-польских контактов такой визит естествен и реален: мы уважаем выбор польского народа.
Наша встреча с президентом Валенсой состоялась по его инициативе, но уже весной 1992 года, когда он прибыл с визитом в Российскую Федерацию. Беседа была живой и интересной, мы хорошо понимали друг друга, когда сопоставляли положение с реформами у нас и в Польше. Согласились и в том, насколько проще быть в оппозиции, чем нести реальную ответственность за безопасность страны и благосостояние народа. После встречи в коротком совместном интервью Валенса, в частности, сказал: «Я ученик Горбачева…»
Человек во все времена
В беседе с президентом Валенсой, как и с Мазовецким, Бальцеровичем, Михником, другими польскими деятелями, я неизменно подчеркивал свое глубокое уважение к Войцеху Ярузельскому как к политику и человеку. И сегодня считаю, что Польша многим ему обязана. Прежде всего тем, что удалось относительно плавно, в основном мирно, бескровно сменить модель общественного развития, а это предприятие отличается чрезвычайной сложностью и взрывоопасностью.
Могу сказать, что горжусь своей дружбой с ним. Войцех Ярузельский — из тех, кто остается человеком во все времена.
Глава 33. Чехословакия: синдром-68
Меня часто спрашивают: почему так поздно (только в конце 1989 года) Советским Союзом была признана необоснованность и ошибочность вооруженной интервенции 1968 года? Должно было поработать время. И прежде всего многое должно было измениться в Советском Союзе.
В моей памяти не изгладились впечатления от поездки в ЧССР в 1969-м. Но с тех пор прошло 16 лет, и надо было все заново осмыслить. Для моей личной оценки большое значение имело то, что фигурой номер один в Чехословакии был Гусак: известный антифашист, один из руководителей словацкого национального восстания, политик, смело выступивший за демократизацию в Словакии в послевоенный период, в связи с чем, кстати, и пострадал, лишившись свободы в 50-х годах. Гусак был одним из горячих сторонников процессов демократизации в декабре 1967 года и январе 1968 года. Он не имел отношения к «приглашению» войск государств Варшавского Договора в Чехословакию в августе 1968-го. В 1969 году взял на себя тяжелейшую ответственность за вывод общества и страны из острейшего политического кризиса.
В моих непосредственных контактах с Гусаком — а их было только в 1985 году по крайней мере пять — я убедился в его незаурядных способностях и таких человеческих качествах, которые мне импонировали. Гусак сразу и однозначно выразил свою поддержку линии на перестройку и обновление.
Мне представлялось, что чехословацкое руководство во главе с Гусаком может встать на путь демократизации и реформ, тогда сам собой встал бы и вопрос о пересмотре оценок событий 1968 года. Для этого были определенные объективные условия: к середине 80-х годов Чехословакия по состоянию экономики и уровню жизни, да и по социально-политической обстановке отличалась от других соцстран в лучшую сторону. Ход событий, однако, показал, что Гусак и его сторонники не располагали реальной возможностью пойти на смену курса, проводившегося четверть века, да и не было у них достаточной энергии, решимости для такого поворота. Здоровье Гусака к этому времени было подорвано, силы его иссякали. Тон в руководстве задавали сторонники жесткой линии, группировавшиеся вокруг Василя Биляка. Над ними довлел синдром 68-го. Преодолеть его они были не в состоянии и буквально закатывали истерику по поводу любого намека в советской печати, выступлениях отдельных ученых о возможности пересмотра официальных оценок 68-го года. На словах одобряя перестройку, они по существу были ее противниками и уж всячески сопротивлялись попыткам начать реформы у себя в стране.
Первый раз в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС я оказался в Праге в ноябре 1985-го, куда заехал из Женевы, чтобы проинформировать своих партнеров по Варшавскому Договору об итогах бесед с Президентом США. Накануне в Чехословакии прошли небывалые снегопады. Вечерняя Прага встретила нас в необычном убранстве, заснеженной, но от этого не менее прекрасной.
Эта встреча была своего рода первой ласточкой в отношениях между союзниками по ОВД. Наши партнеры из первых рук получили детальную информацию, и мы определили совместные шаги на будущее.
6—9 апреля 1987 года состоялся мой официальный визит в ЧССР. Прага опять встречала нас радушно. Программа предоставила возможность и для политических переговоров, и для встреч с пражанами. Мы побывали в Словакии, имели волнующие встречи с жителями Братиславы. Словом, визит получился впечатляющий, и на многое он заставил посмотреть заново.
Первое, что бросилось в глаза, — настроения в обществе заметно опережают готовность руководства страны к переменам. Трудно передать то, что происходило на площадях и улицах Праги, всюду, где мы напрямую общались с гражданами Чехословакии. Люди скандировали: «Горбачев!» «Горбачев!», выставляли самодельные плакаты: «Михаил, останься у нас на год или хоть на пару месяцев!»
Уже в Москве Раиса Максимовна получила письмо от В.С.Готта, редактора журнала «Философские науки», который в те дни оказался в Праге. Владимир Спиридонович писал, что он счастлив, горд за страну, дожив до дня, когда так тепло встречали советского руководителя.
Тогда в Праге и других местах меня спрашивали: как вы оцениваете события 68-го? И это был самый трудный для меня вопрос. Крайне неловко было воспроизводить позиции, согласованные в Политбюро перед визитом, пересказывать их людям, которые, я это чувствовал, тянулись ко мне душой. Никогда, пожалуй, я не испытывал такого внутреннего разлада, как в тот момент.
Как знать, по какому пути пошли бы события, если бы советское руководство в 68-м поддержало перемены в ЧССР. Но для этого оно само должно было быть другим — готовым к реформам, к продолжению линии XX съезда партии. А ситуация в Советском Союзе развивалась в противоположном направлении — в сторону неосталинизма.
Центральной в переговорах с руководителями ЧССР была проблема экономического сотрудничества. В развитии Чехословакии был допущен стратегический просчет. Да только ли Чехословакии! Эта небольшая страна практически производила все, и ей как воздух нужна была структурная перестройка, специализация и кооперация с партнерами. Но договоренности в рамках СЭВ по большей части оставались на бумаге. Все свои надежды чехословацкие друзья связывали с переменами в Москве. Действительно, у нас было намерение решительно двинуть вперед кооперацию, причем особая заинтересованность была в динамизации производственных и научно-технических связей с ГДР и ЧССР. Были даны поручения, в спешном порядке заключены договоры о создании совместных предприятий, но на практике мало что изменилось. Громоздкий, неповоротливый экономический механизм оставался в привычном состоянии застоя.
Да и с чехословацкой стороны время было не слишком благоприятным. Там все чаще и все острее поднимался вопрос о переоценке событий 1968 года. 500 тысяч исключенных из КПЧ не хотели мириться с тем, что они и их близкие оказались, по сути дела, отлученными от политической и общественной жизни. Реформаторы «пражской весны» с энтузиазмом встретили нашу перестройку и требовали перемен у себя на Родине.
Мой однокашник и друг по Московскому университету Зденек Млынарж в одном из интервью сказал: «В Советском Союзе делают то, что мы делали в Праге весной 1968 года, действуя, может быть, более радикально. Но при этом Горбачев является генсеком, а я нахожусь в изгнании». В ЦК КПСС пришли письма Дубчека и Черника, они писали о своей поддержке перестройки и о том, что пришла пора вспомнить о них. По словам Дубчека, 20 лет за ним следила госбезопасность, и только после визита Генерального секретаря ЦК КПСС в Чехословакию слежка прекратилась.
Положа руку на сердце, я понимал, что они правы. Ведь что такое 68-й год уже с точки зрения 87-го, 88-го годов? Это как раз и есть те 20 лет, на которые запоздала перестройка.
Я не отношу себя к тем, кто считает, будто мы вообще потеряли 70 с лишним лет. Но мы не использовали возможности, открывшиеся в постсталинский период, да и общество не было к этому готово. Даже среди тех, чьи судьбы покорежены, а то и просто раздавлены сталинизмом, было очень мало таких, кто все понимал, и им не суждено было повлиять сколько-нибудь серьезно на ход событий.
В чехословацком руководстве были прекрасно осведомлены о том, что деятели «пражской весны» ищут понимания у горбачевских перестройщиков. И поэтому всячески старались укрепить наш «боевой дух», присылая различные заявления в доказательство исторической правоты августовской акции, которая, мол, спасла социализм, отбросила империализм и тем самым предотвратила мировую войну.
Парадокс состоял в том, что эти противоположные по знаку импульсы имели общую отправную точку — их авторы исходили из того, что судьба ЧССР должна решаться в Москве. Они никак не могли поверить, что мы действительно не намерены вмешиваться в дела других стран, следовать на практике принципу, провозглашавшемуся в документах соцсодружества и комдвижения, согласно которому каждая партия самостоятельна, несет ответственность перед своим народом. В ноябре 1987 года у меня состоялась встреча с Гусаком. Беседовали вдвоем в кремлевском кабинете. По своей инициативе он поделился со мной положением дел в чехословацком руководстве. Как это было и у вас, состав Президиума ЦК несет на себе слишком сильный отпечаток прошлого. Сейчас в нем нет людей моложе 60 лет. Наверное, и до Москвы доходят слухи о растущих у нас настроениях смены руководства. Для меня вопроса нет, сил осталось немного, готов все оставить. Но мучает вопрос — кому?
Гусак дал понять, что Биляк, да и Якеш, хотя они помоложе, для этого не подходят. К власти в стране, стоящей в преддверии больших перемен, должны прийти другие люди. Он ждал моей реакции. Я предвидел возможность такого разговора и заранее провел обмен мнениями на заседании Политбюро на этот счет. Еще раз была подтверждена общая позиция: никакой из братских партий ни при каких условиях не навязывать и даже не «подсказывать», как им решать кадровые вопросы. Поэтому я сказал: «Густав Никодимович, вам виднее, чем нам из Москвы».
Гусак, как бы размышляя, ответил, что намерен подтянуть свежие силы, ввести в Президиум ЦК два-три молодых человека и еще трех-четырех — кандидатами в члены Президиума, заменить руководство пражского горкома, поддержать Любомира Штроугала, о деловых качествах которого отзывался весьма высоко. Вывод его состоял в том, что надо хоть несколько месяцев еще поработать, чтобы открыть дорогу новым людям. Сказал и о том, что приходится бороться с групповщиной в Президиуме.
Завершая этот в высшей степени ответственный разговор, я подчеркнул, что дорожу нашими доверительными отношениями, питаю к Гусаку уважение и надеюсь, что наши друзья найдут оптимальное решение.
Гусак попросил принять в Москве Штроугала, который ехал на переговоры с Рыжковым. Штроугал подтвердил, что обстановка в руководстве тяжелая. С Гусаком у него отношения нормальные, но он сталкивается с открытой враждебностью Биляка и его сторонников. Премьер готовился тогда к выступлению на Пленуме ЦК по экономической реформе, рассказал о своих предложениях по изменению хозяйственного механизма и структурной политики. Он был решительно настроен на реформы, и у меня создалось убеждение, что такой самостоятельный и компетентный человек в руководстве просто необходим. К слову, Штроугал высказался против скорого ухода Гусака со своего поста, отдавая себе отчет, что ортодоксы его не пощадят.
Гусак тем временем стал склоняться к разделению постов, избранию Якеша генсеком, притом Штроугал остается главой правительства. Впрочем, как сообщил наш посол, вопрос этот возник на заседании Президиума ЦК по инициативе В.Индры. Тот якобы на одном из заседаний во второй половине ноября начал добиваться от Гусака, обсуждалась ли эта проблема в Москве. В свою очередь Биляк «забил» вопрос Штроугалу: не говорил ли он в Москве, что в Праге есть противники перестройки, и не называл ли в связи с этим конкретных фамилий? Видимо, сторонники жесткой линии решили перейти в наступление.
Заседание Президиума с обсуждением вопроса о разделении постов так и не завершилось, было перенесено на следующий день. Соотношение сил в Политбюро было семь к трем в пользу группы Биляка, а в целом в руководстве, включая кандидатов в члены Президиума и членов Секретариата, 10 на 10. Молодые секретари были в основном против ухода Гусака с поста генсека. Под предлогом недопущения осложнений на Пленуме Биляк выдвинул идею избрания заместителя генсека КПЧ. По ВЧ-связи посол Ломакин позвонил Медведеву и через него обратился с просьбой ко мне позвонить Гусаку. Медведев сказал, что этого делать не будет, поскольку уверен, что Горбачев звонить по этому вопросу не станет. Тогда Ломакин сам позвонил мне. Я ответил, что уже высказал Гусаку все, что считал нужным, в Москве при личной встрече и он сам будет принимать решение. «Об этом вы как посол знаете и из этого исходите». У нашего посла были добрые отношения с Гусаком, и в тот трудный момент он ни на йоту не отступил от позиций центра, проявив к Гусаку человеческое внимание.
Декабрь 1987 года был для президента очень трудным, он тяжело шел к принятию решения. Но, приняв его, как потом рассказывал Якеш, выступил против предложения ввести предназначавшийся для него пост почетного председателя партии. Он с полным основанием считал, что это будет мешать работать новому генсеку, а на этот пост выдвинул Якеша.
Спустя четыре месяца, в апреле 1988 года, Гусак прибыл в Москву с официальным визитом в качестве Президента ЧССР. Он выглядел заметно лучше, чем при прошлой нашей встрече, был в неплохом настроении. Мы тепло встретились и по-дружески беседовали.
— О принятом решении, — сказал Гусак, — я не жалею, оно было правильным. В Президиуме ЦК КПЧ, на Пленуме все прошло спокойно. Теперь оказываю Якешу поддержку, он в ней нуждается, авторитет ведь не приходит сам по себе. Он действует энергично, лучше, чем я ожидал. В партии настроения в целом неплохие. Курс руководства поддерживается. Правильно воспринимаются лозунги перестройки, демократизации, хотя в души эти идеи пока не запали, для этого надо еще много работать. Мы отстаем от вас, но нашими людьми, обществом лозунг перестройки принимается. Экономический эксперимент идет пока слабо. Главное, конечно, впереди. Старые инструкции тормозят этот процесс. Люди говорят: хватит речей, давайте работать!
Тут Гусак высказал одну важную мысль:
— Если бы вы не пошли по пути перестройки, нам осуществлять преобразования было бы очень трудно. Когда есть поддержка, легче действовать.
За этим стояло и объяснение неудачи январских начинаний чехословацких реформаторов в 1968 году («Пошли тогда без вас, и вот чем это все закончилось!»), и понимание необходимости провести реформы.
На прощание Гусак, много познавший в жизни, сказал:
— Вы, Михаил Сергеевич, придали новое качество отношениям с братскими партиями, и у вас есть отвага, талант и запас времени, чтобы довести до конца начатое большое дело.
«Старочешский подход»
Жизнь показала, что никакая отвага и талант не компенсируют промедления с решением назревших задач. Именно запас времени оказался у всех нас невелик. В ту весну дефицит времени ощущался в компартиях немногими. Были, правда, такие, кто торопился сверх меры, не считаясь с тем, что есть какие-то объективные сроки вызревания общественных явлений. А большинство еще выжидало, во что все это выльется, люди осторожничали, наученные горьким опытом прошлого. Тогда ведь многие поспешили присоединиться к провозвестникам «пражской весны» и поплатились за это двадцатью годами остракизма.
Среди тогдашних руководителей Чехословакии были деятели разных взглядов и политических темпераментов. Милош Якеш, став Генеральным секретарем ЦК КПЧ, как мне казалось, хотел способствовать экономическим реформам и демократизации, но воспринимал все это через призму собственного опыта. А его доминантой была многолетняя деятельность на посту председателя центральной контрольной комиссии ЦК КПЧ, которая не просто санкционировала, но во многих случаях инициировала исключение из партии 500 тысяч ее членов, наиболее активно выступавших за реформы в 1968 году.
Продвигался Якеш вверх по партийной линии благодаря добросовестному отношению к поручавшейся ему работе и, так сказать, личной скромности и чистоплотности. На всех постах выступал в меру своего понимания против распущенности, аморальности, злоупотреблений служебным положением. Занимаясь одно время сельским хозяйством, он, по отзывам, сделал немало полезного для развития кооперативов и обеспечения страны продовольствием. Позднее он возглавил комиссию ЦК по экономике, и здесь у него возникли конфликты со Штроугалом. Председатель правительства не терпел вторжений в его компетенцию, тем более со стороны того, кого считал «человеком Биляка». Вот такая сложная конфигурация была тогда в чехословацком руководстве. Нам о ней было известно из разных источников, прежде всего от самих его членов. Не оставаясь безразличными к их проблемам, мы строго следовали принципу — не вмешиваться во внутренние дела стран содружества.
В моих беседах с Гусаком и Якешем я неоднократно подчеркивал, что ни в коем случае не следует копировать практику советской перестройки: учет реальных условий, конкретной специфики каждой страны — альфа и омега разумной политики. Но при этом были очевидны необходимость и неизбежность перемен. Это понимал и Якеш. Когда мы встретились с ним в Москве в январе 1988 года, он сказал, что ровно через год — с января 1989 года или раньше намеченного срока — экономическая реформа вступит в новый этап, будет осуществлен полный переход к новой системе хозяйствования, намечено большое сокращение управленческого аппарата и пересмотр системы снабжения на значительной части предприятий.
Затрагивался в той беседе и вопрос о чехословацких событиях 1968 года. Якеш без обиняков дал понять, что, если советское руководство признает ошибочность августовской акции, это нанесет страшный удар КПЧ, даст сильнейший козырь оппозиции. Он попросил по крайней мере не торопиться с признанием, отложить его до той поры, пока партия добьется стабилизации обстановки на основе задуманных преобразований.
Между тем в аппарате КПЧ не очень-то симпатизировали перестройке. Антиобновленческие настроения шли от Биляка и его окружения, они оказывали свое воздействие на партийные комитеты, для которых, как говорил мне Ладислав Адамец, возглавлявший правительство Чехии, был характерен «старочешский подход»: «Все бурно одобряют перестройку, но никто ничего не делает». Правда, я бы тут не отдал приоритет чехам — то же самое происходило и у нас!
В октябре 1988 года Адамец сменил Любомира Штроугала, который так и не смог сработаться с Якешем. Новый глава правительства Чехословакии произвел на меня впечатление энергичного, решительного и широко мыслящего человека, выгодно отличавшегося в этом отношении от Якеша. Он разделял мои опасения, что все мы подзадержались в обновлении структуры производственных отношений и общественного механизма. Лучше многих своих коллег Адамец чувствовал настроения общества. («Наши люди сравнивают уровень и образ жизни Чехословакии не с Польшей, Болгарией и Венгрией, а с Австрией, Швейцарией и ФРГ».) Он был, кажется, чуть ли не единственным из руководства, кто возражал против применения силы по отношению к участникам студенческих демонстраций в Праге в ноябре 1989 года.
Однако партийное руководство в целом обнаружило неспособность решать накопившиеся общественные проблемы демократическим путем. Синдром 68-го года привел, по существу, к тем методам насилия, с какими бесславно ушел со сцены режим Новотного в 1967 году. И тогда по указанию сверху полиция избивала студентов, но сходство ситуаций этим и ограничивалось. На исходе 80-х годов иными стали восточноевропейские страны, и прежде всего Советский Союз, отказавшийся играть роль «социалистического надзирателя и жандарма». Это к тому времени уже доказали события в Польше, Венгрии, ГДР. Ни для кого не осталось незамеченным, что советские войска, находившиеся в этих странах в соответствии с международными договорами и соглашениями, не вмешивались во внутренние дела. Естественно, Чехословакия не могла быть исключением.
Волны протестов против расправы со студенческой демонстрацией распространились по всей Чехословакии и привели к власти новые общественные силы, новых людей, группировавшихся вокруг Вацлава Гавела. Он стал последним президентом чехословацкой федерации. Густав Гусак, здоровье и силы которого были на исходе, ушел в отставку сразу же после сформирования правительства национального согласия во главе с М.Чалфой. Переход власти осуществился с соблюдением конституционного порядка и парламентских процедур. В «бархатной революции» нашли выражение политическая культура и вековые демократические традиции народов Чехословакии.
Трубка мира
К чести Гавела стоит отметить, что он выступал за правовое государство и политический плюрализм, находясь не только в оппозиции, но и оказавшись в Пражском граде. Так, он высказался против предложений о запрете компартии. «Цивилизованное государство, — заявил президент, — не может запретить компартию, КПЧ не имеет сегодня в своей идеологии постулатов насилия и расизма».
В условиях радикальных перемен, бурно протекавших во всей Восточной Европе, руководители Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза, собравшись в декабре 1989 года в Москве, заявили, что ввод войск этих стран в Чехословакию явился вмешательством во внутренние дела суверенной страны и должен быть осужден. Было признано, что эти неправомерные действия прервали процесс демократического обновления и имели долговременные отрицательные последствия.
Все эти события и политические шаги, казавшиеся нашим (и не только нашим) фундаменталистам едва ли не концом света, очищали отношения с Чехословакией от груза прошлого и открывали возможности для равноправных и взаимовыгодных связей. Чехословацкое руководство понимало это, в чем я убедился в ходе встреч с президентом Вацлавом Гавелом. Наиболее обстоятельно нам удалось побеседовать во время его официального визита в Советский Союз в феврале 1990 года. Тогда он преподнес мне небольшой сувенир — трубку мира, которую раскуривают индейцы в знак установления добрососедства.
Делясь своими политическими намерениями, президент говорил, что неверно изображать дело так, будто Гавел пытается вернуть страну к капитализму, травит коммунистов:
— Ничего подобного, мы возвращаемся к нормальному демократическому плюрализму и не собираемся возвращать фабрики их бывшим собственникам. У нас будут все формы собственности, смешанная экономика и нормальный рынок.
— В таком случае, — заметил я, — наши представления о перестройке экономики совпадают.
— Если в советской печати появится утверждение, что я ликвидирую социализм, это будет неправдой, — продолжал Гавел. — Дело в том, что само слово «социализм» скомпрометировано у нас в Чехословакии как символ беспорядка и безответственности навязанного извне режима. Поэтому оно утратило свое первоначальное значение.
Здесь я заметил, что Гавел получил отнюдь не самое плохое наследство: за ряд последних десятилетий в ЧССР было создано немало положительного и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере.
— В памяти наших народов, — заявил Гавел, — сохраняется вклад Советского Союза в освобождение большей части нашей страны во время Второй мировой войны. И даже все плохое, что было потом, включая оккупацию 1968 года, не изгладило этого из народной памяти. Когда наши люди прочитают Декларацию, которую мы с вами подпишем, они оценят все: ведь за ряд лет они научились читать между строк и поймут, что над старыми колониальными отношениями поставлена точка.
Мне опять пришлось возразить, попросив президента не приписывать нам колониального отношения к Чехословакии.
— Этого я не приму.
— Хорошо, — сказал Гавел, — поищу другое слово.
— Вот это другое дело, тем более что вы — мастер слова, у вас большие литературные способности, — поддержал я его обязательство.
Не все было плохо в наших отношениях, и я высказался за то, что к прошлому надо отнестись реалистически, отказаться от того, что не отвечало принципам равноправия, сохранить позитивное. Мы обменивались результатами труда наших народов, были взаимополезные связи ученых, деятелей культуры, сотен тысяч простых людей. Эти связи, контакты строились в основном на здоровой человеческой основе.
Декларация, подписанная нами, оказалась короткой, без парадных фраз, но содержательной и вполне корректной для обеих сторон.
Гавел просил ускорить вывод советских войск из Чехословакии. Пришли к взаимопониманию и по этому острому для обеих сторон вопросу.
Очень близким было наше видение новой системы европейской безопасности, которая могла бы стать своего рода преемницей Варшавского Договора и НАТО.
Переговоры с Гавелом прошли успешно, мы нашли общий язык, а главное — навели новые мосты для продолжения нормального, здорового сотрудничества между нашими странами.
Запомнилась мне и другая встреча с президентом Гавелом. Она состоялась уже в 1992 году летом, когда он приезжал с официальным визитом в Российскую Федерацию. Встретились мы по его предложению в посольстве Чехословакии в неформальной обстановке — с пльзенским «Праздроем» и брамбурачками. Гавел выглядел усталым, чувствовался груз навалившихся на него проблем. В то время, как я знал, он подвергался растущей критике уже не только слева, но больше, пожалуй, справа. Среди экстремистской части его бывших единомышленников и политических союзников раздавались упреки в «измене». Похоже, он был готов к тому, что может вскоре расстаться с президентством. Говорил об этом, в общем-то, спокойно и как бы даже несколько отстраненно. Зато живо интересовался ходом политических баталий в России, хотел знать мое мнение на этот счет. Расстались мы на хорошей ноте человеческого взаимопонимания и доброжелательства.
Дома Гавела ждали новые повороты политических событий и личной судьбы. Чехословацкая федерация распалась вопреки его намерениям, но государственный развод произошел в цивилизованных формах. Опять «бархатный».
Родоначальник «пражской весны»
Не могу поставить точку в этом своем повествовании об отношениях между Москвой и Прагой, не рассказав еще об одной встрече. 21 мая 1990 года в президентский кабинет Кремля, рядом с залом, где прежде заседало всемогущее Политбюро, вошел председатель Федерального собрания Чешской и Словацкой Федеративной Республики (так она тогда называлась) Александр Дубчек. Последний раз он приезжал (вернее — был доставлен) в Москву почти 22 года назад, в августе 1968 года. К тому времени ему исполнилось сорок шесть лет, он был Первым секретарем ЦК КПЧ и, казалось, его карьера кончалась навсегда. Довольно скоро, после непродолжительного пребывания послом в Турции, он был исключен из партии и отправлен в политическое небытие под негласный надзор полиции.
И вот навстречу мне идет Дубчек со своей неизменной, чуть смущенной улыбкой, постаревший, но еще довольно стройный. Идет, слегка раскинув руки для дружеского приветствия. Мы встретились тепло, у Дубчека увлажнились глаза.
Встреча эта была знаменательна во многих отношениях. Прежде всего как свидетельство жизненности идеи гуманистического и демократического обновления общества. Мы говорили о том, что вместе с Советским Союзом, который вынес тяжелые испытания, нелегкий путь прошли и восточноевропейские страны, каждая по-своему. То, что были опрокинуты попытки обновления Чехословакии в 1968 году, обернулось крупным стратегическим просчетом, который негативно сказался и на развитии Советского Союза. Военно-силовое давление в августе 1968 года, по сути дела, похоронило новации и реформы, в том числе и у нас в стране. Все мы потеряли много времени. Но без тех попыток, которые были предприняты раньше, может быть, не было бы и сегодняшних перемен.
Я рассказал Дубчеку о своих беседах с Гусаком, о том, как он решил уступить высший пост. Поделился своими соображениями о том, какую роль при этом сыграл Василь Биляк. До меня дошла такая его фраза: «Подождем, в Москве в конце концов сломают голову те, кто увлекается перестройкой, и придут новые люди».
— К сожалению, — сказал Дубчек, — это не только фраза. За ней стояла активная работа, а ждали на самом деле не новых людей, а приверженцев старого.
Он рассказал, что на протяжении ряда лет настойчиво предлагал сделать по крайней мере три шага, которые позволили бы преодолеть кризисное состояние общества. Во-первых, отменить исключение из партии всех тех, кто выразил несогласие с вводом войск в 1968 году; во-вторых, отмежеваться от одобрения ввода войск; в-третьих, признать, что лозунг «социализм с человеческим лицом» не был контрреволюционным. Если бы к этому прислушались, можно было бы снять напряжение в обществе. В конструктивную работу включились бы многие активные и сознательные люди, в том числе ветераны войны, которых больно задела и оскорбила акция 1968 года.
Однако ничего подобного сделано не было. В результате ширились настроения неприятия режима. Против КПЧ выстраивался единый фронт как против чехословацкой Бастилии.
— Благодаря карьеристам, — продолжал Дубчек, — дискредитировано само название «коммунистическая партия». Необходимы полное оздоровление, идейное и организационное размежевание с людьми прошлого. Надо было идти к народу, чтобы он почувствовал поворот, вновь завоевывать доверие людей. Думаю, стоило бы сохранить все ценное из того, что было наработано в 1968 году. Я оказался вне партии, но и сейчас нередко обо мне говорят: «Не верьте ему: он марксист». Как Председатель Федерального Собрания стараюсь занимать широкие гражданские позиции, правда, и о партии не могу совсем забыть. До сих пор тяжело переживаю ситуацию, нередко засыпаю с горькими мыслями: что будет завтра, кто выйдет на политическую арену, кому освободить простор для полезной деятельности?
Он был и остался защитником советской перестройки, говорил об этом во всех своих беседах с парламентариями, с которыми постоянно встречался. По-своему символичен и сам уход его из жизни. Осенью 1991 года спешил из Братиславы в Прагу. Автомобиль, который в непогоду несся с чрезмерной скоростью, не удержался на вираже, и огромная сила инерции выбросила его с пути. Дубчек получил тяжелейшие травмы, на этот раз физические, спасти его не удалось. Говорят, если бы не это несчастье, Александр Дубчек мог бы стать Президентом Словацкой Республики, хотя, насколько я знаю, он по своему духу был за федерацию. Я, к сожалению, не смог быть на похоронах в словацкой столице, где, как мне рассказывали, прощалась с ним едва ли не вся Словакия. Прощальное слово от моего имени передал Г.Шахназаров.
Думаю, теперь уже должно быть очевидным, что подавление «пражской весны» обернулось пирровой победой для тех, кто оставался на позициях изжившего себя прошлого и верил, превыше всего, во всемогущество тоталитарного государства. Может быть, кто-то, поддаваясь эмоциям, скажет в сердцах: «и поделом». Но ведь пострадало от этого общество. В результате нарушения естественного процесса общественного обновления оказались невостребованными творческие и гражданские способности целых поколений.
Если бы тогдашние правители Советского Союза, других государств Варшавского Договора более основательно и дальновидно оценили чехословацкое возрожденческое движение в 1968-м и даже в 1969 году, то, может быть, иначе выглядели бы и социально-политические процессы в нашей стране, перемены у восточноевропейских соседей, да и во всей Европе, в мире.
Думающая, творческая часть Компартии Чехословакии не случайно глубже других почувствовала исчерпанность и несостоятельность неосталинистской модели управления обществом, первой попыталась осмыслить вытекающие из этого программные задачи. Она смогла это сделать потому, что, осваивая идеи XX съезда КПСС (лидеры «пражской весны» учились в это время в Москве), смогла опереться на демократические традиции и гуманистическую культуру своей страны. Об этом мы много раз беседовали уже в последнее время со Зденеком Млынаржем.
«Программа действий» КПЧ, оживление политического и идейного плюрализма испугали тех в руководящих кругах, кто был неспособен выйти за рамки сектантства, просто стремился сохраниться у власти любой ценой. Да и внешние условия тому не благоприятствовали — раскол мира, конфронтация. И на Востоке, и на Западе еще слишком мощные силы были заинтересованы в продолжении «холодной войны».
И вот о чем я еще думаю. Маленькая Чехословакия внесла огромный вклад в мировую культуру. И в политической истории ей принадлежит достойное место, связанное с подвижничеством Гуса, Жижки и их соратников. А разве не такой же пример свободомыслия, разрыва с окостеневшими учреждениями и одряхлевшими догмами показали чехи и словаки в «пражскую весну»?
Глава 34. Тодор Живков и другие: кризис доверия в социалистическом содружестве
К тому времени, когда меня избрали генсеком, я уже не раз бывал в Болгарии. Меня, как и большинство граждан России, связывало с этой страной многое, но, пожалуй, главное — историческая память. Мои особые отношения с болгарами в немалой степени сложились и под воздействием личных дружеских связей с Димитром Жулевым, первым секретарем Пазарджикского обкома и затем послом Болгарии в СССР.
Мой первый визит в Болгарию, состоявшийся осенью (октябрь) 1985 года, сразу после заседания ПКК, имел целью публично подтвердить преемственность в двусторонних отношениях. Стороны подтвердили свою приверженность братскому сотрудничеству. Но в жизни оказалось все не так просто.
Интриги «самого большого друга»
По мере того как курс советского руководства на перестройку воплощался в гласность, демократизацию государственной и общественной жизни, росла настороженность по отношению к нему со стороны Тодора Живкова. Более тридцати лет бессменно возглавляя собственное государство, он как никто другой копировал советский опыт, приспосабливая его по своему разумению к условиям Болгарии. Это обеспечивало небезуспешное функционирование и укрепление личной власти Живкова. Но вот ему пришлось столкнуться с дилеммой. Либо продолжить привычную линию на «воспроизводство» того, что делается в Советском Союзе, и, значит, подорвать режим автократии. Либо искать какой-то другой, нетрадиционный путь и образ действий.
А надо сказать, власти у Живкова было в каком-то смысле больше, чем даже у Брежнева, особенно в последние годы его правления, когда у нас при больном генсеке стали обособляться отдельные республики и ведомства, как бы закрываясь от чьего бы то ни было постороннего глаза, контроля и влияния. Живков же, демонстрируя свою особую близость к Брежневу, верность ему, которая довольно весомо вознаграждалась, оставался, по существу, полным хозяином у себя в стране. Он был монополистом в определении политики и идеологии и, конечно, в решении ключевых кадровых вопросов.
При всем том Генеральному секретарю ЦК БКП долгое время удавалось умело прикрывать свою абсолютную власть декорумом просвещенности, новаторства и экспериментаторства. Этим целям служила тактика привлечения к обсуждению проблем и разработке программ молодых талантливых людей. Но держали таких людей, так сказать, на длинном поводке, лишь до тех пор, пока они не переходили границ дозволенной критики. Когда же это случалось, санкции наступали мгновенно.
С особым пристрастием Живков стал относиться к думающей части своего окружения, когда после смерти Брежнева в Советском Союзе начало расти понимание необходимости перемен. В 1983 году был устранен из Политбюро и Секретариата БКП Александр Лилов, оттеснены от руководства и ряд других ярких, способных к самостоятельному мышлению и поступку людей. Как только человек вырастал в своих воззрениях до потолка, высота которого определялась самим Живковым или кем-то из лично преданных ему приближенных, он становился нежелательным, опальным, а то и поднадзорным.
Может быть, не стоило бы касаться этих проблем, предоставив разбираться в них самим болгарам, но в том-то и дело, что немилость, опала, а то и репрессии, как ни покажется странным, обрушивались прежде всего на тех, у кого устанавливалось наиболее содержательное деловое сотрудничество с советскими партнерами. Простое объяснение этому факту могло бы состоять в том, что Живков «ревновал», поскольку претендовал на роль ближайшего и самого верного друга Советского Союза. Видимо, и это обстоятельство имело место. Но дело, конечно, далеко не только в такой «ревности».
Должен покаяться: не сразу я раскусил многоликую игру, которую вел Живков с собственным окружением и народом, советским руководством, с другими партнерами.
На беседы со мной он приходил всегда один, не брал с собой никого. А потом до меня стало доходить, что интерпретировал он эти беседы, мягко говоря, избирательно, с выгодой для себя. По его словам, получалось так, что чуть ли не по всем вопросам он действует согласованно с Москвой, всегда и во всем имеет ее поддержку.
Каково же было мое удивление, когда пришлось столкнуться не просто с неискренностью, а с попытками скрывать от нас, своих ближайших союзников, определенные шаги, затрагивающие наши общие интересы. Причем, вообще-то говоря, такие шаги и контакты сами по себе не могли вызывать у нас какого-то возражения. Огорчало лишь то, что узнавали мы об этом не от Живкова, а, что называется, совсем из других источников.
Наметившаяся тенденция к своего рода сепаратизму приобретала порой курьезные формы, хотя затрагивала достаточно существенные стороны двустороннего сотрудничества. Кто-то из окружения убедил Живкова в целесообразности установить особые отношения с Токио, чтобы превратить Болгарию, так сказать, в балканскую микро-Японию. Имелось в виду, в частности, наладить производство по японским схемам и технологиям продукции микроэлектроники. Помню, как болезненно реагировал Живков, когда я в одной из бесед попросил его посвятить нас в разработку концепции «микро-Японии». Мой вопрос не был досужим любопытством, поскольку была договоренность с болгарской стороной о тесном сотрудничестве в электронной промышленности. Кончилось тем, что болгары все равно стали обращаться к нам за микроэлементной базой и настойчиво предлагать свои довольно-таки невысокого качества изделия.
Болгары, как и другие наши партнеры по СЭВ, видели, что по ряду научно-технических параметров Советский Союз отстает от Запада. Поэтому односторонняя ориентация на нас обрекала, по крайней мере отчасти, и наших партнеров на определенное отставание. Они пытались компенсировать это развитием научно-технических связей с Западом, что тоже само по себе вполне естественно. Вопрос в том, что делалось это тайком от нас, а при осложнениях следовали обращения о помощи.
Многие годы Болгария жила не по средствам. К началу 1990 года ее внешний долг вырос до 10 миллиардов долларов при населении примерно 9 миллионов человек. Живкову удавалось так строить отношения с Брежневым, что это оборачивалось крупной валютной поддержкой. В обмен на широко рекламируемые планы «братского сотрудничества» из Советского Союза шли значительные регулярные поставки энергоносителей и сырья, финансовые субсидии.
Серьезная попытка выправить эти перекосы была предпринята в июле 1985 года, когда во время визита Живкова в Москву подписывалась Долгосрочная программа развития экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и НРБ на период до 2000 года. Но ее реализации помешали крайне неблагоприятные для нас изменения на мировом рынке: резкое снижение цен на нефть привело к тому, что Советский Союз потерял почти половину своих валютных доходов. Мы вынуждены были сократить поставки нефти партнерам по СЭВ, в том числе Болгарии. Там, как и в ГДР, это переживалось болезненно. Дело в том, что болгарская сторона опять-таки, как и ГДР, занималась реэкспортом части получаемой от нас нефти.
Тогда стало окончательно ясным, что принятая в Болгарии, как и в некоторых других странах СЭВ, экономическая модель могла более или менее работать благодаря «искусственному дыханию», за счет зарубежных инъекций. Продолжать экономические отношения по этой схеме советская сторона уже не могла. Мы поставили вопрос о переводе экономических связей на базу эквивалентного обмена, что подразумевало и прекращение ежегодно выплачивавшихся Болгарии субсидий на сельскохозяйственное производство в размере 400 миллионов рублей.
Тут-то и стал заметнее разрыв между заверениями Живкова о продолжении тесного сотрудничества с Советским Союзом и некоторыми его практическими шагами во внутренней и внешней политике. Он окружил себя людьми, которые снабжали его новыми прожектами, теперь уже ориентированными больше на Запад, чем на Восток. Резкие перемены почувствовали на себе советские граждане, ездившие на отдых в Болгарию, на знаменитые Золотые пески. Внимание местной администрации и обслуживающего персонала переключилось на владельцев долларов и марок.
Живков, конечно, чувствовал, что надо ему определять свою позицию в отношении перестройки в Советском Союзе. Его первые заверения о поддержке нового курса советского руководства были достаточно искренними в двух крупных вопросах. Во-первых, в том, что касалось курса на разоружение, сотрудничество с Западом. Во-вторых, Болгария была заинтересована в перестройке деятельности СЭВ на более эффективных началах.
Живков понимал необходимость глубоких реформ экономики. В последние годы он часто уединялся на своей загородной даче и увлеченно писал или правил записки, разрабатывавшиеся в узком кругу, которые затем направлял в свое Политбюро. А некоторые засылал и мне. Смысл их сводился к тому, что социализм проигрывает экономическое соревнование с капитализмом, поэтому нужны серьезные перемены в самом экономическом базисе социализма.
Вот по этим направлениям болгарский лидер склонен был приветствовать советскую перестройку. Однако она его все больше пугала, по мере того как становилось ясным, что речь идет не об очередном словоизвержении на темы демократии и свободы, что мы настроены серьезно и пойдем так далеко, как потребуется. Звоном колокола прозвучали для Живкова решения январского Пленума ЦК КПСС 1987 года. Они трижды обсуждались на Политбюро ЦК БКП. Поначалу реакция была, по сути дела, негативной. Сочинили формулу, что, мол, в Болгарии уже была своя перестройка, которая началась еще в апреле 1956 года, то есть спустя два года после того, как Живков стал Первым секретарем ЦК БКП. Но такая позиция не встретила понимания в болгарском обществе, где давно, особенно среди интеллигенции, нарастало недовольство единовластием генсека и привилегированным положением приближенных к нему лиц.
Живков, конечно, знал об этом и постоянно предпринимал разного рода отвлекающие маневры, периодически реорганизовывал аппарат управления, упразднял министерства, учреждая новые организации, тасовал кадры, кого-то приближал к себе, кого-то, напротив, отодвигал. В этом его превосходил только Николае Чаушеску, и, между прочим, Живков общался с ним чаще, чем с другими зарубежными деятелями, при случае давал понять, что может влиять на него. А кое в чем Живков превзошел даже своего румынского соседа.
С началом в Болгарии так называемого «возрожденческого процесса» до нас стали доходить сигналы от болгарских граждан турецкой национальности, которые протестовали против лишения их турецких имен и фамилий, насильственного присвоения болгарских. Одновременно болгарские власти обращались к нам с просьбами поддержать их «возрожденческие» акции в Организации Объединенных Наций и перед турецкими властями. С болгарской стороны эти акции объяснялись тогда опасностью перспективы раздела Болгарии по кипрскому прецеденту. Для нас были неприемлемы любые нарушения прав человека, и мы не хотели вмешиваться во внутренние дела Болгарии. Вместе с тем нельзя было просто устраниться, сделать вид, будто нас все это не волнует. Поэтому мы довели до руководства НРБ и лично до Живкова свое мнение, что его позиция в отношении тюркоязычного меньшинства по крайней мере несправедлива. Получив наше послание, Живков дал понять, что проблема будет введена в общепринятые цивилизованные рамки, но на практике изменилось немногое. Поток эмигрантов из Болгарии устремился в Турцию.
Во многом искусственно нагнетавшиеся националистические страсти не могли заглушить подъема общедемократических настроений. К нам стали все чаще поступать обращения представителей болгарской интеллигенции, в которых выражался протест против подавления инакомыслия, свободы слова, ограничения научной и общественной деятельности. В стране стали зарождаться неформальные объединения демократической направленности — экологические группы, клуб в защиту гласности и перестройки, одним из основателей которого стал философ-диссидент Желю Желев.
Живков в этих условиях уже не мог делать вид, будто перестройка — пройденный этап для Болгарии, он понимал, что на этих позициях ему не удастся удержать инициативу в своих руках. А в отставку он не собирался, хотя иногда в разговорах со мной сам затрагивал эту тему. В соответствии с общей нашей установкой я уходил от ее конкретного обсуждения. Одно время Живков вроде бы остановил свой выбор на Честмире Александрове.
На деле власть Живков никому уступать не собирался, напротив, решил обойти всех и предстать перед партией и народом в качестве инициатора самых радикальных новаций. Неожиданно для многих он внес в Политбюро ЦК БКП записку о коренной реорганизации всей политической системы. Предлагалась полная перекройка административно-территориального деления страны. А это предполагало и тотальную перетряску всех государственных, хозяйственных и партийных структур сверху донизу. В основу этого проекта закладывалась идея «самоуправленческого социализма», однако готовился он наспех, келейно, сильно отдавал авторитаризмом.
Затевая перетряску всей страны, Живков, похоже, рассчитывал, во-первых, укрепить свое внутриполитическое положение, избавившись от наиболее критически настроенных людей в партийном и государственном аппарате, а во-вторых, как говорили сведущие люди, обойти Горбачева «слева» и утвердить свой авторитет как ведущего реформатора социализма.
Свои соображения о новой реорганизации Живков счел нужным направить в Москву. При знакомстве с ними у нас создалось впечатление о подготовке в Болгарии своего рода «большого скачка» или даже «культурной революции» наподобие маоцзэдуновской. У теоретиков возникала и другая аналогия: записка Живкова — претензия на революционный слом государственной машины, о котором писал Ленин в книге «Государство и революция».
Высказывать официальные оценки намерениям и планам болгарского лидера, о которых он сам ставил нас в известность, мы не хотели по принципиальным соображениям. Но и пройти мимо них тоже, конечно, не могли. Тем более что к нам вскоре стали поступать очень тревожные сигналы от многих болгарских друзей, которые прямо говорили о том, что в стране готовится авантюра, чреватая социальным взрывом.
Для более полного выяснения обстановки в Болгарию выезжал Медведев, а затем осенью 1987 года состоялась и моя встреча с Живковым. Говорили о поставленных им вопросах. Позднее эта беседа интерпретировалась с его слов в Болгарии в том смысле, что Горбачев, мол, сорвал намерение Живкова переориентировать Болгарию на Запад. Как следовало из решений июньского Пленума ЦК БКП и заявлений Живкова, Болгария солидаризировалась с советской перестройкой и намерена осуществить собственную. В этой связи я акцентировал внимание собеседника на том, что при революционном характере перестройки речь не может идти о том, чтобы одним махом сломать все, перетрясти экономику, партию, государство. Снова предупредил от копирования, что могло бы скомпрометировать перестройку в Болгарии, нанести ущерб всем. Живков тогда с пониманием воспринял сказанное. Вообще, это был товарищеский по тону разговор, без каких-либо нравоучений, достаточно откровенный и устремленный к укреплению взаимного доверия.
Казалось, занятая нами тактичная и вместе с тем определенная позиция способствовала снятию остроты назревавшего конфликта. Мы и в этом случае исходили из того, что решать кадровые вопросы, затрагивающие судьбы партий и государств, имеют право и должны только они сами. Такая постановка вопроса меняла многое и в жизни болгарского общества. Ведь упоминавшиеся особые отношения между Брежневым и Живковым давали последнему щит, под прикрытием которого он мог делать что угодно с кем угодно. И когда болгары обращались в Москву с жалобами на своего лидера (а такое бывало, и не раз), у нас рассуждали примерно так: «Живков есть Живков, может, и перегибает палку, но он наша опора, преданный Советскому Союзу человек, поэтому, ничего не поделаешь, придется пожертвовать другими».
Справедливости ради надо сказать, что в особо вопиющих случаях с нашей стороны предпринимались попытки предостеречь болгарского «богдыхана» и помешать устранению из руководства людей, снискавших хорошую репутацию и своей деятельностью на родине, и ровным дружественным отношением к Советскому Союзу. Но эти обращения, сделанные в деликатной форме, не слишком обременяли Живкова и он в конечном счете поступал как задумал.
С марта 1985 года мы действительно отказались от всякого вмешательства во внутренние дела союзников. Но изменения в СССР, сам ход истории, объективно назревшие реформы работали на перемены. Перед этим не в силах был устоять никто, даже такой мастер дворцовых маневров, как Тодор Живков.
Ему пришлось уступить место другим людям, решившим действительно обновить партию и страну. Перемены начались в ноябре 1989 года с заявления Петра Младенова — члена Политбюро и министра иностранных дел, который, по сути дела, выступил с категорическим протестом против авторитаризма Живкова, в очередной раз вознамерившегося перетряхнуть кадры и оттеснить с ответственных постов не желавших больше мириться с режимом личной власти. Заявление Младенова стало искрой, благодаря которой вспыхнуло давно назревавшее коллективное возмущение самовластием, атмосферой беспринципности, страха, недоверия к людям.
Собравшийся 10 декабря Пленум ЦК БКП освободил Тодора Живкова со всех постов. Новым Генеральным секретарем ЦК БКП, а с 17 декабря 1989 года и Председателем Государственного Совета НРБ стал Петр Младенов. В декабре он приехал в Москву с рабочим визитом. С Младеновым мы были знакомы много лет, и наша беседа с первых минут приобрела откровенный характер.
«ГОРБАЧЕВ. Приветствую вас. Меня, конечно, интересует ваша оценка перспектив развития ситуации в Болгарии.
МЛАДЕНОВ. В целом события в стране мы контролируем. Перемены в руководстве страной, происшедшие 10 ноября, встретили прямо-таки восторженную поддержку народа. Мы еще раз убедились, что, хотя практически всю жизнь занимаемся политикой, однако далеко не всегда знаем действительное настроение людей.
Все, кроме небольшой прослойки, горячо выступают за перестройку в Болгарии. Сейчас у нас в стране исключительно высокое внимание к советской перестройке.
Теперь для всех стало совершенно очевидно, что Болгария созрела для реальных перемен. Ведь целый ряд лет в стране ухудшался общественно-политический климат. Партия теряла авторитет, все заметнее расходились слова и дела руководства. Центральный Комитет превратили в говорильню, на заседаниях хвалили главного руководителя, говорили, какой он мудрый, автоматически поддерживали любое его выступление, дружно голосовали. Но по-настоящему, серьезно насущные проблемы на пленумах ЦК не обсуждались, не было коллективным органом и Политбюро. Я в целом 15 лет был в его составе, и там мы не обсуждали, тем более не решали самых серьезных вопросов.
В стране серьезно ухудшался нравственный климат, на фоне парадности процветал цинизм. Все видели, что руководитель не по заслугам продвигает своих родственников. На виду совершались и другие, мягко говоря, некрасивые поступки, поэтому народ воспринял ноябрьские перемены как стремление покончить со всем тем негативным, что накопилось у нас за многие годы.
ГОРБАЧЕВ. Я слышал, что Политбюро у вас собиралось нерегулярно, да и заседания его даже в тех редких случаях превращались в монолог.
МЛАДЕНОВ. На Политбюро чаще всего выдвигались все новые и новые концепции, тезисы, а разговора по делу практически не было. Сейчас нам предстоит распрощаться с рядом людей, которые способствовали поддержанию такого стиля работы.
ГОРБАЧЕВ. Ценим ваше мужество, понимаем, чего стоило ваше письмо с заявлением об отставке, которое все восприняли как смелый протест. Кому-то надо было начинать, и вы взяли это на себя. Очень важно, что вы сами выработали позитивную линию. Это признак того, что в партии и обществе сохранился потенциал политического разума и гражданского здоровья. Мы отвели просьбу Живкова приехать в Москву под предлогом посоветоваться.
Наша принципиальная позиция состояла в том, что болгарские дела должны решать сами болгары. И это отнюдь не значит, что для нас болгарские дела безразличны. Ничего подобного! Болгария, конечно, очень близка нам. Мы хорошо знаем наших друзей, но вмешиваться во внутренние дела, мешать внутреннему вызреванию ситуации не можем. И так сказать, «младеновская искра», с которой началось реальное движение к обновлению, лишь показала, что обстановка объективно вызрела и даже перезрела».
В марте 1990 года у меня состоялась встреча с новым Председателем Совета Министров Болгарии Андреем Лукановым. Разговор был содержательный, коснулся многих крупных тем, поэтому я воспроизведу наиболее интересные фрагменты.
«ЛУКАНОВ. Наследие нам досталось тяжелое, бывший лидер проводил политику — после меня хоть потоп! Не считаясь с реальными возможностями и последствиями, создавалась видимость стабильности и благополучия. Сейчас все это обнаружилось во всей неприглядности. Резко осложнилась политическая и социальная обстановка. Может быть, самая тяжелая потеря — это утрата влияния на молодежь. Многие молодые люди чувствуют себя заброшенными, оскорбленными. Поэтому резко радикализировались, стали социальной базой для экстремистской оппозиции.
ГОРБАЧЕВ. Всем нам приходится тяжело расплачиваться за все просчеты и провалы, копившиеся десятилетиями.
ЛУКАНОВ. Даже 10 лет назад можно было бы сделать очень и очень многое.
ГОРБАЧЕВ. Для всех серьезным политическим звонком были события 1968 года в Чехословакии, но наши тогдашние лидеры не решились принять вызов, фактически отсиделись на нефтяном буме.
ЛУКАНОВ. И на изоляции от мира. Но, думаю, если бы то, что вы начали в апреле 1985 года, было бы дружно подхвачено в других социалистических странах, картина сегодня могла быть совсем иной.
ГОРБАЧЕВ. К сожалению, нашлись и такие, кто не только не подхватил наш поворот к перестройке, но и стал предавать ее анафеме. Нашим послам кое-кто из лидеров нашептывал: подождите, скоро все переменится и вернется на круги своя. Но если бы мы не начали в апреле 1985 года, то быстро нагнетавшееся давление всеобщего общественного недовольства могло так рвануть наш «союзный котел», что последствия могли бы оказаться похлеще румынских: смести всех. Перемены идут нелегко.
ЛУКАНОВ. Это в огромной степени относится и к нам, к ситуации в Болгарии. Начни мы перемены хотя бы на полгода позже, последствия были бы непредсказуемыми. Однако нам удалось взять инициативу в свои руки, направить события в русло мирного перехода к современному государственному устройству. Но мы чувствуем, на Западе многим не нравится то, как развиваются у нас события. Именно поэтому Запад старается взять нас сейчас за горло, используя высокую валютную задолженность страны. И нам очень трудно противодействовать этому наступлению. Ведь мы фактически попали в экономическую зависимость. Этого, к сожалению, не понимают те, кто обвиняет нынешнее руководство, что оно, мол, недостаточно решительно дает отпор Западу. Нас усиленно критикуют и за разного рода уступки, на которые приходится идти. Правда, мы говорим, что характер этих уступок весьма различен, и если речь идет об уступках здравому смыслу, то это отнюдь не позор.
ГОРБАЧЕВ. Согласен с вашим последним замечанием. Надо исходить из здравого смысла, строя свои отношения с оппозицией. В тех случаях, когда от нее исходят конструктивные предложения, на них, очевидно, надо и конструктивно реагировать.
ЛУКАНОВ. Оппозиция у нас разношерстная. Спектр самый широкий. Слева — бывшие коммунисты или те члены партии, которые грозят выходом из нее. Они выступают против партии, хотя и не с открытой антисоциалистической платформой. Скорее, это критика с социал-демократических позиций. Для них характерна ориентация на Запад.
Другую часть наших оппонентов образуют бывшие члены старых оппозиционных партий. Эти партии в конце 40-х годов были разгромлены сталинскими методами, и состоявшие в них люди стали значительной частью общественности восприниматься как мученики. Те из них, кто остался в живых, некоторые родственники бывших оппозиционеров — вот база этой части оппозиции.
То, что мы пошли на сформирование однопартийного правительства, пожалуй, прибавило авторитета БКП: люди увидели, что мы не ушли в кусты, не растерялись перед трудностями, берем на себя инициативу в их преодолении. Сейчас все зависит от развития ситуации в экономике. Практически мы не в состоянии выплатить долги. Вопрос стоит так: сколько недель или дней мы еще продержимся, не объявляя о неплатежеспособности страны. Я рассказывал об этой ситуации Рыжкову, просил его оказать нам в этой связи возможную поддержку.
Нам важно продержаться хотя бы до выборов, выстоять перед давлением Запада, особенно со стороны американцев.
ГОРБАЧЕВ. Они пытаются давить и на нас.
ЛУКАНОВ. Особенно важен для нас второй квартал этого года. Главное, не потерять поддержку рабочего класса. А его положение ухудшается. В результате падения производства (оно понизилось за последние два месяца на 8 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года) снижаются заработки рабочих. Трудной ситуацией в стране стремятся по-своему воспользоваться США. Их представители вступают в открытые контакты с оппозицией.
ГОРБАЧЕВ. У нас контакты западников с оппозиционными группами осуществляются уже давно. В Прибалтике эмигрантские и другие западные центры прямо берут в свои руки дирижерскую палочку и пытаются управлять местными политическими «оркестрами». На этот счет они большие мастера. Надо находить и применять адекватные меры с нашей стороны.
А как у вас сейчас с национальным вопросом?
ЛУКАНОВ. Он в какой-то мере утрясается. Из Турции вернулось примерно 130 тысяч человек. Это примерно одна треть всех выехавших туда раньше болгарских граждан. Турция не спешит нормализовать отношения с нами, поэтому и мы не проявляем поспешности. Всего у нас 750 тысяч турок. Кроме того, до 200 тысяч собственно болгар, исповедующих ислам, и 80—100 тысяч цыган. В целом около 1 миллиона, или более 10 процентов, населения — мусульмане. Наша линия в этом вопросе — уважение права каждого гражданина определять свою национальность, родной язык.
ГОРБАЧЕВ. А как ведут себя приближенные Живкова?
ЛУКАНОВ. Они притихли, сидят дома. Народ же требует возмездия.
ГОРБАЧЕВ. В таких случаях слово за законом. Это единственно обоснованный и справедливый путь.
ЛУКАНОВ. Сам Живков ведет себя очень хитро. В отличие от Хо-неккера, он не хочет брать на себя абсолютно никакой политической ответственности за все то, что делалось в стране. Хотя вина его, пожалуй, гораздо больше, чем у Хонеккера, но он, похоже, не чувствует за собой никакой вины.
ГОРБАЧЕВ. Да, история оставила нам тяжелейшее наследие. Бесконтрольность, безответственность властей позволяла им делать все, что угодно. Даром такое не проходит. Сейчас, когда мы освободились от оков, когда все пришло в движение, очень важно удержать общественные процессы под контролем. Надо идти вперед, не теряя равновесия, трезво, взвешенно оценивать обстановку.
ЛУКАНОВ. В Болгарии впервые за многие десятилетия развертывается свободная дискуссия об отношении к России и Советскому Союзу. Раздаются голоса и в пользу ориентации на Запад. Но в народе, по крайней мере пока, преобладает здоровое понимание национального интереса, который тесно связывается с необходимостью сотрудничества с Советским Союзом. За это выступают главным образом старшее и среднее поколения, рабочий класс, сельское население. В меньшей степени — интеллигенция и молодежь».
О философии перемен
В обстановке быстрых перемен очень многое зависело от нового руководства БКП. И оно, на мой взгляд, во всяком случае поначалу, действовало продуманно и удачно. Состоявшийся в начале 1990 года внеочередной съезд БКП подчеркнул, что устранение авторитарного режима Живкова — это не смена руководящей команды, а начало глубоких перемен в партии и стране. Съезд принял Манифест о демократическом социализме в Болгарии, новый устав партии, сформировал Высший партийный совет, в который вошло лишь 10 процентов бывших членов ЦК БКП. Председателем Президиума ВПС был избран Александр Лилов.
Я знал его как человека с широким кругозором, способного к самостоятельным суждениям и поступкам. Не случайно Живков убрал его из руководства партии в 1983 году. В апреле 1990 года были объявлены итоги общепартийного референдума по вопросу о названии партии. По воле 87 процентов голосовавших она стала называться Болгарской социалистической партией. Дело, конечно, не сводилось к простому переименованию. Был взят курс на политический плюрализм, многопартийность, правовое государство. О коренных переменах в партии, о ее новом положении в обществе мне рассказал Лилов, когда мы встретились с ним в Москве в мае 1990 года.
«ГОРБАЧЕВ. Откуда в Болгарии такое количество оппозиционеров?
ЛИЛОВ. Ошибок у нас допущено не меньше, чем в Советском Союзе. Это и дало почву для роста оппозиции.
ГОРБАЧЕВ. Хорошо, что вам удалось избежать такого развития событий, которые имели место в ГДР и Румынии. Очень важно, что вы сами проявили смелую и разумную инициативу. А почему Земледельческий народный союз так дистанцируется от вашей партии? Мне казалось, у вас неплохие связи с крестьянами, село находится в приличном состоянии.
ЛИЛОВ. Настроения нашего крестьянства в массе своей отличаются в лучшую сторону от тех тенденций, которые начали преобладать в аграрной партии. И мы учитываем этот фактор. БСП пользуется наибольшей поддержкой как раз среди крестьянства и людей старшего поколения. А среди молодежи, интеллигенции, рабочего класса наши позиции, к сожалению, не очень прочны. У нас сейчас действует более 50 партий. На общественное мнение активно влияют оппозиционные газеты. Создан оппозиционный блок, который возглавляет Желю Желев.
ГОРБАЧЕВ. Какова суть политической программы оппозиции?
ЛИЛОВ. Своего рода египетский сфинкс, смесь социал-демократических, либеральных и иных представлений. Эклектика программы отражает неоднородный социальный состав оппозиции. Оппозиция распространяет свою деятельность не только на Софию, но и на другие города, да и в селах начинает себя проявлять. Я считаю, что недооценивать ее возможности наивно и вредно.
ГОРБАЧЕВ. Нужен четкий политический анализ причин наших трудностей в прошлом и настоящем. Думаю, надо решительно отводить попытки взвалить на коммунистов коллективную вину за все неудачи и ошибки. Кому-то очень хотелось бы вновь развязать «охоту за ведьмами», повсюду выискивать новых врагов народа. Поэтому тем, кто сегодня пытается перечеркнуть всю жизнь старших поколений, объявить их чем-то вроде «быдла», надо давать сдачи. Без уважения к народу, к его делам не может быть серьезной политики.
ЛИЛОВ. Позиция партии, ее отношение к тому, что происходит в жизни общества, — это и у нас ключевая проблема. К сожалению, среди членов партии довольно широко распространился комплекс вины, который сковывает мысли и действия. После 10 ноября, когда у нас было положено начало настоящей, а не словесной перестройке, партия в течение двух-трех месяцев была как бы парализована. И лишь теперь пытается встать на ноги, но до сих пор продвигается вперед очень медленно. Мы просто разучились работать как политическая организация. Все делалось по команде сверху. А теперь трудно выстоять перед градом критики, а то и просто ругани в адрес партии. Мы переживаем кризис доверия, особенно в среде молодежи и интеллигенции. Это очень большая беда. Но, кажется, начинаются перемены к лучшему. Важно только не упустить время для полного обновления.
ГОРБАЧЕВ. Пусть даже часть людей уйдет из партии, но главное, чтобы те, кто остался, действовали как динамичная политическая сила.
Идеологическая зашоренность, стереотипность мышления сплошь и рядом сводятся к требованию простых ответов на сложные вопросы. Этим пользуются и разного рода демагоги, политические мошенники. Вообще, надо учиться политике и предприимчивости во многих западных странах адаптироваться к требованиям жизни. Посмотрите, как действуют капиталисты. Они не стесняются использовать в своих интересах планирование, государственное регулирование, социальное обеспечение и т. п.
Нам надо, может быть, вместе с вами углублять разработку современного понимания социалистической идеи с учетом всего прошлого опыта и нынешних реалий, с учетом достижений всей современной цивилизации.
ЛИЛОВ. Да, реалии жизни заставляют нас сегодня менять всю нашу точку зрения на социализм. Недавно я прочитал статью Вилли Брандта, где он пишет о социализме в XXI веке. Вопреки всем нападкам на социализм, Брандт видит за ним будущее.
ГОРБАЧЕВ. Как бы ни критиковали социализм, но именно под его влиянием модернизировался современный капитализм».
В июне 1990 года в Болгарии прошли первые действительно свободные выборы, что было признано и наблюдателями западных стран. БСП получила больше половины голосов, оппозиционный Союз демократических сил — примерно одну треть. Однако высокий тонус политической борьбы не спадал. Оппозиция действовала активно, а экстремистская ее часть просто провокационно. Обстановка продолжала накаляться, отличалась крайней нервозностью на всех уровнях. В августе, похоже, не выдержали нервы у Петра Младенова, он подал в отставку с поста президента республики. Вторым болгарским президентом стал Желю Желев.
В сентябре 1990 года с рабочим визитом в Москву вновь прибыл Андрей Луканов. Обстановка меняется быстро, рассказывал он мне. Еще недавно абсолютное большинство населения выражало активную поддержку перестройке в рамках социализма. С хорошими результатами для партии завершились выборы. И это при том, что оппозиция пользовалась довольно мощной материальной и моральной поддержкой из-за рубежа. Луканов сожалел: «Если бы нам удалось хотя бы на несколько лет раньше пойти на те крутые перемены, на которые решились в последнее время, успех был бы гарантирован. Сейчас же упущено слишком много времени. Этим в значительной мере объясняются нынешние трудности».
«ГОРБАЧЕВ. Досадный срыв произошел с Петром Младеновым, когда ему пришлось уйти с поста президента. Ведь предъявленное ему обвинение, будто он хотел пустить танки против народа, абсурдно.
ЛУКАНОВ. Да, думаю, Петру надо было сразу прямо сказать, что оброненная им фраза не имела никакого практического значения, но он явно поспешил тогда, не посоветовался как следует ни с кем.
ГОРБАЧЕВ. Когда меня сейчас кое-кто начинает обвинять в стремлении к диктатуре, я прямо говорю: если бы я действительно этого хотел, зачем же тогда отказался от такой власти, которой обладали все генсеки. Ведь по своему всеохватному объему она была просто ни с чем не сравнима.
ЛУКАНОВ. С нашей президентской властью произошла прямо-таки сюрреалистическая метаморфоза. Ведь мы конструировали институт президентства непосредственно под Петра Младенова. Хорошо зная его личные качества, предусмотрели и очень широкие полномочия. Но в конечном счете все обернулось так, что президентскую власть пришлось отдать другой фигуре.
ГОРБАЧЕВ. Что представляет собой Желев как президент? Способен ли он держать слово?
ЛУКАНОВ. Ж.Желев в прошлом состоял в БКП. По образованию — философ. Учился в аспирантуре, интересовался трудами и личностью Ленина. Последние 20 лет занимал диссидентские позиции. Его даже негласно выселяли из Софии. Но сейчас он ведет себя лучше других в основном вопросе, я имею в виду отношение к парламентской демократии. Занимает в целом позитивную позицию, выступает против гражданских конфликтов, за гражданский мир. По этим острым вопросам он вступает в противоречие с ястребами из числа оппозиционеров. Желев убеждал оппозицию принять участие в правительстве, выступал против уличных нажимов на него, на парламент.
ГОРБАЧЕВ. Ясность позиции президента по острым политическим вопросам — это очень важная вещь. Полагаю, что и Желев, став президентом, будет более ответственно подходить к оценкам деятельности оппозиции.
ЛУКАНОВ. Думаю, он способен понимать, что провал демократического пути развития, в защиту которого мы выступаем, в конечном счете ударил бы и по президенту, стал бы и его крахом.
Опасность для нашего демократического развития исходит от экстремистских и даже, прямо скажем, неофашистских сил. К сожалению, во многом правы те критики нашего недавнего развития, которые пришли к выводу, что тоталитарный социализм порождает массовую люмпенизацию.
ГОРБАЧЕВ. Люмпенские элементы — это самая опасная почва, на которой спекулирует популизм.
ЛУКАНОВ. Выборы в высший совет партии, то есть, по-старому говоря, ЦК, проходили в очень накаленной атмосфере. Были бурные выступления и левых и правых.
ГОРБАЧЕВ. Да, вести нынешние заседания съездов очень нелегко. Я бы даже сказал, это изматывающее занятие. Я остро почувствовал это на XXVIII съезде КПСС, в ходе которого мне приходилось не раз энергично вмешиваться».
Андрей Луканов передал мне послание Желева. В нем содержался ряд важных предложений о развитии болгаро-советских отношений. Я просил передать болгарскому президенту, что неизменно ценю уникальность отношений между двумя нашими странами и народами. К сожалению, мы находимся в таком положении, что нам трудно в полной мере помочь Болгарии, но тем не менее будем делать все, что сможем, исходя из реальных возможностей. Выразив признательность за приглашение в Болгарию, я высказался и за его визит к нам, предложив договориться о сроках с учетом конкретной ситуации в наших странах.
Жизнь распорядилась так, что Желев прибыл в Москву уже после распада Советского Союза.
Я мало знаю Желева. Не берусь судить, насколько успешно справляется он со своей непростой миссией — обеспечить мирный переход к демократии. Приходится читать о нападках на него, обвинениях в нерешительности, иронических суждениях о «философе на троне». Но факт состоит в том, что в Болгарии обошлось без кровопролития, разгона парламента, авторитарного правления. Очевидно, немалая заслуга в этом президента и, конечно, обновленной Болгарской социалистической партии.
Глава 35. Югославия: расплата за задержку реформ?
Всегда с симпатией я относился к Югославии. Наверное, прежде всего потому, что принадлежу к поколению людей, которые помнят, как в тяжелейшие первые дни Отечественной войны югославы во главе с Иосипом Броз Тито встали вместе с нами против общего врага. В середине 50-х я, как и мои товарищи по университету, с одобрением воспринял предпринятые Хрущевым шаги по нормализации советско-югославских отношений.
Восстановление связей с Югославией оказалось, однако, прерванным уже осенью 1956 года в ходе известных событий в Венгрии, особенно в связи с казнью Имре Надя, который пытался найти убежище у югославов. Вновь налаженные при Брежневе связи были опять отброшены назад в августе 1968 года из-за ввода войск пяти государств Варшавского Договора в Чехословакию. Время брало свое, контакты с годами понемногу входили вроде бы в нормальное русло, особенно заметно множились взаимовыгодные торгово-экономические связи. Но в общей атмосфере отношений давал себя знать холодок взаимной настороженности и подозрительности.
При первых же моих московских встречах с В.Джурановичем, А.Шукрией, М.Планинцем, М.Реновицей и другими руководителями СКЮ и СФРЮ в 1985–1986 годах все больше выявлялась обоюдная заинтересованность в устойчивом, поступательном развитии советско-югославского сотрудничества. В ноябре 1987 года представители СКЮ Б.Крунич и С.Доланц приняли участие в Московской встрече партий и движений. Югославы смогли еще раз убедиться в готовности Москвы к открытому диалогу. Тогда-то и состоялась договоренность о разработке солидного политико-правового документа, который окончательно закрыл бы период враждебности и разлада, стал надежной основой для взаимопонимания и сотрудничества. Речь шла и о том, чтобы авторитетно подтвердить принципы отношений между двумя странами, зафиксированные в белградской 1955 года и московской 1956 года декларациях. Эти документы, связанные с именем Хрущева, оказались отодвинутыми в тень после его отставки, как, впрочем, и все, что было связано с опальным лидером.
14—18 марта 1988 года состоялся мой визит в Югославию. Это был мой первый непосредственный контакт с этой страной. Программа давала возможность помимо официальных мероприятий и мне, и Раисе Максимовне свободно общаться с широкими кругами югославской общественности и просто с людьми на улицах городов Сербии, Словении, Хорватии. Где бы мы ни оказались, везде встречали доброжелательность, открытость, сердечность.
Тогда, в марте 88-го, даже самые прозорливые из моих югославских собеседников не представляли характера нависавшей над страной опасности. Хотя на всех встречах ощущалась озабоченность руководителей Югославии ростом межнациональной напряженности, тревога за будущее.
Югославский застой
Непосредственное соприкосновение с югославскими реалиями подтвердило мои представления о том, что наши страны при всей своей специфике имеют гораздо больше общего, сходного, чем можно было вынести из речей политических деятелей и сочинений советских и югославских идеологов. Пожалуй, некоторой неожиданностью для меня было, что и югославские партнеры по переговорам придерживались того же мнения. Мой собеседник Председатель Президиума СФРЮ Лазар Мойсов тогда сказал: «У нас другой опыт социалистического строительства, однако на практике мы сталкиваемся, по существу, с теми же проблемами, и они стоят острее, поскольку Югославия — открытая страна. Всем гражданам предоставлено право свободного выезда, многие знакомы с западным образом жизни, особенно с его витриной. Отсюда рост потребительской психологии, стремление иметь все, чем располагают люди в развитых капиталистических странах. Но обеспечить это у нас трудно, а сейчас и просто невозможно. Ведь Югославия совсем недавно была одной из самых отсталых стран Европы, национальный доход на душу населения составлял всего лишь 150 долларов. Правда, мы многого добились, высвободив благодаря социализму творческие силы и энергию народа. Но потребности граждан растут быстро, аппетит, как говорят, приходит во время еды».
Ситуацию, в которой оказалась Югославия, он охарактеризовал как период застоя, что связано с ограниченностью ресурсов и неэффективностью общественного производства. Замечу, что тема застоя звучала в устах моих собеседников не слабее, чем у нас. О застойных явлениях и связанном с ними ослаблении единства федерации и Союза коммунистов Югославии говорилось в докладе на XIII съезде СКЮ, об этом много писали политические и общественные деятели, экономисты, социологи. Понятием «застой» чаще всего характеризовали последнее десятилетие.
Тема эта, применительно к Югославии, для меня была, сознаюсь, несколько неожиданной: ведь мы порой, особенно в восьмидесятые годы, не успевали уследить за калейдоскопической круговертью персональных ротаций в СФРЮ, бесконечной чередой различных конференций, съездов, симпозиумов, фестивалей на этом оживленном перекрестке путей с Юга на Север и с Востока на Запад. Но диагноз застоя ставили люди, знающие суть дела, так сказать, не понаслышке, а изнутри.
Из рассказа Председателя Президиума ЦК СКЮ Б.Крунича нам яснее стала картина жизни страны, для которой характерны усиление социальной напряженности, радикализация настроений в пользу перемен, активизация оппозиционных сил. Но выход югославы все же видели не в возврате к централизации, а на путях совершенствования политической системы самоуправления. Людей больше всего беспокоило, что проблемы, возникшие в функционировании политической и экономической систем, долгое время не решаются. В партии, Скупщине, местных органах власти выдвигались требования усилить общественный контроль.
— Вы, Михаил Сергеевич, — говорил Крунич, — неоднократно заявляли о губительности пауз в осуществлении намеченного курса. Вот и мы сталкиваемся с этим. Многие изменения в политической и экономической системе планируем давно, но беда в том, что всякий раз не доводили их до воплощения в жизнь. Мы не ставим под сомнение сознательное, плановое развитие экономики. План и рынок не исключают друг друга. Ведь речь идет о рынке в условиях социализма, о социалистическом товарном производстве.
Что касается предстоящей партийной конференции СКЮ, то мы намерены рассмотреть на ней вопросы укрепления ведущей идейно-политической роли СКЮ, первоочередные задачи по реализации долгосрочной программы экономической стабилизации, назревшие реформы политической системы; пути дальнейшей демократизации внутрипартийной жизни. Как и у вас, наша конференция состоится на полпути между съездами. Больше всего нас беспокоит: почему не выполняются в полной мере решения XIII съезда СКЮ? Как мобилизовать весь интеллектуальный потенциал партии и страны, чтобы обуздать инфляцию? Каким должен быть оптимальный подход к использованию иностранных кредитов? Какой должна быть роль государства в экономической политике?
Крунич высказал желание более основательно обсудить эти вопросы с советскими коллегами. Я, естественно, согласился, тем более что мы в Советском Союзе бились над сходными задачами. Сказал югославским партнерам, что, по моему убеждению, смело идя на децентрализацию управления экономикой, важно сохранить на уровне центра координацию ее развития. Проблема в том, где остановиться в процессе децентрализации, как не нарушить динамическое равновесие, диалектику взаимоотношений центра и мест, федерации и республик, центрального ведомства и предприятий. Центр, безусловно, необходим и полезен для всех, если его функции точно очерчены и правильно реализуются, без него не решить многие принципиальные вопросы, затрагивающие интересы всего общества и государства. Суть дела в том, чтобы, сохраняя эту полезную и крайне важную роль, сочетать с нею самые широкие права и возможности для инициативы регионов, прежде всего самих предприятий.
С руководством СКЮ мы условились, что советские и югославские ученые и специалисты наряду с принципиальными проблемами экономики социализма будут совместно разрабатывать и проблемы демократизации государства, перспективы социализма в современном мире. Югославы считали важнейшей задачей предотвратить перерождение социалистического государства в бюрократическую диктатуру.
Одним из центральных событий визита было мое выступление в Скупщине Югославии. Оно состоялось уже после бесед с руководителями страны. В силу публичного характера этого мероприятия я понимал, насколько важным оно является среди других встреч и бесед для изложения своих взглядов по основным темам двусторонних отношений и мировой политики, проблемам социализма.
Перед лицом парламента и народами СССР и Югославии я считал нужным признать, что добрые отношения между нашими странами были нарушены по вине советского руководства, возникший конфликт нанес большой ущерб и Югославии, и Советскому Союзу, и делу социализма. Далее были сказаны слова, которые обошли всю печать, а в самой Скупщине были встречены аплодисментами: «Я счел необходимым сказать сегодня об этом, чтобы не оставалось настороженности, подозрительности, недоверия, обиды, которые, как показывает история, так легко возникают в отношениях между народами и так трудно потом преодолеваются. Это необходимо и для того, чтобы подчеркнуть значение выводов, которые мы сделали из уроков прошлого. Чтобы твердо и неукоснительно строить наши отношения на основе полного равноправия, самостоятельности, взаимного уважения».
В Скупщине с интересом восприняли мой анализ хода перестройки, рассказ о трудностях на этом пути; оценку процессов, происходящих в мире, и наши взгляды на ситуацию на Балканах и в Средиземноморье.
Всего несколько лет назад трудно было даже вообразить, что вообще станут возможными такие встречи и беседы, да еще на столь высоком уровне взаимопонимания и искренней готовности к сотрудничеству. В этой связи вспоминаю разговор с многоопытным югославским дипломатом Будимиром Лончаром. Он сожалел о том, как много времени и сил было растрачено во времена застоя (советского и югославского) «на состязание традиционного догматизма (скорее всего советского происхождения и образца) с неодогматизмом», под которым имелась в виду зацикленность на подчеркивании достоинств югославской модели социалистического самоуправления.
Между тем, отмечал Лончар, в общественно-политической жизни Югославии создавалось неравновесие между свободой высказываний, свободой мысли, то есть широкой гласностью, с одной стороны, и недостатками демократических институтов — с другой. Значительное неравновесие образовалось и в экономической сфере. Предпринимавшаяся децентрализация экономики ориентировалась на развитие рыночных отношений. Однако, во многом преодолев бюрократизм в центре, столкнулись с ростом республиканского бюрократизма, который тормозил все экономические реформы. Это усугубилось значительным ростом валютной задолженности, структурными проблемами.
Именно республиканский этатизм способствует усилению националистических проявлений и конфликтов — это понимали в Югославии многие. Но понимали, как я убедился, по-разному. В беседе с Председателем Президиума Республики Сербии Грачанином и Председателем ЦК СК Сербии С.Милошевичем явно чувствовалась тревога из-за слабости и малой эффективности федеральных институтов. Сербы в большинстве своем были за продолжение реформ, но такое, которое не подрывало бы центр, федерацию. Руководители крупнейшей республики не без основания опасались, что усиление сепаратистских тенденций и течений, затронув прежде всего интересы граждан сербской национальности, проживающих в федерации, вызовет дестабилизацию всей страны.
В Любляне Председатель Президиума Республики Словения Ф.Попит и Председатель ЦК Союза коммунистов Словении М.Кучан познакомили нас со своим пониманием выхода Югославии и всего социалистического мира из сложившейся к тому времени трудной ситуации.
— Главное, — говорил Кучан, — поднять экономическую эффективность, иначе будет скомпрометирована сама система социалистического самоуправления. Речь идет о творческом применении идей Тито и Карделя, разумеется, с учетом современных условий. А для этого необходимо преодолеть элементы консерватизма и бюрократического сознания, которых много в обществе.
Существенные перемены, по мнению тогдашнего словенского руководства, должны были состоять в дальнейшей децентрализации экономики, придании ей рыночного характера и ориентации на экспорт. В этой связи говорилось о «дерегуляции» экономической жизни, поскольку в Югославии больше, чем в какой-либо другой стране, различных правил и инструкций, регламентирующих хозяйственную деятельность. Ставился вопрос о качественно новом соотношении между политикой и экономикой: господствовать должен экономический интерес, а не государственно-административная логика. Таким образом, подход к экономическим и политическим реформам в Словении представлялся гораздо более радикальным, чем в Сербии.
Самоуправление — не панацея
Председатель Президиума Хорватии А.Маркович высказал мысль о том, что каждая ступень развития социализма требует новых решений, прежние могут быть лишь базой для движения вперед, но не примером для копирования.
Маркович (заслуженный человек, за плечами которого была большая жизнь), развивая свою мысль, сослался на то, что Тито и Кардель освободились от сталинского догматизма и, развивая систему самоуправления, смогли использовать заинтересованность людей в результатах своего труда, обеспечить тем самым заметный рост производства и уровня жизни в стране. Однако ресурс прежних форм сочетания интересов личности и общества оказался исчерпанным. Выход из трудной ситуации — в структурных изменениях экономики, в большей ориентации ее на экспорт, участие в международном разделении труда. Решение этих проблем неизбежно связано со снижением роли государства в оперативном управлении экономикой; она должна сохраняться там, где речь идет о защите интересов общества в целом.
Осмысливая свой опыт и все то, что видел и слышал в Югославии, я поделился своими соображениями в беседе с хорватскими руководителями. Как я тогда считал, полоса, через которую мы сейчас проходим, — решающая для судеб социализма. Важно максимально раскрыть его потенциал, но для этого надо снять шоры, освободить людей от стереотипов. Добиться этого поможет серьезное сопоставление опыта, без чтения нотаций, обмен объективной, а не розовой информацией.
Огромное значение имеют основательные ответы на теоретические вопросы. Без этого не решить ничего капитального на практике. Весь замысел социализма, идущий от Маркса, состоит в том, чтобы ликвидировать отчуждение человека от власти, собственности, результатов труда. Здесь много возникает вопросов: как гармонизировать интересы коллектива и личности, личности и общества, центра и мест. Ясно, что нужны коренные изменения в обществе и государстве. Путь к этому пролегает через глубокую демократизацию всех сфер жизни.
С этим были согласны руководители Югославии. Но оставалось ощущение, что не все тогда было сказано и продумано до конца. Мои собеседники не решались прямо признать, что социалистическое самоуправление, вся система самоуправленческого социализма, не выдерживает испытания временем. Надо признать, что и с нашей стороны разговор еще не был в полной мере свободен от традиционных представлений о социализме как некоей целостной иерархической системе. Хотя, несомненно, вся тональность, направленность наших диалогов состояла в том, что необходимо еще многое переосмыслить и пересмотреть, притом коренным образом.
Не получилось, к сожалению, достаточно глубокого критического рассмотрения проблем федерализма, которые уже тревожно стучались, можно сказать, во все окна и двери СФРЮ и СССР. Видимо, сказалось и то, что ни мы, ни югославы не были готовы к достаточно откровенному разговору по этим острым, болезненным проблемам, имевшим, как казалось тогда, сугубо внутреннее значение.
Руководство Сербии, выступая за реформы при сохранении интеграционных функций центра, за укрепление федеративных связей, исходило из того, что это отвечает интересам сербов, но также и всех народов, народностей страны. И я сейчас подумал вот о чем. В то время как сербские лидеры критиковали федеральные учреждения за их слабость, примиренчество к дезинтеграционным процессам, Ельцин и стоящие за ним силы, пришедшие к власти в РСФСР в 1990 году, критиковали союзные учреждения с прямо противоположных позиций.
Руководство Сербии выступало за сохранение и укрепление суверенитета федерации, не усматривая в этом ущемления суверенитета Сербии и других республик. При этом, конечно, имелась в виду активная роль Сербии, но она не связывалась с борьбой за суверенитет республики, а выражалась в поддержке единства федеративного государства. В нашем же «Белом доме» тогда настаивали на утверждении, по сути дела, абсолютного суверенитета РСФСР, да еще предлагали всем автономным республикам «брать себе столько суверенитета, сколько могут проглотить». Этой позиции придерживались и после путча, хотя тогда Россия должна бы, наоборот, умножить усилия в пользу сохранения Союза.
Горькие плоды нетерпимости
Очевидно, мы имеем дело с двумя крайностями, которые, при всем их различии, привели к одинаковым следствиям.
Я имею в виду попытки, с одной стороны, сохранить практически в нетронутом виде унитарное государство, а с другой — пожертвовать единым государством, под флагом борьбы за идею суверенитета. И это еще одно свидетельство в пользу концепции, которую мы (увы, безуспешно!) стремились осуществить: создать жизнеспособную федерацию как единственно рациональный ответ на требования времени.
Откровенно говоря, масштабы и упорство вооруженных столкновений в Югославии поразили меня еще и потому, что это одна из ведущих участниц Движения неприсоединения, ее политическая элита лучше многих должна была понимать бесперспективность решения региональных конфликтов вооруженным насилием. Ведь прекрасно известны прецеденты Афганистана, ряда стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, да и других регионов. Югославия много делала для преодоления самых тяжелых и затяжных конфликтов политическими средствами, путем переговоров. О перспективности такого подхода мы при полном взаимопонимании говорили с югославскими руководителями во время моего визита в марте 1988 года.
Видимо, националистические страсти и амбиции, стихия противоборства оказались сильнее разума. Ни в республиках, ни на уровне федерации не нашлось влиятельных сил, которые могли бы предотвратить трагедию. И общепартийная конференция в мае 1988 года, и съезд СКЮ в январе и мае 1990 года, и меры по линии правительства не вывели страну на путь новой политики, межреспубликанских отношений, которые позволили бы по крайней мере сохранить мир на югославской земле.
Одной из причин этого стала, очевидно, неудача с радикальным реформированием югославской модели социализма. Потеря времени на динамичном витке истории оказалась невосполнимой. Этот решающий факт дал себя знать, разумеется, не только в Югославии.
Надо сказать и другое. Среди новых лидеров появилось немало людей, спешивших едва ли не любой ценой воспользоваться пьянящими плодами демократизации и либерализма, разрядки и прекращения «холодной войны». Это не всегда ответственно и дальновидно оценивалось некоторыми деятелями Запада, что проявилось и в случае с Югославией. Какая-то суета началась среди западных политиков, многие из них действовали селективно, несогласованно, вразнобой. Одним югославским республикам и деятелям выражались сочувствие и поддержка, от других дистанцировались, а то и открещивались. И не было деятельной общей заботы о главном — о том, чтобы сохранялась живая ткань отношений между южнославянскими народами и народностями. Ведь вместо этого одних брали под руку и обхаживали, а других клеймили и бойкотировали. В результате только нарастало всеобщее противостояние и ожесточение.
Бедствие войны, так долго бушующей в Югославии, на виду у всей Европы, это и свидетельство отставания общеевропейского процесса от потребностей жизни. Европейские структуры подключились к югославским проблемам с явным опозданием, когда потеряны уже многие тысячи жизней, искалечены судьбы огромного числа людей, разрушены города, сожжены сотни селений.
Констатируя это, я должен, конечно, отметить труд и даже личную отвагу таких маститых ветеранов дипломатии, как С.Вэнс, Д.Оуэн, Т.Столтенберг, отдавших немало сил, чтобы развязать туго затянутые узлы югославского конфликта. Важно и то, что ему уделили внимание главы ряда государств, Организация Объединенных Наций. Но факт остается фактом: ныне существующие механизмы СБСЕ слабы, они оказались не в состоянии предвидеть и упредить разгорание столь масштабного и кровопролитного конфликта. А ведь потенциально опасные зоны, где подобное может повториться, далеко не ограничиваются территорией бывшей Югославии, и последствия новых межнациональных конфликтов могут стать еще более пагубными и опасными для всего континента.
К сожалению, намного меньшую роль сыграла Россия, которая и по мощи, и по международному авторитету, и по исторической традиции должна была действовать на этом направлении гораздо более инициативно и последовательно.
Сейчас для всей Европы остро звучит мысль о том, что «в современном взаимозависимом мире безопасность любой страны надежна, если она основывается на безопасности всех». Это как раз из советско-югославской декларации от 15 марта 1988 года. И вот, казалось бы, парадокс: хотя провозглашена она СССР и СФРЮ, которых уже нет, однако целый ряд положений этой декларации сегодня не менее, а, пожалуй, даже более актуален и злободневен, чем в день ее принятия.
Это можно отнести, например, к положению о том, что «мир неделим и взаимозависим, что прогресс одних возможен как часть прогресса всех». К призыву развивать и углублять общеевропейский процесс и к подчеркиванию особой важности соблюдения нерушимости существующих в Европе границ. Это относится и к положениям о связи безопасности Европы и Средиземноморья, которое следует превратить в зону мира и сотрудничества. К требованию полного и повсеместного соблюдения прав человека. И уж тем более актуально звучит призыв к регулированию региональных конфликтов политическими средствами на принципах Устава ООН, при эффективном использовании возможностей этой организации и соблюдении законных интересов всех государств и народов.
Думаю, не утратили своего значения, несмотря на крутые перемены последних лет, и зафиксированные в советско-югославской декларации положения об отношениях между партиями и общественными движениями. Например — об универсальном значении демократических принципов в отношениях между ними, о широком равноправном сотрудничестве, независимо от идеологических различий. О том, что никто не обладает монополией на владение истиной, об отсутствии претензий навязывать кому бы то ни было собственные представления об общественном развитии.
Сложные чувства, непростые мысли приходят ко мне, когда думаю о Югославии, вспоминаю встречи на югославской земле со многими интересными и просто симпатичными в общении людьми. Мы знали, не раз говорили о том, что связывало наши страны и народы в далеком и сравнительно недавнем прошлом. Оказалось очень много общего в наших судьбах сегодня… А завтра? Чем может обернуться для наших народов эта общность судеб, она ведь многомерна? Если мы способны чему-то учиться, усваивать какие-то уроки из жизни собственной, наших друзей и соседей по дому, континенту и планете, то мы уже не игрушка в руках слепого рока. Говоря это, я имею в виду, по крайней мере, один бесспорный урок: быть более открытыми друг другу, и, если верна мысль об общности судеб, значит, больше знать друг о друге.
«Сейчас идут лучшие годы в сотрудничестве наших двух стран», — сказал мне в октябре 1989 года Будимир Лончар, союзный секретарь по иностранным делам СФРЮ. Спустя три года не стало ни СССР, ни СФРЮ. Россия должна теперь заново налаживать отношения с Сербией, Словенией, Хорватией, другими независимыми государствами, возникшими из осколков бывшей Югославии, в том числе, возможно, с тремя Босниями. А они, в свою очередь, открывать дипломатические миссии в Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате и других столицах Содружества.
И все же хочется верить, что в этом «дроблении» не будут утрачены и преданы забвению те живительные токи, которые соединяли Советский Союз с Югославией в годы военных испытаний и возрождению которых я в меру сил способствовал.
Глава 36. Николае Чаушеску: падение самодержца
Наш новый подход к странам, провозгласившим себя социалистическими, с его акцентом на равноправие, суверенитет, невмешательство во внутренние дела открывал возможность поворота к лучшему и в отношениях с Румынией. Эти отношения, и без того непростые, еще больше были осложнены в августе 1968 года вводом войск пяти государств Варшавского Договора в Чехословакию.
Особая позиция
С тех пор Николае Чаушеску, который к тому времени всего лишь три с небольшим года возглавлял РКП, стал дистанцироваться от Советского Союза и всемерно подчеркивать требование уважать независимость и суверенитет Румынии. Это само по себе элементарное требование, повторяемое по любому поводу и даже без всякого повода, превратилось в своего рода заклинание, приносившее двойные дивиденды. «Особая позиция» Румынии поощрялась Западом займами, кое-какими инвестициями, режимом наибольшего благоприятствования в торговле и т. д. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, Чаушеску ловко использовал ее для усиления и без того плотного контроля за поведением и образом мыслей граждан, а по сути дела — установления абсолютной личной власти. Население в массе своей было отделено непроницаемым административным занавесом и от Запада, и от Советского Союза.
С Чаушеску я был знаком еще до того, как стал генсеком. В качестве секретаря ЦК КПСС мне приходилось встречаться с ним, когда он время от времени приезжал в Советский Союз. Его не очень-то жаловали в Москве, не прощали амбициозность и демонстративное заигрывание с Западом. Он же в ответ еще громче заявлял о своих «особых» взглядах, выдвигал претенциозные внешнеполитические инициативы, рассчитанные отнюдь не на практическую реализацию, а на то, чтобы «застолбить» собственную оригинальность. Странное чувство я испытывал, наблюдая за тем, как Чаушеску изо всех сил старался продемонстрировать независимость суждений. Все это было ненатурально, мало-мальски искушенному в политике человеку были видны и масштаб личности, и психологическая неустойчивость.
Я полагал, что стоило попытаться снять конфронтационный оттенок с советско-румынских отношений. Отсюда и мой подход к Чаушеску, с которым я стремился говорить уважительно, внимательно вникать в суть обращений. Признавал, например, большую долю истины в его рассуждениях о том, что напряженность между Москвой и Пекином, по крайней мере частично, объясняется промахами и просчетами советской стороны. А Чаушеску, надо сказать, очень гордился тем, что у него сохраняются хорошие отношения с китайским руководством, и был не прочь выступить в качестве примирителя Пекина и Москвы.
Вообще, роль посредника привлекала бухарестского руководителя. Так, он стремился поддерживать широкие контакты с арабскими деятелями, в том числе с Арафатом, и с Израилем. Наверное, легче перечислить те страны Африки и Юго-Восточной Азии, где Чаушеску не бывал, чем те, которые он посетил со своими широко рекламировавшимися визитами. Не был равнодушным румынский президент и к Движению неприсоединения, явно завидуя популярности в нем Югославии. Эти глобалистские амбиции он повсюду стремился подкрепить установлением экономических связей, предлагая довольно широкий ассортимент румынской продукции, от продуктов нефтехимии, сельскохозяйственных машин, компрессоров, дизельных агрегатов до авиационной техники, автомобилей и тепловозов. Все это выпускали румынские промышленные предприятия, хотя и надрывались от перегрузок и страдали от перебоев с энергией, материалами и сырьем. Румынская экономика была всецело подчинена великодержавным амбициям правителя и все больше уподоблялась немилосердно подхлестываемой, загнанной жестоким ездоком лошади.
О положении в Румынии мне было известно. А с 1986 года стали поступать сигналы о том, что, несмотря на строгое дозирование информации о Советском Союзе, там стал проклевываться интерес к происходящим у нас перестроечным процессам. Все, конечно, понимали, что дело упирается прежде всего в позицию Чаушеску, так много зависело от этого «живого бога», единого его слова. Знали, что на ключевые посты в стране расставлены родственники верховного правителя и его жены (в составе ЦК их насчитывали до 70), что любого неугодного ждет опала. Как только возникал разговор о Чаушеску, пожимали плечами, как бы констатируя, что с этим режимом «все ясно», говорить не о чем.
Но я знал, что Чаушеску стремится к встречам со мной, сознавая необходимость для себя и Румынии (а он, несомненно, был склонен отождествлять себя с Румынией) сотрудничать с Советским Союзом как с мощной соседней державой, не считаться с которой не только неразумно, но просто опасно. За этим стояла и властная экономическая потребность. Прежде всего — в поставках советской нефти, поскольку румынская нефтедобыча не обеспечивала сырьем и половины нефтеперерабатывающих комплексов, возведенных по воле вождя без рационального расчета.
Был у него и другой расчет, который тоже не являлся для меня секретом. Установив хорошие отношения с новым и сравнительно молодым Генеральным секретарем ЦК КПСС и добившись признания с его стороны, он надеялся получить шанс для реализации собственных амбициозных претензий, собственного понимания глобальной политики. Елена Чаушеску как-то сказала не столько в шутку, сколько всерьез, что-де Румыния слишком мала для такого руководителя, как Николае Чаушеску.
Мне приходилось сталкиваться со многими амбициозными людьми. Без известной доли честолюбия и уверенности в себе вообще трудно представить крупного политика. Но Чаушеску в этом смысле был, пожалуй, вне конкуренции. С его губ не сходила высокомерная ухмылка, говорившая собеседнику, что он видит того насквозь и в грош не ставит. Апломб, презрительное отношение к людям, достигшие крайних размеров за десятилетия абсолютной бесконтрольной власти, он, вероятно, сам того не замечая, переносил со своей челяди на равных по статусу партнеров.
Свою особую значительность румынский президент любил демонстрировать на международных форумах. Ни один даже самый высокопоставленный государственный или партийный деятель Румынии, кроме самого Чаушеску, не имел полномочий для окончательного согласования документов, принимавшихся на таких форумах. Так обстояло дело и на совещаниях ПКК Варшавского Договора, документы которого принимались консенсусом. Румынские представители всегда оставляли несколько своих предложений или замечаний, которые могли быть сняты только «самим», а он соглашался на уступки, и то не всегда, только по просьбе Генерального секретаря ЦК КПСС и требовал взамен пару миллионов тонн нефти. Прием этот отрабатывался еще в брежневские времена. Но я из этого драмы не делал. Обычно просто подходил к нему в ходе заседания или в перерыве, брал под руку или за плечи и на виду у всех мы уходили для разговора один на один или с кем-либо из членов наших делегаций. Такая публичная демонстрация его устраивала. Устраивало это и меня, хотя по другим причинам: удавалось не только находить развязки спорных моментов, но в какой-то мере сдерживать непомерные претензии Чаушеску, не поддаваясь на явные попытки шантажа.
Справедливости ради замечу, что некоторые его заявления, рассчитанные на внешний эффект (например, по вопросам разоружения, отношений между Югом и Севером, развитыми и развивающимися странами), при всем их пропагандистском антураже шли в правильном направлении. Тут надо иметь в виду, что бесконечные требования и капризы румын настолько всем надоели, что иной раз их просто слушать не желали, объявляли неприемлемыми их поправки, хотя некоторые содержали в себе «рациональное зерно».
Было еще одно примечательное обстоятельство: встречаясь с Чаушеску, я заметил, что сквозь плотную завесу ставшего уже привычным менторства пробивается все же какая-то тяга к доверительному диалогу, неформальному обмену мнениями, словом, как мне казалось тогда, к нормальному человеческому общению. Правда, это принимало иногда комический оттенок. На совещаниях ПКК его люди следили, когда советская делегация направляется на заседание, — тут же давался сигнал Чаушеску, и он как бы случайно появлялся одновременно с Горбачевым. Помню, во время совещания ПКК в Венгрии мы шли на заседание пешком через парк. Впереди следовала румынская делегация. И вдруг Чаушеску упал прямо на ровном месте. Наверное, ногу подвернул. Ему помогли подняться. Мы поравнялись, я подошел, поинтересовался самочувствием. Тут же, наверное, случайно, как рояль в кустах, оказались телекамеры, в прессу и на телевидение пошла информация о встрече Чаушеску с Горбачевым. Я понимал эту игру. Он хотел показать всем, что Горбачев с ним встречается, беседует, считается.
Никакие личные предвзятости, «прошлые счеты» не отягощали мои отношения с Чаушеску. Я хотел как-то выбрать время для прямого разговора с ним, считал, что у меня хватит и терпения, и аргументов, чтобы, по крайней мере, побудить Чаушеску к переменам, отвечающим духу времени. А самое главное — добиться, чтобы румынское общество приоткрылось для контактов, сотрудничества — там уже заработали бы другие механизмы. Вот, собственно, в чем состоял мой замысел, когда я согласился принять настойчивое приглашение Чаушеску нанести официальный дружественный визит в Румынию. Последний раз Генеральный секретарь КПСС посетил Бухарест в 1976 году.
«Живой бог»
Прибыли мы в столицу Румынии 25 мая 1987 года. Погода была солнечная, теплая. У трапа самолета нас с Раисой Максимовной встречали Чаушеску и его супруга. Был почетный караул, артиллерийский салют, как и полагается при официальных визитах. А вот на пути от аэродрома до резиденции все пошло уже по сугубо специфическому сценарию.
Вдоль всей трассы были выстроены десятки, если не сотни тысяч людей. Меня посадили вместе с Чаушеску в автомобиль с раздвигающимся верхом. Мы вставали и приветствовали толпы, вернее, шеренги встречавших нас людей. На заранее спланированных кратких остановках начинались хороводы, пляски, танцы, песнопения.
Приветствия были отработаны четко: «Чаушеску — Горбачев», «Чаушеску!», «Чаушеску!». Все это в заводном, явно срежиссированном ритме. Впечатление от толп смешанное: одни впадали в какое-то исступление, другие держались довольно безразлично, как усталые статисты. Я чувствовал себя включенным в цирковое представление.
Далее сценарий предусматривал… беседу у камина. Канун лета — на улице, да и в зале, где мы находились, было очень тепло, а у горячего камина просто жарко, впору пиджаки снимать. Но, наверное, хотелось показать по всем телеканалам, что беседа Чаушеску с Горбачевым ничем не уступает беседе у камина Горбачева с Рейганом. Правда, тогда в Женеве стояла поздняя осень и было необычно холодно.
Во время наших переговоров с Чаушеску Раиса Максимовна поехала в город познакомиться с бухарестскими достопримечательностями, пообщаться с людьми. Как только она пыталась с кем-нибудь заговорить, люди моментально ретировались. «Они боятся быть замеченными в разговоре с «иностранцами», — объяснил работник посольства. Я и сам в тот же день столкнулся с этим. В парке Свободы и на площадях Бухареста мы возлагали венки в память о советских и румынских воинах, погибших при освобождении страны. После возложения венков я подошел к жителям столицы, чтобы поговорить с ними, но никакого разговора не получилось. Я был просто поражен: надо же было так «усмирить» людей с южным темпераментом, по природе открытых и склонных к общению!
На следующий день во Дворце Республики состоялся митинг румыно-советской дружбы. Огромный зал, тысячи на три мест, заполнен до отказа. Все партийное, общественное и государственное руководство, масса молодых подтянутых людей, все как на подбор, похоже, военные, одетые в штатское платье. Аудитория предельно сосредоточена, внимательно ждет сигнала. В зал входят Чаушеску с супругой и я с Раисой Максимовной. Все встают и скандируют: «Чаушеску — Горбачев! РКП — КПСС!», «Чаушеску, Чаушеску!».
Выступает Чаушеску, и опять все встают и аплодируют, выкрикивают лозунги — по ходу речи пришлось вставать 27 раз. Выступления его всегда были и длинными и, прошу прощения за откровенность, довольно нудными, с поучениями и перечислением всяческих достижений. Особенно много Чаушеску говорил о «рабоче-революционной демократии» в Румынии, о том, что в стране давно развертывается рабочее самоуправление и «хозяйствование». Здесь был явный подтекст — мол, в Румынии демократизация началась еще двадцать с лишним лет назад, с приходом к власти Чаушеску, и, так сказать, «план по демократии» успешно выполняется. Кстати, и на митинге «управление демократией» было отработано до деталей. Аплодисментами, началом и окончанием скандирования дирижировал второй секретарь ЦК Бобу.
Перед визитом мы обсуждали, как построить речь на этом центральном мероприятии. Сочли разумным просто рассказать о том, что происходит в Советском Союзе. Наблюдая весь этот спектакль, я подумал, не стоит ли изменить выступление, но по размышлении решил ничего не менять. Зал слушал очень внимательно, но как-то настороженно. Видимо, под пристальным взором начальника люди просто опасались реагировать — не дай Бог, что-то будет невпопад. Как мне потом сказали, все обратили внимание, что Горбачев только один раз обратился к Чаушеску и то без славословий. Ему это не понравилось, но виду не подал. Хотя потом не удержался, высказал-таки недовольство.
Весь ход моих переговоров и бесед с Чаушеску показывал, что его беспокоит, прямо-таки гнетет начавшаяся у нас перестройка. И больше всего — осуждение сталинизма, диктаторских методов, административно-командной системы. Все это рикошетом било по режиму Чаушеску. Несмотря на попытки прикрыть диктаторскую сущность своего самовластия разного рода псевдодемократическими организациями — бесчисленными «фронтами», «советами», совещаниями, конференциями и т. п., — ему все труднее и труднее удавалось это делать.
Со своими критиками и противниками румынский лидер расправлялся решительно, хотя использовал для этого такой благовидный предлог, как ротация кадров. Применялись и просто репрессивные меры. До предела была доведена система слежки, сыска, доносительства. С политической сцены устранялись многие способные люди, не желавшие превращаться в послушные манекены и винтики. Так обошлись и с Ионом Илиеску, который возглавил впоследствии Фронт национального спасения Румынии и был избран президентом. Гонениям подвергались ветераны партии, люди творческого труда, осмеливавшиеся высказать собственное мнение или даже малейшее несогласие с режимом.
Трагикомично выглядело стремление Чаушеску убедить меня в том, что в Румынии действует самая демократичная система выявления и реализации интересов и воли трудящихся. Он показывал мне, а потом и присылал в Москву какие-то бумаги — отчеты, протоколы, решения, которые характеризовали деятельность разного рода общественных советов и партийно-государственных комитетов, собиравшихся под его руководством. Зачем, говорил он, передоверять все прессе, средствам массовой информации, если вот собираются представители трудящихся у меня по тому или иному вопросу и все решается. Вот это, мол, и есть непосредственная «революционно-рабочая демократия».
Но ведь я, как говорится, собаку съел на разнообразных многолетних попытках привлечения общественности к управлению государством и производством на всех уровнях. Но пока сохранялась авторитарно-бюрократическая система, все эти попытки были в конечном счете бесплодны.
Не могу, конечно, отрицать полезную работу профсоюзов, комсомольских организаций или, скажем, общества «Знание», союзов творческой интеллигенции, тех же производственных совещаний на многих предприятиях. Но в целом эти и другие общественные организации выполняли роль тех самых «приводных ремней», которая им предназначалась. С их помощью поддерживалось монопольное положение правящей партии, а точнее, узкой группы, связанной своего рода круговой порукой. А там, где монополия, неизбежны произвол, застой, деградация, и никакими псевдодемократическими декорациями этого не скрыть.
Все эти свои соображения, подкрепленные фактами, я стремился в достаточно корректной форме довести до сознания собеседника. Признаюсь, успеха не добился, но для меня тогда было важно показать Чаушеску, что наш курс на перестройку, гласность, демократизацию глубоко выстрадан, избран совершенно сознательно и непременно будет продолжаться. Что же касается его рассуждений о «рабоче-революци-онной демократии», я совершенно определенно дал ему понять, что нисколько не заблуждаюсь относительно ее истинного смысла.
У камина
Вечером 26 мая Чаушеску с супругой пригласили меня и Раису Максимовну в правительственную резиденцию. Опять огонь в камине. Цветы. Стол накрыт по всем правилам этикета. Угощение отменное. Словом, все располагало, казалось бы, к непринужденной дружеской трапезе. Но Николае вскоре опять взялся за свое менторство и стал подбрасывать мысль, что, мол, слишком много выдвигается в последнее время разных инициатив, адресованных Западу. А подоплека этого «захода» состояла в том, что внешнеполитические инициативы самого Чаушеску не получали в мире того отклика, на который он претендовал. Причиной прохладного отношения не в последнюю очередь был слишком уж пропагандистский характер такого рода предложений. Понять же, что мир, вся современная международная реальность требуют теперь совершенно иного подхода, не пропагандистского, а вполне делового, Чаушеску не хотел или уже не мог. Он ревниво относился к международным инициативам, выдвигавшимся другими государствами ОВД.
Между прочим, в высказываниях Чаушеску невольно проявилась озабоченность быстрым ростом международного авторитета нового советского руководства и его политики, которая начинала проявляться и среди крайне консервативных кругов в некоторых западных государствах, в том числе в США.
Вновь зашел разговор о перестройке в Советском Союзе. Чаушеску болезненно воспринимал чрезмерно резкую, как он считал, критику сталинизма, командной системы, сокрушался по поводу гласности, свободы печати. Тогда я ему говорю:
— Знаете, Николае, я понимаю, вам трудно воспринимать то, что у нас происходит. Вы ведь из числа руководителей-ветеранов, более двадцати лет бессменно находящихся у власти. Это, конечно, незаменимый опыт. Но есть и опасность накопления негативного поведенческого материала, инерции мышления, неспособности чутко воспринять новую обстановку, потребности жизни. К вашим настороженным оценкам ситуации в Советском Союзе я отношусь спокойно, они меня не смущают. Тем более что я не требую от вас, как бывало в прежние времена, следовать нашему примеру. Делайте у себя, что считаете нужным, и сами за это отвечайте. А мы будем поступать так, как требует обстановка в нашей стране. Страна уже не может жить, как раньше. Люди хотят перемен и всячески их поддерживают.
Чаушеску, выслушав, как-то замолк. Елена постаралась переключить разговор на другую тему, чтобы разрядить обстановку. А Раиса Максимовна, желая подкрепить мою аргументацию, говорит:
— А знаете, товарищ Чаушеску, сколько писем приходит Михаилу Сергеевичу?
Он спрашивает:
— Сколько?
Она:
— До трех-четырех тысяч в день, со всех концов Советского Союза, и в большинстве выражается поддержка перестройке. Люди требуют проводить ее более решительно, пишут, что перемены, особенно на местах, идут слишком медленно.
В ответ на реплику Раисы Максимовны Чаушеску язвительно заметил, что, будь он гражданином СССР, тоже написал бы письмо Михаилу Сергеевичу с пожеланием меньше заниматься международными вопросами, а побольше — внутренними, проявляя осторожность в вопросах демократизации и гласности. Тут уж и я сдерживаться и деликатничать не стал:
— То, что вы выдаете у себя за общество благоденствия и гуманизма, на мой взгляд, не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим, не говоря уж о демократии, — всю страну держите в страхе, изолировав ее от окружающего мира.
Дискуссия пошла настолько шумно, что кто-то из помощников или распорядителей дал команду закрыть окна, распахнутые в теплую ночь, и отодвинуть в глубь парка охрану — свидетели ни к чему. Николае пытался возражать, нервничал, но ничего убедительного сказать, конечно, не мог. Вечер был основательно попорчен. Тем не менее условились, что на следующий день чета Чаушеску покажет нам Бухарест.
«Потемкинские деревни»: румынский вариант
В центре столицы возводился комплекс высотных зданий, предназначенных для политико-административных учреждений, строилось и жилье. На это были отпущены огромные средства, строители снимались с других объектов. Президент вознамерился увековечить себя превращением Бухареста в морской порт, в своего рода румынский Манхэттен. Для этого было начато строительство колоссального судоходного канала Бухарест — Дунай протяженностью около 90 километров.
Он повез нас на плотину, показывал, что и где будет сноситься и строиться заново. Рассказывал о создании агрогородов, которые, мол, решат все проблемы сельского хозяйства и обеспечат новый быт крестьян. Я спрашиваю: разумно ли крестьян от земли отрывать? Сгонять их с обжитых мест, где они родились, где могилы их дедов? Рассказываю ему о нашем печальном опыте ликвидации «неперспективных деревень» в Нечерноземье.
Но Чаушеску ничего слушать не хочет, глаза горят:
— Нет, мы созрели для новой аграрной революции, агрогорода — это единственный прогрессивный путь.
Дело еще и в том, что он таким образом хотел приглушить или даже снять проблему венгерского национального меньшинства, поскольку переселению из своих родных деревень подлежали также и сельчане венгерской национальности. Их таким образом хотели искусственно перемешать с румынскими крестьянами. Но я думаю, это не только не снижало, но еще больше обостряло, разжигало национальные чувства — ведь известно, что этнические меньшинства особенно остро переживают насильственный их отрыв от родных мест.
Ошибки в инвестиционной политике привели к огромным объемам незавершенного строительства и росту числа незагруженных промышленных предприятий. Резко отставала энергетика, в результате вводились все новые ограничения на потребление электроэнергии, вплоть до того, что телевидение работало всего по два-три часа в сутки. Тяжелым испытанием для населения стала форсированная выплата долгов Западу.
Все лучшие промышленные товары и продовольствие гнали на экспорт, внутреннее потребление нормировалось. Нам решили показать продовольственное изобилие, однако не на рынке, в посещении которого было отказано со ссылкой на неготовность службы безопасности, а в магазине. Приехали туда в сопровождении «самого». Магазин большой, высокие окна, словно стеклянные стены. Покупателей внутри нет, а снаружи огромные толпы людей. Ассортимент отменный, одних колбас и мясных изделий не меньше сорока видов, разнообразные сыры и все прочее. Но едва мы уехали, с прилавков большую часть продуктов убрали и увезли. А хлынувшие в магазин люди мгновенно разобрали что осталось. Эту сцену наблюдали и рассказали мне потом работники нашего посольства. Оказалось, это была передвижная, как у нас говорят, потемкинская деревня.
Нас привезли в бухарестский политехнический институт, расположенный в новом районе. Все спланировано и построено очень неплохо — учебные корпуса, общежития, жилье для преподавателей. Но грустно было видеть молодых людей, кричащих без умолку: «Чаушеску — Горбачев! Чаушеску — Горбачев!». Подхожу к ним, пытаюсь заговорить, а они продолжают кричать. Беру за руки, обращаюсь несколько раз: «Подождите, подождите!», «Ну, остановитесь!». Начинаю разговор. В ответ пара фраз и снова выкрики: «Чаушеску — Горбачев!». Так и не удалось вступить в контакт.
Тяжелое впечатление осталось от поездки в Румынию. Но для меня это был еще один аргумент в пользу перестройки: надо навсегда уходить от насильственного «осчастливливания» общества, от системы запугивания, оболванивания, манипулирования людьми. С этими мыслями я покинул Бухарест в мае 1987 года.
Между тем из Румынии стали поступать вести о протестах рабочих на ухудшение условий жизни и труда. Некоторые выступления принимали массовый характер, в частности, на заводе грузовых автомобилей в Брашове; участники, как сообщалось в румынской печати, были наказаны.
Сталкиваясь с трудностями во внутренней и внешней политике, Чаушеску предпринял попытку пойти на существенное расширение экономического сотрудничества с Советским Союзом. В ноябре 1988 года он приехал с ответным визитом в Москву. Румынский президент и на этот раз настойчиво добивался увеличения советских поставок нефти. Он постоянно жаловался на то, что мы якобы дискриминируем Румынию, поскольку продаем ей нефти меньше, чем другим странам СЭВ. Но главная причина здесь была не в политике.
До Второй мировой войны Румыния была одним из важных поставщиков «черного золота» на европейский рынок. С учетом этого другие страны СЭВ действительно получали больше советской нефти. Но, как я уже говорил, в результате амбициозных планов румынского руководства в стране было построено много предприятий, нерасчетливо ориентированных на импортную нефть. Мы не могли удовлетворить этих потребностей. Была возможность в какой-то мере смягчить эту проблему для Румынии да и других стран на путях углубления кооперирования и специализации производства в рамках СЭВ. Но это требовало высокой степени самостоятельности предприятий, прямых связей между ними, создания своего рода общего рынка стран СЭВ. И вот это-то и пугало Чаушеску. Он боялся потерять свой тотальный контроль над всем и вся в собственной стране.
Кое-что, правда, удавалось сделать постольку, поскольку румынская сторона поставляла в обмен на нашу нефть свои валютные товары, нефтяное оборудование, принимала посильное участие в развитии наших нефтегазовых регионов. Но масштабы такого сотрудничества были сравнительно невелики. Чаушеску же предложил увеличить румыно-советский товарооборот сразу вдвое — с 5 миллиардов рублей до 10 миллиардов. И уговаривал меня зафиксировать это политическим решением на высшем уровне.
Это было в его стиле — навязывать жизни свою волю, не считаясь с реальными возможностями. Обращаясь с этими предложениями ко мне, он, видимо, экстраполировал румынскую ситуацию на нашу, а в Румынии было принято так: что сказал Чаушеску, тому и быть. Но у нас уже так дела не делались, каждый крупный вопрос становился, как правило, предметом экспертных оценок, обсуждения и, наконец, коллективного политического решения. И на этот раз я сказал: «Мы должны все хорошо просчитать и будем делать лишь то, что реально в наших силах».
Предчувствие краха
На заключительной встрече один на один я рассказал о решениях XIX общепартийной конференции, подготовке к переходу всех промышленных предприятий с 1989 года на хозрасчет, обрисовал ситуацию в национальных отношениях. Чаушеску поблагодарил за откровенную информацию и, сославшись на цитату из Ленина, заявил, что социализм строится в разных странах в соответствии с национальными условиями и он будет следовать этому правилу.
После всех бесед я окончательно убедился, что пойти путем демократизации, гласности, обновления Чаушеску просто не в состоянии. Первые же шаги по такому пути поставят вопрос о смене режима и о нем самом. Думаю, он и сам это понимал.
Во время неофициального ужина в Ново-Огареве, на котором мы были с супругами, румынский лидер по своей инициативе затронул некоторые вопросы истории применительно ко дням сегодняшним. По его мнению, в советской литературе односторонне освещалась роль Сталина в строительстве социализма в СССР. Акцент, мол, делается на критику допущенных им ошибок без учета сложной обстановки того времени, исторического и международного контекста. Сталин останется в истории хотя бы потому, что выиграл войну с фашизмом и отстоял социализм. Его развенчание может повредить авторитету партии и престижу социалистического строя.
На это я возразил Чаушеску, что именно в историческом контексте у нас оценивается роль Сталина, никто не собирается его выкинуть из истории. Но мы располагаем документами, помогающими восстановить подлинную картину того времени. Многое можно объяснить и даже оправдать ссылкой на сложность положения в мире, внутренние трудности. Однако нет никаких оснований для оправдания и прощения развязанных им кровавых репрессий. Был истреблен цвет нации, уничтожены выдающиеся политические деятели, талантливейшие люди в армии, науке и культуре, многие подверглись остракизму, прошли через ГУЛАГ. Были подвергнуты репрессиям 90 процентов делегатов XVII съезда партии. Колоссальный урон стране нанесен массовыми репрессиями против крестьянства.
Чаушеску, выслушав это, почувствовал уязвимость своей позиции. Он сказал, что много читал об этом периоде, знал о репрессиях, но не думал, что они носили столь массовый характер. Лично он не является защитником Сталина, но «насилие и жертвы неизбежны в любой революции». К этому, пожалуй, и сводилась его личная философия, позволявшая оправдать собственную жизнь и собственный режим. И всего через год с небольшим она аукнулась страшным приговором самому Чаушеску.
Едва ли не впервые Чаушеску заговорил тогда в Москве о «революционной солидарности» между нашими партиями и народами, призвал «найти время для углубленного анализа актуальных проблем социалистического строительства», стал настаивать на созыве Рабочей встречи руководителей партий соцстран не позже октября 1989 года.
— Конечно, — говорил он, — выводы, к которым она придет, не будут носить обязательного характера, но, если их примут все, это будет очень важно. Каждая партия сможет их использовать так, как сочтет нужным. В этом случае совещание сыграет благотворную роль. Надо сейчас сотрудничать как можно сплоченнее, вместе преодолевать трудности, чтобы успешнее двигаться вперед. Действуя в духе солидарности, мы сумеем утвердить мощь социализма в наших странах и во всем мире.
Все эти непривычные в его устах призывы к сплочению звучали странно, словно кто-то его подменил, словно перед нами был совершенно не тот человек, который так долго был просто несносен для партнеров из-за постоянных поучений, бесконечного повторения заклинаний о независимости, суверенитете и невмешательстве. И я понял, что за этим внезапным всплеском стоял панический страх перед переменами в соцстранах, попытка задержать их. Может быть, даже предчувствие того, что Румынии не остаться в стороне от новых веяний, а значит, приходит конец его самовластию.
Меня нередко спрашивали и в те годы, и в последнее время: почему СССР не вмешался в румынскую драму, не содействовал уходу диктатора?
Повторяю еще раз: не вмешивались, потому что это противоречило принципам новой нашей политики. Вмешательство, которое предпринималось ранее, в конечном счете оборачивалось ущербом или даже пирровой победой для нас самих — это уроки Венгрии 1956 года, Чехословакии 1968 года, Афганистана 1979 года. Ни в одном случае советское руководство не пошло на нарушение провозглашенных в 1985 году принципов отношений с нашими союзниками и соседями. Руководствуясь ими, не пошли мы и на то, чтобы подключиться к оппозиции против Чаушеску, которая поднимала голову в Румынии. Сигналы о формировании в румынском обществе критической массы неприятия режима были.
В конце ноября 1989 года состоялся XIV съезд РКП. Он был назван «съездом великих побед, торжества социализма, полного проявления независимости и суверенитета Румынии». Делегацию КПСС возглавлял Воротников. Рассказывая на Политбюро о своих впечатлениях, он не мог сдержать изумления тем, что пришлось увидеть и услышать в Бухаресте:
— Я будто оказался в далеком прошлом, попал в какой-то совершенно иной, странный мир. Все вращается вокруг одного человека. Никакой мысли, одни заклинания и славословие. Сорок три раза зал вставал во время речи Чаушеску, ревели здравицы и гремели аплодисменты. — В том, что рассказывал Виталий Иванович, для меня не было ничего принципиально нового. Ново было то, как реагировал на все увиденное в Бухаресте сам Воротников. Это радовало.
Последний раз я видел Чаушеску 4 декабря 1989 года в Москве. В Доме приемов на Ленинских горах по моему предложению собрались руководители государств — участников Варшавского Договора. Я подробно информировал их о своих переговорах с президентом США Дж. Бушем, состоявшихся на Мальте 2–3 декабря. Партнеры позитивно восприняли мое сообщение, высказались за коренную трансформацию ОВД, превращение ее из военно-политического союза в преимущественно политический союз.
Состав участников московской встречи отражал бурные перемены, проходившие в Восточной Европе. Среди прибывших было немало новых лиц. Это и Петр Младенов, ставший к тому времени Председателем Государственного Совета Болгарии, и Ханс Модров — Председатель Совета Министров ГДР, и Миклош Немет — Председатель Совета Министров Венгрии, и Тадеуш Мазовецкий — Председатель Совета Министров Польши, и Ладислав Адамец — Председатель Правительства Чехословакии.
Сразу после окончания встречи я беседовал с Чаушеску. Он производил несколько странное впечатление: блеск в глазах, состояние некоей одержимости и вместе с тем какая-то заторможенность реакции. Его пугал ход событий, он интересовался моим мнением на этот счет.
Я сказал, что при всей противоречивости и болезненности этих процессов в них, по моему убеждению, доминируют перемены демократического характера, и уже поэтому нет оснований для утверждений о крахе или конце социализма.
Генсек РКП вновь предложил провести совещание коммунистических и рабочих партий.
— Требуются ответы на новые вопросы, — сказал он. — Люди спрашивают, почему либералы, консерваторы, социал-демократы встречаются, а коммунисты нет? Пусть даже не все приедут. Пусть нас будет мало, но мы должны, как Ленин в 1903 году, поднимать знамя революции и социализма.
Мой ответ был кратким:
— То, что сейчас надо делать, Николае, мы делаем своей перестройкой.
Ответ для него был неожиданным.
— Да, — сказал он, волнуясь и заикаясь, — она способствует повышению престижа социализма, но в ней есть как хорошие, так и не очень хорошие стороны. Совершенствование и обновление общества необходимы, но в том, что происходит в некоторых странах Восточной Европы, есть угроза социализму, судьбе компартий, последствия могут быть самые тяжелые…
Он продолжал говорить: «Советский Союз должен…» Я пристально смотрел в глаза собеседнику. Чаушеску, почувствовав мое состояние, сделал небольшую паузу и продолжил так:
— Конечно, не военным путем, а выработкой каких-то новых ориентиров оказать свое влияние. Следует серьезно задуматься над тем, как действовать в некоторых социалистических странах.
На это я твердо заявил собеседнику:
— Знаете, товарищ Чаушеску, есть, разумеется, вопрос, кому как действовать, но есть и вопрос о том, кто и почему так долго бездействовал или действовал совсем не так, как давно уже требовало время. Кто мешал Хонеккеру или Якешу при относительно высоком уровне благосостояния и стабильности в этих странах продвигать процессы демократизации, которые отвечали ожиданиям общества. По-дружески я не раз говорил Хонеккеру: «Не просмотрите, что назревает в стране». Но он просто уходил от откровенного разговора. Представляю, как вы, Николае, встречаясь с ним, прохаживались по моему адресу, ругали перестройку. Я признаю ваше право иметь собственное суждение. Но сколько же вы времени из-за этого потеряли! Собственно говоря, и у нас в СССР многие беды от запаздывания.
Чаушеску трудно было что-то возразить. Он только сказал, что они с Хонеккером не критиковали меня, а обменивались мнениями, выразил сожаление в связи с тем, как поступили с Эрихом.
Весь день Чаушеску находился в состоянии огромного волнения, когда же волновался, ему труднее было говорить — усиливалось заикание. Он старался договорить начатое до конца, и все лицо при этом болезненно искажалось.
В самом конце беседы Чаушеску спросил:
— Вы любите охоту? — В ответ я сказал, что уже не помню, что это такое.
— Вот, приезжайте, мы вместе поохотимся, у нас для этого очень хорошие условия, — сказал он и слабо улыбнулся. Может быть, хотел показать этим уверенность в своем положении в стране? Спустя две с половиной недели в Румынии разразились трагические события.
Заявления о прочности, стабильности, рассказы об огромных успехах — все это делалось для публики, мало сведущей в истинном положении дел. Но сам Чаушеску, думаю, чувствовал опасность своего положения и понимал, что ему многое не простится. По крайней мере, этого не могли не понимать в его ближайшем окружении, не могла не понимать Елена Чаушеску. Выбор у них был до крайности узок — либо добровольно отдать себя на суд новой власти, либо идти ва-банк и стрелять в демонстрантов, в народ, попытаться где-то переждать, куда-то сбежать. Первый путь требовал мужества, ко второму толкали страх и ставшая бессильной привычная самонадеянность.
22 декабря режим Чаушеску, бессменно правивший Румынией четверть века, оказался опрокинут массовым гражданским выступлением, поддержанным армией. 25 декабря Николае и Елена Чаушеску, по приговору специального суда, за преступления перед румынским народом были расстреляны. Конец трагичен и для Чаушеску, и для народа. Я не приемлю мести, всего того, что делается по этому низменному позыву. Не приемлю расправ, тем более кровавых. Но сознание того, что приказ стрелять в народ исходил от Николае Чаушеску, не позволяет осуждать тех, кто взял на себя так решить его судьбу.
Глава 37. Хонеккер: отказ от перестройки
Форпост социализма в Европе
И для Советского Союза, и для ГДР их взаимоотношения имели особое значение. Достаточно напомнить, что в ГДР размещалась самая мощная группировка советских войск, что первая немецкая республика рабочих и крестьян, как ее именовали с трибун в дни торжественных годовщин, являлась важнейшим звеном Организации Варшавского Договора, «форпостом социализма в Европе».
Оба государства были крупнейшими экономическими партнерами друг для друга — ежегодный товарооборот в конце 80-х годов достигал 14–15 миллиардов рублей. Огромную роль сыграли связи между СССР и ГДР в непростом послевоенном примирении, развитии взаимополезного сотрудничества немцев с русскими, другими народами Советского Союза.
В общем-то, все это хорошо понималось и ценилось политическим руководством в Москве и Берлине. Правда, понималось и теми и другими в разные времена по-разному. В Москве при самых добрых отношениях считали, что за немцами нужен «глаз да глаз». Ни Вальтер Ульбрихт, ни Эрих Хонеккер отнюдь не были марионетками Москвы, как это нередко изображалось или казалось на Западе.
Просто оба они в чем-то напоминали тех католиков, которые считали себя большими католиками, чем сам Папа Римский. Но времена менялись, требовала перемен и политика на этом направлении. Наш новый подход к союзникам в полной мере распространялся и на ГДР.
Хонеккера, пришедшего к руководству СЕПГ в 1971 году, и Брежнева на протяжении ряда лет связывали большие взаимные симпатии. Они нравились друг другу. Хонеккеру импонировал брежневский стиль, оба были неравнодушны к торжественным церемониям, награждениям и иной атрибутике власти. По мере того как Леонид Ильич старел, начал сдавать физически, Эрих стал чувствовать свое интеллектуальное превосходство над ним, и это тоже ему нравилось. А когда Брежнева не стало, у Хонеккера проявились амбиции на ведущую роль в мировом коммунистическом движении.
Но главное — Хонеккер исходил из того, что под его руководством ГДР достигла выдающихся успехов: вошла в первую десятку экономически развитых стран мира, стала великой спортивной державой. И хотя, как оказалось в дальнейшем, эти успехи были сильно преувеличены, а кое в чем и фальсифицированы, действительно, достижения граждан ГДР, поднявших свои города и села из руин и пепелищ, сумевших обеспечить себе более высокие жизненные стандарты, чем в других социалистических странах, говорили о многом.
Вот тут-то — на почве этих реальных и мнимых, чисто пропагандистских успехов произошел своего рода психологический и политический сдвиг. Хонеккер стал утрачивать способность к адекватной оценке перемен в мире и в самой ГДР, непомерно преувеличивать собственную роль. Национальные интересы нередко истолковывались настолько широко, что это входило в противоречие с возможностями страны.
Я далек от намерения проводить параллель между режимами, существовавшими в ГДР и Румынии. Если последний в известной мере наводил на мысль о восточной деспотии, то первый был, скорее, образцом «казарменного коммунизма». Жесткая «вертикальная» дисциплина, не доводимая, однако, до абсурда, оставлявшая известное поле для инициативы местных властей. Такое же, как в стране «праматери социализма», монопольное положение компартии, но с несколько большей, сохранившейся по традиции внутрипартийной демократией. Полицейский контроль за поведением граждан, но относительно благоприятные условия для частного быта. Засилье милитаризма, но самый высокий в соцсодружестве уровень жизни.
В отличие от Чаушеску Хонеккер не допускал грубого произвола в отношении кадров. А основной состав Политбюро ЦК СЕПГ сохранялся почти без изменений на протяжении многих лет. Правда, была попытка убрать с поста «мятежного» первого секретаря Дрезденского обкома Модрова, носившегося, по словам Курта Хагера, со своими «перестроечными фантазиями», но в связи с обращением Москвы она так и не была осуществлена. Политбюро действовало регулярно, и на его заседаниях обсуждались вопросы внутренней и внешней политики. При всем этом в ГДР была-таки единоличная власть Генерального секретаря, и с каждым годом она становилась все уверенней, крепче, абсолютной. Коллеги по руководству могли высказывать ему свое мнение, но не смели оспаривать его право выносить окончательное решение.
Встречался я с Хонеккером достаточно часто, использовал любую возможность для бесед и обмена информацией. В апреле 1986 года, учитывая особые отношения с ГДР, я, несмотря на предельную занятость внутренними делами, решил все-таки слетать в Берлин на XI съезд СЕПГ. Это было мое второе посещение республики. О поездке в 1966 году я уже рассказывал. Основное время ушло на участие в работе съезда и официальных мероприятиях. Было много встреч и бесед с делегациями других коммунистических и рабочих партий. Все оставшееся время я использовал для знакомства с жизнью столицы и близлежащих регионов.
За двадцать лет произошло много изменений к лучшему. Сильно обновился облик Берлина. Мы ознакомились с центральной частью столицы, претерпевшей основательную реконструкцию, архитектурным ансамблем на площади Академии, концертным залом «Шаушпильгаус», памятником К. Марксу и Ф. Энгельсу. Везде нас тепло встречали, но в особой степени это проявилось при посещении района новостроек в Марцине. С нами постоянно были Г.Миттаг, Г.Шабовский, обер-бургомистр Берлина Э.Крок. В Центральном институте социалистического ведения хозяйства при ЦК СЕПГ в районе Рансдорф состоялась оживленная дискуссия по проблемам социалистической экономики членов делегации и собравшихся там ученых, прежде всего о том, как соединить план и интересы производителя.
Хозяева проявили внимание к Раисе Максимовне, предложив ей отдельную программу. В сопровождении Эрики Кренц она побывала в знаменитом музее «Пергамон», совершила поездку в Потсдам и Дрезден, на всемирно известный Майсенский фарфоровый завод. В Музее Брехта она встретилась со многими деятелями культуры, среди которых были дочь поэта Барбара Брехт, знаменитая актриса Гизела Май, президент Академии искусств страны — Векверт.
Словом, эта моя поездка в ГДР в связи с XI съездом СЕПГ оказалась весьма удачной с точки зрения общения с людьми. Главная тема и моего выступления на съезде, и бесед с Хонеккером — как сделать более динамичным наше сотрудничество в экономике, политике, культуре, межпартийных отношениях. Об этом же мы говорили снова в октябре 1986 года, когда по случаю открытия памятника Эрнсту Тельману в Москву приехали Хонеккер, Председатель ГКП Г.Мис и Председатель Социалистической единой партии Западного Берлина Х.Шмитт.
Довольно скоро мы с Эрихом перешли на «ты». Но вполне открытые и доверительные отношения между нами не сложились. Хонеккер, как мне казалось, испытывал какое-то напряжение и никак не мог выбраться из сюртука официалыцины. Но более всего я был удивлен, что о наших беседах он довольно скупо и избирательно информировал своих коллег. Я же, как и во всех других случаях, протокольные записи наших встреч без всяких изъятий направлял всем членам советского руководства.
По мере того как у нас разворачивалась перестройка и расширялась гласность, Хонеккер все более настораживался. И хотя в беседах со мной проявлял сдержанность, чувствовалось явное неприятие демократических перемен. Да и многие в руководстве ГДР весьма болезненно воспринимали происходившие в Советском Союзе процессы.
Расхождения стали особенно заметны в 1987 году после нашего январского Пленума ЦК. Лично Хонеккер распорядился не публиковать материалы Пленума. На черном рынке, как говорится «с рук», «Правда» с докладом Генерального секретаря ЦК КПСС расходилась по самой высокой цене. Сообщения из Советского Союза начали подвергаться политической цензуре, резко урезались, а то и изымались вовсе. Затем последовал запрет на распространение таких московских изданий, как «Спутник», «Новое время». Нарастало взаимное непонимание и даже отчуждение.
В конце мая 1987-го я оказался на заседании ПКК в Берлине. Оно было посвящено рассмотрению обстановки в Европе и мире. Участники встречи были согласны с необходимостью новых подходов к вопросам войны и мира, к решению глобальных проблем, региональных конфликтов и т. д. Было заявлено, что кардинальной задачей мировой политики является предотвращение войны. В этой связи было сказано о практических шагах, на которые готовы пойти страны ОВД в области разоружения. Там же состоялось подписание документа «О военной доктрине государств — участников ОВД». Этому предшествовала большая работа политических инстанций, военных, дипломатических и других ведомств стран Варшавского Договора. По завершении ПКК состоялась закрытая беседа руководителей делегаций, на которой я почувствовал, что не только Хонеккер, но и еще кое-кто из моих коллег решения январского Пленума ЦК приняли настороженно.
Дни заседаний ПКК были приурочены, по просьбе Хонеккера, к 750-летию Берлина, и все участники разделили радость берлинцев по этому случаю. Руководство СЕПГ к этой дате развернуло весьма претенциозную выставку достижений ГДР в области высоких технологий. Как нам говорили сами же немцы, это был ответ на перестройку — знай наших: «Вы там занимайтесь своей демократией, а мы — техническим прогрессом».
А вот впечатления Раисы Максимовны сильно отличались от моих. Она съездила в Котбусский округ в знаменитый Шпреевальд. В Берлине Раиса Максимовна как член президиума Советского фонда культуры встретилась с представителями Культурбунда ГДР и Национального совета по сохранению немецкого культурного наследия. От всех контактов в эти дни она была в восторге. Люди не скрывали своих симпатий. Получалось, что отношение граждан к переменам в СССР было совершенно другим, чем у гэдээровских политиков.
Временная «разрядка» наступила после приезда Хонеккера в Москву на 70-летие Октября. Ознакомившись с моим докладом, он сказал, что разногласия сняты. Доклад был опубликован в ГДР полностью.
В декабре 1987-го я еще раз оказался в Берлине — там состоялась встреча генеральных и первых секретарей стран Варшавского Договора, на которой я рассказал об итогах поездки в США, где мы с Р. Рейганом подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Да и вообще, к контактам с ГДР мы относились с вниманием, настойчиво вели линию на их развитие на всех уровнях и в различных формах.
«Без пяти минут двенадцать»
Но отношения осложнялись. До нас доходила информация, что на закрытых совещаниях секретарей окружных комитетов СЕПГ Хонеккер ориентировал их участников на негативные оценки перестройки. Из пропагандистского обихода был изъят давний лозунг «учиться у Советского Союза». Велась целенаправленная линия на ограничение информации о процессах, происходящих в СССР. Налицо было стремление сбить, зажать растущий интерес общественности к процессам демократизации в Советском Союзе.
В то же время известная антиперестроечная статья Н. Андреевой была сразу же перепечатана в «Нойес Дойчланд». И тем не менее среди молодежи, творческой интеллигенции ГДР, в партийных организациях все чаще и острее ставился вопрос об актуальности принимавшихся в Москве решений и для Берлина.
Конечно, ситуация в ГДР, непосредственно граничащей с более мощным немецким государством и отделенной от Западного Берлина узенькой полоской земли с возведенной на ней стеной, отличалась особой политической и социально-психологической остротой. Мы хорошо это понимали и ни в коей мере не намеревались понуждать руководство ГДР к какому-либо копированию нашей перестройки. Но не могли, разумеется, и отказаться от нее только потому, что она не нравилась Хонеккеру. До нас стало доходить все больше сигналов о растущем отчуждении между высшим руководством СЕПГ и массой членов партии, большинством общества. И в самом руководстве некоторые оценивали ситуацию иначе, чем генсек. Однако в силу жестких централистских порядков, укоренившихся в партии, да, наверное, и особой приверженности немцев к дисциплине и лояльности мало кто осмеливался открыто ему возражать.
Попытки отгородить граждан ГДР от правдивой информации о событиях в Советском Союзе неким подобием нового железного занавеса умело использовались средствами массовой информации и пропаганды ФРГ. В результате среди восточных немцев росло недоверие не только к пропаганде, но и к политическому руководству страны. Думаю, Хонеккер не мог не понимать этого. И вот, для придания вящей убедительности критике советской перестройки, с самого верха даются поручения академическим учреждениям — анализировать каждое выступление Горбачева на предмет выискивания расхождений с марксизмом-ленинизмом. Результаты этих изысканий систематически докладывались лично генсеку, рассылались по особому списку. Случалось, такие анализы докатывались и до Москвы. Они отличались рафинированным догматизмом, но отвечать было некому, поскольку к дискуссиям нас ни официально, ни в рабочем порядке никто не приглашал, все это делалось в закрытом порядке главным образом для внутреннего пользования.
На почве неприязни к перестройке шло явное сближение между Хонеккером, Живковым и Чаушеску. В своих выступлениях Хонеккер так же, как и лидеры Болгарии и Румынии, утверждал, будто самые глубокие демократические преобразования в ГДР были предприняты гораздо раньше, чем в СССР, 10–15 и даже 20 лет назад. Все это мало кого убеждало, хотя бы потому, что обстановка, складывавшаяся в мире во второй половине 80-х годов, со всей очевидностью требовала от правящих партий новых перемен, качественно иных поворотов в политике. Все говорило за то, что Хонеккер находится в плену догматических представлений, не хотел или уже не мог адекватно реагировать на реальности жизни.
Вот такой была ситуация, но она не ослабила наши усилия по углублению сотрудничества как в двусторонних отношениях, так и в рамках ОВД. Этим объясняется положительное решение вопроса о моем участии в торжествах по случаю 40-летия ГДР. Хонеккер настойчиво приглашал меня приехать на праздник. Отбросив всякие колебания, а они были, я сообщил в Берлин о своем согласии участвовать 6–7 октября в торжественном заседании во Дворце республики и других праздничных мероприятиях.
Тут надо сделать небольшое отступление. Первого октября через Раису Максимовну работники Советского фонда культуры, только что вернувшиеся из ГДР, передали мне информацию о беседе в Культурбунде, вызвавшей у них большое беспокойство. Их собеседники из ГДР охарактеризовали сложившуюся в стране политическую ситуацию как «без пяти минут двенадцать». В обществе назрел политический кризис, население выражает недовольство. Представители интеллигенции выходят из СЕПГ. Обращение Культурбунда к руководству с выражением озабоченности происходящим остается без ответа. Люди ждут, что во время празднования 40-летия будет открыто заявлено о существовании острых проблем в развитии общества и необходимости публичной дискуссии в стране. Если этого не произойдет, Культурбунд сразу после праздников намерен обсудить положение в стране и принять критическое публичное обращение к властям ГДР. Зная об авторитетности Культурбунда, я с большим вниманием отнесся к этой информации.
И вот мы в Берлине на торжественном заседании. Впечатление от заседания, мягко говоря, не лучшее. Доклад Хонеккера повествовал о многих свершениях и достижениях за 40 лет, но что касалось нынешнего положения в стране и перспектив на будущее — никакого анализа и выводов.
От имени гостей слово было предоставлено мне. Скажу откровенно, это оказалось для меня нелегким делом. Хозяева настроены по-праздничному, а у меня душа не лежала следовать в фарватере за ними. Выход я нашел в том, что воздал должное труду граждан ГДР, преодолевших много трудностей и много сделавших в этой части Германии после войны. Советские люди все эти годы оказывали им поддержку и сегодняшний юбилей воспринимают близко к сердцу.
А большая часть выступления была посвящена нашему пониманию новых принципов, на которых теперь строятся отношения между социалистическими странами. «Равноправие, самостоятельность, солидарность — вот что определяет сегодня содержание этих отношений». В самой общей форме я сказал, что в республике есть проблемы, связанные как с ее внутренним развитием, так и с процессами модернизации, обновления, происходящими во всех социалистических странах.
Трудно сказать, как бы развивались события в ГДР, если бы Хонеккер в своем докладе, воздав должное прошлому, предложил кардинальные реформы. Возможно, уже было и поздно что-либо изменить. Но общество ждало. И оно могло бы поддержать инициативу руководства страны, если бы она отвечала его ожиданиям. Тогда еще раз Хонеккер упустил момент для выступления с крупной инициативой, нацеленной на будущее. А недовольство режимом уже перерастало в открытые массовые выступления.
Это в полной мере проявилось уже вечером — во время факельного шествия по Унтер-ден-Линден. Мимо трибун, на которых находились руководство ГДР и иностранные гости, шли колонны представителей всех округов республики. Зрелище было, прямо скажем, впечатляющее. Играют оркестры, бьют барабаны, лучи прожекторов, отблеск факелов, а главное — десятки тысяч молодых лиц. Участники шествия, как мне говорили, заранее тщательно отбирались. Это были в основном активисты Союза свободной немецкой молодежи, молодые члены СЕПГ и близких к ней партий и общественных организаций. Тем показательнее лозунги и скандирование в их рядах: «Перестройка!», «Горбачев! Помоги!». Ко мне подошел взволнованный Мечислав Раковский (они с Ярузельским тоже были на трибуне):
— Михаил Сергеевич, вы понимаете, какие лозунги они выдвигают, что кричат? — И переводит. — Они требуют: «Горбачев, спаси нас еще раз!» Это же актив партии! Это конец!!!
Неладное я почувствовал, когда мы еще ехали с аэродрома Шенефельд: плотные ряды молодежи почти на всем пути до резиденции скандировали «Горбачев! Горбачев!», хотя рядом был Хонеккер. На него не обращали внимания и тогда, когда мы шли с ним по узкому живому коридору из Дворца республики. Но того, что произошло во время факельного шествия, я просто не ожидал. Тот, кто видел все это, может по достоинству оценить последующие утверждения Хонеккера, будто его отстранение от руководства ГДР было результатом санкционированной Горбачевым интриги аппарата ЦК СЕПГ. Кстати, слова: «Горбачев, спаси нас еще раз!» — я услышал в Трептов-парке от школьниц, передавших мне цветы и записку. Там были тысячи юношей и девушек.
Хонеккер в эти дни не мог скрыть внутреннее волнение. Вечером, приветствуя проходящую мимо трибуны молодежь, он пританцовывал, напевал, вообще бодрился. Но видно было, что ему не по себе, он был словно в трансе. На следующий день мы встретились один на один. Беседа продолжалась около трех часов. Несмотря на все мои усилия, вывести его на откровенный разговор не удалось. Еще раз я должен был заслушать подробный отчет о достижениях. Хонеккер не принимал протест, исходящий из общества. А ситуация в ГДР при непосредственном наблюдении действительно оказалась такой, как ее охарактеризовали представители Культурбунда, — «без пяти минут двенадцать». Хотя и с оглядкой, об этом же говорили и члены руководства СЕПГ. После нашей встречи с их лидером некоторые спрашивали: понимает ли он, что для ГДР настал час перемен. Конечно, странным было, что этот вопрос задавали мне. Отсюда следовал вывод, что обстановка в Политбюро СЕПГ не дает возможности обратиться к генсеку с таким вопросом.
В программе моего пребывания была намечена встреча с руководством ГДР. И она состоялась перед самым отъездом из Берлина. Делясь опытом перестройки, я сказал немецким друзьям: «Того, кто опаздывает в политике, жизнь сурово наказывает». Для большей убедительности сослался на наше решение приблизить сроки проведения XXVIII съезда КПСС, где намерены осмыслить итоги прошедших лет перестройки, выработать ориентиры на будущее. Одновременно Верховный Совет СССР, Съезд народных депутатов займутся решением вопросов собственности, аренды, предпринимательства и других, что позволит в ближайшее время создать правовую базу для углубления реформ.
Обращаясь к собеседникам, я сказал:
— Жизнь, как я понимаю, требует и от вас принятия мужественных решений.
Участники встречи выслушали меня с предельным вниманием. Первым взял слово Хонеккер. Формально соглашаясь со мной, он повернул все в плоскость частных, прикладных тем. Реплики или краткие замечания, с которыми выступили К.Хагер, Г.Шюрер, Г.Кроликовский, В.Эберляйн, хотя и носили деловой характер, не выходили в общем за рамки рутинных вопросов.
Покидал я Берлин со смешанными чувствами. Запечатлелся образ огромного человеческого потока, тысяч немецких юношей и девушек — здоровых, крепких, приветливых, жаждущих перемен. И это вселяло надежду, оптимизм. Но было и другое. В памяти моей остались настороженные, сосредоточенные лица руководителей СЕПГ, каждый из которых, похоже, готовился сделать свой решающий выбор. Хонеккер явно обиделся на меня и, чтобы подчеркнуть это, не поехал нас провожать, хотя днем раньше встречал на аэродроме Шенефельд вместе с супругой.
Запоздавшие перемены
Как мне рассказывали потом, вскоре после юбилейных торжеств Политбюро ЦК СЕПГ собралось, чтобы обсудить итоги празднеств и общую ситуацию в республике. Многие высказались за активные действия по умиротворению разраставшихся волнений. Хонеккер же призывал «не драматизировать обстановку», «не идти на диалог с классовым противником»(?!). Это, очевидно, побудило Политбюро, вопреки позиции генсека, созвать Пленум ЦК. Политбюро приняло заявление о готовности обсудить и решить возникшие проблемы путем гражданского диалога, гласности, урегулирования вопросов выезда за границу. Созванный 18 октября Пленум ЦК СЕПГ освободил Хонеккера от обязанностей Генерального секретаря ЦК СЕПГ и Председателя Госсовета ГДР. На оба эти поста был избран Кренц, ранее занимавшийся в Политбюро вопросами государственной безопасности, правоохранительных органов, а также молодежи и спорта. Смена эта была, так сказать, запрограммированной, его и раньше в шутку называли «кренц-принцем».
Тем временем стихийные выступления на улицах городов продолжались. Выдвигались требования демократизации режима, расследования злоупотреблений, ликвидации непомерных привилегий должностных лиц. Власти утрачивали контроль над событиями, сказывалась растерянность, неспособность перехватить инициативу. 8—10 ноября Пленум ЦК существенно обновил состав Политбюро. В него был введен «бунтарь» Ханс Модров, вскоре возглавивший коалиционное правительство. В ночь с 9 на 10 ноября у стены, разделявшей Восточный и Западный Берлин, собрались огромные толпы людей. Во избежание опасных эксцессов были открыты переходы на запад. Стена пала, а вернее сказать, превратилась в памятник ушедшей в прошлое «холодной войны».
Об этих событиях меня подробно информировал Кренц на встрече в Москве. Он рассказал, что Хонеккер, давно готовивший Кренца в свои преемники, упрекнул его в том, будто тот специально подобрал участников торжеств, чтобы устроить «афронт» генсеку и спровоцировать его отставку. Этот штрих был еще одним свидетельством того, насколько бывший лидер СЕПГ отдалился от реальной жизни, от настроений и интересов граждан республики.
В начале декабря Народная палата ГДР отменила положение конституции о руководящей роли СЕПГ, из нее вышло около половины членов, а чрезвычайный съезд преобразовал ее в партию демократического социализма — ПДС. Обновленная партия приняла новые программные документы и избрала правление во главе с берлинским адвокатом Грегором Гизи. Я встретился с новыми руководителями ГДР. Это были люди уже совершенно новой формации, по-настоящему интеллигентные, раскованные, самостоятельно и оригинально думающие и действующие. Но вышли на широкую политическую арену они слишком поздно, времени для разбега у них не было. Их политические оппоненты на Западе были несравненно опытнее и искушеннее.
Политическая и социальная дестабилизация в ГДР дала беспрецедентные шансы конкурирующим политическим кругам ФРГ. Каждая из основных партий — ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ — развернула бурную деятельность в пользу объединения Германии. Различие их тактики сводилось лишь к темпам и формам такого объединения. Среди политических партий, общественных организаций и населения ГДР отношение к перспективам объединения было неоднозначным. Во всяком случае, поначалу преобладала линия на плавное, поэтапное сближение и всестороннее равноправное сотрудничество. Этим целям отвечал трехэтапный план Ханса Модрова, о котором я уже писал в предыдущей части.
Еще раз напомню, что 12 сентября 1990 года в Москве в итоге совещания министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, которое условно называлось встречей «4+2», был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. В этом договоре содержались решения всего комплекса внешних аспектов германского единства.
В августе 1990 года в Берлине во дворце на Унтер-ден-Линден был подписан, а 3 октября того же года вступил в силу государственный договор между ГДР и ФРГ «О строительстве германского единства». Он предусматривал вхождение ГДР в состав ФРГ согласно статье 23 Основного закона ФРГ.
Объединение Германии, на мой взгляд, — явление неизбежное, необходимое и, наконец, справедливое. Оно обусловлено коренными переменами в мире, Европе и в самой Германии. Другое дело, что могло оно произойти иначе, менее драматично. Ведь адаптация населения бывшей ГДР в объединенной Германии оказалась намного труднее, чем даже предостерегали сторонники поэтапного объединения. Процесс продолжает оставаться весьма болезненным не только для востока, но и для запада страны.
Думаю, потребуется еще немало времени, выдержки, сил и средств, чтобы полностью зарубцевались швы и раны на теле во многом изменившейся, но по-прежнему великой нации, расчлененной на части горячей и холодной войной. Восстановив свою государственную целостность, она поставлена теперь перед необходимостью решать ряд задач, от которых в немалой мере зависит будущее всего континента. Это — сохранение и упрочение демократии, преодоление любых попыток возродить философию и политику «арийской исключительности», принесшую столько бед немецкому народу и миру. Это — использование мощного потенциала объединенной Германии для поддержания европейского равновесия, содействия процессу интеграции, строительству «общеевропейского дома».
И конечно, особые надежды я возлагаю на то, что новая Германия станет добрым соседом и надежным партнером новой России, других государств СНГ. Для этого есть все предпосылки — исторические, экономические, политические, духовные.
Хотел бы закончить свои заметки о встречах и беседах с Эрихом Хонеккером выражением решительного несогласия с попытками взвалить на него юридическую ответственность за ряд драматических событий в ГДР и в истории ее отношений с ФРГ.
В связи с судебным процессом над Хонеккером я не раз заявлял и в Москве и в Бонне и хочу повторить еще раз: нельзя несправедливо руководствоваться формальными критериями западногерманского права при оценке политики, проводившейся в иных, причем даже не в радикально, а в исторически иных условиях. ГДР была независимым, признанным во всем мире государством, членом ООН.
Иначе говоря, неправомерен сам подход, на основе которого пытались осудить Хонеккера. Ну а разве немецкие политики и юристы имели право забыть о том, как много сделал Хонеккер для налаживания в сложнейших международных условиях отношений между ГДР и ФРГ? Установленные при нем экономические и научно-технические связи существенно облегчили процесс реинтеграции двух частей Германии. А политика СЕПГ в духовной области способствовала сохранению национального самосознания и демократической культуры Германии.
Мое отношение к Эриху Хонеккеру, как и ко многим другим немецким коммунистам, определяется прежде всего их деятельностью по сближению народов Германии и России, которые были брошены фашизмом в кровавую бойню друг против друга. Что бы о них сегодня ни говорили, эта их заслуга перед живущими и грядущими поколениями немцев и русских останется в памяти навсегда.
Суд над Хонеккером, политическая шумиха вокруг ряда его соратников — все это, на мой взгляд, далеко от попыток объективно осмыслить события последних десятилетий в Германии, сделать из них должные выводы. Один из них состоит в необходимости до конца отказаться от философии и политики противостояния, правившей миром на протяжении всего предвоенного и послевоенного времени. Как условием подлинно надежной стабилизации в России является преодоление «духа» перманентной гражданской войны между красными и белыми, так в Германии, по моему глубокому убеждению, им является преодоление подозрительности между двумя частями расколотой десятилетиями нации.
Глава 38. Диалоги с Фиделем Кастро
Мои первые непосредственные впечатления о кубинцах относятся к шестидесятым годам. Тогда на Ставрополье, Кубань, в Крым и Узбекистан приехали учиться тысячи кубинских юношей и девушек. У нас они разместились в станице Григориполисской, где расположено одно из старейших училищ механизаторов сельского хозяйства. Помню, мы встретили кубинцев в Новороссийске, куда они прибыли на теплоходе. Рассадили их по автобусам и повезли на Ставрополье. Казачья станица приняла гостей радушно. И это помимо традиционного гостеприимства отражало общий подъем симпатий к Кубе, Фиделю Кастро, характерный для общественного настроения в стране.
Мне тогда приходилось постоянно быть в контакте с молодыми кубинцами. Входили они в ритм нашей жизни нелегко, ведь привычны были к иному. Дисциплина, учебный процесс давались им с трудом, а вот танцы, песни, контакты с местным населением, особенно с девушками, — это у посланцев острова Свободы получалось легко и естественно. Почти каждый день — праздник. К счастью, свою открытость и веселость они сохранили и тогда, когда втянулись в учебу.
С победой революции большое количество специалистов эмигрировали в другие страны Латинской Америки и Соединенные Штаты. Молодое государство нуждалось в переустройстве жизни, делало ставку на создание народного строя, и ему, конечно, нужны были новые кадры. Учиться в других латиноамериканских странах было трудно — дорого, да и политическое отношение преобладавших в Латинской Америке диктаторских режимов к новой Кубе было недоброжелательным, а то и явно враждебным. Тогда мы и пришли на помощь Кубе.
Основная масса кубинцев, приехавших на учебу, происходила из так называемых низов. Они не блистали ни образованием, ни здоровьем. Из-за постоянного употребления сахарного тростника у многих были плохие зубы. За два года кубинцы получили профессии, поправили здоровье и полные энергии вернулись на Родину.
Выбор кубинцев
На конкретных фактах, а не только на основе прочитанного и услышанного, я убедился в народном характере кубинской революции. Она была поддержана широкими массами населения — ив этом «секрет» успеха горстки смельчаков, которых возглавил Кастро, поведя их на штурм прогнившего компрадорского режима. Власть Батисты рухнула потому, что была враждебна народу. А поскольку США поддерживали режим Батисты, то и к ним кубинцы относились весьма негативно. Да и стремление к независимости — это ведь не изобретение Кастро и его единомышленников. Национально-освободительная борьба на Кубе имеет вековую историю. То, что произошло там на рубеже 60-х годов, в наиболее концентрированном виде отражало взрывоопасную ситуацию, сложившуюся во всей Латинской Америке.
Это видели и признавали даже такие консервативные деятели, как Рональд Рейган. «Было очевидно, — пишет он в своих мемуарах, — что бедность, социальное неравенство и нарушение прав человека в латиноамериканских странах создают благоприятную почву для переворотов слева и справа[25]. Поэтому попытки свести кубинскую революцию к проискам коммунистов, к «заговору Москвы», чем до сих пор кое-кто пробавляется и за рубежом, да и среди наших «доморощенных» антикоммунистов, не имеют под собой никаких оснований.
Кубинская революция произошла под знаменем антидиктаторских, антиимпериалистических лозунгов. Ее возглавляли не коммунисты. Кастро в 1959 году коммунистом не был. Близкая КПСС Народно-социалистическая партия Кубы во главе с Блас Рока широкого влияния в стране не имела. Знамя революции подняли молодые интеллектуалы, вдохновленные высокими идеями национального освобождения и демократического равенства. «Движение 26 июля», созданное Фиделем Кастро и его единомышленниками в середине 50-х годов, носило патриотический характер. Своим личным мужеством и бескорыстием молодые революционеры завоевали популярность среди широких слоев населения, различных социальных и возрастных групп. Фидель и Рауль Кастро, Че Гевара, Мачадо, Сьенфуэгос, десятки других смелых и убежденных революционеров стали действительно народными героями. Кубинская революция, несмотря на массированную антикастровскую пропаганду, пользовалась симпатиями во всем мире.
Этим в немалой мере объясняется, что руководители США не решались пойти на широкомасштабное вооруженное ее подавление собственными силами. Американская авантюра в районе Плайя-Хирон (апрель 1961 г.) подтолкнула Кубу к социализму. Не уверен, что Фидель в полной мере отдавал тогда себе отчет о последствиях своего выбора. Скорее, угроза контрреволюции, поддерживаемой империалистическим соседом, не оставляла иной возможности выжить, как опереться на помощь Советского Союза, других социалистических стран. А уж потом Кастро обратился к Марксу и Ленину.
Для советского же правительства того времени решение о помощи Кубе было вполне органичным, не сопряженным с какими-либо трудностями, ибо его внешнеполитическая стратегия органично включала поддержку национально-освободительных движений. Больше того. Решение Кубы присоединиться к «мировому социалистическому лагерю» было встречено едва ли не с ликованием нашими идеологами. Во-первых, это была первая страна Латинской Америки, избравшая коммунизм, а во-вторых, первое после долгого перерыва «пополнение» социалистического лагеря. С «обращением» Кубы у нас стали даже связывать начало очередного этапа общего кризиса капитализма, видели в нем подтверждение неизбежного краха этой системы.
Быстрое сближение двух стран заложило основы для тесного сотрудничества, широкой помощи, политической поддержки, для многогранных культурных связей. Все у нас это приветствовали. Даже угроза мировой войны, реально возникшая в связи с Карибским кризисом, не поколебала дружественного отношения людей к Кубе и кубинцам. Винили во всем Вашингтон, мало кто усматривал какие-то ошибки в действиях советского руководства, и, уж во всяком случае, все сочувствовали маленькой Кубе, являющейся объектом постоянного давления и угроз со стороны США.
Насколько я понимаю, размещая ракеты на Кубе, Хрущев исходил прежде всего из того, что тогда у Советского Союза еще не было межконтинентальных ракет и наше ядерное оружие было «неадекватно» американскому из-за отсутствия средств доставки. К тому же США располагали сетью баз по периметру границ СССР и стратегической авиацией. Это, несомненно, представляло серьезную опасность для обороны страны в условиях жесткого противостояния двух супердержав. Так что речь шла о попытке сравнительно недорогим путем форсировать создание военного паритета. Нечего говорить — попытке крайне рискованной. Доставка ядерного оружия через океан и размещение его на Кубе могли спровоцировать уничтожение его на кораблях или путем нанесения бомбовых ударов по территории Кубы еще до развертывания. Кому принадлежала «идея», трудно сказать, но вряд ли она была до конца продумана. В результате поставили в очень тяжелое положение и себя, и Кубу, и Кастро.
Спустя 30 лет после Карибского кризиса, выполняя обещание, данное Эдварду Кеннеди, я посетил центр Джона Кеннеди в Бостоне. Посмотрел фотографии, кинофильм, ряд документов, относящихся к тому времени, сопоставил их с тем, что я знал. Мы были всего в одном шаге от всемирной катастрофы. Еще раз оцениваешь мудрость, проявленную тогда Джоном Кеннеди. Он настойчиво искал развязку, которая бы исключала военное столкновение, понимал: надо что-то дать советской стороне для сохранения политического лица.
Мне показали два письма Хрущева, одно развернутое, другое короткое. Он выразил готовность советского руководства вывести ракеты при условии, что Соединенные Штаты дадут гарантию о ненападении на Кубу и обещание убрать ракеты из Турции. В конечном счете было найдено решение, которое всех удовлетворило, мир с облегчением вздохнул.
Значение Карибского кризиса не ограничилось тем, что он наложил отпечаток на отношения Соединенных Штатов и Советского Союза, вынудив руководство супердержав занять единственно правильные в тех условиях позиции. Принятые тогда решения существенно повлияли и на отношения между советским и кубинским руководством. Фидель Кастро в последующих беседах говорил о своем двойственном восприятии случившегося. Он почувствовал свою зависимость от Москвы: ведь Куба тогда могла держаться только при мощной поддержке Советского Союза. А быть нашим заложником ему не улыбалось, он хотел сохранить независимость кубинской революции, себя как политика.
Одновременно кризис привел к глухой и, по существу, бессрочной блокаде Кубы. Перед Фиделем встал вопрос: что дальше? Возможность примирения с Соединенными Штатами была заказана. В Майами неустанно готовились к вторжению кубинские иммигранты, Пентагон бряцал оружием, ЦРУ инспирировало один за другим заговоры против кубинского лидера. Иного выбора, чем ориентация на СССР, у Кубы не было. Тем более что в обмен на удаление нашего ядерного оружия из Западного полушария Москва добилась обязательства Вашингтона отказаться от агрессии против острова Свободы.
Трудные поиски
Медленно, с колебаниями шла Куба к воспроизводству у себя социальной системы в том виде, как она сложилась у нас и в других странах соцсодружества. Пожалуй, можно считать переломным моментом середину 70-х годов. Тогда Фидель пошел на слияние своего режима с идеей коммунизма. На первом съезде Компартии Кубы в 1975 году в резолюции о международной политике было записано, что Куба подчиняет свои интересы во внешней политике общим интересам победы социализма и коммунизма, национального освобождения народов.
Со своей стороны, советское руководство не только говорило об интернационализме, но и немало делало, не считаясь с тем, выгодно ли это нам или нет. Советский Союз организовал регулярные поставки значительного количества нефти, металла, хлопка и других видов сырья. Мы внесли решающий вклад в строительство на Кубе крупных, жизненно важных объектов энергетики, транспорта, предприятий добывающей промышленности (никель, кобальт). С нашей помощью был налажен выпуск комбайнов для уборки сахарного тростника, другой сельскохозяйственной техники.
Находясь фактически в осаде, кубинские руководители искали пути удовлетворения элементарных потребностей людей. К их чести, приоритет был отдан народному образованию и медицинскому обслуживанию населения, которые стали вскоре предметом зависти многих соседей Кубы в Центральной и Латинской Америке. Но это возлагало дополнительные нагрузки на слабую монокультурную экономику. Многократно бывая у нас в стране, Фидель и его соратники нашли, что плановая система хозяйствования и централизованного распределения позволяет на уравнительных началах обеспечивать население самым необходимым. Вот почему, на мой взгляд, кубинцы восприняли советскую модель. По приглашению хозяев на острове высадился целый десант наших ученых, плановиков, практиков-управленцев. Они сделали немало полезного для создания экономической структуры. Но вместе с позитивным опытом «экспортировались» и пороки нашей хозяйственной системы. Надо сказать, Фиделя не покидали сомнения. Одно время он склонялся к введению хозрасчета, материальной заинтересованности, всего того, что вошло у нас в понятие экономических реформ. Но скоро от этих идей кубинцы отказались, опасаясь утратить контроль за экономикой, а главное — привести к социальному расслоению общества, поставить под угрозу революционный режим. Не обошлось без идеологических метаний между идеями XX съезда и маоистским фундаментализмом.
Жизнь требовала поворота внимания к реальным экономическим и социальным проблемам. Полагаю, Кастро это чувствовал. Но были и другие настроения, я бы назвал их ультрареволюционными, экстремистско-левацкими: соблазн «подтолкнуть» революции в странах Латинской Америки, Азии, Африки, благо, социальная почва для того существовала. Эти две тенденции все время присутствовали и противоборствовали в политике кубинского руководства. Но тут нельзя не учитывать, что процесс деколонизации, становления молодых государств был в то время полем борьбы между двумя блоками и идеологиями.
На такой почве к концу 70-х годов сложились особые советско-кубинские отношения. Советское руководство активно использовало их в своих глобальных внешнеполитических целях, но справедливости ради надо сказать: Кастро всегда сохранял независимость в суждениях и в принятии окончательных решений, не терпел и не допускал, чтобы им командовали. Имели место отношения союзников, а не господства и подчинения. Бывало и так, что кубинское руководство само вовлекало нас, мало сказать, в непростые ситуации, например, в случае с Анголой. Наши военные рассчитывали овладеть надежным плацдармом в Африке, поэтому с энтузиазмом поддержали вмешательство Кубы в Анголе и Эфиопии. В то же время в политических кругах излишняя ангажированность Кубы, тянувшей за собой и Советский Союз, вызывала серьезное возражение. В «коридорах власти» многие откровенно говорили, что кубинцы «навешивают нам еще один Афганистан».
В Советском Союзе неизменными оставались чувства симпатии к кубинцам, и в этом смысле наши заверения продолжить поддержку Кубы соответствовали настроениям общества. Достаточно вспомнить, как тепло принимали Фиделя Кастро в феврале 1986 года, когда он прибыл для участия в работе XXVII съезда КПСС.
Перестройка и ректификация
Речь Кастро на съезде была эмоциональной и содержательной. Тут надо иметь в виду, что на Кубе в то время начался процесс так называемой ректификации, то есть очищения от всякого рода злоупотреблений, коррупции, хозяйственных преступлений. Ректификация в этом отношении была созвучна перестройке. А вот что касается другой стороны дела, а именно — широкого использования товарно-денежных отношений, тут, конечно, были расхождения. Делегаты воздали должное Кастро. Но мне показалось, что Фидель как бы купался в лучах славы и в то время еще глубоко не вникал в смысл происходившего у нас поворота.
В том же 1986 году, в ноябре, мы еще раз беседовали с ним, когда он приехал в Москву для участия в рабочей встрече руководителей правящих партий стран — членов СЭВ. Обсуждались вопросы перестройки экономических отношений на базе общепринятых в мировой практике принципов. Кубинское руководство, как вьетнамское и монгольское, было встревожено такой постановкой вопроса. По нашему предложению на совещании было принято решение разработать для Кубы, Вьетнама и Монголии специальную коллективную программу экономического сотрудничества в рамках СЭВ.
Ясно было, что формы прямой помощи себя исчерпали и не только из-за ограниченности наших внутренних возможностей. Переход на взаимовыгодность экономических отношений диктовался общемировой ситуацией, требовавшей самостоятельного включения каждой страны в мирохозяйственные связи. Необходимо было строить партнерство на основе взаимной выгоды. Об этом в принципиальном плане и пошла речь в нашем разговоре с Фиделем. Вскоре последовали визиты заместителя председателя Совета Министров Карлоса Рафаэля Родригеса и секретаря по экономике Сото. Кубинское руководство отдавало себе отчет, что постепенный перевод экономических связей на основу взаимовыгодности неизбежен, но старалось максимально его оттянуть. Подлили масла в огонь некоторые выступления в нашей печати, в частности в журнале «Новое время», с идеей перехода к мировым ценам на сахар. Последовала бурная реакция со стороны официальных лиц Кубы, протесты и встречные претензии. Мы разъяснили, прошло время, когда каждая публикация выражала у нас официальную позицию. Предложили друзьям изложить свое мнение в нашей печати. Родригес выступил в том же «Новом времени», представил кубинскую точку зрения, привел свои доводы.
До нас стала доходить информация относительно того, что кубинское руководство задалось вопросом: не начинается ли вообще пересмотр нашего курса в отношении Кубы? Мы заявили, что не намерены прекращать поддержку Кубы, свертывать сотрудничество с нею, подчеркнув, однако, необходимость поисков новых подходов. В Гавану одна за другой осуществили поездки делегации на высоком уровне для обсуждения этих вопросов с кубинским руководством.
Моя новая встреча с Кастро состоялась в ноябре 1987 года, когда он приехал на празднование 70-й годовщины Октябрьской революции и принял участие в совещании представителей партий и движений левой ориентации.
Во время нашей беседы Фидель держал перед собой экземпляр доклада о 70-летии Октября, и я обратил внимание, что он весь испещрен пометками. На этот раз разговор касался многих вопросов теоретического и политического порядка. По оценке Кастро, беседы подтвердили «полное единство взглядов, критериев и понимания процессов, происходящих в наших странах».
А теперь я хотел бы переключить внимание читателя на полгода вперед — на 5 апреля 1988 года, когда состоялся большой и очень важный разговор по телефону с Фиделем. За этот короткий отрезок времени произошли серьезные события. На Кубе в рамках политики ректификации были применены решительные меры к коррупционерам, в том числе высокого ранга. Около трети руководителей местных партийных организаций были освобождены от занимаемых должностей. Кубинское руководство увидело корень зла в «коммерционистских тенденциях» и взяло курс на ликвидацию крестьянских рынков, ужесточение государственного контроля над распределением продуктов питания и других ресурсов.
1988 год в СССР начинался под знаком больших тревог за судьбы перестройки. Жизнь требовала ответов на капитальные вопросы — о собственности, демократии, идейном и политическом плюрализме, оценке советской истории и другие. Важные перемены шли и на мировой арене. Мы с Рейганом подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Шла подготовка к выводу советских войск из Афганистана. Наметились подвижки по урегулированию конфликтов в Кампучии, Никарагуа. Словом, были сделаны первые шаги по смягчению международной напряженности.
И как раз в это время возникли трения между командованием кубинских вооруженных формирований в Анголе и советскими военными советниками. Наши военачальники упрекали кубинских в недостаточной активности, нерешительности, полагали, что кубинская сторона располагает всем необходимым, чтобы нанести поражение группировке УНИТА. Те в долгу не оставались, заявляя, что, если советские советники так же руководят операциями в Афганистане, понятно, почему там далеко до победы. В этот момент я получил письмо от Фиделя, в целом дружеское, но с обидой в адрес наших военных в Анголе. Рауль Кастро, приглашенный Язовым на 70-летие Советской Армии, приехать на праздники отказался. От него поступил сигнал о желании посетить Советский Союз в качестве второго секретаря ЦК Компартии Кубы. Надо было срочно разрядить обстановку. Тем более у нас, кубинцев, американцев и, что самое важное, у самих ангольцев складывалось понимание необходимости политических решений ангольской проблемы.
Я воспользовался поездкой Медведева и Добрынина в марте на совещание в Гаване и дал им поручение доверительно обсудить все эти вопросы с Фиделем, передать ему мое ответное послание. Такие беседы состоялись, ситуация была смягчена, но не нормализована полностью. Я почувствовал, что нужен непосредственный контакт, и 5 апреля позвонил Ф. Кастро.
Уже в начале беседы я сказал, что с нашей стороны нет претензий к кубинскому руководству, считаю необходимым поддерживать тесный контакт, чаще консультироваться во избежание всяких недоразумений. Кастро воспринял это обращение эмоционально, сказал: «Наше доверие к вам сохраняется полностью, так же как и полное понимание».
Из записи телефонного разговора.
«ГОРБАЧЕВ. Я просил Добрынина и Медведева подробно проинформировать вас о наших делах.
КАСТРО. Благодарю. Я получил от них такую информацию.
В последнее время у меня были беседы со многими советскими товарищами, приезжающими на Кубу, — министрами, политическими деятелями. Все полны оптимизма и энтузиазма. В то же время видно, что они смотрят реалистически на ситуацию. Задачи, которые стоят перед КПСС, руководством, действительно гигантские. Я думаю, вы даете реалистическую оценку, когда говорите, что путь предстоит трудный, нужно преодолеть большие препятствия. Действительно, жизнь — строгий экзаменатор. Но уверен, что он даст положительную оценку, поставит оценку «отлично» товарищу Горбачеву.
Я всегда считал, что не следует ждать немедленных результатов. В то же время в среднесрочном плане они, несомненно, появятся. Министры, с которыми я разговаривал, — энергичные и способные люди. У вас хорошо отбираются кадры. Все они с интересом ожидают партийную конференцию. Мы с большим вниманием следим за тем, как партия и советский народ подходят к стоящим перед ними проблемам».
Из дальнейшего разговора я понял, что все происходящее у нас его очень интересует. Он ждет моего визита на Кубу, чтобы обо всем поговорить.
Мне хотелось вывести Фиделя хотя бы на краткий разговор об отношениях с Америкой. Откровенно сказал ему о необходимости перевода их в нормальное русло, без чего трудно двигать мировой процесс в нужном направлении. Раскрыл наши намерения относительно соглашения по СНВ.
Фидель Кастро реагировал серьезно и сказал буквально следующее: «Это очень важная информация. Если во время визита Рейгана в Москву и не будет подписано соглашение, процесс все равно стал необратимым. Из визита в любом случае можно извлечь пользу. Он сам по себе имеет большое значение, свидетельствует об изменении международной обстановки».
Эти слова имели для меня большой смысл: в наши планы входила задача содействовать нормализации отношений Кубы с США. Здесь был один из источников неустойчивости международной ситуации. Да и для Кубы такая нормализация была бы благом.
Не менее важной для меня была конструктивная позиция Фиделя. Я был и остаюсь высокого мнения об этом человеке, его интеллектуальных и политических способностях. Это, несомненно, крупный деятель, с неповторимой судьбой. Ему пришлось десятки лет стоять у руля блокированной страны, жить и действовать, по сути, в экстремальных условиях. Все это, разумеется, наложило отпечаток на строй его мыслей, предопределило склонность к крайним, отнюдь не всегда демократическим решениям. Но при общении с Кастро у меня никогда не возникало ощущения, что этот человек исчерпал себя, как говорят, «израсходовал свой ресурс», остановился на каких-то железобетонных позициях, не способен воспринимать новые веяния. С ним можно вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, рассчитывать на взаимодействие.
Визит на Кубу
Визит на Кубу намечался на декабрь 1988 года. Сразу вслед за выступлением в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встречей с Рейганом и вновь избранным на пост президента, но еще не приступившим к своим обязанностям Бушем. Но, как известно, из-за страшного землетрясения в Армении и моего срочного возвращения домой поездку в Гавану пришлось отложить. На Кубе все было готово к приему гостей, проведена огромная работа, но Фидель, с присущим ему тактом, передал через посла в Москве, что с полным пониманием относится к моему решению и просит только не откладывать визит надолго.
Оказался я на Кубе лишь 2 апреля следующего, 1989 года, то есть спустя ровно год после нашего телефонного разговора с Фиделем. Началось с торжественного церемониала в аэропорту. Все было строго расписано. От аэродрома до резиденции десятки километров, мы ехали в открытой машине, сопровождаемые приветствиями кубинцев. Конечно, если постараться, можно вывести массы на улицы, но настроение им не закажешь. Меня поразили открытость, неподдельный энтузиазм людей, их стремление пообщаться с нами и их добрые, радостные глаза.
Встреча началась в широком составе. С нашей стороны были Шеварднадзе, Яковлев, Каменцев, посол Петров. С кубинской — кроме Фиделя, Рауль Кастро, Родригес, Камачо, Альдано и другие. Сели за стол в небольшом кабинете. Мы с Фиделем — друг против друга. Передо мной три страницы заметок. И тут наступило минутное тягостное молчание. На лицах кубинских друзей настороженность. Казалось, что-то взорвется за этим столом. Такие вот возникли ощущения, и, как потом выяснилось, у всех, не только у меня.
Надо было найти слова, которые разрядили бы эту атмосферу. Я сказал друзьям, что делегация все еще находится под огромным впечатлением встречи, проявленных к нам чувств. И это лучшее доказательство того, что между двумя странами, расположенными на разных континентах, имеющими разную историю, сформировались добрые, поддерживаемые обоими народами отношения солидарности и сотрудничества.
— Мы знаем, как пристально ваш северный сосед наблюдает за тем, что здесь сейчас происходит. Накануне отъезда я получил письмо от президента Буша. И мы с вами, — сказал я, обращаясь к Фиделю, — поговорим еще на эту тему. Большой интерес визит вызывает в Латинской Америке. Мы хотим провести с вами широкий обмен мнениями по актуальным вопросам развития современного мира.
Перед нами стоит задача адаптации социализма к нынешним реальностям. Нынешний этап как никогда хорошо высветил, что нет универсальной модели, которая позволила бы всем решать свои проблемы. Есть опыт Кубы, стран Восточной Европы, Китая, Советского Союза. У каждой страны свои традиции, точка отсчета, динамика.
Встреча позволяет нам с вами провести одновременно разговор о советско-кубинских отношениях. Время предъявляет к ним свои требования. Мы открыты для того, чтобы все вопросы рассмотреть основательно, по-дружески, при полном доверии. — И тут же подчеркнул:
— То, что мы делаем у себя, нам нужно. А полезно ли это и в какой мере для вас — решать вам. Мы стараемся держать вас в курсе происходящего в Советском Союзе. А то, что вы делаете у себя, исходя из своих условий, у нас не вызывает вопросов.
После этих моих высказываний атмосфера на глазах изменилась. Исчезло напряжение, стали открывать бутылки с минералкой. Пошел разговор. Фидель активно откликнулся на мое приглашение посмотреть на социализм и капитализм в контексте общей цивилизации, с учетом современных императивов. Я почувствовал, насколько внимательно он следит за событиями, развитием общественной мысли в мире, но так же и за текущей информацией. Перед ним лежала пухлая тетрадь с откликами на то, что произошло накануне и после первого дня моего приезда. По ходу беседы Кастро иллюстрировал свои рассуждения ссылками на высказывания и сообщения из Латинской Америки, соединенных Штатов, других стран, приводил массу конкретных фамилий, органов печати.
Особенно тщательно кубинцы анализировали американскую прессу. Судя по ее сообщениям, США ждали, что между СССР и Кубой произойдет разлад: Советский Союз пошел на демократизацию, а вот Куба все больше консервируется, укрепляет железный занавес. Режим на Кубе иначе чем диктаторским не назывался. Коснувшись этой темы, Фидель иронически заметил: «Наверное, мы не оправдали надежд американской прессы».
Мой замысел состоял в том, чтобы, излагая свои оценки мирового развития и информируя о ситуации в нашей стране, выразить уважение к выбору кубинцев и в политическом, и в человеческом плане, избежать нравоучений и наставлений.
Вместе с тем надо было «снять» ситуацию, которая чуть ли не ставила нас в положение виноватых, будто нам следует перед кем-то держать отчет, оправдываться, доказывать, что мы хорошие. А претензии на роль держателей истины проскальзывали тогда у многих, в какой-то мере и у кубинцев. На наших переговорах, особенно в беседах с Фиделем, речь, по сути дела, Шла уже об изменении представлений о социализме и мире в целом, хотя эти представления все еще были облечены в традиционную терминологию.
Воспользовавшись письмом Буша, полученным накануне поездки на Кубу, я обсудил с Фиделем возможности нормализации американо-кубинских отношений.
В контексте общих изменений международных отношений американцы сочли целесообразным прибегнуть как бы к нашему посредничеству. В США учитывали, что Куба сохраняет значительную роль в третьем мире, к ее голосу прислушиваются. Появились сигналы, что обе стороны начинают занимать более реалистическую позицию по некоторым острым проблемам. В ходе переговоров по ангольским делам кубинцы продемонстрировали конструктивный подход. В декабре 1987 года в Нью-Йорке Ангола и Куба при посредничестве США подписали с ЮАР пакет соглашений, положивших начало урегулированию в Юго-Западной Африке. Предусматривался вывод из Анголы 50-тысячного кубинского воинского контингента.
В беседе с Кастро обсуждалась и тема, относящаяся к Центральной Америке. Американцев беспокоило то, что через Кубу идет поток оружия и тем самым подстегиваются вооруженные выступления в странах этого региона. Родилась идея выступить с совместным заявлением. В итоге по согласованию с Кубой мы внесли предложение прекратить — как со стороны Советского Союза, так и со стороны США — ввоз в эти страны оружия, кроме полицейского, отозвать военных специалистов из Никарагуа. Подписали соответствующее соглашение. Поддержали мы усилия латиноамериканских стран по урегулированию никарагуанского конфликта. Обсуждался также вопрос, который волновал кубинское руководство, — о создании антикубинской телестанции «Хосе Марта». Кубинские власти пошли на ряд шагов по облегчению выезда и въезда в свою страну, но заявили решительный протест против намерений и планов США.
В те дни на Кубу приехало, как я уже говорил, очень много журналистов из разных стран. Чувствовалось, что они ждут сенсации, хотят уловить по тем или иным внешним проявлениям, в какой атмосфере идут переговоры. Догадок, прогнозов хоть отбавляй. Но…
Не упускали из виду журналисты и Раису Максимовну, пытаясь и через нее что-то добыть. Пресса использовала любой случай, чтобы подбросить неожиданные задевающие за живое вопросы. Один из журналистов явно не сдержался и повел в том же стиле разговор и с Раисой Максимовной. Это произошло в доме Хемингуэя, где ей был задан вопрос с большим подтекстом: «Не согласитесь ли вы, что судьба вашего супруга напоминает судьбу Старика из повести Хемингуэя «Старик и море»? Не в таком ли положении, как герой этой повести, находится ваш муж в своей политике перестройки?». «Наверное, — был ответ, — вы имеете в виду, что, когда Старик возвращается в порт, он обнаруживает — от пойманной рыбы остался только остов, все остальное сожрали акулы. Но ведь Старик не чувствует себя побежденным, он лишь далеко зашел в море. Мне кажется, пафос повести выражен в его словах: «Море меня не победило!» Что ж, прекрасный и точный по смыслу ответ.
В целом визит на Кубу помог решить много крупных проблем и устранить, по крайней мере на тот момент, взаимное недопонимание. Наши различия в оценке перспектив мира и социализма объясняются прежде всего историческими особенностями развития Кубы и СССР, их ролью в современном мире. Для правильного понимания важно учитывать, что вся эволюция режима на Кубе протекала в обстановке «холодной войны» между двумя блоками, буквально под боком у сверхдержавы, отношения с которой были и остаются конфронтационными.
Теперь, когда мы вышли из «холодной войны», глобальной конфронтации, когда все страны охвачены глубокими переменами, полагаю, что и Куба будет эволюционировать в демократическом направлении, если, конечно, ее не будут опять, что называется, загонять в угол.
Когда в декабре 1992 года я оказался в Латинской Америке, мне задавали массу вопросов о Кубе, Фиделе Кастро. Я всегда говорил так: мы не можем допустить унижения кубинского народа, его изоляции от мирового сообщества. И хорошо, что сообщество это осознает, о чем свидетельствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуждающей американскую блокаду Кубы. Мировое сообщество, в первую очередь латиноамериканцы, должны подставить Кубе плечо. И тогда она постепенно, своими темпами пойдет по пути углубления демократических перемен.
Хотя тридцать лет во главе осажденной крепости наложили свой отпечаток на мышление Фиделя Кастро и стиль его руководящей деятельности, я не исключаю, что творческие возможности этого крупного политика позволят ему либо возглавить процесс перемен, либо открыть дорогу новым людям. Это было бы великолепное завершение его исторической миссии.
Глава 39. Москва и Пекин «закрывают прошлое, открывают будущее»
Экскурс в историю
Для людей моего поколения хорошо памятно, как в Советском Союзе радовались развитию отношений с Китаем после Второй мировой войны. Мы дружно распевали: «Москва — Пекин», «Русский с китайцем — братья навек», «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас…». И были искренни в своих чувствах. Исключительно важным было то, что дружественные отношения воплощались в осязаемых связях между тысячами советских людей и китайцев — рабочих, инженеров, студентов. На советских заводах выполнялись огромные китайские заказы, в самом Китае с нашим участием строились сотни заводов, в Советский Союз пошли китайские товары — термосы, кеды, фонарики, эмалированная посуда, ткани. Эти связи конкретно ощущались миллионами людей в обеих странах.
Будучи комсомольским работником, я организовывал встречи наших специалистов, работавших в Китае, с молодежью. Их рассказы вызывали огромный интерес. Многое шло на эмоциональном и даже эйфорическом уровне. Нас радовало, что такой огромный народ тоже строит социализм. Какой социализм, что за социализм, мы, конечно, тогда еще не знали. Но победа революции в Китае воспринималась как одно из самых потрясающих событий после Второй мировой войны.
Поэтому с большой тревогой и переживанием, с непониманием — это я говорю и о себе — были встречены охлаждение, взаимная перебранка, открытые столкновения и, наконец, разрыв сотрудничества на многие годы. Люди наши, в общем-то, не восприняли, не одобрили принятые тогда политические решения.
Теперь причины разрыва известны и понятны. Хотел бы в этой связи отметить лишь следующее. Китайское руководство, прежде всего Мао Цзэдун, не приняло ни способа, ни самой сути разоблачения культа личности, которое предпринял Хрущев на XX съезде партии в 1956 году. И хотя Пекин всегда подчеркивал китайскую специфику, там восприняли эти разоблачения как удар и по своей политической и идеологической системе. Началась полемика. В «Жэньминьжибао» напечатали статью «Об опыте диктатуры пролетариата». По-моему, так она называлась. Затем другую — «Еще раз об опыте диктатуры пролетариата». В «Правде» опубликовывались ответные материалы, сначала без упоминания Китайской компартии, потом с более четким адресатом. Обе стороны не вникали в аргументы друг друга, нарастало взаимное раздражение, применялись все более грубые эпитеты.
В политическую борьбу оказались вовлечены коммунистические и рабочие партии, она коснулась всех левых организаций и движений.
Но имелась и другая причина советско-китайского разрыва. Китайская сторона была остро задета и возмущена тем, что Советский Союз отказал ей в передаче технологий производства атомной бомбы. Я считаю, что это-то как раз было объективно оправдано, поскольку к тому времени уже становилась общепризнанной идея нераспространения ядерного оружия. Правда, Хрущев руководствовался, видимо, не столько этим соображением, сколько стремлением сохранить особые позиции для удержания влияния на Китай. И в том, как это сделали, далеко не все было просчитано до конца. Был избран, казалось, самый простой путь закрепления за СССР роли гегемона в социалистическом лагере и коммунистическом движении. Но самый простой путь далеко не всегда оказывается самым верным, В любом случае ошибкой Хрущева был массовый отзыв из Китая советских специалистов. Китайская сторона не без основания восприняла эту акцию как проявление гегемонистских методов.
Этот краткий экскурс в историю завершу двумя соображениями. Во-первых, вопреки всем перипетиям советско-китайского разрыва в народе нашем всегда сохранялось уважительное отношение к Китаю, его культуре, достижениям и способностям. Народ на уровне своего национального и обыденного сознания понимал необходимость сотрудничества с этой страной, с ее людьми. Это всегда присутствовало и так или иначе улавливалось на политическом уровне. Во всяком случае, я всегда придавал огромное значение этой стороне дела.
Во-вторых, размышляя сейчас над тем, как складывались отношения с Китаем, осознаешь, насколько остро реформаторские шаги Хрущева, связанные с радикальной переоценкой развития страны в годы господства сталинизма, задевали не только наше собственное общество, но и взаимоотношения с государствами, которые приняли нашу модель, пусть даже с какими-то модификациями и спецификой. Не только ведь Мао Цзэдун и его окружение болезненно восприняли курс XX съезда КПСС. Цепная реакция пошла по многим коммунистическим партиям. Всему левому движению оказалось нелегко рвать с иллюзиями, а в значительной мере — и практикой, так или иначе связанной со сталинизмом.
Признавая огромные заслуги Хрущева в освобождении от оков сталинизма, следует сказать, что и сам он не смог целиком освободиться от гегемонистских замашек, что сказалось и на наших отношениях с Китаем. Но, конечно, неверно объяснять все лишь просчетами советского руководства. Честолюбивые проекты «великого кормчего» вывести свою страну за несколько лет в первый ряд мировых держав, не считаясь с реальными возможностями и интересами людей, пришлось оплачивать дорогой ценой. «Большой скачок», «народные коммуны», «культурная революция» — все эти непродуманные революционистские кампании при их национальной специфике были сродни сталинским тоталитарным методам манипулирования обществом.
К чести постмаоистского руководства КНР, оно сумело довольно быстро вывести страну из трясины «культурной революции». Уже будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС, я с большим интересом вчитывался в документы XIII съезда КПК, который подтвердил курс на модернизацию и реформу хозяйственной системы, принял долгосрочную программу превращения Китая в современное высокоразвитое социалистическое государство. Эти решения во многих чертах перекликались с идеями нашего XXVII съезда. Мы как бы вновь сближались, пока еще в поисках путей выхода из тех тупиков, в которые зашли обе страны. Но на пути не стихийного, а сознательного движения навстречу друг другу предстояло решить крупные геополитические проблемы.
Советский Союз и Китай втянулись в противостояние на пространствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Попытки договариваться с США ввиду потенциальной угрозы со стороны Китая, предпринимавшиеся при Хрущеве, стимулировали Пекин к связям с американцами на почве антисоветизма. И естественное развитие контактов обеих наших стран с Западом оборачивалось усилением китайско-советского противостояния. Все это происходило на протяжении не менее двух десятилетий. Исходя из худших предположений о намерениях Китая, в 60-е и 70-е годы в СССР была принята линия на развертывание военного потенциала на Востоке.
Нельзя сказать, что с нашей стороны не предпринималось ничего для ослабления конфронтации, но делалось это несистемно, неадекватно значению проблемы. Да и в Китае вели свою игру, добиваясь благосклонности Запада за счет антисоветских комбинаций.
Худшую роль сыграло резкое обострение китайско-вьетнамских отношений, вылившееся в прямые военные столкновения. После инцидента на острове Даманский в 1969 году были образованы новые военные округа. Стала расти мощь Тихоокеанского флота. Укреплялись пограничные сооружения. Начато строительство БАМа. В Чите было создано военное командование дальневосточного направления с мощной инфраструктурой. В это же время введены дополнительные контингенты наших войск в Монголию. Китайская сторона не без оснований била в набат, заявляя, что над ней нависла миллионная армия, вооруженная мощнейшим новейшим оружием. Но и китайская армия имела уже свой ядерный арсенал.
Набранная за десятилетия инерция конфронтации блокировала возможность поворота. Слабые попытки трезвомыслящих политиков, дипломатов, специалистов с обеих сторон хоть как-то смягчить напряженность воспринимались чуть ли не как предательство национальных интересов. Нужен был мощный волевой импульс с самого «верха».
От враждебности к сближению
Наши взгляды на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона я изложил в своем выступлении во Владивостоке в июле 1986 года. Их суть сводилась к следующему. Положение на Дальнем Востоке, в целом в Азии и на прилегающих к ней океанских просторах, где мы постоянные жители и мореплаватели, представляет для нас национальный, государственный интерес. Как тут пойдет дальнейшее развитие, какие процессы в отношениях между государствами возобладают — это во многом будет определять судьбы всего мира. Мы, заявил я, за совместное строительство новых, справедливых отношений в регионе.
Особое место в выступлении заняла тема наших отношений с Китаем. «Советский Союз готов в любое время, на любом уровне самым серьезным образом обсудить с Китаем вопросы о дополнительных мерах по созданию обстановки добрососедства. Мы надеемся, что в недалеком будущем разделяющая (а хотелось бы говорить — соединяющая) нас граница станет полосой мира и дружбы».
Как мне потом сказал Дэн Сяопин, заявленные во Владивостоке позиции были встречены в Пекине с удовлетворением и побудили к ответным шагам. Этому благоприятствовало и общее развитие международных дел. В мае 1988 года начался и к 15 февраля 1989 года завершился вывод советского воинского контингента из Афганистана. По согласованию с руководством Монголии мы выводили свои войска из этой страны. Хотя и медленно, но все же велись переговоры по урегулированию конфликта в Кампучии. Шли вверх показатели нашей торговли с Китаем, заметно увеличивалось научно-техническое и культурное сотрудничество. Продвигались и переговоры по пограничным вопросам.
В начале декабря 1988 года я принял министра иностранных дел КНР Цянь Цичэня и попросил его передать китайскому руководству, что мы выступаем за нормализацию отношений, условия для этого теперь имеются. Министру откровенно было рассказано о наших внутренних делах и новых подходах во внешней политике.
Передав добрые пожелания от Дэн Сяопина, Чжоу Цзыяна, Ян Шанкуня и Ли Пэна, министр от имени китайского руководства пригласил меня в Пекин.
И вот 14 мая 1989 года мы подлетаем к Пекину. Настроение приподнятости и сосредоточенности одновременно. Уже при подлете по радиотелефону сообщают, что официальная церемония встречи состоится прямо на аэродроме. Площадь Тяньаньмынь с 4 мая занята студентами, собравшимися там по случаю очередной годовщины начала антиимпериалистического и антифеодального движения, по традиции отмечаемой в этот день. Демонстрация, а вернее серия демонстраций, была необычной для Китая, стала выражением протеста значительной части молодежи и интеллигенции против коррупции в государственном аппарате, ущемления гражданских прав и социальной незащищенности большей части городского населения в условиях довольно болезненных для массы трудящихся рыночных реформ.
В аэропорту нас встретил Председатель Китайской Народной Республики Ян Шанкунь. Двадцать один орудийный залп ознаменовал новую главу в отношениях между СССР и КНР. Кортеж автомобилей направился в резиденцию, расположенную в Дяоюйтае. Мы ехали окраинными дорогами, объезжая центр города: центральные магистрали и площади оказались заполнены демонстрантами. Студенты, как нам стало известно, готовы были оказать почести советскому лидеру, но пекинские власти не пошли на это. Возможно, они были не уверены, что смогут удержать ситуацию под контролем.
Не удалось возложить венок у памятника в честь героев революции. Я хотел это сделать, больше того, от студентов был сигнал, что мы, мол, порядок обеспечим. Но китайское руководство, видимо, опасалось, что появление Горбачева на Тяньаньмынь еще больше взвинтит обстановку. Хозяева наши остро переживали создавшуюся ситуацию, несколько раз извинялись, говоря, что впервые в истории КНР пришлось отступить от традиционно заведенного ритуала.
Во второй половине дня я встретился с Ян Шанкунем. Это один из ветеранов, вступивший в Китайскую компартию еще в 1926 году девятнадцатилетним молодым человеком. В 30-х годах учился в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сунь Ятсена. С началом «культурной революции» в 1966 году он был снят со всех постов и репрессирован. Реабилитировали его только в декабре 1978 года.
Затем я встретился с Ли Пэном. Вспомнили о наших встречах в Москве в марте и декабре 1985 года и переключились на обсуждение узловых вопросов двусторонних отношений. На первый план выходили задачи существенного наращивания торгово-экономических и научно-технических взаимосвязей. Одна из перспективных идей состояла в том, чтобы советские специалисты, советские организации и предприятия приняли активное участие в модернизации многих из тех производственных объектов, которые были созданы в Китае в 50-е годы с помощью Советского Союза и составили костяк китайского народного хозяйства, — металлургия, энергетика, транспорт, машиностроение. Китайская сторона была заинтересована в сотрудничестве, это отвечало и нашим возможностям.
На переговорах с Ли Пэном с обеих сторон была выражена готовность сократить войска, расположенные вдоль советско-китайской границы. Тогда же были обсуждены вопросы пограничного урегулирования.
Беседа с Дэн Сяопином
Утром 16 мая в здании Всекитайского собрания народных представителей состоялась встреча с Дэн Сяопином. Ему шел 85-й год, но беседу он повел живо, в свободной манере, не заглядывая ни в какие бумажки. Дэн спросил, помню ли я о его послании, переданном через румынского президента Чаушеску три года назад. Он предлагал тогда встретиться со мной, если будут устранены «три препятствия» для нормализации китайско-советских отношений. Я сказал, что должным образом оценил этот шаг, послание стимулировало наши размышления, которые шли в том же направлении.
«ДЭН СЯОПИН. Должен сказать, что ваши первые публичные выступления дали импульс к постановке этого вопроса. В обстановке «холодной войны», конфронтации на протяжении многих лет соответствующие проблемы не получали должного разрешения. Ситуация в мире оставалась напряженной. Откровенно говоря, центральными вопросами международной политики являются советско-американские отношения…
В вашей речи во Владивостоке я увидел возможность достижения перелома в отношениях между СССР и США. Наметилась явная возможность перехода от конфронтации к диалогу. Обозначилась возможность снижения «температуры» в мировой обстановке. Это отвечало бы чаяниям всего человечества. Перед китайским народом встала проблема — могут ли улучшиться китайско-советские отношения? Движимый этим мотивом, я передал вам послание. И через три года мы наконец встретились.
ГОРБАЧЕВ. Вы выдвинули «три препятствия», поэтому понадобилось три года, так сказать, по году на каждое препятствие.
ДЭН СЯОПИН. Теперь мы можем официально объявить о том, что китайско-советские отношения нормализованы. (При этом мы обменялись рукопожатием.)
Сегодня у вас состоится беседа с Генеральным секретарем ЦК КПК Чжоу Цзыяном. Это означает, что отношения между нашими партиями также нормализованы.
ГОРБАЧЕВ. Думаю, что мы можем поздравить друг друга с нормализацией отношений между нашими странами. Я разделяю ваши взгляды на состояние мира. Отношения между СССР и США, СССР и КНР, великими державами, да и в целом международная обстановка переходят в новое русло. При рассмотрении ключевых проблем современности, проблем мирового социализма мы с вами обнаружили большое число совпадающих моментов, поэтому и удалось начать движение навстречу друг другу».
В этот момент Дэн Сяопин говорит:
— Хочу сказать несколько слов о марксизме и ленинизме.
Для меня это было довольно неожиданным. Разговор шел о переменах в сегодняшнем мире, наших отношениях с Китаем, и вдруг такой поворот.
Он продолжал:
— Мы изучаем его много лет. С 1957 года, с совещания коммунистических партий в Москве, и до первой половины 60-х годов между нашими партиями велась острая полемика по данному вопросу.
ГОРБАЧЕВ. Я хорошо помню дискуссию, которую вы вели с Сусловым.
ДЭН СЯОПИН. Будучи одним из участников этой полемики, я, можно сказать, играл в ней немаловажную роль. С тех пор прошло почти 30 лет. Обращая взор в прошлое, нужно отметить, что многие слова, которые тогда высказывались обеими сторонами, оказались пустыми.
ГОРБАЧЕВ. Не берусь судить, полагаюсь на вашу оценку. Разделяю вашу мысль, но 30 лет прошли не зря — нам во многом удалось разобраться. И от этого не уменьшилась наша приверженность социалистическим идеалам, наоборот, мы поднялись до нового уровня осмысления социализма.
ДЭН СЯОПИН. Согласен. Со времени зарождения марксизма прошло более 100 лет. В мире произошли крупные перемены, которые дали толчок возникновению новых условий в различных странах. И даже Маркс не мог бы ответить на все вопросы, которые возникли после его смерти.
ГОРБАЧЕВ. Сейчас мы более внимательно изучаем наследие Ленина, особенно работ, относящихся к периоду после установления советской власти. Он менял, корректировал свои взгляды.
ДЭН СЯОПИН. Я присоединяюсь к вашим высказываниям. Но и Ленин тоже не был в состоянии ответить на все вопросы, предвидеть появление отдельных проблем. Да и никто не вправе ожидать от него этого. Современные марксисты должны продолжать развивать марксизм-ленинизм с учетом конкретных условий.
ГОРБАЧЕВ. Я ценю эту часть нашей беседы. Она дает возможность выявить совпадающие моменты в оценках марксизма, во взглядах на социализм. Это позволит нам лучше оценивать процессы, происходящие в наших странах, выстраивать политику с научных позиций, вырабатывать научное отношение к окружающему миру.
ДЭН СЯОПИН. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что ситуация в мире постоянно меняется. Бурно развивается наука, можно сказать, что один сегодняшний день равняется нескольким десятилетиям или даже векам в древнем обществе. Кто не может с учетом новых условий развивать марксизм-ленинизм, тот не настоящий коммунист. Почему мы говорим, что Ленин великий марксист? Потому что он не по книге, а основываясь на логике и философии, осуществил Октябрьскую революцию в одной из самых отсталых стран. И великий марксист Мао Цзэдун тоже не заимствовал шаблоны марксизма-ленинизма в деле революции и строительства. А ведь Китай тоже был отсталым государством. Разве Маркс мог предугадать, что в отсталой России осуществится Октябрьская революция? Разве Ленин мог предполагать, что в Китае увенчается полным успехом революционная борьба, в ходе которой была предпринята стратегия окружения города деревней? В целом нужно сказать, что консервативный, рутинный подход может лишь привести к отсталости.
ГОРБАЧЕВ. Нам трудно дается каждый шаг вперед. Перемены происходят болезненно. Кажется, уже ясно, что не существует единственной модели общественного развития, утвержденной неким мировым центром. Тем не менее нынешнее руководство подозревается в ревизионистском грехе. Несомненно, что нынешний этап развития имеет важное значение для социализма. От того, как мы сумеем адаптироваться к новым вызовам, зависит будущее наших стран.
ДЭН СЯОПИН. Таким образом, можно сформулировать следующий вывод: обе наши страны считают необходимым учитывать собственные конкретные условия в деле строительства социализма. Не существует какой-либо готовой модели.
ГОРБАЧЕВ. В этом мы можем констатировать полное взаимопонимание.
ДЭН СЯОПИН. Я знаю, что вы также за то, чтобы смысл, итог нашей встречи можно было бы выразить формулой из восьми иероглифов, которые в переводе на русский язык означают: «закрыть прошлое, открыть будущее».
ГОРБАЧЕВ. Мы приняли эту формулу и также считаем, что следует подвести черту под прошлым, обратив свои взоры в будущее.
ДЭН СЯОПИН. Каким образом можно закрыть прошлое и открыть будущее? Давайте так, после этой нашей встречи мы больше не будем ворошить прошлое. А сейчас все же коснусь этой темы.
ГОРБАЧЕВ. Думаю, что лучше все-таки говорить больше о настоящем и будущем.
ДЭН СЯОПИН. Да, действительно, главный упор надо сделать на будущем, однако было бы неправильно, если бы я ничего не сказал сегодня о прошлом. Выскажу точку зрения китайской стороны. Это не значит, что наша точка зрения получила общее признание. Каждая из сторон вправе высказывать свое собственное мнение.
ГОРБАЧЕВ. Хорошо.
ДЭН СЯОПИН. Сейчас я хотел бы изложить свои соображения по двум моментам: во-первых, остановиться на теме ущерба, нанесенного в прошлом рядом держав Китаю, и, во-вторых, сказать о том, откуда в последние тридцать лет, на наш взгляд, исходила угроза Китаю».
Далее мой собеседник назвал в числе держав, нанесших наибольший ущерб Китаю, прежде всего Великобританию и Португалию, поскольку они первыми оккупировали китайскую территорию, создали концессии, захватили Аомынь (Макао). Много говорил об ущербе, нанесенном Японией, царской Россией, получившей наибольшую выгоду от Китая, и Советском Союзе. Он при этом имел в виду, что Россия вплоть до Октябрьской революции имела сферу влияния на северо-востоке Китая, центром которой был Харбин. А всего, утверждал собеседник, Россия получила по неравноправным договорам более чем полтора миллиона квадратных километров китайской территории. И уже после Октябрьской революции, в 1929 году, Советский Союз захватил острова на Амуре и Уссури под Хабаровском.
«ДЭН СЯОПИН. Когда в 1954 году в Китае находилась советская делегация во главе с Хрущевым (в нее входили Булганин и Микоян), китайская сторона обратилась с вопросом: не пора ли решить вопрос о Монголии? Хрущев тогда ответил, что по этому вопросу следует поработать с монгольскими товарищами. В нашем понимании такой ответ практически означал отказ решать проблему. Таким образом, — резюмировал он, — от Китая отделена внешняя Монголия, которая называется теперь Монгольской Народной Республикой, занимающая полтора миллиона квадратных километров.
В 50-е годы главная угроза исходила от США. Во время корейской войны Китай, по сути дела, вступил в прямую схватку с Соединенными Штатами. Мы, конечно, помним, что Советский Союз оказывал нам помощь поставками оружия. Но мы оплатили эти поставки со скидкой 50 процентов. В 60-е годы ситуация в советско-китайских отношениях резко изменилась в сторону обострения. Советский Союз усилил военное строительство в районе китайско-советской границы, нарастил военный контингент до одного миллиона человек. Увеличилась здесь численность ракет, достигнув 1/3 ракетного арсенала Советского Союза. В этих условиях мы, разумеется, сделали соответствующий вывод о том, откуда исходит главная угроза Китаю. В те годы Китай посетили Никсон и Киссинджер.
Хотел бы отметить, что примерно 30 лет назад, а точнее, в 1960 году я во главе китайской делегации посетил Москву. Именно тогда произошел разрыв между нашими странами. Вопрос не в идеологических разногласиях. Мы тоже были не правы. Если вас это интересует, то можете посмотреть протокольную запись переговоров, в частности почитать мою речь. Таким речам не принято давать заголовков, но если вникнуть в ее содержание, то можно убедиться, что ее лейтмотив — Советский Союз неправильно представлял себе место Китая в мире.
Я, как и вы, не люблю выступать, глядя в бумагу. И в те годы выступал, не имея перед собой текста. Однако хочу подчеркнуть, что суть всех проблем состояла в том, что мы были в неравном положении, подвергались третированию и притеснению. Несмотря на все это, мы хорошо помним, что Советский Союз в 50-е годы помог Китаю создать промышленную базу.
Я изложил свою точку зрения, давайте не будем больше говорить об этом. Будем считать, что я высказался и забыл сказанное. Основная цель — покончить с прошлым, открыть будущее. Изложил же я свои взгляды только для того, чтобы советские товарищи лучше понимали китайскую сторону.
ГОРБАЧЕВ. Хотел бы кратко изложить свою точку зрения по этому вопросу. Наверное, ваши высказывания все-таки небесспорны относительно того, как складывались отношения царской России и Советского Союза, с одной стороны, Китая — с другой. Они нам видятся иначе. Кое в чем, особенно в недалеком прошлом, мы чувствуем определенную вину и ответственность с нашей стороны. Что касается далекого прошлого, то это уже относится к истории. Сколько перемен произошло на многих землях! Сколько исчезло государств и появилось новых! Это исторический процесс, сопровождавшийся перемещением народов и изменением территориальных характеристик.
Историю не перепишешь, ее заново не составишь. Если бы мы встали на путь восстановления прошлых границ на основе того, как обстояло дело в прошлом, какой народ проживал и на какой территории, то, по сути дела, должны были бы перекроить весь мир. Это привело бы ко всемирной схватке! Принцип нерушимости границ придает миру стабильность, сохраняет его. Мы исходим из реальностей.
Поколение, к которому принадлежу я, с малых лет воспитано на чувстве дружбы к Китаю. В годы его борьбы против японской агрессии мы были на стороне китайского народа.
ДЭН СЯОПИН. Что касается исторических вопросов, то я их коснулся для того, чтоб поставить точку. Пусть ветер сдует эти вопросы. И после нашей встречи мы уже не будем возвращаться к этой теме. Будем считать, что изложили свои взгляды. Это был просто рассказ. Будем также считать, что с прошлым покончено.
ГОРБАЧЕВ. Хорошо. Давайте поставим на этом точку».
Прежде всего меня интересовали соображения Дэн Сяопина о том, какими путями и в какие сроки можно выйти на масштабное развитие двусторонних отношений. Я имел в виду и политический диалог, и экономические связи, и обмен в области науки и культуры, подготовки кадров — при том, разумеется, понимании, что каждый принимает решение, которое он считает для себя выгодным и приемлемым.
Мне показалось, что к обсуждению таких вопросов в конкретном плане он не был готов. Тем не менее Дэн сказал: «С нормализацией отношений — а мы считаем, что ваш визит и есть нормализация отношений по линии государственной и по линии партийной, — контакты и связи между двумя странами возрастут, темпы их развития будут высокими».
Затем я высказался в пользу быстрейшего решения кампучийской проблемы. Он согласился, что теперь, когда мы будем сотрудничать, открываются возможности быстрее развязывать этот узел. Свою встречу с Дэном я хотел использовать и для того, чтобы как-то содействовать нормализации отношений между Китаем и Вьетнамом. Но когда я предложил возобновить и расширить диалог между ними, то Дэн Сяопин напрямую заявил, что, по его убеждению, «только Советский Союз может повлиять на Вьетнам». Без этого в продуктивность китайско-вьетнамских переговоров он не верил.
В общей сложности наша беседа с Дэн Сяопином продолжалась не меньше двух часов. Дэн Сяопин оперировал понятиями и терминами, характерными скорее для ушедших времен, о чем говорят приведенные выдержки из записи нашей беседы. Но он отнюдь не был рабом этих понятий и терминов, напротив, стремился подчинить их логике сегодняшней жизни. Для него характерна острота восприятия ключевых событий истории и реальных процессов. Думается, секрет его влияния на события в Китае проистекает из огромного жизненного опыта и здорового прагматизма.
Нормализация партийных отношений
В тот же день я встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном. Он начал беседу с акцентирования роли Дэн Сяопина в обновлении китайского общества. Тема обновления была весьма актуальной, в буквальном смысле слова стучалась в окна и двери — за стенами здания Всекитайского собрания народных представителей, где проходили наши встречи, бушевали страсти, студенты требовали прямого диалога с руководителями страны. А в руководстве шли дискуссии: что делать? Ответы предлагались разные, и, я думаю, то, что говорил мне Чжао Цзыян, отражало одну из точек зрения. Этим наша беседа была особенно интересна.
«ЧЖАО ЦЗЫЯН. Вам, вероятно, известно, что Дэн Сяопин, начиная с третьего Пленума ЦК КПК, который состоялся в декабре 1978 года, является общепризнанным в стране и за ее рубежами вождем нашей чартии. Несмотря на то что на XIII съезде в 1986–1987 годах он по собственному желанию вышел из состава ЦК и постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, все наши партийные товарищи знают, что не могут обойтись без его руководства, мудрости и опыта. На первом Пленуме ЦК КПК, избранного XIII съездом, было принято весьма важное официальное решение о том, что по самым крупным вопросам нам нужно обращаться к нему как к руководителю. Это решение не публиковалось, но сегодня я вас об этом информирую.
ГОРБАЧЕВ. Благодарю за доверие. Отрадно, что межпартийные контакты сразу вышли на такой уровень. В результате переговоров с Дэн Сяопином мы приняли формулу, которую он выдвигал и раньше: открыто смотреть в будущее, а что касается прошлого, то подвести под ним черту».
Дальше разговор пошел о межпартийном сотрудничестве. Чжао, отметив, что у каждой из наших стран и партий есть своя специфика, подчеркнул сходство многих проблем и высказался за обмен опытом, взаимное изучение практики реформ. Я ответил, что мы готовы к этому.
Вся беседа прошла в русле доброжелательства и взаимопонимания. Как-то сама по себе была поднята тема реформ.
Я знал о разностороннем опыте Чжао Цзыяна, который был председателем правительства Китая до того, как стал генсеком, а главное — он ведь один из активных сторонников Дэн Сяопина на поприще модернизации и реформирования Китая. Пожалуй, общая и наиболее важная для наших партий проблема состояла в том, как действовать в условиях демократизации государства и общества. Этот вопрос я не раз ставил и на пленумах ЦК, стучался в умы и сердца партийных руководителей, да и всех членов партии с тем, что главное — научиться работать в условиях демократии. К сожалению, эти обращения воспринимались многими как пропагандистский лозунг, по существу, игнорировались.
— А теперь, когда процессы демократизации развернулись, все в панике, — сказал я Чжао Цзыяну.'— Кто отстает, тот проигрывает, — это подтвердили и наши недавние выборы. Те же, кто пошел навстречу людям, уловили необходимость перемен, оказались способны действовать в новых условиях.
Генсек сам упомянул о площади Тяньаньмынь.
— Разумеется, студенты, — сказал он, — наивно, упрощенно смотрят на многие вещи. Они думают, стоит им выдвинуть лозунг, как партия и правительство смогут в один день решить все вопросы. Сейчас чувствуется недостаток взаимопонимания между партийными и государственными учреждениями, с одной стороны, молодежью и студентами — с другой. Мы недопонимаем их настроений, они недопонимают нас. В стране живут четыре поколения людей, взаимопонимание между ними очень важно. Я принадлежу ко второму поколению, студенты к четвертому, а Дэн Сяопин к первому, — сказал Чжао Цзыян.
Я согласился с логикой его рассуждений.
— Мы в общем-то сталкиваемся с теми же проблемами, у нас тоже есть горячие головы. Причем многие из них — хорошие люди, преданные делу обновления социализма. Люди обеспокоены ходом перестройки, тем, что кто-то сдерживает этот процесс, вставляет палки в колеса. И мы видим, что они во многом правы. У нас очень цепкими оказались силы инерции, косности, консерватизма.
«ЧЖАО ЦЗЫЯН. Здесь мы говорим с вами на одном языке. Я думаю, в настоящее время социалистическое движение действительно вступило в решающий этап. Многие молодые люди спрашивают: у кого сейчас преимущество — у социализма или у капитализма? Молодежь с трудом представляет себе степень отсталости дореволюционного Китая или старой России. Кроме того, уже при социалистическом режиме допускались ошибки субъективистского толка. В Китае — со стороны руководства КПК. После Второй мировой войны во многих странах проводились политические и экономические реформы, которые смягчали внутренние социальные и классовые противоречия. Китай же длительное время придерживался старых моделей, изживших себя порядков, которые утвердились в СССР после Октябрьской революции, когда он находился в капиталистическом окружении и подвергался вооруженной интервенции.
Преимущества социализма могут проявиться только через реформы, только они могут поднять его притягательную силу. Нам необходимо теперь ответить на вызов, брошенный капитализмом. У нас нет другого выхода, другого оружия, кроме как идти по пути реформ.
Находятся и такие люди, которые считают, что марксизм себя изжил. Я с этой точкой зрения, разумеется, не согласен. Но если марксизм оказывается не в состоянии ответить на вопросы, возникающие в мире, и в капиталистических, и в социалистических странах, не может дать им теоретического объяснения, то он действительно в какой-то мере себя изжил. Поэтому необходимо развивать марксизм в соответствии с развивающейся обстановкой, нужны новые теоретические и концептуальные подходы. Мне говорили, что утром вы с Дэн Сяопином этот вопрос уже обсуждали. Я рад, что по нему у нас имеется единство взглядов.
ГОРБАЧЕВ. Я всячески приветствую ваше последнее заявление. Если мы не извлечем необходимые уроки из опыта прошлого, то нам будет трудно, и чем дальше, тем больше. Потерпели ли марксизм и социализм поражение? Я бы сказал, что поражение потерпели догматические взгляды на социализм, его роль, перспективы.
Раньше, если кто-то произносил слово «реформа», его сразу же зачисляли в оппортунисты. Правда, оппортунистов действительно было немало. Но если мы ставим вопрос о реформах, то что это — оппортунизм, ревизионизм или революционная теория и практика? Я думаю, второе.
ЧЖАО ЦЗЫЯН. Я также считаю, что реформа просто необходима для продвижения вперед. Это единственный путь. Вместе с тем ее осуществление — сложная для нас задача. Китай десять лет проводит реформу экономической системы. За этот период мы добились больших успехов. Можно с уверенностью сказать, что нынешний облик Китая в большой степени отличается от облика прошлого. Реформа развертывается по всем направлениям. Сейчас перед нами стоит трудный вопрос о роли закона стоимости при общественной собственности на средства производства. Он не может действовать без рынка. При ограничении цен на большую часть товаров не может быть и речи о развертывании закона стоимости. Но если мы снимем эти ограничения в условиях товарного дефицита, будет трудно контролировать масштабы дороговизны. Это как раз следствие старой системы хозяйствования, дефицитной экономики.
Это трудные, но взаимосвязанные вопросы. Раньше мы подходили к ним упрощенно. Сейчас же считаем, что их решение — длительный процесс. Вы, товарищ Горбачев, высказались за обмен мнениями между нашим учеными. Я также за сотрудничество наших ученых, особенно по вопросам экономической теории. Китай провел много встреч с западными специалистами. Но, на мой взгляд, более важно организовать обмен мнениями между специалистами социалистических стран, особенно тех, где идет процесс реформ».
Когда Чжао Цзыян говорил о направленности, масштабности, глубине реформ, темпах преобразований, у меня перед глазами все время стояла собственная страна. Через китайский опыт, через их реформы, которые к тому времени уже шли 10 лет, я получал дополнительные аргументы в пользу темпов и последовательности преобразований, в каких они проводились у нас. Особенно интересный разговор пошел о соотношении политической и экономической реформ. Мой собеседник живо откликнулся на утверждение, что последняя у нас буксует, потому что на ее пути стоят командно-административная система, вся старая надстройка. Мы видим — без политической реформы не обойтись, да и народ надо шире привлекать, без этого гаснут импульсы сверху.
Чжао Цзыян сказал, что их опыт говорит о том же. Он полагал очень важным избежать большого разрыва в темпах проведения той и другой реформ. Курс на политическую перестройку в Китае был определен XIII съездом КПК еще в 1987 году. Генсек подчеркнул, что для их условий важно разделение партийных и государственных функций. И затронул вопрос о многопартийной системе.
— Мы, — сказал он, — не намерены вести дело к тому, чтобы создать аналогичную Западу новую партийную систему, где партии сменяют друг друга у власти. У нас другие исторические условия, другая практика, никакая партия сейчас не в состоянии заменить КПК. Кроме нее есть восемь других демократических партий и групп. Мы консультируемся с ними, взаимно контролируем друг друга, но ведущая и направляющая роль за коммунистической партией.
Он поставил как бы риторический вопрос, подчеркнув, что надо ответить на него всем нам вместе: «Сможет ли однопартийная система обеспечить развитие демократии, можно ли будет при ней осуществлять эффективный контроль над негативными явлениями, бороться с коррупцией, имеющей место в партийных и правительственных учреждениях?»
В постановке этого вопроса я уловил и собственные сомнения, терзавшие, впрочем, не только меня одного. Ведь при обсуждении содержания и рамок нашей политической реформы речь шла о плюрализме мнений, о том, что и при однопартийной системе можно развивать демократию. Но плюрализм у нас не ограничился сферой идей, стал приобретать и политический характер. Пошли упреки ортодоксов, обвинения в том, что мы подвергли ревизии апрельский Пленум, XXVII съезд, XIX партийную конференцию.
Из рассуждений Чжао следовало, что китайское руководство готово встать на путь политического реформирования, когда при однопартийном правлении народные массы могли бы пользоваться широкими демократическими правами. А завершил он их так: если это не удастся, неизбежно встанет вопрос о многопартийной системе. При этом подчеркивал необходимость закрепления конституционных прав граждан, оптимального соотношения демократии и законности. Законность должна базироваться на демократии, а демократия опираться на законность.
Сам Чжао Цзыян сказал, что «в Китае с большим интересом и вниманием следят за политической реформой в Советском Союзе. Особенно большой интерес она вызывает у интеллигенции, требующей, чтобы Китай учился у вас, перенимал ваш опыт. У нас есть институт, студенты которого передали в посольство письмо с просьбой послушать ваше выступление на тему: «Политические реформы в СССР».
Откровенно говоря, открытость, которая проявилась на встрече с Генеральным секретарем ЦК КПК, меня поразила, и я даже по ходу беседы размышлял, что бы это значило. Лишь позднее мне стало ясно, что переживал этот человек, каково внутреннее борение установок и ценностей. Это был реформатор, близкий к Дэн Сяопину, шедший за ним, деятель, так сказать, новой формации. Естественно, что за ним шло немало думающих людей, особенно из молодой интеллигенции. И вот он оказался в те дни перед лицом демократического вызова, с которым выступила студенческая масса. Чжао Цзыян не мог не знать, что многие тогда требовали навести порядок, поскольку студенческое выступление приняло характер гражданского неповиновения. А там ведь была основная масса тех, кто пошел за ним или, по крайней мере, вдохновлялся идеями, которые сам он разделял. Вот в чем была его драма.
«ЧЖАО ЦЗЫЯН. Я обратил внимание на вашу формулировку о правовом социалистическом государстве. Для нас это очень полезно. Мы это осмысливали. На мой взгляд, есть и вопрос о полной независимости суда. Если будут разработаны соответствующие законы, то будет ли иметь суд право на последнее слово?
ГОРБАЧЕВ. Думаю, именно к этому надо идти. Если суд сформировать демократическим, если туда войдут действительно уважаемые, авторитетные лица, если они будут в правовом и экономическом положении поставлены достаточно высоко, если, наконец, будут созданы механизмы, гарантирующие взаимоконтролируемость всей системы, то есть уверенность, что такой суд будет принимать правильные решения».
В целом беседа с Чжао Цзыяном на меня произвела большое впечатление. Передо мной сидел человек, обладающий незаурядными интеллектуальными и политическими качествами, способный ставить под сомнение те или другие положения и установки, искать ответы на самые трудные вопросы. Это мои первые впечатления — раньше я о нем знал очень мало.
В тот же вечер Чжао Цзыян пригласил нас на ужин в небольшой, но очень симпатичный китайский ресторан в резиденции «Дяоюйтай». Он назывался, кажется, «Сад общей радости». И еще мне почему-то врезалось в память название одного из многих китайских блюд — «два дракона в ласточкином гнезде».
Ощущение открытости и взаимной симпатии, возникшее на беседе, как бы само собой перенеслось и на вечернюю встречу. Разговор касался событий на Тяньаньмынь и в других университетских центрах. И свелся к тому, что очень важно найти решения на основе разумного компромисса.
Прощаясь с Чжао Цзыяном, я выразил ему признательность за содержательную, откровенную беседу, пригласил посетить Советский Союз. Сказал, что чувствую потребность продолжить наш разговор. Но та встреча с ним оказалась не только первой, но, видимо, и последней. А впрочем — как знать?
Пока я был занят на переговорах, Раиса Максимовна побывала в пекинской библиотеке, в Обществе китайско-советской дружбы, доме-музее всемирно известного китайского живописца и графика Сюй Бэйхуна, в парке Тяньтань, на кооперативной фабрике декоративно-прикладного искусства. Самые сильные впечатления, которыми она поделилась со мной, — это радушие и доброжелательность китайцев, их одобрение быстрых изменений к лучшему в отношениях между нашими странами. В Обществе китайско-советской дружбы не без намека в адрес политиков сказали, что по линии обществ связи восстановлены еще в 1983 году и очень успешно развиваются.
18 мая после церемонии проводов, состоявшейся в правительственной резиденции, мы отправились в аэропорт, откуда наш курс лежал в Шанхай. Ехали мы опять не через центр столицы, но проводить нас вышли десятки, если не сотни тысяч пекинцев. Причем это отнюдь не были какие-то статисты, выведенные, так сказать, в официально организованном порядке.
…В Шанхае в аэропорту нас встречал член Политбюро, первый секретарь горкома КПК Цзян Цзэминь и мэр Чжу Жунцзи. На улицах города, как и в Пекине, в тот день было много горожан: они вышли нам навстречу, кто просто полюбопытствовать, но в массе своей — оказать доброе внимание.
Когда в Москве обсуждались возможные варианты нашего пребывания в Китае, я предпочел помимо Пекина побывать именно в Шанхае, хотя кое-кто не советовал делать это, ссылаясь на то, что в этом густонаселенном городе с довольно узкими улицами невозможно обеспечить необходимую безопасность. Выбирая Шанхай, я руководствовался тем, что это крупнейший после Пекина промышленный и культурный центр, о котором я слышал и читал, наверное, больше, чем о любом другом городе Китая. Не скрою, выбирая Шанхай, я имел в виду еще и возможность познакомиться с Цзян Цзэминем — секретарем Шанхайского городского комитета КПК, о котором в Москву доходила информация как об одном из видных и интересных руководителей «новой волны». Он — выпускник Шанхайского политехнического института, в 50-е годы проходил практику на автомобильном заводе в Москве и с тех пор не забыл русский язык, в чем я убедился, когда беседовал с ним.
Хорошее знание Цзян Цзэминем настроений шанхайцев, а может быть, и его личные качества человека спокойного, уравновешенного, приветливого — таким я его тогда запомнил — сыграли свою полезную роль в том, что массовые студенческие выступления в этом городе обошлись, насколько меня информировали, без трагических инцидентов. Видимо, это в какой-то мере также и заслуга мэра Шанхая Чжу Жунцзи, который произвел на меня хорошее впечатление своей деловитостью, широтой и глубиной суждений об экономике этого огромного города. Знакомство с этими людьми обогатило диапазон моих представлений о современных китайских администраторах, и поэтому для меня не стало неожиданностью сообщение об избрании Цзян Цзэминя в июне 1989 года на пост Генерального секретаря ЦК КПК после отставки Чжао Цзыяна, на которого была возложена ответственность за студенческие выступления и вообще за «поветрие буржуазной либерализации».
Возвышение Цзян Цзэминя не было победой сторонников жесткой линии. Видимо, и на этот раз архитектору китайских реформ Дэн Сяопину удалось найти своего рода политический компромисс и поддержать равновесие в руководстве партии и государства.
Встречи с молодежью
Кроме содержательных встреч с руководителями Китая, которые имели поворотное значение в истории отношений народов двух наших стран, огромное впечатление произвели на меня встречи с молодежью. Они оказались в чем-то даже неожиданными. Многие наши специалисты по Китаю полагали, будто тяга к добрым отношениям с Советским Союзом характерна главным образом для старших поколений китайцев, у которых она является как бы ностальгической. Что же касается молодежи, то она, как предполагалось, за годы советско-китайского отчуждения если и не стала антисоветски настроенной, то, по крайней мере, безразлична по отношению к Советскому Союзу или даже сориентирована в прозападном, проамериканском духе.
Общаясь напрямую с молодыми китайцами в Пекине и Шанхае, мы убедились в ином. Молодые люди — студенты, учащиеся школ, рабочие и служащие — охотно вступали в диалог, говорили о своем желании побывать в Советском Союзе. Меня глубоко тронул их живой, неподдельный интерес к тому, что происходит в СССР, одобрительные высказывания в связи с восстановлением нормальных отношений между нашими странами. В разговоре с ними на Великой китайской стене я рассказал о совместном с китайскими руководителями решении развивать сотрудничество между Китаем и Советским Союзом и услышал в ответ: «Это и наше желание, наша мечта».
Атмосфера встреч с молодежью везде была просто чудесной, искренней. Мне запомнилась, в частности, встреча с демонстрантами на обратном пути с Великой китайской стены. Служба безопасности, заметив впереди многочисленные колонны молодежи, хотела было направить кортеж машин куда-то в боковую улицу, но я попросил ехать прямо. Студенты, увидев мою машину, бурно нас приветствовали. Мы остановились, вышли из автомобилей, обменялись рукопожатиями. Порядок демонстранты соблюдали образцовый, сами организовали живой коридор, и мы спокойно проехали, а уж за нами — охрана.
Словом, самые разнообразные контакты с китайской молодежью подтвердили, что я правильно поступил, решив не откладывать визита в Китай, хотя у некоторых наших товарищей и возникало сомнение — не помешают ли его успешному осуществлению начинавшиеся в Пекине студенческие выступления. Откровенно говоря, из Москвы мы все же не представляли масштаб этих выступлений. Пик студенческого протеста совпал с моим приездом в Пекин, но было бы, конечно, большим упрощением и просто неправдой усматривать здесь какую-то взаимосвязь, как это пытались делать многие из тысячи двухсот иностранных журналистов, съехавшихся освещать визит.
С чем шли люди на улицы, почему они решили приурочить наибольший размах демонстрации (по некоторым оценкам, в Пекине вышли на улицы не менее двух миллионов демонстрантов) к приезду Горбачева? В какой-то мере ответ на этот вопрос дают полученные мною обращения. Вот петиция студентов старейшего и известнейшего в Китае Пекинского университета, переданная мне через наше посольство в китайской столице.
«Уважаемый господин Горбачев! Мы, студенты и преподаватели Пекинского университета, выражаем Вам наше уважение и горячо приветствуем Ваш визит в нашу страну… Вы повели советский народ на осуществление самой великой, самой глубокой, самой всесторонней за всю историю СССР перестройки общества. В процессе перестройки Вы проявили удивительное мужество и ум. Вся Ваша политическая деятельность свидетельствует о том, что Вы не только прекрасно разбираетесь во внутренних проблемах вашей страны, но и обладаете глубокими, всесторонними знаниями в области современной и мировой политики, экономики, права, культуры и особенно современной демократической мысли.
Мы глубоко восхищены Вашей книгой «Перестройка и новое мышление», которая явилась концентрированным отражением Ваших знаний. Верим, что Ваш визит не только сможет положить конец 30-летнему ненормальному состоянию китайско-советских отношений, но и принесет китайскому народу новые представления и идеи относительно осуществления реформ и строительства в социалистическом государстве. Даст нам ценный опыт проведения социалистической реформы.
Пекинский университет — это колыбель китайской демократии и науки. В новой истории Китая он был генератором многих реформаторских передовых идей. Студенты и преподаватели Пекинского университета гордятся этим. Поэтому мы были бы рады, если бы во время пребывания в Пекине Вы смогли в удобное для Вас время приехать к нам и выступить по вопросам перестройки в социалистическом государстве. Для нас было бы большой честью, если бы Вы посетили Пекинский университет. Верим, что Вы примете наше приглашение.
С огромным уважением. 12 мая 1989 года. Подписи студентов и преподавателей (около трех тысяч)».
Получил я и письмо от студентов Пекинского педагогического университета с приглашением посетить университет и поделиться своими мыслями о проблемах демократизации в СССР и во всем мире.
Из этих и других обращений, доходивших до меня, видно, что молодежь, искавшая оптимальный вариант преобразований у себя на родине, хотела из первых рук узнать о нашей перестройке. Ведь сами по себе экономические реформы без демократизции всей общественной и государственной жизни не могут иметь достаточного простора, перспектив, надежности. А главное — плодами этих реформ будут в первую очередь пользоваться коррумпированный бюрократический аппарат, дельцы теневой экономики. Что же касается социально незащищенных слоев населения, которых едва ли не большинство, на их долю достаются крохи с «пиршественного стола».
О реформах в Китае
Кстати, это ведь и было одной из главных причин недовольства большей части городского населения в Китае весной 1989 года. Студенты, значительная часть интеллигенции в буквальном смысле слова нищенствовали в условиях инфляции и засилья коррумпированного чиновничества из партийного, государственного и хозяйственного аппарата. Об этом рассказывали моим спутникам их китайские друзья, да и без рассказов было видно, так сказать, невооруженным глазом. Поэтому восторженных оценок плодов экономической реформы в Китае недостаточно для объективной оценки весьма противоречивых, далеко не однозначных социально-экономических и общественно-политических процессов в этой огромной стране.
Взять экономические зоны. Они расположены главным образом в приморских районах, на побережье. Благодаря зарубежным инвесторам, в основном из числа проживающих за границами страны этнических китайцев, использованию дешевого труда и передовых технологий, в этих зонах выпускается современная конкурентоспособная продукция, идущая на экспорт. Но у нас до сих пор мало кто знает, что эти зоны, по сути дела, закрыты для большинства китайских граждан.
Вовсе не хочу бросить тень на китайский опыт. Говорю об этом, чтобы еще раз обратить внимание на некомпетентный, поверхностный подход тех, кто бездумно раздает направо и налево рекомендации, не давая себе труда осмыслить специфику предмета, реалии жизни, различие обстановки.
В поездке меня сопровождала большая группа деятелей культуры: писатели Ч.Айтматов, В.Распутин, С.Залыгин, академики Е.Примаков, Г.Новожилов, В.Коптюг, представители художественной интеллигенции — К.Лавров, Р.Паулс, С.Чиаурели, Л.Филатов, Э.Ижмухамедов, журналисты Г.Семенова, О.Лацис. У них были сотни встреч с коллегами, с прессой, с жителями Пекина. Побывали в семьях друзей и были просто потрясены условиями, в которых жили их китайские коллеги. Вот где истоки бурной пекинской весны 1989 года. В свете этого мне представляются малоубедительными суждения некоторых наших политиков, что, мол, надо было и нам идти по китайскому пути, то есть осуществить сначала реформы экономические, а уж потом браться за политические, тогда можно было избежать потрясений, обеспечить стабильность. Трудно сказать, чего больше в таких рассуждениях — наивности и верхоглядства или политических спекуляций.
Я-то хорошо знаю косность наших политических структур, чтоб питать иллюзии относительно их терпимости к экономическим реформам. Ведь все попытки сколько-нибудь серьезных экономических преобразований у нас глушились и давились политическим ретроградством. Так было при Хрущеве и Брежневе, так в значительной мере происходит и сейчас.
Нет слов, экономические реформы в Китае — это большой успех нового руководства страны и китайского народа в целом. Их опыт, сильные и слабые стороны, плюсы и минусы заслуживают самого внимательного изучения. Ведь примерно за десять лет огромная страна с более чем миллиардным населением освободилась от наиболее пагубных левацких экспериментов. Сотни миллионов людей получили возможность прокормить сами себя, десятки миллионов добились относительного благосостояния. Достижения значительны и очевидны.
Но очевидно и то, что вопрос о политических реформах не снят, а только на время заморожен. Это по-своему подтверждено XIV съездом КПК (осень 1992 года) и состоявшейся после него сессией Всекитайского собрания народных представителей, признавших необходимым параллельно с экономической реформой проводить «политическую перестройку». Характерно, что китайские политики не отказались от этого понятия.
Разумеется, дело народа и руководства КНР определять свои политические, экономические и социальные приоритеты, пути и методы осуществления реформ. Но тем, кто рекомендует нам воспроизвести китайскую модель, пусть и новейшую, не худо бы знать о ней побольше и поконкретнее. По моему же разумению, методы поддержания политической стабильности, которые считают возможным и необходимым использовать в Китае, во многом не применимы в наших условиях. Констатируя это, я отнюдь не выступаю за так называемые двойные стандарты применительно к Китаю и остальному миру. Но и игнорировать особенности развития величайшей по населению страны с древнейшей цивилизацией, пытаться подгонять всех под какую-то новую общеобязательную, унитарную модель развития было бы верхом доктринерства худшего толка.
Историческое значение нормализации отношений между нашими странами состоит в том, что народы Китая и России, других государств СНГ получили возможность открыто и широко общаться друг с другом к огромной взаимной пользе. Выигрывают от этого вместе с ними вся Азия и весь мир. В этом смысле визит в Китай весной 1989 года стал крупным шагом к оздоровлению всей международной обстановки.
Перед моим отлетом из Пекина иностранные корреспонденты особенно настойчиво добивались от меня оценки студенческих выступлений на Тяньаньмэнь, спрашивали о моей возможной реакции в случае возникновения подобных событий в Москве. Я отвечал, что мы будем рассматривать их конкретно, находить политические методы решения проблем на основе демократии и гласности, сохраняя основные ценности, которым присягнули.
20 мая в ряде районов Пекина было введено военное положение, в город введены войска. В ночь с 3 на 4 июня вооруженные силы армии и полиции очистили площадь Тяньаньмэнь и прилегающие кварталы от демонстрантов. При этом, по официальным данным, были жертвы среди гражданского населения — более 200 человек убитых и 3 тысячи раненых. Погибли десятки военнослужащих, свыше 6 тысяч из них получили ранения.
В моем выступлении и заявлении Съезда народных депутатов СССР от 6 июня было выражено сожаление в связи со случившимся в Пекине, сочувствие пострадавшим, а также надежды на то, что мудрость, здравый смысл, взвешенный подход возобладают и из сложившейся ситуации будет найден выход, достойный великого китайского народа. Таким образом, наша позиция в отношении трагических событий на Тяньаньмынь сочетала невмешательство во внутренние дела Китая с искренней заинтересованностью в стабильном развитии дружественной нам страны по пути реформ и открытости в условиях гражданского мира и ненасилия.
Спустя год после моего визита в Советский Союз прибыл Ли Пэн. Я принял его 24 апреля 1990 года в Кремле. Связи между двумя нашими странами, особенно на Дальнем Востоке, множились, и мы с китайским премьером выразили удовлетворение на этот счет. Наш разговор касался и «большой политики».
Кстати, это было очень непростое время для нас, когда перестроечные вопросы, политические и экономические реформы вступили в новую фазу и напрямую все больше задевали интересы всех социальных слоев общества. Снова, не без участия радикальных сил разного толка, встали вопросы о целях осуществляемых реформ, о собственности, судьбе союзного государства, о демократии и законности, о прошлом и настоящем страны. Я уже говорил, что за всем этим внимательно следили в других странах, в том числе и в Китае. И мне в беседе с премьером Китая пришлось вновь вернуться к исходным принципам перестройки.
«ГОРБАЧЕВ. Мы смотрим на свое прошлое, на наш сегодняшний день, на мир вокруг нас, извлекаем уроки, что-то берем у других, но идем своим путем. И, в общем, будем жить по-своему. Не можем копировать ни Китай, ни Польшу, ни Швецию. Ведь у каждой страны своя судьба, свои возможности, свои ресурсы.
Трудности, с которыми мы сталкиваемся, питают консервативные настроения. Люди опасаются возможного ухудшения обстановки, беспокоятся за судьбу страны. Поэтому консерватизм далеко не всегда равнозначен реакционности.
Все прежние реформы в экономике потерпели неудачу потому, что упирались в жесткие рамки, по сути дела, неподвижной политической системы. Поэтому мы начали политические реформы. Теперь ощущается мощное давление со стороны общественности, требующей радикализации преобразований в экономике. Мы стремимся удержать реформы в цивилизованных рамках, в русле правового процесса, избежать конфронтации, чреватой насилием.
Приходится встречаться и с такими суждениями: что бы ни произошло, Советский Союз не пропадет, трудности бывали и в прошлом, в конечном счете все образуется. Кстати, приводится такой аргумент: не пропал же Китай, выдержал трудности, связанные с «культурной революцией». Но, как известно, «культурная революция» очень дорого обошлась народу. С нашими трудностями мы сможем справиться лишь в том случае, если будем прочно и постоянно держать инициативу в своих руках.
ЛИ ПЭН. Прежде всего прошу извинить нас за неудобства, которые вы испытали во время вашего визита весной прошлого года в Пекин из-за весьма нестабильной обстановки, сложившейся в то время у нас. Несмотря на эти обстоятельства, ваш визит в Пекин мы считаем историческим. Ваша встреча с товарищем Дэн Сяопином позволила «закрыть прошлое и открыть будущее» в отношениях между Китаем и Советским Союзом. Цель моего нынешнего визита — продвинуть вперед это будущее, чтоб достичь нового уровня в отношениях между нашими странами в области политики, экономики, науки и техники, культуры.
После известных июньских событий состоялись три пленума КПК. В партии сложилось новое руководящее ядро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем. Мы все его поддерживаем. У нас существует единство, и вы можете быть спокойны, имея дело с таким руководящим ядром. Обстановка в Китае сейчас стабильна, хотя в экономике немало проблем и трудностей.
В связи с вашим упоминанием о «культурной революции» в нашей стране скажу, что она была катастрофой для Китая, нанесла ему огромный ущерб и отбросила на десять лет назад. Это были годы, когда рабочие не работали, крестьяне не возделывали землю, учащиеся не учились, служащие не занимались своими делами. Вся страна оказалась полупарализованной. Мы извлекли из этого глубокие уроки. Главный вывод — без стабильной обстановки в стране невозможно нормальное развитие, а тем более проведение экономических реформ. Откровенно говоря, Китай не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать повторение такого рода потрясений.
Мы считаем, что для всех социалистических стран необходимы реформы. Я полностью согласен с вами, что каждый народ сам делает свой выбор с учетом собственной специфики, собственной культуры. Нет какой-либо законченной модели социализма, которой могли бы подражать все.
Проводя в течение 10 лет политику реформ и открытости в отношении к внешнему миру, мы добились больших успехов. После того, что произошло у нас 4 июня, не только не отказываемся от продолжения политики реформ и открытости, но, наоборот, будем еще лучше проводить ее. Заблуждаются те, кто полагает, будто в Китае осуществляется только экономическая, а не политическая реформа. Но мы придерживаемся того, что обе реформы должны проводиться комплексно.
…После того, что вы, товарищ Горбачев, рассказали мне сегодня, после наших переговоров с товарищем Рыжковым у меня складывается убеждение, что наши точки зрения по вопросам проведения реформ, а также по двусторонним отношениям во многом одинаковы. Хотя есть, конечно, и различия, я обнаруживаю все больше совпадающих моментов в наших подходах. Это позволяет и дальше укреплять отношения между двумя нашими социалистическими странами, поддерживать друг друга, помогать в экономическом развитии, так как наши народные хозяйства взаимодополняемы. Отсюда широкие перспективы для развития экономических связей. Китайская сторона готова прилагать дальнейшие усилия в этом плане».
Ли Пэн выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в самолетостроении, приобретении новейшей военной техники в Советском Союзе, контактах между военными двух стран. Поделился и соображениями по международным проблемам, заметив, что в международной обстановке отмечаются элементы разрядки и напряженности.
Завершая беседу, я имел основание сказать, что в советско-китайских отношениях появляется все больше и больше совпадающих моментов, и это хорошая база для их дальнейшего развития. Однозначно поддержал переговоры Ли Пэна и Рыжкова по экономическому сотрудничеству.
Советско-китайские отношения уверенно шли в гору на всех направлениях. Важным рубежом здесь стал визит Генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя в СССР, состоявшийся в середине мая 1991 года, ровно через два года после моего визита в Пекин.
Мы встретились с Цзяном как добрые знакомые. Было заметно, что ему приятно снова побывать в Москве. Он посетил завод имени Лихачева, на котором стажировался тридцать пять лет назад. Рабочие, инженеры, служащие этого автомобильного гиганта сердечно приняли высокого китайского гостя.
Мы знали, что в Пекине проявляют немалую озабоченность нарастанием внутриполитической напряженности в СССР. Было известно и то, что в закрытом порядке курс «горбачевской перестройки» подвергался в КПК изрядной критике. Но открытой полемики китайские руководители не допускали. Судя по всему, в Пекине были сделаны собственные выводы и из известных событий, разыгравшихся в Китае весной 1989 года. Резко реагируя на прямые обвинения в нарушениях прав человека в их адрес, руководители Китая тем не менее вносили коррективы в проведение экономических реформ и постарались как-то выправить отношения с учащейся молодежью, интеллигенцией. Изменение подходов было, несомненно, предметом борьбы в верхнем эшелоне, и, видимо, сторонники эволюционного пути оказались сильнее фундаменталистов маоистского образца.
Я рассказал Цзяну о ситуации в стране и подтвердил нашу заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Китайской Республикой.
Руководитель ЦК КПК и Председатель КНР пожелал успеха в проведении реформ, сделав упор на то, что, как он думает, это самым непосредственным образом связано с укреплением стабильности в Советском Союзе. С этим нельзя было не согласиться.
Продолжая с интересом следить за жизнью Китая, испытываю огромное удовлетворение тем, что прорыв к полной нормализации отношений между нашими странами позволил освободиться от страхов и открыл возможность общения и сотрудничества, полезных для наших стран и всего мирового сообщества.
Глава 40. Вьетнам уходит с тропы войны. Лаос и Кампучия. Наш друг Монголия. КНДР
С первых дней своей деятельности на посту Генерального секретаря мне пришлось много времени уделять отношениям с Вьетнамом, Лаосом и Кампучией. Глобальная конфронтация в этих странах проявилась с особой жестокостью. Индокитай явился регионом острого соперничества противоборствующих сторон за сферы влияния. В борьбу за Вьетнам — а это значит и за Индокитай — так или иначе втянулись мощнейшие державы. На стороне южновьетнамского режима выступили США со своей полумиллионной военной группировкой, а на стороне Северного Вьетнама — Советский Союз и Китай. В итоге многолетней изнурительной войны США в конце концов потерпели поражение и были вынуждены признать бесперспективность своего военного вмешательства.
Самое трудное — после победы
Победа досталась вьетнамцам чрезвычайно высокой ценой. Восстановление территориальной целостности страны произошло при сохранении двух экономических систем. На Севере действовала жесткая административно-командная система, усугубленная многолетним военным режимом. На Юге, несмотря на тяжелые последствия войны, сохранялась экономика, опиравшаяся на частную инициативу. Однако уход американцев лишил Юг финансовых вливаний, связанных с обслуживанием армии США. Произошел обвал рыночного хозяйства. Вьетнам оказался в критическом положении, перед ним встал вопрос о выборе пути. Такой выбор оказался нелегким, он затянулся на годы.
Долгожданное объединение вызвало огромный взлет национального самосознания. Преобладала вера в то, что революционная энергия, повернутая в сторону мирного строительства, в короткие исторические сроки позволит создать мощное, процветающее независимое государство. Амбициозные планы Ханоя насторожили Пекин, который был склонен рассматривать Вьетнам как сферу своего влияния, не захотел считаться с тем, что возникла новая реальность — крупное государство с 60-миллионным населением, со своими интересами. Не случайно Дэн Сяопин в беседе со мной даже в 1989 году выражал беспокойство по поводу намерения Ханоя создать индокитайскую федерацию. Не могу сказать, были ли такие намерения действительно серьезными, но очевидно, что Вьетнам имел заинтересованность в самом тесном сотрудничестве с Лаосом и Кампучией, которые вместе с ним входили во французский Индокитай.
Пекину, видимо, было трудно осознать, что Вьетнам поднялся и почувствовал способность играть самостоятельную роль в индокитайском регионе, что с этим нужно считаться. На китайско-вьетнамских противоречиях по-своему играла полпотовская группа, пришедшая к власти в Кампучии и пользовавшаяся поддержкой КНР. Вьетнам ввел в Кампучию свои войска, и это спасло ее от геноцида, но породило острейший очаг международной напряженности. Пекин решил «проучить Вьетнам», бросив против него 600-тысячную армию. Мы немало делали, чтобы помочь Вьетнаму выдержать давление с Севера, а затем встать на ноги и заняться экономическим строительством.
Я в «телеграфном ключе» перечисляю эти известные всем события, чтобы напомнить, в какой момент мне пришлось заняться вопросами советско-вьетнамских отношений. Вьетнамское руководство, особенно Ле Зуан, настойчиво ставило перед нами просьбы о расширении сотрудничества и увеличении экономической помощи, поставок продовольствия, товаров, а также оружия, об усилении политической поддержки. Своего рода идеологическим обоснованием такого подхода была ставка на создание мощного индустриального Вьетнама, доминирующего в Юго-Восточной Азии, что, по их мнению, отвечало и стратегическим интересам Советского Союза.
И надо сказать, долговременная концепция перехода от военной к мирной экономике, к разработке которой мы приложили руку, во многом отражала этот на самом деле авантюрный подход. Его реализация сопровождалась насаждением методов, чуждых специфике и возможностям Вьетнама. Все было брошено на строительство огромного металлургического комбината, цементных заводов, электростанций, больших промышленных комплексов и т. д. Что из этого вышло? Возвели мощную электростанцию Хаобинь, а использовать ее мощности нельзя было из-за отсутствия линий электропередачи и… потребителей. Огромные размеры приобрела «незавершенка» — омертвлены миллионы капитальных вложений, которых не хватало в сельском хозяйстве, легкой промышленности.
Построили цементный завод, а работать некому, вьетнамцы отказываются от работы, ссылаясь на недоедание. На открытых угольных разработках водить большегрузные машины было некому — истощенным, изможденным людям это просто было не по силам. Обо всем этом я узнал, когда в 1981 году принял участие в работе V съезда КПВ.
Повсюду бросалась в глаза брошенная, ржавеющая техника. На свалку отправлялись автомобили, трактора, станки из-за небольших поломок — не было ремонтной базы. К советскому руководству шли все новые просьбы о поставках техники. В Москве все чаще стали приниматься решения об отказе. Ле Зуан эмоционально реагировал на это, постоянно напоминая о необходимости поддержки «победившей пролетарской революции».
Со временем стало ясно, что избранная модель развития ошибочна. Страна с благоприятным климатом, огромными возможностями для ценных субтропических культур, легкой промышленности, туризма пошла по пути, который не соответствовал ее реальным возможностям и противоречил экономической целесообразности.
Новое советское руководство поставило перед руководством Вьетнама вопрос о внесении корректив в стратегию развития. Внутри самого Вьетнама росло недовольство тяжелым экономическим положением, все чаще вспыхивали волнения. Просто уклониться от них партии уже нельзя было, надо было реагировать. Народ отвергал навязываемый ему курс. Его не вдохновляли «великие стройки». У него не было элементарных условий существования: ни поесть досыта, ни обуться, ни одеться прилично, уж не говоря о жилье и пользовании современными промышленными товарами. Ситуация приобретала критический характер, в партии набирала силу дискуссия.
В июле 1986 года скончался Ле Зуан, немного не доживший до восьмидесяти. Генсеком избрали принадлежащего к хошиминовской когорте Чыонг Тиня, которому от роду было почти столько же лет.
На декабрь 1986 года был намечен VI съезд КПВ, и к нам для консультаций приезжал Чыонг Тинь. Хочу воздать должное этому человеку: он решительно высказывался за пересмотр экономической политики и обновление кадров и видел свою задачу в том, чтобы выработать новую политику, успешно провести съезд и уступить место другому руководителю.
После острых дискуссий VI съезд КПВ высказался за проведение в жизнь новой стратегии социально-экономического развития. Были выделены три целевые программы — производство продовольствия, товаров широкого потребления и товаров на экспорт. Это, по сути дела, был первый съезд компартий социалистических стран, открыто заявивший о необходимости перемен и недвусмысленно высказавшийся в поддержку перестройки. Генеральным секретарем ЦК КПВ был избран Нгуен Ван Линь. Ему было за семьдесят. Почти всех «стариков» из руководства, в том числе Чыонг Тиня, перевели в институт советников.
С военной тропы — на продналог
В мае 1987 года Нгуен Ван Линь приехал в Москву. Он поделился тем, как обстоит дело с выполнением решений съезда. Как оказалось, партия парализована борьбой между консерваторами и теми, кто хочет быстрых перемен, можно сказать «с сегодня на завтра». Новый генсек критически оценил подходы и тех и других, высказывал трезвые, реалистические мысли о целесообразности во Вьетнаме развивать тяжелую промышленность, прежде всего для удовлетворения нужд сельского хозяйства и производства товаров народного потребления. На селе надо идти на широкое применение семейного подряда, расширение подсобных хозяйств крестьян. Нгуен Ван Линь считал, что все это не удастся сделать, если партию и госаппарат не очистить от коррупционистов. Во внешнеполитической сфере СРВ он высказался за ориентацию на переход от конфронтации в регионе к мирному сосуществованию. В этой связи новый генсек поддержал курс Советского Союза на нормализацию отношений с Китаем и поделился намерениями полностью вывести вьетнамские войска из Кампучии.
Я почувствовал, что речь идет о действительно новых стратегических установках, и с чистой совестью поддержал все его намерения и посоветовал смелее обратиться к ленинскому опыту проведения новой экономической политики применительно к условиям своей страны. Наши беседы продолжались два дня. Поскольку дело шло к крупному повороту, я решил не жалеть времени на переговоры. Нгуен Ван Линь был доволен их итогами, признался, что для него «очень важно вернуться на родину с поддержкой Горбачева».
На очередном Пленуме ЦК КПВ генсек рассказал об итогах своей поездки в Москву. Развернулась бурная дискуссия, большинство пошло за ним. Похоже, наша позиция сыграла здесь решающую роль. Процесс перемен, казалось бы, начался, но вот прошел год, а социально-экономическое положение в стране продолжало ухудшаться. При огромном дефиците бюджета сохранялась огромная армия (2 миллиона человек), а в госаппарате было занято 3–4 миллиона. Несмотря на резкое сокращение строительства, ощущалась нехватка капвложений, более 50 процентов производственных мощностей оказалось незагруженными. Быстро нарастала инфляция. Нгуен Ван Линь вновь приехал к нам в ноябре 1987 года. Просил поддержать Вьетнам, пока не заработает новый экономический механизм, срочно поставить 500 тысяч тонн риса, столько же минеральных удобрений, 5 тысяч тракторов.
Генсек рассказывал, что народ за обновление, перестройку, но беда в том, что большинство кадров не способны вести дело по-новому. Пришлось многих освободить. Завершил он эти рассуждения тем, что вопрос о кадрах выдвигается у них на первый план, и есть намерение обсудить его на одном из ближайших пленумов ЦК. Тогда мы сделали максимум возможного, хотя самим было нелегко. Это помогло новому руководству Вьетнама удержать контроль над ситуацией и продолжить реформы.
Я постоянно поддерживал настрой Нгуен Ван Линя на перемены. Он не раз потом приезжал в Москву, чтобы получить «заряд обновления» и, вернувшись домой, сказать, что Горбачев, руководство Советского Союза поддерживают его политику. Он нуждался в этом для преодоления огромной инерции, накопившейся за десятилетия.
Словом, уже и после того, как был сделан новый стратегический выбор и внесены принципиальные коррективы в политические установки, практические изменения шли трудно и болезненно. Обстановка в руководстве Вьетнама была на пределе, угроза раскола вполне реальной. Очень важно было поддержать Нгуен Ван Линя, чтобы он не сломался под напором открытого и скрытого сопротивления инертных антиреформаторских сил.
Тем приятней было услышать от Генерального секретаря КПВ при нашей очередной встрече, состоявшейся в октябре 1989 года, что новая политика начинает давать первые результаты. Вот что он мне рассказал:
«НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Раньше у нас в кооперативе крестьянин получал в качестве дохода лишь 30 процентов продукции, остальное уходило на налоги и оседало в карманах различных посредников. Интереса к труду у крестьян практически не было. Теперь, когда крестьяне поддержали меры по перестройке сельского хозяйства на началах подряда и получают 60 процентов продукции, они по-настоящему заботятся об урожае.
У нас, как вы знаете, нередки стихийные бедствия. Так вот сейчас крестьяне, не ожидая помощи государства, сами быстро восстанавливают посевы, компенсируют потери. Словом, три года потратили на дискуссии, но теперь знаем, как вести дело. В прошлом году получен рекордный урожай продовольственных культур — 19 миллионов тонн (в пересчете на рис). И это несмотря на то, что часть посева пострадала от тайфунов.
ГОРБАЧЕВ. Интересная информация. Она подтверждает, что главное — создать людям условия для нормального труда, переходить от командных методов к использованию материальной заинтересованности. Хочу отметить вашу активную позицию в этих вопросах. Хорошо, что такой курс был взят съездом партии, а после съезда последовательно проводится в жизнь. Знаю, как это непросто. Как бы то ни было, начат большой поворот в политике партии на экономическом направлении. Ведь вообще Вьетнам, насколько я понимаю, располагает возможностями стать экономически сильным государством.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Раньше существовала система административно-бюрократического снабжения, когда государство закупало у крестьян продукцию, а затем снабжало ею все городское население. Сейчас крестьяне выплачивают налог, платят за удобрения, технику, а оставшуюся часть продукции сами вывозят на рынок.
ГОРБАЧЕВ. Ленинский продналог.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Именно. В последнее время я внимательно перечитал работы Ленина, связанные с внедрением нэпа. Приведу конкретный пример. Раньше у нас болела голова, как прокормить Ханой. Беря на себя такую задачу, государство несло огромные транспортные расходы, значительная часть продукции терялась в пути, снижалось ее качество. Теперь столицу кормят окружающие ее провинции. Мы отменили карточки на рис, ввели надбавку к заработной плате рабочим и служащим, которые покупают продовольствие на рынке. Государственная закупка мяса составляет примерно 50–60 процентов, остальное крестьянин продает на рынке. Возникла своего рода конкуренция между торговцем-государством и торговцем-крестьянином. В результате начала снижаться цена.
До сих пор не прекращаются дискуссии по этому вопросу. Идут споры и в Политбюро, но все же большинство за перемены. Меня, правда, упрекали, что это-де путь к капитализму.
ГОРБАЧЕВ. И нас нередко в том же упрекают. Выходит, что недостаток продовольствия и товаров при соблюдении политической догмы — это социализм. А когда человек получает возможность раскрыть свои способности и произвести больше продукции для общества и для себя — это вроде бы отход от социализма. На деле же в первом случае речь идет о догматическом, а в другом — о творческом понимании социализма.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Сейчас доход у крестьянина резко возрос. Нас предостерегают, что усилится дифференциация между богатыми и бедными в деревне.
Земля по Конституции Вьетнама является общенародной собственностью и не может быть продана, но передается в вечное пользование сельскохозяйственным кооперативам. А те сдают ее в аренду крестьянам с правом наследования. Размеры земельных участков могут быть разными в северных и южных районах. Кое-где крестьяне начали объединять средства и проводят небольшие каналы, приобретают технику.
Я с большим вниманием прочитал ваш доклад на мартовском Пленуме ЦК КПСС, посвященный новой аграрной политике, и пришел к выводу, что мы идем в одном направлении.
ГОРБАЧЕВ. Конечно, в наших странах различные условия, но главное и у вас, и у нас — это перестройка производственных отношений.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Сегодня настроения в деревне совсем другие. Особенно круто ситуация начала меняться к лучшему в середине 1988 года. Стабилизация цен на продовольствие оказала позитивное влияние на цены промышленных товаров. Уровень инфляции с 28 процентов в месяц сократился до 5 процентов в настоящее время. Мы рассматриваем это как начало стабилизации нашей денежной единицы — донга.
ГОРБАЧЕВ. Рост доходов крестьян будет, естественно, увеличивать их спрос на технику, удобрения, бытовые товары. Если им будет трудно реализовать свои доходы, то не будет и стимула зарабатывать деньги.
НГУЕН ВАН ЛИНЬ. Вы правы. Трудности в этой области мы уже ощущаем. Взяли курс на полный отказ от системы административно-бюрократического снабжения, когда все распределяло государство».
Рассказав обо всем, что ему удалось сделать в области сельского хозяйства, перестройки в деревне, Нгуен посетовал, что не может похвастаться такими же сдвигами в промышленности. Наверное, говорит, в значительной мере потому, что по-старому работает Госплан. Командная система подавляет инициативу, ограничивает самостоятельность у производственных коллективов в промышленности, и это сказывается на эффективности производства, всей экономической ситуации.
К этому времени произошло еще одно важное событие. Руководители Вьетнама, Лаоса и Кампучии, собравшись вместе, всесторонне обсудили проблемы положения в НРК и вокруг нее, приняли совместное заявление о полном выводе вьетнамских войск из Кампучии к сентябрю 1989 года. Я сказал, что этой акцией Вьетнам укрепил свои позиции в регионе и мире в целом. Задал Нгуен Ван Линю вопрос относительно того, что со стороны Китая высказывается подозрение, будто вьетнамцы намерены оставить в Кампучии часть своих войск, замаскировав их под местных жителей. Он возразил, что такая реакция Китая объясняется стремлением принизить значение вьетнамского решения, которое столь высоко оценивается мировым общественным мнением.
Последний раз мы встретились с ним 7 октября 1989 года в Берлине во время празднования 40-летия ГДР. Вьетнамцы настойчиво добивались этой встречи, и она состоялась в нашей резиденции. Нгуен Ван Линь приподнято, радостно рассказывал, что, вот, несмотря на то что тайфун над Вьетнамом пронесся тяжелый, затопил сотни тысяч гектаров рисовых полей, виды на урожай неплохие. Впервые за многие годы заложено в госрезерв более миллиона тонн риса и около двух миллионов тонн выделено на экспорт, на возвращение долга Индии.
Услышать это для меня было важно потому, что нам приходилось на протяжении многих лет оказывать Вьетнаму прямую продовольственную помощь рисом и пшеницей, а делать это становилось все труднее. Но я был особенно удовлетворен тем, что вызрели реальные плоды той принципиально новой линии, которая сформировалась при моем активном диалоге с руководством Вьетнама.
Испытывал я, откровенно говоря, и горькое, щемящее чувство досады — вот, оказалось, что живущие за тридевять земель от Москвы вьетнамцы вняли моим добрым советам, добились ощутимых результатов на своей земле, а у нас хоть кол на голове теши — все слушают, рассуждают, даже соглашаются, а воз аграрных проблем, что называется, и ныне там…
— Вас за перестройку сельского хозяйства обвиняют в ревизионизме? — спросил я Нгуен Ван Линя.
Он ответил, что его критикуют с двух сторон: одни обвиняют в ревизионизме, в том, что он оторвался от марксизма-ленинизма, торопится с перестройкой, а другие критикуют за консерватизм.
— Ну что ж, меня тоже обвиняют в ревизионизме. Но ситуация требует, чтобы мы, оставаясь на позициях социализма, преодолели отставание и шли в ногу со временем. Мы убедили себя, что преимущества социализма будут раскрываться как бы автоматически. Ничего подобного не произойдет без новых подходов ко всей системе производственных, общественных отношений.
С огромным интересом слышу сейчас о том, что Вьетнам набирает экономическую динамику, которая позволит ему наверстать упущенное за военные десятилетия и занять достойное место среди государств региона, таких преуспевающих, как Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея. Успешному развитию Вьетнама, несомненно, могли бы по-своему способствовать и российско-вьетнамские связи. У наших народов сохранились не только воспоминания о трудных временах, пережитых вместе, но и стремление к сотрудничеству. Это в общих интересах всей Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, где достойная и ответственная роль, несомненно, принадлежит и России.
«Кампучийский узел»
В своем политическом и дипломатическом «обиходе» мы привыкли рассматривать страны бывшего французского Индокитая как целое. Раз речь заходит о Вьетнаме, то где-то тут же, хотя бы и вскользь, будут непременно упомянуты Лаос и Кампучия. Впрочем, есть у такого подхода и объективные основания. Хотя эти народы живут теперь в своих суверенных национальных государствах, у каждого свой язык, своя история, тем не менее близкое соседство и общность судьбы на протяжении последних двух веков сблизили их.
Кампучия, в которой завязался один из длительных кровавых конфликтов, относилась нашими международными ведомствами к особой графе. Подобно Ближнему Востоку, Анголе, Никарагуа это был один из тех узлов мировой политики, вокруг которого скрещивались интересы супердержав и военно-политических блоков. А в данном случае «узел» был особенно туго затянут при участии как непосредственно противоборствующих сторон, предводительствуемых Хун Сеном, Сиануком и Пол Потом, так и стоящих за ними Вьетнамом, Советским Союзом, Соединенными Штатами, Китаем.
Я уже рассказывал о том, как удалось развязать его в сотрудничестве с Вьетнамом и в рамках советско-американского и советско-китайского диалога. Что касается кампучийских деятелей, то с принцем Сиануком мне так и не довелось встретиться, а Хун Сена, бывшего тогда главой правительства республики, я принимал. И у меня от этой встречи осталось благоприятное впечатление. Конечно, в то время ему не хватало опыта, особенно в том, что касалось организации хозяйства, да еще в дотла разоренной стране. Но обладая хорошими волевыми качествами, настойчивостью, прилежанием, он многому научился и у вьетнамцев, и у нас, и в других странах.
Что касается политики, то Хун Сен обнаружил зрелое понимание расстановки сил на мировой арене. Твердо отстаивая принципиальные позиции своей партии, представлявшей национальную демократию, он в то же время мыслил достаточно реалистично, признавая, что для достижения полного урегулирования придется идти на разумные компромиссы. При его активном участии в стране воцарился теперь хрупкий мир, и хочется надеяться, что этот деятель сумеет еще многое сделать для своей родины.
Уроки Фомвихана
Я должен сказать, что стремление учиться, пожалуй, особенно было свойственно Генеральному секретарю ЦК Компартии Лаоса Кейсону Фомвихану. Он бывал у нас неоднократно, и всякий раз через посольство заранее передавали заявку на организацию целой серии встреч с учеными, крупными специалистами, причем не только в области планирования и управления экономикой, но также философии, политической экономии, права и других теоретических дисциплин. Фомвихан, как правило, для этого использовал свой отпуск и проводил его значительную часть в Москве.
А между тем этот немолодой уже человек имел широкий кругозор, обладал живым, пытливым умом, не говоря уж об огромном политическом опыте. Я не изучал специально историю Лаоса, но неплохо знал о происходивших там перманентных переворотах, клановой борьбе, распрях в королевской семье. Одно время почти все основные политические партии возглавлялись принцами. Одни представляли проамериканское западное направление, другие, как Суфанувонг, возглавляли революционный лагерь, третьи (Суваннафума) старались достичь национального согласия. В этой сложнейшей, изощренной политической мозаике Компартия, возглавленная Фомвиханом, сумела нарастить авторитет и закрепиться у власти.
Лаос был объявлен социалистическим государством, хотя, должен сказать, это не сразу было признано. При Хрущеве, когда наше руководство находилось во власти, можно сказать, «исторического оптимизма» и было уверено в скором приращении социалистического содружества, Вьентьяну мгновенно выдали бы «сертификат» на звание социалистического. А вот в 70-е годы после разочарований, вызванных неудачей социалистических экспериментов в Алжире, Египте, Сомали, Бирме и других странах, начали относиться к этому более сдержанно. Суждения теоретиков сдвинулись в сторону более трезвого подхода, обращали внимание на то, что некоторые революционно-демократические партии объявляют свои страны социалистическими, недостаточно ясно представляя весь объем задач, которые для этого нужно решить, или же просто рассчитывая таким путем получить особый доступ к помощи Советского Союза, других стран соцсодружества.
В конце концов Лаос все-таки «получил» свой мандат и был зачислен пятнадцатой социалистической страной. К чести его руководителей, однако, они не стали механически копировать чужой опыт, убереглись от крайностей индустриализации и коллективизации. Вероятно, Фомвихан извлек из своих уроков, полученных в Москве, Пекине и в Ханое, понимание не только того, как надо делать, но и как не следует поступать.
А я встречался с ним несколько раз, и сразу же, без всяких усилий между нами установилась атмосфера взаимопонимания. Фомвихан в отличие от многих других не просто на словах поддержал перестройку, но воспринял ее как программу обновления и своей страны. Лаотянские руководители, собственно говоря, сами вели поиск в направлении ориентации на ленинский нэп. Но их сдерживали идеологические соображения, опасения быть обвиненными в ревизионизме. Теперь же, когда новые (или основательно забытые старые?) подходы были, что называется, узаконены, они смело приступили к делу и в короткие сроки добились неплохих результатов.
Вспоминая свои беседы с Фомвиханом, добавлю, что, на мой взгляд, наиболее характерной чертой этого деятеля было неприятие доктринерства. Он прилежно изучал марксистские труды, признавал без сомнения общие постулаты, но там, где обнаруживалось, что «концы не сходятся с концами», а слепое следование теории может принести ущерб, отдавал предпочтение здравому смыслу.
Наш друг Монголия
С Монголией, как известно, у Советского Союза были всегда особенно тесные отношения. В годы Второй мировой войны, да и позднее наши страны, в сущности, выступали как единое целое. В наших ведомствах укоренилось и отношение к МНР как к одной из союзных республик, а некоторые деятели, в том числе с монгольской стороны, вполне серьезно ставили вопрос о присоединении ее к СССР.
Слава Богу, хватило ума удержаться от соблазна и не создавать еще одну острейшую проблему в наших отношениях со всем мировым сообществом. Следует сказать, что в этой огромной по территории и малонаселенной республике наши ученые, специалисты, рабочие сделали немало полезного. Это и строительство первых промышленных предприятий, и помощь в организации культурных учреждений, в подготовке кадров, и прокладка транспортных магистралей, и строительство государственных зданий и жилых комплексов в столице, молодых промышленных центрах. С другой стороны, Советский Союз извлекал и немало выгоды из эксплуатации природных ресурсов в Монголии. В условиях советско-китайского спора на территории МНР были размещены наши войска.
Со сменой руководства КПСС и выработкой новой политики в отношении социалистических стран должны были неизбежно произойти изменения и в советско-монгольских отношениях. Мне пришлось несколько раз встречаться с деятелями, стоявшими тогда во главе Монгольской народно-революционной партии (Ж.Батмунхом, П.Очирбатом), и я сразу же дал понять, что с былым «патронажем» покончено. Но это ни в коем случае не означало отказа от поддержания тесных дружеских отношений между нашими соседними странами. Напротив, мы надеялись, что с укреплением самостоятельности МНР появятся новые возможности для расширения сотрудничества, на основе равноправия и взаимовыгоды.
Должен сказать, что такая постановка вопроса нашла полное понимание моих партнеров. Тем не менее сначала они действовали традиционно — фактически повторяя теоретические и политические заявления, связанные с перестройкой. Но постепенно стали искать собственные пути. Там довольно быстро (для меня это было даже во многом неожиданным) привился идейный и политический плюрализм, страна начала искать свои пути сотрудничества со странами АТР, а вывод наших войск помог не только ослабить существовавшую напряженность, но способствовать налаживанию новых связей.
Ну а теперь — о встрече с Д.Бямбасурэном — новым премьер-министром Монголии в феврале 1991 года. Вот выдержки из записи беседы.
«БЯМБАСУРЭН. Прежде всего я хотел бы сказать вам, что дина мичные перемены, происходящие в Монголии, неразрывно связаны перестроечными процессами в Советском Союзе. Конечно, МНР — это не Советский Союз, но перемены идут бурно, политические страсти иногда переходят через край. Хочу еще от имени монгольского народа поздравить вас с присуждением Нобелевской премии.
ГОРБАЧЕВ. Некоторые уже предлагают отобрать эту премию. Но так или иначе никому не удастся повернуть вспять обновленческие процессы, которые разворачиваются в Советском Союзе, да и во всем мире. Не все еще поняли, что необходимость глубоких перемен затрагивает практически все страны на всех континентах. Смотрите, Европа меняется, Китай, Индия, арабские страны меняются, в Латинской Америке идут бурные перемены. Старые политические одежды трещат по швам, и демократические тенденции пробивают себе дорогу, хотя и наталкиваются на массу препятствий. Пожалуй, труднее всего необходимость перемен осознается в США.
В пылу политической полемики, журналистской шумихи вокруг отдельных текущих событий теряется глубинное значение происходящего. Многие видят только то, что оказывается на поверхности, носит преходящий характер. Тот уровень политической культуры, который мы унаследовали, мешает формированию настоящего плюрализма мнений и политических действий. Все еще доминирует старый подход: раз ты не разделяешь моих мнений, значит, ты мой враг. И больше того, значит, тебя надо уничтожить.
БЯМБАСУРЭН. В Монголии мы особенно остро ощутили это. Но, кажется, пришли к общему пониманию, что на почве безудержной конфронтации никто ничего хорошего не добьется.
ГОРБАЧЕВ. Политический плюрализм предполагает соревнование политиков, их программ, их практических действий и создание таких условий, когда народ сам бы мог делать выводы из такого соревнования.
Теперь о советско-монгольских отношениях. К сожалению, их обновление происходит довольно вяло. Видимо, сказываются и перегрузки в наших правительственных органах.
Мы видим и приветствуем динамизм Монголии на международной арене, хотя, как я уже говорил П.Очирбату, дело это непростое. Ни США, ни Япония да и Китай зря, за «просто так» ничего не дадут.
БЯМБАСУРЭН. Мы хорошо понимаем, Михаил Сергеевич, что отношения с Советским Союзом имеют для нас особое значение. Здесь у нас огромный банк опыта сотрудничества.
ГОРБАЧЕВ. Мы исходим из приверженности добрым традициям в советско-монгольских отношениях, но и понимаем необходимость их обновления.
БЯМБАСУРЭН. Думаю, Михаил Сергеевич, это касается и советско-монгольского экономического и научно-технического сотрудничества. Перспективы здесь могут быть хорошими, резервов много. Ведь за 17 лет после создания «Эрдэнэта» не появилось ни одного совместного монголо-советского предприятия. Нет ни одного соглашения по специализации и кооперированию. Мы хотим быть открытыми для такого рода сотрудничества с советской стороной, готовы выделить специальные зоны, скажем, в районах Эрдэнэта, Дархана.
ГОРБАЧЕВ. Я, помнится, был там, и эти новостройки производили в целом хорошее впечатление. Стоит подумать над вашим предложением.
БЯМБАСУРЭН. За счет советских кредитов в нашей стране создан огромный экономический потенциал, но камнем преткновения для дальнейшего сотрудничества является исключительно высокая по нашим масштабам задолженность. В сознании наших людей, которые только-только начинают узнавать об объеме этой задолженности, появилась масса недоуменных вопросов: как, почему, за счет чего она образовалась? Вокруг этого вопроса масса кривотолков, этим активно пользуется оппозиция.
ГОРБАЧЕВ. У нас тоже много разных кривотолков, связанных с задолженностью ряда стран Советскому Союзу. На заседаниях Верховного Совета все чаще раздаются требования немедленно взыскать те 84 миллиарда долларов, которые составляют долг в основном развивающихся стран.
БЯМБАСУРЭН. У нас в народе говорят: лучше быть голодным, чем должником. Люди болезненно переживают эту проблему. Надо найти взаимоприемлемое решение.
ГОРБАЧЕВ. Ищите. Ищите такое решение, которое было бы понятно и монгольскому, и советскому народам. Именно такое решение надо найти. Советский Союз никогда не ставил своей целью эксплуатировать Монголию.
БЯМБАСУРЭН. Мы, со своей стороны, тоже не хотим быть иждивенцами».
Закончил я беседу словами: пусть никто не спешит у вас делать скоропалительные выводы относительно падения интереса Советского Союза к Монголии. Надо просто понять, что мы сейчас глубоко вовлечены в решение чрезвычайно актуальных проблем, от которых зависит вся жизнь Советской страны.
«Социалистическая монархия»
Картина наших отношений с социалистически- ми государствами Азии будет неполной, если я не упомяну о Северной Корее. И по своему потенциалу, и по географическому расположению, и в силу особой исторической судьбы, связанной с послевоенным разделением на две части, она занимала важное место в советской политике на Дальнем Востоке. В шестидесятые годы, когда развернулся идейно-политический спор между Советским Союзом и Китаем, полем соперничества Москвы и Пекина стало в числе прочего влияние на Пхеньян. А корейское руководство постаралось извлечь максимум выгоды из этой ситуации.
Длительное время колеблясь решить, где находится центр мировой революции — в столице СССР или КНР и кого следует признать ее вождем — наследников Сталина или Мао, Ким Ир Сен в конце концов решил остановиться на собственной кандидатуре. Сооруженную в спешном порядке идеологию «чучхэ» объявили венцом мудрости, призванную заменить марксизм-ленинизм. Лидеры всевозможных революционаристских группировок, из числа тех, кого не приглашали ни ЦК КПСС, ни ЦК КПК, созывались на конференции ЦК Трудовой партии Кореи, чтобы дружно славить очередного «вождя народов всего мира». Помимо фантастического, не имеющего аналогов культа своей личности, Ким Ир Сен обогатил революционную практику еще одним новшеством. Закрепив за своим сыном Ким Чен Иром официальное положение наследника, он учредил, по сути дела, первую «социалистическую монархию».
У нас в руководстве над этими «чудачествами» снисходительно посмеивались. Партийные и государственные делегации, возвращаясь из поездок в КНДР, с похвалой отзывались об успехах корейских товарищей в развитии индустрии и сельского хозяйства, строительстве дорог, о новом архитектурном облике Пхеньяна. Отмечали, не без зависти, царящую там железную трудовую дисциплину. Восхищались порядком и политической стабильностью, особенно выигрышными на фоне бесконечных студенческих бунтов в Южной Корее. Деспотическая форма правления, от которой мы сами недалеко ушли, не рассматривалась как препятствие для сотрудничества. Видя в Северной Корее своего привилегированного союзника, с которым нас связывают узы «социалистического родства» и Договор о дружбе и взаимопомощи, мы шли на удовлетворение практически всех заявок Пхеньяна на поставки вооружений и экономическую помощь.
Но особое неприятие еще тогда, когда я занимался аграрными делами, вызывало у меня то, что мы поставили себя в фактическую зависимость от курса северокорейского руководства в отношении Южной Кореи, а частично и Японии. Наша политическая активность на Дальнем Востоке долгое время была заморожена, в том числе и по этой причине.
Конечно, мы считали необходимым покончить с таким несуразным состоянием и перевести наши отношения с КНДР на основу равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Пришлось преодолеть немалое противодействие — прежде всего со стороны старых мидовских кадров, с ужасом принимавших мысль о возможности каких-то наших инициатив, могущих вызвать раздражение в Пхеньяне. Поразительно, до какой степени закостенения способны доводить укоренившиеся в политике стереотипы! Но, действуя без излишней спешки, мы все-таки начали менять диспозицию в АТР.
В конце октября 1986 года Ким Ир Сен побывал с визитом в Советском Союзе. Было заявлено о готовности развивать отношения между странами в контексте меняющейся обстановки. Настроены мы были позитивно и так поступали. Но в Пхеньяне со временем стали проявлять беспокойство в связи с перестройкой.
Ким Ир Сен несколько раз приглашал меня приехать с официальным визитом. В принципе я не исключал такой поездки, но в то время не было возможности. Принимая в Кремле заместителя премьера Административного совета, министра иностранных дел КНДР Ким Ен Нама (4 мая 1988 г.), я вежливо, но твердо отвел попытки «серьезно предупредить» нас об «опасностях, подстерегающих политику нового мышления». Дал понять, что мы от нее не откажемся, Пхеньяну надо исходить из этой реальности.
На задававшийся корейскими дипломатами вопрос, выполнит ли Советский Союз свои обязательства по договору в случае «осложнения обстановки», наши представители отвечали примерно так: выполнит, но мы исходим из того, что руководство КНДР будет последовательно проводить декларируемую им политику мирного объединения страны.
Я уже рассказывал, как были установлены первые контакты с Южной Кореей, легализованы сначала торговые, а затем и дипломатические связи. Каждый наш шаг на этом пути встречался на Севере с раздражением. Поначалу предпринимались попытки сорвать нормализацию отношений СССР с Югом.
Быстро меняющаяся ситуация в мире вынудила Ким Ир Сена приспособиться к новой обстановке. Наряду с позицией Советского Союза большую роль сыграло нежелание реформаторского руководства КНР быть втянутыми в «военные игры». Как ни трудно, с периодическими откатами, но идет диалог между Севером и Югом Кореи.
Добавлю, что в нашей политике на этом направлении, пожалуй, впервые дало о себе знать намерение не сводить все к прагматически понятому интересу, учитывать характер режима, с которым мы имеем дело. Встав на путь демократизации, политической свободы, строительства правового государства, Советский Союз не мог быть безразличным к порядкам в союзных странах. Мы не допускали вмешательства, никому не навязывали свою перестройку, что я многократно повторял в этом разделе своих воспоминаний. Но и не скрывали своего негативного отношения к тирании, милитаризму, попранию гражданских прав. Благодаря гласности и широкая публика стала получать не приглаженную, а полноценную правдивую информацию о положении в той же КНДР, других союзных странах.
Коротко можно заключить так: при том, что в основе внешней политики лежит интерес, она не должна, не имеет права игнорировать политические принципы. И с этой точки зрения целью нового мышления в международной политике стало: очистить государственный интерес от идеологических наслоений и соединить его с нравственностью.
Глава 41. Еще раз «переменить всю точку зрения нашу на социализм»
«Третье измерение» перестройки и нового мышления
Это знаменитое ленинское выражение я повторял в книге по разным поводам неоднократно. Прежде всего оно напоминает, что я не первый и не последний, кому пришло в голову усомниться в тех или иных догматах коммунистической веры. Если сам Ленин пересматривал (и не раз!) многие каноны марксистского учения, значит, это не заказано и другим. А уж нам, живущим совсем в другую эпоху, не только можно, но жизненно необходимо время от времени проводить ревизию своего идеологического арсенала, обновлять теоретические воззрения с учетом происходящих вокруг бурных перемен.
Такая работа исподволь делалась коллективно, можно сказать, марксистами всех стран. И не только марксистами, но и его критиками. Обращая внимание на ошибочность или устарелость тех или иных постулатов, они помогали «подчищать», осовременивать теорию, философские основы и методологию. В этот «коллективный ревизионизм» большой вклад внесли и отдельные смельчаки, которых ортодоксы, объявив еретиками, изгнали из партийных рядов, и целые партии, вступившие на путь так называемого еврокоммунизма. На Западе это понятие рассматривалось как признак прогрессивности, а у нас долгое время было ругательным.
Еврокоммунизм, несомненно, был одним из источников нового мышления. Он оказал значительное влияние и на формирование моих взглядов — через общение с коммунистами из Италии, Франции и других стран. Но при всем уважении к новаторской роли наших западных коллег следует признать, что вступление социалистической мысли и практики в новый исторический этап своего развития больше всего обязано глубоким революционным переменам, происшедшим в нашей стране в связи с перестройкой.
Вообще, говоря о перестройке и новом мышлении, имеют обычно в виду разрыв с тоталитаризмом, демократизацию общества в наше стране и окончание «холодной войны», повлекшее радикальные изменения в расстановке сил на мировой арене, во всей международной политике. Но к этим двум «измерениям» перестройки и нового мышления следует, безусловно, отнести и третье — переворот в понимании социализма в международном коммунистическом движении.
Это движение прошло разные стадии. Пик его подъема пришелся на первые годы после Второй мировой войны, чему способствовали решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма и мужественное участие коммунистов в сопротивлении гитлеровцам. Тогда международное коммунистическое движение, или, как его принято было у нас называть, МКД, было массовым. Многие компартии за пределами социалистического лагеря участвовали в формировании правительств или были близки к этому. Казалось, вот-вот и начнут сбываться предсказания основоположников марксизма о неизбежной победе коммунизма во всем мире.
Однако история рассудила иначе. Закостенелость некогда действительно революционной теории, превращение ее в сборник догм помешали коммунистам идти в ногу с веком. Компартии одна за другой теряли свои позиции, превращались в малочисленные группы интеллектуалов, оторванных от рабочего движения, живущих на литературный труд. Чем больше их существование зависело от поддержки соцлагеря, в том числе материальной, тем меньше оставалось самостоятельности. Держались относительно независимо итальянцы, французы, еще несколько западноевропейских партий, но и они, находясь в системе МКД, вынуждены были подчиняться определенной «движенческой» дисциплине.
А возможность вольного толкования марксистских истин, и без того ничтожная в партиях «ленинского типа», сокращалась. Начинавшееся противостояние КПСС и КПК, борьба за освободившееся после смерти Сталина положение коммуниста номер один между Хрущевым и Мао Цзэдуном побудили провести международные совещания компартий, на которых был выработан, по существу, обязательный к исполнению кодекс поведения коммунистов. Наряду с писаными нормами, содержавшимися в декларациях международных совещаний, были нормы, так сказать, неписаные, но не менее важные. К ним относились признание Москвы Меккой коммунистов, а КПСС — ведущей партией («партия-отец»). Сформировалась не имеющая аналогов в истории система отношений и связей, обеспечившая довольно высокое единство действий.
Эта мировая крепость коммунизма выдержала, хотя и не без потерь, таранные удары, нанесенные ей маоизмом слева и еврокоммунизмом справа. Она неплохо выполняла функции идеологического инструмента нашей внешней политики, но в то же время жила и собственной жизнью, оказывая некоторое влияние на развитие советского государства и общества.
Как секретарь горкома и крайкома, член Центрального Комитета я имел возможность судить об этом по собственному опыту и ощущениям. На каждый съезд КПСС в связи с юбилейными датами в Москву приглашались делегации практически всех коммунистических и рабочих партий (под последними подразумевались партии, выступавшие под различными наименованиями — трудовые, социалистические и т. д., которые придерживались марксистской ориентации и «числились» в рядах МКД). Аплодисментами, вставанием делегаты приветствовали каждого очередного коммунистического лидера, появлявшегося на трибуне, будь то генсек миллионной Итальянской компартии или малюсенькой Компартии острова Реюньон. Мы с огромным вниманием выслушивали их речи, обсуждали ту или иную мысль, высказанную прямо или, что бывало чаще, намеком в речах наших гостей. Но гораздо больше связанных с этим маленьких открытий значило ощущение слитности с могучей интернациональной силой и гордости за то, что именно наша партия является ее ядром, авангардом, головой.
Проходили годы. Я набирался знаний и опыта, расставался со свойственной молодым готовностью принимать на веру высокую патетику. И все больше сомневался в искренности ораторов, повторявших от раза к разу, как заклинание, клятвы верности марксизму, восхваление нашей политики, проклятия по адресу американского империализма. Все чаще приходила мысль о театральности этого зрелища, о том, что международное коммунистическое движение, некогда действительно мощная сила обновления мира, исчерпала свои возможности, выдохлась, находится в стадии упадка. И главная причина этого одряхления в том, что слаб, потерял прежнюю привлекательность символ веры — идея социализма, воплощенная в советской модели.
От восхищения и уверенности в непобедимости МКд я, как, наверное, и все трезвомыслящие люди, пришел к пониманию того, что оно изжило себя и на смену ему должны прийти какие-то новые формы объединения и взаимодействия сторонников социальной справедливости.
Вот эту задачу открытия возможностей для поиска новых форм солидарности я и называю «третьим измерением». Скажу честно, она была не менее сложна, чем первые две.
О причинах распада социалистического содружества
Согласно нашей официальной формуле, головным отрядом МКД называлось «социалистическое содружество во главе с Советским Союзом». Распад Организации Варшавского Договора стал первым потрясением для международного коммунизма. И у нас, и за границей стали раздаваться голоса: Горбачев «сдал социалистические страны».
Уместно спросить: кому принадлежат «отданные» страны? Ответ ясен: Польша — полякам, Чехия и Словакия — чехам и словакам, Венгрия — венграм, Болгария — болгарам…
Что значит «отдать» целые страны и чуть ли не половину Европейского континента? Само обвинение такого рода с головой выдает тех, кто его выдвигает. Это — приверженцы имперской идеологии, права сильного распоряжаться чужими странами как своей собственностью, играть судьбами народов. Так что вопросы эти небезобидны. В них отражается политическое мышление уходящей эпохи. Цепляться за него, руководствоваться им в наше время, будь то в «восточном» или «западном» варианте, убийственно для человечества.
В конечном счете за всем этим скрывается тоска по старым порядкам — «простым и понятным» стереотипам.
О чем же должна идти речь, если не покидать почву реальности, делать значимые выводы из уроков истории?
Становление социалистических режимов в Восточной Европе неразрывно связано с итогами Второй мировой войны. Оно явилось результатом двух главных факторов. С одной стороны, доминированием здесь Советского Союза с его вооруженной мощью. С другой — подъемом национально-освободительных и антифашистских демократических движений.
Авторитет СССР был высок. Общественно-политическое развитие восточноевропейских стран в этих условиях оказалось подчиненным концепции перехода от капитализма к социализму и неизбежности его глобальной победы. В них стала насаждаться сталинская модель социализма, хотя и несколько модифицированная.
При всех очевидных ее минусах командно-административная система позволяла сосредотачивать силы и средства на достижении приоритетных целей. Свою роль сыграла помощь Советского Союза, поставки дешевых энергетических ресурсов. Но это преимущество обесценивалось тем, что эти страны привязывались к советскому рынку и технике, отсекались от мировых хозяйственных связей. И они начали отставать. А попытки вырваться из «дружеских объятий» сверхдержавы пресекались неукоснительно. Так было в ГДР (1953 г.), Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.).
Взяв курс на обновление и демократизацию у себя в стране, мы обязаны были распространить его и на отношения с социалистическими странами. Признать не только на словах, но и на деле их право на самоопределение, на свободу выбора пути развития. Перестать использовать союзнические связи, чтобы навязывать свой образ мыслей, свою модель, свою политику.
Как только были сняты рычаги внешнего воздействия, в странах Восточной Европы активизировались национальные демократические силы. Характер их деятельности определялся прежде всего остротой накопившихся национальных проблем, конкретными особенностями отношений с Советским Союзом, воздействием Запада. Так называемая «дифференцированная политика» государств НАТО была рассчитана на ослабление связей восточноевропейских стран с СССР. Западные пропагандистские центры подогревали антисоветские и даже антирусские настроения.
Но надо признать: не в империалистических происках главная причина бурных перемен у наших соседей. За ними стояло неистребимое стремление каждого народа к свободе. Желание избавиться от иностранных военных баз и войск на своей территории. Не зависеть от произвола «старшего брата», от характера и склонностей очередного хозяина Кремля.
Мы видели, как поднимались требования ухода американцев, когда их присутствие становилось чрезмерным, бесцеремонное поведение оскорбляло чувство национального достоинства в азиатских и латиноамериканских странах. Хорошо знали, чем кончилось американское вмешательство во Вьетнаме и во что вылилось наше вмешательство в Афганистане. Медлить дальше было нельзя, хотя и пришлось преодолевать сопротивление консерваторов — военных и штатских. Демонтаж неосталинистской модели общества в странах Восточной Европы в конце 1989 года сделал решение этих проблем неизбежным и неотложным.
В начале 1990 года советское руководство выступило с Заявлением о постепенной перестройке устаревшей модели европейского баланса сил, которая сложилась в годы «холодной войны» и основывалась прежде всего на военном противостоянии. Мы выразили готовность по договоренности с союзными странами вывести или сократить советские войска, дислоцированные вне национальной территории. Было заявлено о возвращении домой в возможно короткие сроки советских солдат и офицеров из Чехословакии и Венгрии. Несколько позднее принято решение о выводе советских войск из Германии.
Главное — мы сделали огромное доброе дело, дали возможность каждому народу без какого-либо давления определить свою судьбу. Конечно, не так просто сделать этот выбор — у одних процесс идет легче, у других острее, тяжелее.
В научной дискуссии я, видимо, могу признать, что где-то мы могли поступить рациональнее, в чем-то ошибались. Как показало дальнейшее развитие событий, непродуманным оказался единовременный переход в торговых отношениях с восточноевропейскими странами на расчеты в свободно конвертируемой валюте. Ни нам, ни им это валюты не прибавило, зато привело к дезорганизации экономических связей. Были и другие неадекватные действия.
Разумеется, то, что произошло в Восточной Европе в начале 90-х годов, во многом расходится с моими представлениями об оптимальном варианте процесса демократизации. Позитивные перемены сопровождаются болезненными срывами. Там, как и у нас, за шагом вперед то и дело следует отступление. Но в целом соседям удается, как мне кажется, с меньшими потерями одолеть переход к новому устройству жизни.
Социально-политические реформы в России, СНГ, Восточной Европе далеки от завершенности. Путь впереди еще долгий и трудный. И самое важное, конечно, пройти его без крови. Так развивались события в Польше и Венгрии. Хотя в Чехословакии и Болгарии не обошлось без сведения политических счетов, охоты за ведьмами, все же достало культуры и здравомыслия не довести до драки. В Румынии режим Чаушеску сделал неизбежным народное восстание. Но самая трагическая судьба постигла Югославию.
События в Восточной Европе приняли во многом непредсказуемый характер, потому что было упущено слишком много времени — буквально десятилетия! — для более плавных общественных процессов. Сказался главный порок автократической модели — неспособность к обновлению, самосовершенствованию.
Нередко приходится слышать, что, «отдав соцстраны», мы потеряли союзников, ослабили свою обороноспособность. И это неверно. Прежде всего потому, что практически все бывшие союзники Советского Союза заинтересованы в сохранении дружественных отношений и сотрудничества с Россией, Украиной, Белоруссией, другими государствами бывшего СССР. Просто России нужно полнее реализовать эти возможности в своей восточноевропейской политике, что до сих пор, к сожалению, не делалось. А вот если послушать «ястребов» и попытаться заново привязать бывших союзников к своей «колеснице», то тем самым и будет нанесен ущерб нашей безопасности на коллективной основе, в рамках общеевропейских структур.
Одним словом, потери мнимые, а приобретения ощутимые. И превыше всего — осознание того, что Россия никого не угнетает и не держит насильно в друзьях и союзниках. У нас часто цитировали фразу Маркса: «Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы». Отпустив «на волю» всех, кто значился в «советском лагере», мы, можно сказать, точно последовали этой максиме. Свобода их и наша собственная — вот главный довод в защиту проводившейся мною политики.
Социализм и новая цивилизация
Чаще всего критики «слева» утверждают, что в результате радикальных перемен, происшедших в странах Восточной Европы, соотношение сил на мировой арене коренным образом изменилось в ущерб социализму, в пользу капитализма. Все то же черно-белое мышление, нежелание и неумение понять, что «двоичная» система отчаянно устарела. На дворе другая эпоха, когда существуют и борются за место под солнцем не одни марксисты и немарксисты, а множество других идеологических доктрин. Современная политическая жизнь чрезвычайно многообразна, наряду со сходством проявляется множество различий в устройстве экономических отношений, политических институтов, формах культуры. Наконец, самое существенное для проблемы, о которой идет речь: сами исходные понятия капитализма и социализма нуждаются в переосмыслении.
И у себя в стране, и за границей мне в разных аудиториях часто задавали один и тот же вопрос: «Кто вы — коммунист, социалист, демократ?» Признаюсь, поначалу я становился в тупик. Простой ответ на достаточно сложный вопрос неизбежно граничит с упрощенчеством. По положению я был, разумеется, коммунистом, и не простым, а лидером партии.
Социализм рассматривался как первая фаза коммунистического общества, наша страна была Союзом Социалистических Республик — следовательно, я имел право считать себя по убеждениям и социалистом.
Ну а что касается демократии, то мы присягали ей на каждом шагу. Ленин говорил, что социализм без нее невозможен, Конституция наша провозглашала демократические права- и свободы. Словом, опять-таки я не то что имел право, а обязан был считать себя демократом.
Вслед за этим первым суждением следовало договориться, что именно понимать под названными терминами. Коммунизм, как он описан в произведениях Маркса и Энгельса, или как выглядит в интерпретации Ленина, или как он воплощен в сталинской модели? А что понимать под социализмом, какую из многих сотен доктрин? Не проще обстоит дело и с понятием демократии.
Так что, если бы я пустился по-научному разбираться в этом со своими слушателями, понадобилось бы написать целый трактат. Такие трактаты, кстати, в изобилии пишутся, надо думать, помогают приблизиться к истине, но мне ведь приходилось отвечать на совершенно конкретный вопрос, глядя в глаза людям. И от моих ответов зависело очень многое.
Итак, кто же я? Хочу дать некоторые пояснения. Если я отказался от слова «коммунист», то вовсе не потому, что против концепции бесклассового общества. Просто я не очень верю, что в ближайшую пару сотен лет можно будет исключить из общественной жизни всякую социальную борьбу и добиться идеальной гармонии. Ну а кроме того, самое понятие коммунизма связывается в сознании очень многих в современном мире со сталинской системой. Может быть, с годами, десятилетиями это пройдет, но в любом случае я не хочу связывать себя с лозунгами насильственной революции, диктатуры, оправданием любых средств достижения цели.
Понятие социализма также подразумевает определенную модель общественного устройства. Оно могло быть отнесено не только к Советскому Союзу и Китаю, другим странам, которые называли себя социалистическими. Социализм объявлялся целью развития в Индии, Египте, Сомали, многих других развивающихся странах. А по мнению некоторых весьма авторитетных ученых и политиков, в демократических государствах Запада также существует смешанная экономика, применяются наряду с капиталистическими социалистические принципы.
Поэтому я и остановился на понятии «социалистическая идея». Она предполагает стремление к такому устройству общества, при котором обеспечивается максимум возможной в данных условиях социальной справедливости, гражданам гарантируются политические свободы и социальные права, люди имеют возможность проявить свои таланты, способности, предприимчивость, и в то же время государство заботится о достойном существовании социально уязвимых слоев населения. Добавьте к этому прочные демократические институты, законность, свободные выборы, миролюбивую внешнюю политику — вот, пожалуй, тот минимум, с которым согласится сегодня каждый разумный человек, желающий блага себе, своим соотечественникам, всему миру.
Как видите, ничего оригинального. Но я и не претендую на оригинальность. Как раз наоборот. Мне кажется, что искать оптимальную общественную модель следует, отправляясь не от умозрительных схем, а от жизненных условий, от того, что понятно каждому и к чему стремится большинство. В этом случае речь пойдет не об очередной утопии, а о вполне достижимой цели, отвечающей народным интересам.
Если спросят, что для меня главное в современной трактовке социалистической идеи, то это — ее общечеловеческое содержание.
Прежде всего я понимаю под этим необходимость ставить во главу угла интересы не какого-то одного класса, а всего общества, всех социальных слоев. В учении Маркса и Ленина такой подход тоже не отрицался, но считалось, что путь к гармонии пролегает через диктатуру пролетариата, классовое насилие. Революционерам XIX века этот путь казался единственно возможным для прорыва в «царство свободы». Но опыт нашей страны и многих других в XX столетии показал, что он не продуктивен. Даже если насилие позволяет быстрее решить какие-то национальные задачи — в большой перспективе за эти кратковременные и большей частью иллюзорные достижения приходится платить крайне дорогой ценой.
Ну и второе — признание приоритета общечеловеческих ценностей в мировом масштабе над интересами отдельных стран. Кстати, и в этом отношении мы ничуть не противоречим принципиальной идее марксизма об интернациональном характере социалистического движения. Только с очень важным уточнением — речь должна идти не о солидарности одного пролетариата, а о солидарности всех народов в их очень сложной и продолжающей, к сожалению, усложняться борьбе за выживание, решение многочисленных глобальных проблем, за мир и достойное будущее.
Идея интернациональной солидарности все-таки пробивает себе дорогу. Ей приходится преодолевать эгоизм общины, нации, государств, свойственный практически всем. В тех же Соединенных Штатах эгоизм, пожалуй, почище нашего. Ведь очень трудно, например, убедить американцев, что им надо вносить гораздо более крупный вклад в экологические усилия мирового сообщества не только потому, что эта страна богаче других, а прежде всего потому, что она в десятки и сотни раз потребляет больше ресурсов и больше отравляет мировой климат отбросами своей огромной индустрии.
Будущее видится мне не как воплощение какой-то одной универсальной доктрины, а как многообразие путей развития при безусловном доминировании общечеловеческих ценностей. Каждый народ вправе жить, как ему хочется. И международное сообщество не должно навязывать ему свои вкусы, за исключением тех случаев, когда тираны и диктаторы совершают геноцид в собственной стране. Но, живя своим умом, каждый народ в то же время обязан соблюдать требования международного права, которые сегодня включают не только соблюдение безопасности, предотвращение войн, но и сохранение общими усилиями Матери-Природы, признание демократических институтов, прав и свобод человека.
И если внимательно присмотреться к тому, что происходит в мире, еще раз вчитаться в документы Организации Объединенных Наций, многочисленные декларации правительств, можно понять, что мы находимся на пороге новой гуманистической цивилизации. Собственно говоря, ее идейные критерии уже определились и нашли мировое признание, а вот практическое строительство намного отстает. Здание этой цивилизации по большей части существует пока в чертежах, виден только ее каркас. Но я верю, что удастся преодолеть препятствия на пути к мироустройству, в котором на равных правах, в некоей целостности будут взаимодействовать социалистическая, демократическая, либеральная и другие гуманистические идеи.
Формула перестройки для МКД
Эти вопросы и были в центре моих бесед с руководителями компартий. Начались они буквально на другой день после моего избрания генсеком — с приехавшими на похороны Черненко (лидеры Итальянской компартии А.Натта, Японской — Т.Фува и другие). Но тогда встречи были накоротке, сводились к взаимным заверениям о желании наладить сотрудничество между партиями.
К началу 1985 года линия КПСС в комдвижении была крайне неопределенной. Основной целью в отношениях с партиями считалось «настраивать» их на нашу политическую волну. Главный критерий оценки деятельности друзей был донельзя примитивен: поддерживает нас — хорошая партия, критикует — плохая. При этом практически любая критика советской действительности воспринималась как чуть ли не антисоветизм, даже антикоммунизм.
В ходе встреч добивались не столько откровенного, честного обмена мнениями, сколько обязательного упоминания в итоговых документах терминов «марксизм-ленинизм», «пролетарский интернационализм». Хотя уже в 1976 году на Берлинской конференции компартий Европы КПСС была вынуждена подписать документ, в котором признается как более соответствующее духу времени понятие «интернациональная солидарность». Словом, это была линия на консервацию старых идей и представлений.
В определенной мере положение дел зависело от руководства Международного отдела ЦК, во главе которого десятилетия (по существу, почти весь послевоенный период) в той или иной роли находился Борис Николаевич Пономарев. Человек больших знаний, бесспорный противник сталинизма (Сталина в разговорах называл не иначе как «культ»), он тем не менее стоял на догматических позициях. И хотя состав отдела подобрал сильный, энергичный, работа его свежестью идей не отличалась.
Дело было, конечно, не только в отделе. Материалы, подготовленные в секторах, попадали «наверх», то есть к Суслову, и просеивались сквозь сито Секретариата ЦК, после чего приобретали вполне «сермяжный» вид.
На XXVII съезде КПСС в политическом докладе ЦК была сделана попытка сформулировать обновленный подход к коммунистическому движению и его проблемам. В частности, говорилось: «КПСС не драматизирует того, что между коммунистическими партиями не всегда и не во всем есть полное единодушие. Тождества взглядов по всем без исключения вопросам, видимо, вообще быть не может». Указывалось, что КПСС понимает единство движения не как нечто механическое, заранее данное, но как солидарность, безусловно, равноправное сотрудничество в борьбе за общие цели.
На съезде присутствовали представители десятков коммунистических, некоторых социал-демократических партий. Они встречались с нами и активно «контактировали» между собой. По существу, вокруг съезда шло нечто вроде неформального совещания представителей левого крыла мирового общественного движения. И господствовавшее там мнение, пожалуй, лучше всех выразил афоризмом Председатель Компартии Финляндии А.Аалто: «То, как вы сами взяли себя за шиворот и принялись вытряхивать все, что чуждо социализму, не может не удивить». Итальянские товарищи, а также делегации коммунистов Уругвая, Люксембурга и другие особенно высоко оценили постановку вопроса о целостности и многообразии современного мира, о значении общечеловеческих ценностей и интересов.
Естественно, регулярно возникал вопрос о коммунистическом движении, его состоянии и перспективах. Мои собеседники были явно обеспокоены, чувствовали, что дело идет на спад, угрожает оставить коммунистов на обочине исторического процесса. Открыто говорил об этом Председатель Коммунистической партии Бельгии Луи Ван Гейт, человек с аналитическим складом ума. «Многие партии, — говорил он, — растеряны, у нас нет ясности и по тактике, и особенно во взглядах на перспективу, возможность реализации социалистической идеи. Одна из причин — скептицизм в отношении «реального социализма» (так принято было называть соцстраны). Даже если вы успешно выполните только свои ближайшие планы, покажете, что развитие страны ускоряется, — это может стать началом перелома в развитии коммунистического движения».
Однако далеко не все партии, их руководители готовы были приветствовать перемены. Многие восприняли наши робкие по тому времени новации настороженно, с опаской: не запахло ли тут ревизионизмом? Заботило и крайнее нежелание идти на какое-то коллективное обсуждение общих проблем. Я обратил на это внимание еще в 1985 году, встречаясь с Генеральным секретарем Португальской компартии Ал-варо Куньялом. Он сетовал по поводу того, что не удается собрать западноевропейские компартии. Каждая партия тогда старательно доказывала свою независимость. За этим стояло стремление не только избавиться от навязчивой опеки КПСС, но и опровергнуть тезис о коммунистах как «агентах Москвы». Становилось ясно, что совещания компартий старого типа, принимавшие обязательные для всех документы, отжили свой век. Да и рост многообразия условий деятельности партий, требовавший дифференциации позиций, делал бесперспективной выработку того, что называлось «общей линией».
Вместе с тем совместные неформальные обсуждения, обмен мнениями, свободная дискуссия оставались необходимыми. Эту мысль я высказал лидеру Французской компартии Ж.Марше. Он согласился. Потом поговорили с итальянскими товарищами, и они поддержали предложенный подход, хотя не без колебаний.
После XXVII съезда партии секретарем по международным вопросам стал Анатолий Федорович Добрынин. Опытный политик, дипломат, он до той поры не имел прямого соприкосновения с проблемами коммунистического движения. Это его смущало — видно было по беседам после избрания. Но расчет мой был на то, что свежий, непредубежденный взгляд поможет ему реализовать новые подходы. Была и другая сторона дела. До 1985 года, в силу завоеванного МИДом особого положения, за ним фактически сохранялась монополия на инициативы в нашей внешней политике. Выдвижение Добрынина позволяло подключить к этому потенциал Международного отдела ЦК.
На совещании в ЦК КПСС сразу после съезда (10 марта 1986 года) я высказался за серьезное обновление арсенала идей, с которыми мы обращаемся к другим государствам и общественным движениям. В отношениях с коммунистическими и рабочими партиями — окончательно отойти от «коминтерновского духа», обеспечить объективность информации, иначе будем становиться жертвами неточных, а то и ложных сведений. Все эти наставления не прошли даром. Международные отделы ЦК явно оживились; особенно воспрянули духом думающие, творческие люди, каких там было побольше, чем в остальном аппарате.
К работе с приезжавшими к нам делегациями я подключил членов руководства, да и сам встречался с лидерами многих партий. Наши контакты показали, что их позиции становятся все более дифференцированными. Одни энергично поддерживали наш реформаторский курс, видели в нем шанс на обновление «реального социализма» и МКД, искали свой вариант перестройки. Другие впадали в сомнения, все больше усматривали в наших начинаниях «ересь» и «отступничество» — словом, выступали в роли зарубежных «нинандреевых». Началось размежевание и внутри некоторых партий — возникали «проперестроечные» и «антиперестроечные» течения.
Внешне, во всяком случае, до 1988–1989 годов это не было заметно, перестройка получала широкую словесную поддержку практически повсюду. В последующем колебания стали просматриваться в печати партий, выступлениях их руководителей. Самокритика КПСС, признание тоталитарного характера существовавшего в СССР режима, гласность, переросшая в свободу критики партийного и государственного руководства, — все это превращалось в настоящее «пугало» для некоторых коммунистических аксакалов, привыкших к спокойной жизни обеспеченных «революционеров».
Для политических противников коммунистов неудача «коммунистического эксперимента» была долгожданным подарком. Они старались представить дело так, будто речь идет о крахе самой социалистической идеи. Разумеется, это — никчемная попытка. Но для многих честных и убежденных коммунистов все случившееся в последние годы было потрясением основ, большой личной драмой.
Покончить с расколом левых сил
Отказ от доктрины насильственной революции в пользу глубоких социальных реформ, признание приоритета общечеловеческих ценностей, правового государства и гражданского общества — все это открывает возможность для устранения раскола социалистического движения.
Когда в 1903 году на II съезде РСДРП произошло размежевание между двумя группами российских «эсдеков», мир не обратил на это никакого внимания. Кому могло прийти в голову, что произошло трагическое событие, которое наложит отпечаток на все XX столетие. Спор большевиков и меньшевиков перерос в глубокий раскол коммунистов и социал-демократов. Возник он вроде бы по малозначительному организационному вопросу, а в действительности за ним стояло принципиальное различие в выборе средств борьбы. Большевизм — это ставка на революцию и диктатуру, меньшевизм — предпочтение реформ и демократии.
Должен сознаться, что и сам я не сразу пришел к выводу о необходимости покончить с вековым противостоянием, с накопившейся горой взаимных претензий, недоверия, враждебности. Сначала присматривался, пытался лучше понять философию, политические убеждения, нравственные позиции людей, связавших свою судьбу с социал-демократией. И знакомство мое началось задолго до прихода на пост генсека. Первый мой диалог как генсека с представителями социал-демократии состоялся 22 марта 1985 года. В состав делегации Консультативного совета Социалистического интернационала по разоружению, возглавлявшейся вице-председателем Интернационала и видным деятелем финской социал-демократии Калеви Сорса, входили представители десяти партий. Мнения сторон по проблематике разоружения оказались сходными, цели совпадали.
Для меня, однако, особый интерес представлял вопрос: есть ли возможность расширить диалог, начать политическое взаимодействие с Социнтерном? И ответ на него я получил в ходе нескольких своих встреч с председателем Социнтерна Вилли Брандтом. Первая состоялась 27 мая 1985 года. В разговоре и на этот раз затрагивались прежде всего вопросы международно-политического характера, но намного шире и масштабней — как прекратить «холодную войну», преодолеть раскол мира, какой может быть роль в этом Западной Европы. Проникнувшись взаимной симпатией, мы договорились поддерживать постоянный контакт через доверенных лиц путем обмена письмами. И уже на следующей встрече (5 апреля 1988 года) далеко вышли за рамки безопасности и разоружения.
Брандт прилетел на этот раз вскоре после публикации в «Советской России» статьи Нины Андреевой, накануне ответа ей «Правды». И первым вопросом, который был задан нашим товарищам сопровождавшим его Эгоном Баром, было: что значит эта статья, поворот? Брандт проявил серьезное понимание проблем перестройки КПСС, искреннюю заинтересованность в успехе начатого нами дела.
А дискуссия о новом видении социалистической идеи с неизбежностью подвела к отношениям между КПСС и СДПГ, шире — коммунистами и социал-демократами. Напрямую была затронута тема: не настало ли время преодолеть застарелую болезнь рабочего движения? Речь не заходила о конкретных мероприятиях организационного плана, касалась возможности восстановления широкого диалога и многоцелевого взаимодействия.
Подводя итоги, я отметил:
— Теперь уровень наших взаимоотношений позволяет плодотворно взаимодействовать по проблемам, которые вряд ли могут быть решены без активного и конструктивного участия КПСС и Социнтерна, других демократических сил Европы.
Брандт согласился.
Забегая вперед, хочу отметить: в последующие годы я еще не раз встречался с Брандтом. С этим замечательным человеком, одним из крупнейших политических деятелей нашего времени, у меня сложились дружеские отношения. Мы все чаще углублялись в проблемы будущего человечества, путей прогресса, роли левых сил, содержания социалистической идеи в новых условиях. По предложению Брандта я написал на эту тему статью в журнал «Социализм будущего». Затем он направил мне приглашение участвовать в очередном конгрессе Социнтерна в Берлине. Я сделал это. К сожалению, самого Брандта на конгрессе не было — он был уже тяжело болен.
В 1985–1987 годах мне пришлось встретиться с другими видными деятелями Социалистического интернационала: Йоханнесом Рау, руководителем крупнейшей в ФРГ организации СДПГ Северного Рейна-Вестфалии; Пьером Моруа, лидером французских социалистов, избранным после смерти Брандта председателем Социнтерна; руководителем Испанской социалистической рабочей партии и главой правительства Испании Фелипе Гонсалесом; Гру Харлем Брундтланд — главой правительства Норвегии. Со всеми ними в личном плане у меня сложились близкие отношения.
Под влиянием встреч с социал-демократами, с «зелеными» ФРГ, представителями Индийского национального конгресса я пришел к твердому мнению: нужен разговор за «круглым столом» между всеми, кто способен услышать и понять друг друга, искать общий язык в подходе к новым мировым реалиям. Идея состояла в том, чтобы провести широкую встречу, использовав приближавшуюся семидесятую годовщину Октября. 3–4 ноября 1987 года в Кремле и состоялась уникальная встреча левых и центристских политических партий и организаций, представлявших все континенты. Успех превзошел наши ожидания.
Дискуссия была оживленной. Многие социал-демократы искренне приветствовали поиск путей к сближению. К сожалению, более сухо и замкнуто держались представители некоторых коммунистических партий. Вот характерная деталь. Делегатам от Компартии и Соцпартии Японии поставили стулья рядом, просто по алфавиту. А коммунист потребовал пересадить его. Видимо, чтобы не заразиться оппортунистическим духом.
В конце встречи пришлось выступить мне как председательствующему, без всяких претензий на подведение итогов были подчеркнуты два вывода. Первый — все. сошлись на том, что современный мир столкнулся с множеством новых проблем, новых реальностей, требующих совместного осмысления. Второй — мы свидетели нарастающей тревоги за судьбы мира, цивилизации. На авансцену выходят широкие массы. Это накладывает на левые и левоцентристские силы особую ответственность.
Куньял, Натта высказались за регулярное проведение подобных встреч, а Арво Аалто с его образным языком сказал: «На встрече воцарилась удивительная атмосфера — культуры несогласия в малом и согласия в главном — в ответственности за будущее цивилизации. Реквием старому мышлению, исполненный в докладе и выступлении Михаила Горбачева, сводит на нет имевший место запас сомнений в том, что КПСС — неформальный дирижер международного левого движения».
Во встрече в Кремле приняли участие не только коммунисты и социал-демократы, но также представители ряда национально-демократических партий и движений из развивающихся стран. Они активно участвовали в общей дискуссии, внеся в нее свои краски, свои оттенки.
Председатель Исполкома Организации освобождения Палестины Ясир Арафат призвал создать на Ближнем Востоке безъядерную зону. Председатель МПЛА — Партии труда (Ангола) Ж.Эдуардо душ Сантуш обратился к присутствующим, предлагая усовершенствовать и активизировать инструменты сотрудничества между СССР, странами Восточной Европы и странами Африки. Президент Африканского национального конгресса Оливер Тамбо выдвинул программу содействия ликвидации апартеида в его стране. Иными словами, рамки дискуссии были на этот раз действительно общемировыми.
Откровенно говоря, мы были окрылены итогами встречи. Я дал поручение проанализировать отклики на нее, собирать материалы и готовить предложения о том, как продолжить начатую совместную работу левых и левоцентристских сил. К сожалению, не получилось. Закружил бурный поток событий, захвативших страну. Было еще много двусторонних контактов, а вот за таким «круглым столом» собраться в Москве уже не пришлось.
И опять в поиске
После XIX Всесоюзной конференции КПСС вопросы международной политики и отношения с зарубежными партиями было поручено курировать Яковлеву. Секретарем ЦК и заведующим Международным отделом стал В.М.Фалин. Видимо, загруженность нараставшими внутренними проблемами, а с другой стороны, личные склонности этих товарищей привели к тому, что отношения с партнерами в других странах у нас заметно сократились.
На XXVIII съезд КПСС делегации зарубежных партий мы не приглашали. С учетом развернувшейся у нас внутрипартийной борьбы полемика на самом съезде между зарубежными коммунистами дополнительно обострила бы ситуацию в КПСС. Различные течения в партии и так уже пытались «искать союзников» за рубежом, что еще более накаляло общую обстановку и в стране, и вне ее.
Июльский Пленум ЦК в 1991 году одобрил проект новой программы партии, имевший скорее социал-демократическое содержание. Открывалась перспектива современного видения путей реализации социалистической идеи. Публикация ее вызвала широкий, но весьма неоднозначный резонанс. Именно открытие новых перспектив сотрудничества КПСС с левыми силами и между ними резко обострило противоречия внутри коммунистического движения. В большинстве случаев мы сталкивались с полным отторжением взятого нами курса. И лишь в некоторых — с поддержкой, основанной на общности взглядов на современный мир и его будущее.
Подлинная солидарность, серьезное понимание вставших перед нашей страной и партией проблем ощущались в годы перестройки со стороны Итальянской компартии. Я уже говорил о наших встречах с А.Натта. А 28 февраля 1989 года я принимал нового Генерального секретаря ИКП Акилле Оккетто, с которым был знаком давно. И когда мы вновь встретились в Москве, без труда нашли общий язык. Нам не надо было «приспосабливаться» друг к другу. Итальянские друзья сами шли по пути поиска новых идей, форм работы. У них шла своя «перестройка».
Естественно, речь прежде всего зашла о наших делах. Акилле высказал тогда интересное замечание: «Можно сказать, что у вас идет гонка со временем. Ставка заключается в том, сумеет ли перестройка за короткое время сформировать новые кадры, или же старые кадры за такое же короткое время сумеют затормозить перестройку». Действительно, многое у нас упиралось в кадры, в их настрой, психологию.
Затронули мы тогда такой крупный вопрос, как концепция прогресса. Наши взгляды были очень близки. Старый, чисто количественный, так сказать, технократический подход к пониманию прогресса, отказ от учета его негативных последствий стали неприемлемыми. На первый план выходит проблема ценностей, учета общечеловеческих интересов.
Я решительно поддержал идеи постепенного, без конвульсий и катаклизмов продвижения по пути реформ, демократизации общества. Речь должна идти о движении от одного этапа к другому, каждый из которых по содержанию должен быть отмечен углублением демократии в экономике, в политических и социальных институтах. Разумеется, такой подход потребует и иной конфигурации движущих социальных, политических сил. Наверное, это будет объединение различных течений левого движения, тех, кому близка социалистическая идея.
К этому кругу вопросов мы возвращались еще и еще — во время встречи в Риме в конце октября 1989 года, когда я был в Италии. Потом в ноябре 1990 года, то есть уже после нашего XXVIII съезда, на котором КПСС, казалось, взяла твердый курс на обновление, на ту самую концепцию постепенного, поэтапного преобразования общества, о которой мы и ранее говорили с Оккетто. Встреча была тем более интересной, что в это же время итальянские коммунисты приступили к преобразованию своей партии в Демократическую партию левых сил. Как рассказывал Акилле, речь у них шла о том, чтобы, не отказываясь от своего прошлого, развивая коммунистические и социал-демократические традиции, переосмыслить саму социалистическую идею. Оккетто взволнованно рассказывал, какие дискуссии идут в ИКП.
Как все это напоминало ситуацию в КПСС, в нашей стране! Глубокое преобразование общества и партии, естественно, нигде не может проходить гладко, без серьезных трудностей. Но вот что симптоматично: в КПСС и в ИКП, действующих в совершенно различных условиях, возникали, по существу, одни и те же проблемы. Это подтверждало: выбор сделан правильный, в нем отражаются не только наши национальные потребности, но и общемировые процессы.
Лакмусовой бумажкой, показателем степени готовности коммунистов понять требования современности стал августовский путч 1991 года. К сожалению, многие компартии, в том числе и некоторые влиятельные, казалось бы, опытные с одобрением — прямым или мало-мальски замаскированным — отнеслись к действиям путчистов. Французская компартия, например, восприняла путч как «совершившийся факт», а ее печать спокойно (и с элементами заметного одобрения) писала о «новом руководстве». Открыто выступило в поддержку ГКЧП руководство Коммунистической партии Греции. Поддержали путчистов руководители компартий Чили, Индии (марксистской), Ливана, ряда других партий. Привязанность к привычным догмам оказалась сильнее здравого смысла и даже простого чувства человеческой солидарности.
Правда, догматизм, определивший подобные позиции руководства ряда компартий, не прошел для них безболезненно. В Греции партия раскололась. Во Франции, где и до того имели место внутренние разногласия, ряд товарищей вышли из ФКП, в том числе на уровне ее руководящих звеньев. Расколы произошли и у коммунистов Чили, Перу. В других же компартиях резко активизировались внутренние споры, приобретшие особенно активный характер после того, как стало известно о позиции руководящих органов КПСС в августовские дни.
Все это вызывало чувство горечи, сожаления. Подтверждалось, что предоставлявшийся историей шанс вырваться из догматических оков многими упущен. Зато одновременно мы увидели и тех, кто повел себя как твердые демократы. Решительно осудило попытку переворота руководство Демократической партии левых сил Италии. Аналогичную позицию заняли товарищи в Аргентине, Уругвае. В отличие от ряда других партий для последних случившееся стало новым дополнительным аргументом в пользу активизации политики их собственного обновления.
Безоговорочное осуждение путча и не менее безоговорочную поддержку перестройке, демократическому преобразованию советского общества продемонстрировали партии Социалистического интернационала. Его бюро уже 20 августа выступило с принципиальным заявлением в связи с путчем. А 17 сентября Москву посетила представительная делегация Интернационала.
Старый знакомый Пьер Моруа, взяв слово, заявил: социалисты, социал-демократы с самого начала внимательнейшим образом следили за процессами обновления советского общества, поддержали их. Интернационал решительно выступил против путча, за восстановление законности. И сегодня партии, входящие в Интернационал, с не меньшим вниманием и симпатией следят за вашей страной, вступившей в новый этап развития, желают успеха в продолжении реформ, поисках путей создания такого общества, которое отвечало бы интересам советских людей, условиям страны. Уверен, сказал Моруа, что ваше демократическое общество впишется в рамки социалистического движения, которое развивается в Европе и в мире.
Я, со своей стороны, поблагодарив друзей за поддержку и понимание ситуации, рассказал им о происшедшем, подчеркнув:
— Только сейчас мы в полной мере сознаем, где мы были, с чем имели дело и к чему идем. Идет демонтаж тоталитарной системы, утопической леворадикальной модели общества. Но наш отход от старых моделей, дискредитировавших себя, не означает, что мы распрощались с социалистической идеей. Я, как президент, не считаю для себя возможным скрывать это свое убеждение. Но одновременно с пониманием отношусь к наличию других идей, с приверженностью части общества этим идеям. История приведет к рождению новых форм жизни в нашей стране. Но в основе их, безусловно, должны лежать права человека, демократия, гласность.
Развал Советского Союза, предшествовавший ему фактический распад КПСС прервали процесс ее партийных связей с зарубежными политическими силами. Эти связи так и не восстановились.
Что касается меня лично, то я и сегодня сохраняю свои контакты с представителями левых сил — с теми, в ком вижу подлинных соратников по размышлениям и действиям, поиску рационального будущего, разумных путей к социальному и человеческому прогрессу.
Уже после путча, поздней осенью 1991 года, когда в руки журналистов попали документы из архивов КПСС, всплыл вопрос, о котором не могу не сказать несколько слов. Речь идет о материальной помощи нашей партии коммунистическим и левым организациям за рубежом.
Вопрос этот был поднят вряд ли стихийно — речь явно шла о том, чтобы бросить дополнительную тень на КПСС, ее политику. А заодно — и о том, чтобы попытаться скомпрометировать другие партии, очернить их в глазах народов стран, где они действовали. Но эта кампания явно не дала ожидавшихся результатов, хотя шум был поднят немалый.
Помощь рабочих партий друг другу в разных формах существовала на протяжении всей их истории. В свое время, до революции, ее получала и РСДРП. А после Октября сама она оказывала материальную поддержку друзьям. После Второй мировой войны такая поддержка уже шла не только от КПСС, но и других партий социалистических стран, создавших международный фонд.
В период «холодной войны», когда мир был разбит на два лагеря, в рамках каждого из них подобная помощь была традицией. «Дотации» США ряду партий правого толка во много раз превосходили средства, предоставлявшиеся коммунистам.
Прекратить эту помощь разом — рука не поднималась. Все-таки речь шла о друзьях, о многолетних связях. Тем более что по масштабам она была несопоставима с миллиардами, расходовавшимися на реализацию неосуществимых проектов внутри нашей страны, на гонку вооружений или безвозмездные поставки вооружений разным странам.
Что, конечно, было в этом деле несправедливым — помощь оказывалась за счет не только партийных средств, но частично и государственных. Это уже «пережиток прошлого», тех времен, когда партия и государство представляли собой единое целое и никто не задумывался, откуда идут те или иные средства.
Кризис коммунистического движения и его фактический разброд были, по сути своей, неизбежными. Ибо это был кризис, порожденный внутренними пороками той «коммунистической идеи», реализация которой привела к появлению тоталитарного общества. Эта модель рано или поздно должна была потерпеть крушение.
Однако это совсем не значит, что коммунистические партии должны были обязательно потерпеть такой же крах. Оказавшись способными вырваться из объятий догматических представлений, трезво взглянуть на окружающий мир и нащупать новый теоретический и политический подход к своей деятельности, они не переживали бы тех трудных времен, которые переживают ныне многие, точнее — большинство из них.
А ведь на коммунистов оказывал мощный прессинг не только сам мир, менявшийся на глазах, но и конкретная действительность самих их стран. Менялись социальная структура общества, его нравственный, моральный облик. Менялись отношения между людьми, между ними и обществом, властью. Все это требовало изменения теоретических и политических подходов. Такого изменения не произошло. Иными словами, кризис коммунистического движения — это, по сути дела, кризис его взаимоотношений со временем, с наступившей новой эпохой, прихода которой в большинстве случаев просто не заметили…
Слабое утешение: не только коммунисты, но практически и все другие политические силы не сделали должных выводов из мировых изменений.
Убежден, что перспективы левых могут быть реальны только в случае, если они нащупают пути радикального решения коренных проблем нашего времени — проблем перехода к новой цивилизации.
Поиск продолжается.
Часть V. ГРОЗНЫЙ 1991 ГОД
Глава 42. Январь — июль. Угрозы и надежды
«Формула» года
Я стал было восстанавливать в памяти все, что случилось в 1991-м, с тем чтобы по порядку рассказать о бурных событиях этого года. Но потом почувствовал, что плавного рассказа не получится — слишком многое вместилось в этот промежуток времени. Так что, если идти просто день за днем, не сложится цельной картины. Вдобавок многого мы тогда не знали или, зная, не придавали должного значения. За прошедшее с той поры время приоткрылась завеса над некоторыми «тайнами», стали яснее мотивы поступков основных действующих лиц развернувшейся драмы.
Понять и оценить события 1991-го без того, чтобы снова, хотя бы на миг, не вернуться в прошлое, не удастся. Через какие этапы мы прошли, что стало с нами и страной за перестроечные годы?
Первый — от 1985-го до 1988-го включительно — период поисков, проб и ошибок, когда мы надеялись исправить очевидные пороки системы. И хотя пошли значительно дальше всех предпринимавшихся до сих пор попыток ее реконструкции, все же оставались в рамках традиции, не осмеливались перешагнуть заповеди коммунистической веры.
Второй — с весны 1988-го и до начала 1990-го — период, который можно подвести под понятие демократизации. Осознав, что не только косметикой, но и капитальным ремонтом здесь не обойдешься, никакие новаторские меры в экономике не дадут должного эффекта без коренной перестройки политической системы, мы в рекордно сжатые сроки провели свободные выборы, создали парламент, ввели многопартийную систему, дали возможность сформироваться оппозиции — словом, вернули обществу политическую свободу.
И, наконец, третий период — 1990–1991 годы — определялся исходом борьбы выпушенных на волю сил — социальных, национальных. политических. К концу 1990 года они выходят на исходные позиции, а весь 1991-й становится полем острой схватки, в ходе которой решались фундаментальные вопросы нашего развития: быть Советскому Союзу или нет, каким быть нашему обществу.
И это, пожалуй, нагляднее всего подтверждается содержанием Новогоднего поздравления Президента СССР советскому народу. В нем с предельным лаконизмом — форма обязывала! — изложены и оценки прожитого года, и настроения, с какими мы вступали в новый год, расчеты, надежды, планы, которые с ним связывали.
Вот фрагменты этого поздравления.
«…Будущий год особый. На него падает решение вопроса о судьбе нашего многонационального государства. Для всех нас, советских людей, нет более святого дела, чем сохранение и обновление Союза, в котором вольно и хорошо жилось бы всем народам. Народы страны жили вместе столетиями. Их объединяют и ценности, накопленные за советские годы, связывает память о Победе в самой разрушительной войне. Мы сейчас, может быть, как никогда остро чувствуем, что нельзя нам жить, отгородясь друг от друга. Да и выйти из кризиса, подняться на ноги, твердо пойти по дороге обновления мы сможем только сообща. Именно в Союзе, его сохранении и обновлении — ключ к решению огромных, судьбоносных задач, стоящих перед нами в 1991 го-
Думая о завтрашнем дне, мы не отделяем своей судьбы от судьбы других стран и народов. В мире высоко оценивают наш вклад в оздоровление международных отношений, искренне желают успехов перестройке. Мы это воспринимаем как солидарность с нашим великим делом и шлем всем народам искренние пожелания благополучия и счастья.
Дорогие товарищи! Как ни глубок переживаемый страной кризис, мы можем и должны добиться перелома к лучшему уже в будущем году. Но для этого нужны гражданское и межнациональное согласие, ответственность и дисциплина, добросовестный труд и человечность в отношении друг к другу.
В эти последние мгновения уходящего года я обращаюсь ко всем, кто собрался в кругу семьи и друзей, со словами новогоднего приветствия.
Пусть будут в 1991 году мир, согласие и благополучие в каждом доме!
Пусть возродится к новой жизни наша Отчизна!
С Новым годом, дорогие сограждане!»
С такими надеждами вступили мы в 1991 год. Но уже в первой половине января разразилась гроза.
Литовский синдром
С Литвой связано много драматических страниц истории России. Так случилось и на этот раз. На «литовском полигоне» разыгрывалось, по существу, будущее страны. И участвовавшие в этом партии стремились прежде всего привлечь на свою сторону население республики. Казалось, его состав давал меньше всего оснований для опасений утратить национальную идентичность (4/5 — литовцы, только 1/5 — русские и люди других национальностей). Но «Саюдис», выступивший с момента своего возникновения в роли Фронта национального освобождения, строил свою пропаганду на тезисе: если республика останется в составе СССР, литовцам грозит превратиться в меньшинство на земле предков, как это почти уже случилось с эстонцами и особенно латышами. Нет нужды говорить, что это предостережение находило живой отклик, в короткий срок собрав под знамена «Саюдиса» не только национальную интеллигенцию, людей, связанных с эмигрантскими кругами, враждебно настроенных к Советской власти и обиженных ею, но также значительную часть простого народа.
Наряду с аргументами политического характера приводились не менее, если не более весомые практические доводы: «Литва обладает самым развитым в СССР сельским хозяйством, осуществляет большие поставки в Ленинград, Москву, различные российские области животноводческой продукции, в то время как в самой республике возникают подчас перебои со снабжением мясом». Это было правдой, но только частью правды. Предпочитали умалчивать или принижать значение огромных встречных поставок из России — зерна, нефти, металла, промышленных и потребительских товаров. Не говорили и о тех немалых преференциях, которые были с первых послевоенных лет установлены советским правительством для Прибалтики из политических соображений. Благодаря им наряду, конечно, с большей производительностью труда уровень жизни здесь всегда был выше, чем в других регионах Союза. Мало кто по-настоящему вдумывался в этот баланс. Слушая речи агитаторов «Саюдиса», не только литовцы, но и жители Литвы из числа других национальностей начинали думать, что заживут в несколько раз лучше, избавившись от «диктата Москвы», необходимости «платить ей дань».
То, что «Саюдису» удалось сравнительно легко овладеть сознанием подавляющей части общества, в известной мере объясняется и слабостью тогдашнего литовского руководства. После смерти Гришкявичюса первым секретарем ЦК Компартии Литвы был избран Сонгайла. Порядочный, уравновешенный человек, он всю жизнь занимался аграрным делом, был не очень силен в политике, тем более жизнь подкинула ему задачу крайней сложности. Я не раз беседовал с Сонгайлой, видел, что он в полной растерянности, не способен находить правильные решения возникавших перед ЦК КП Литвы проблем. Встал вопрос о смене лидера, и первым секретарем был избран Бразаускас.
Справедливости ради следует сказать, что пришел он к руководству тогда, когда инициатива практически находилась уже в руках «Саю-диса». Много сторонников последнего было и в рядах компартии, в ней началось брожение. Коммунисты остро реагировали на обвинения в том, что они не являются национальной силой, составляют часть структуры КПСС и служат не Литве, а Москве.
Вот ситуация, с которой пришлось иметь дело Бразаускасу. И после недолгих колебаний он взял курс на провозглашение самостоятельности Компартии Литвы, выход ее (возможно, через какие-то промежуточные этапы) из КПСС. А это означало удар по единству КПСС. Иными словами, «литовский синдром» приобрел двойной характер, развивался одновременно по партийной и государственной линии.
Думаю, Бразаускас достаточно ясно видел проблемы, которые возникнут в результате ухода литовских коммунистов из КПСС. Но понимал, что партия обречена, если не сумеет подтвердить свой национальный характер.
В то время я считал возможным сохранить единство КПСС, обеспечив самостоятельность республиканских компартий, в крайнем случае создав своего рода федеративный союз между ними.
Подозреваю, ставка на выход из КПСС была окончательно принята лишь после того, как со всей ясностью обозначилась воля народа обрести полную государственную независимость. До того момента с обеих сторон шел, можно сказать, поиск приемлемой формулы сосуществования в рамках единой политической структуры — партийной и государственной. И до сих пор остаюсь при убеждении, что это было возможно, если бы не позиция России. Причем по двум линиям. И по государственной, как она провозглашалась радикал-демократами, Ельциным. И по партийной, как она начала формулироваться консервативным крылом КПСС, захватившим власть во вновь образованной Компартии РСФСР.
Вся расстановка сил обозначилась, конечно, не сразу. Во второй половине 1989 года, когда в Литве к власти фактически пришел «Саю-дис», литовский вопрос обсуждался едва ли не на каждом очередном Пленуме Центрального Комитета.
Я считал крайне важным разобраться, что же происходит в республике, какие настроения господствуют в народе, можно ли переубедить сторонников полного отделения. С этой целью и по поручению ЦК была предпринята поездка в Литву в январе 1990 года, в которой меня сопровождал избранный к тому времени секретарем ЦК и главным редактором «Правды» Фролов. В Вильнюсском аэропорту нас встретили Бразаускас и секретарь ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) М.Бурокявичус, Председатель Президиума Верховного Совета республики В.Астраускас, Председатель Совета Министров В.Сакалаускас, а также прибывшие сюда раньше и уже имевшие ряд встреч с литовскими руководителями Медведев и Маслюков.
Детали этой поездки живо сохранились у меня в памяти. Встречали нас повсюду приветливо и доброжелательно, но буквально с первых же бесед с жителями литовской столицы на площади Ленина и до последних прощальных минут обсуждалась фактически одна тема — отделение Литвы от СССР. В своей поездке ставку я делал на диалог, на убеждение — с кем бы ни вел разговор. Так было и на встрече с рабочими в Доме культуры завода топливной аппаратуры.
— Перестройка, — говорил я, — создала атмосферу открытости, гласности, демократизации, высветила наши проблемы, обострила их. Сейчас мы вышли на самый критический отрезок пути. Были митинги, была определенная политика, теперь появились законы, новая экономическая, правовая среда. Добрались до системы управления, коснулись кадров, партии, армии. И все это делается в огромной стране, где проживают многие десятки народов. В этих условиях наш первый принцип должен быть таков: все люди, к какой бы национальности они ни принадлежали, где бы ни жили, должны пользоваться равными полными правами.
Недопустима никакая дискриминация меньшинств ни в стране, ни в республике, ни в регионе. Все должны чувствовать себя уверенно везде, где живут, трудятся, куда судьба их занесла. Не поймем этого, можем наломать таких дров, так отравить отношения между людьми, что потом целые поколения не сумеют ничего поправить.
— Вы помните, — говорил я своим слушателям, — чем это обернулось в Эстонии, Молдавии. Не обошло и Россию, Украину. А посмотрите, что возникло в Узбекистане, в Фергане, что делается вокруг Нагорного Карабаха. Как мучительно трудно ввести события в нормальную колею. Люди жили вместе, а теперь хоть раскалывай семьи. И беженцы появились на почве нетерпимости по отношению к людям иной национальности. Что нас ждет, если будем глухи к этим урокам и каждый будет замкнут только на какой-то свой стереотип?
На конкретных примерах, с цифрами в руках я старался показать, насколько иллюзорны расчеты на то, что, отделившись, республика чуть ли не на другой день разбогатеет. Ведь она получала от Союза валютных товаров больше, чем поставляла в другие республики. А ее промышленность, созданная в основном за послевоенные годы, настолько тесно интегрирована в народно-хозяйственный комплекс, что разрыв этих связей нанесет огромный ущерб экономике.
Я настойчиво предлагал литовцам еще и еще раз обдумать ситуацию, осознать опасность поворота, на который толкают сепаратистские силы.
— Мы должны иметь обновленную партию, обновленную федерацию, обновленную демократическую структуру, обновленное общество. Строить все это, взаимодействуя и сотрудничая, а не разрушая, не отлучая, не проклиная, не сея недоверие и неприязнь по отношению друг к другу.
Должен сказать, что в интернациональном производственном коллективе (а там 30 процентов литовцев, примерно столько же поляков, 20 процентов русских, белорусов и других) все эти аргументы, как мне показалось, были правильно поняты. Сравнительно легко было приходить к взаимопониманию и в беседах с крестьянами, чей хозяйский, практический склад ума позволял представить негативные последствия отрыва от России.
Иное дело — творческая и научная интеллигенция, с представителями которой я встретился в вильнюсском Доме печати. Там в полном смысле слова было жарко. И боюсь, мне не удалось тогда найти контакт с аудиторией, которая в большинстве своем была бесповоротно настроена на отделение. И до этого, и после не раз приходилось мне встречаться с людьми — образованными, вполне доброжелательными и терпимыми по натуре, которые тем не менее никак не откликались на самые весомые и безупречные доводы, потому что были одержимы фанатичной решимостью действовать по-своему, в соответствии с тем, что стало для них символом веры.
— Путь к политическому суверенитету, — говорил я, — к экономической независимости, культурному развитию, сохранению всех традиций один — через Конституцию суверенных государств, объединенных в федерацию. А вы знаете, что такое федерация?
Из зала закричали:
— Знаем, знаем!
— Откуда вы знаете, ведь мы в ней еще не жили. Литовцы — народ сдержанный. Но куда же все это так быстро исчезает, включая и плюрализм мнений, когда я прошу вас выслушать мои доводы.
Боюсь, это была риторическая фраза. Ответ заключался в том, что к тому времени практически всеми средствами массовой информации владел «Саюдис» и пропаганда шла в одном ключе. А если людям изо дня в день твердят с телеэкрана, что, обособившись, они станут жить в несколько раз лучше, то через некоторое время, не столь продолжительное, это становится «идефикс» всего населения. Примеров тому великое множество в современной истории.
Но не хочу я ни в коем случае и упрощать дело. У представителей научной и творческой интеллигенции Литвы были свои веские основания добиваться полной независимости. Да, все мы не жили при настоящей федерации, но кто мог дать гарантию, что она непременно будет. Один из моих собеседников так прямо и рубанул:
— Вы, мол, Михаил Сергеевич, останетесь у руководства еще девять лет, а там мало ли кто придет, и не вернут ли нас в прежнее состояние!
Редактор газеты «Червоный штандар» З.Бальцевич на собрании республиканского партийного актива зачитал письмо коммуниста из Новосибирска Митина Виталия Михайловича. Во что он писал:
«Как коммунист-интернационалист я горячо приветствую решение XX съезда Компартии Литвы. На выход ее из КПСС вас толкнули мы сами, русские коммунисты… У литовцев было два варианта быть равными с русскими. Первый — на равных с русскими управлять страной и КПСС. Второй — выйти из состава СССР и КПСС. Первый вариант заблокировали мы, русские. К управлению всей страной литовцев близко не допускали. Правительство СССР практически состоит только из одних русских. Политбюро ЦК КПСС — тоже. Вот литовцам и остался лишь второй вариант. Этот вариант, кстати, уже приготовлен и другим тринадцати союзным республикам и партиям. Их тоже не допускают к управлению общесоюзными делами, тоже дают подачку в виде некоторой самостоятельности, но только в местных делах, не более того.
Без интернационального Политбюро нам не обойтись никак, федеральное управление страной должно осуществлять тоже интернациональное правительство из представителей всех пятнадцати союзных республик, а не только одной РСФСР. Иное ведет к развалу партии и страны, и отвечать за это нам, русским, а не литовцам».
Замечательно четкая и честная постановка вопроса. Работник ПМК «Запсибзолотострой» в Новосибирске осмелился сказать то, о чем мало кто смел у нас говорить даже в первое время с приходом гласности. Но ведь тогда, в 90-м году, у нас уже были решения Пленума ЦК по национальному вопросу. Очень скоро, после XXVIII съезда партии, Политбюро будет формироваться на основе представительства всех компартий, а внутренняя и внешняя политика страны вырабатываться в Совете Федерации, этом своеобразном «надправительстве». И сейчас я думаю, что, если бы все это было сделано на год раньше, вполне вероятно, многие литовцы не стали бы с такой непреклонностью требовать полной независимости. Реальные очертания федерации убедили бы их, что нет нужды пускаться в одиночное рискованное плавание. Впрочем, все это теперь одни догадки.
Тогда же, повторяю, они твердо стояли на своем. Вот что, например, говорил доцент Вильнюсского университета Ю.Каросас.
— На встрече с деятелями культуры вы, уважаемый Михаил Сергеевич, несколько раз добивались от наших ораторов более ясного обоснования решений XX съезда КП стать самостоятельной. Разумеется, в его основе лежит вызванное перестройкой национальное возрождение Литвы. Одно связано с другим. Одно невозможно без другого — именно так мы это понимаем. После того как КПСС решила положить демократию в основу нашей политической жизни, у нас в республике это было воспринято прежде всего как провозглашение права на самоопределение. Для нас демократия тождественна этому праву. Вы, Михаил Сергеевич, приняли всерьез демократию, мы соответственно приняли всерьез свое право на свободу. Поэтому для нас очень скверно звучит упрек в стремлении к сепаратизму как Литвы, так и КПЛ. На наш взгляд, свобода есть неотчуждаемое право наций, а не предмет роскоши, без которого она может обойтись.
Уважаемый Михаил Сергеевич, — продолжал ученый, — мы уверены, что вы искренне желаете всем людям добра и понимаете, что нельзя сделать народ счастливым против его воли.
Вот решающий аргумент, с которым нельзя было не согласиться. Приводился в беседах и такой довод: Ленин в 1918 году признал независимость Литвы. То же самое обязано сделать нынешнее руководство, если оно искренне, а не декларативно провозглашает право наций на самоопределение. Этой темы и я не избегал. Но постоянно подчеркивал при этом:
— Нужен конституционный механизм реализации такого права. Проект соответствующего закона уже есть, он будет вынесен на всесоюзное обсуждение. Если же кому-то упрощенно представляется, что сегодня-завтра пройдут выборы, вы соберетесь, проголосуете и сразу выйдете из Советского Союза, то это не политика.
Словом, допуская возможность отделения в принципе, я, не скрою, надеялся, что развитие экономической и политической реформы будет опережать процедуры «отделенческого процесса». Ощутив реальные блага федерации, люди перестанут быть одержимы идеей полной независимости. Начало уже сделано: в Верховном Совете на подходе решение вопросов о земле, собственности. Затем на очереди закон о разделении компетенции союзных и республиканских органов.
— Литовская ситуация, — это говорилось в последние часы пребывания в Вильнюсе, — имеет не только республиканское, но и общегосударственное значение. Речь идет о судьбе страны, о ее роли, весе и о реализации замысла, который мы в широком историческом плане рассматриваем как переход от авторитарно-централистской модели общества к социализму гуманному, демократичному, сориентированному на человека. Разве это может нас разделить?
Я уезжал из Литвы со смешанными чувствами тревоги и надежды.
Но уже очень скоро выяснилось, что переломить ход событий нам не удалось. Не прошло и двух месяцев, как «Саюдис» одержал безоговорочную победу на выборах в Верховный Совет. Не дожидаясь второго тура голосования, его руководители собрали ночью 11 марта депутатов, открыли сессию и приняли акт о независимости Литвы, провозгласив, что на территории республики Конституция СССР и законы нашего государства больше не действуют. Причины такой поспешности легко угадывались. 12 марта в Москве открывался внеочередной Третий съезд народных депутатов СССР, на котором предполагалось избрать первого советского президента. Ландсбергис, его «команда», как теперь принято говорить, явно намеревались использовать трибуну высшего органа государственной власти Союза, чтобы заявить о выходе Литвы из состава СССР, тем самым придать хоть какую-то видимость легитимности своему явно антиконституционному образу действий.
Полагаю, не исключали они и возможность известного «политического шантажа». Моим помощникам прозрачно намекали, что, если Горбачев займет «благоразумную позицию» в отношении независимости Литвы, народные депутаты СССР от Прибалтийских республик проголосуют за его избрание президентом. Разумеется, попытки вступить в подобный торг были решительно пресечены.
Дискуссия на съезде по литовскому вопросу развернулась уже после того, как я был избран Президентом СССР. Многие ораторы выражали свое возмущение тем, что литовский парламент, по существу, потребовал признания независимости республики в ультимативной форме. А его вновь избранный председатель В.Ландсбергис проявил неуважение к съезду, не приехав в Москву, чтобы лично изложить намерения нового законодательного органа. Отмечалось, что депутаты Верховного Совета Литвы представляют всего лишь сорок с небольшим процентов населения и неправомочны поэтому решать такой судьбоносный вопрос, как отделение от союзного государства.
Некоторые депутаты, представлявшие русскоязычное население Прибалтики, опасались, что чрезмерно резкая, эмоциональная реакция съезда на неправомерные действия нового литовского руководства вызовет отчуждение на этнической почве и обернется гражданской дискриминацией.
Тут некоторые начали меня отчитывать: почему это президент отмалчивается, мы только что его избрали — ему и карты в руки. Он ведь по Конституции гарант гражданских прав и только что клялся стоять на их страже.
Откликаясь на этот призыв, я сказал, что мы на протяжении полу-тора-двух лет вели активный диалог с литовским народом. Если сегодня события приобрели такие острые формы, то нельзя винить в этом представителей всех республик, проявлявших уважение, терпение, чувство товарищества к народу Литвы.
Далее я предложил с несколькими поправками принять проект постановления съезда, подготовленный по моему поручению В.М.Фалиным. Суть его сводилась к тому, что, подтверждая право каждой союзной республики на свободный выход из СССР, съезд объявлял решения, принятые Верховным Советом Литвы, недействительными до принятия закона, определяющего порядок и последствия выхода из состава Союза. Кроме того, Президенту СССР поручалось обеспечить защиту законных прав всех людей, проживающих на территории Литовской Республики.
Верховный Совет Литвы официально отказался признать решения Третьего съезда народных депутатов и отменить собственную Декларацию о независимости. Тем не менее в Вильнюсе поостереглись и действовать в соответствии с этой декларацией, ее духом и буквой. Фактически все оставалось как прежде: в Литве продолжали действовать советские законы, сохранялась вся структура связей республики с союзными органами государственной власти. Не считая отдельных провокаций, не делалось и сколько-нибудь серьезных попыток помешать выполнению функций частей Советской Армии, расквартированных в республике, и т. д. Грубо говоря, Ландсбергис решил взять нас измором. Учитывая невыгодное для себя соотношение сил, он выжидал, пока Союзный центр, перегруженный острейшими проблемами, все более вовлекаемый в тяжелую, вязкую борьбу с российским руководством, вовсе махнет рукой на Литву и предоставит ей желанную свободу.
Разумеется, мы видели эти нехитрые маневры и стремились противопоставить им свою тактику. Было решение Третьего съезда, его нужно было выполнять, и с этой целью решили создать комиссию во главе с Рыжковым для ведения переговоров с литовским руководством. Но Ландсбергис с самого начала заупрямился, объявив, что переговоры могут состояться только в том случае, если они будут вестись по протоколу, какой принят в отношениях между суверенными государствами. Эта претензия была, естественно, отклонена, и в течение месяцев дело не сдвигалось с места. А между тем был уже принят Верховным Советом закон о порядке выхода союзной республики из СССР, и литовское руководство имело теперь возможность поставить это на легитимную основу. Но в том-то и дело, что в Вильнюсе не хотели действовать по закону, опасаясь, что референдум может дать негативный для них результат. Основания для таких опасений были, и очень серьезные, потому что экономическое положение республики начало стремительно ухудшаться.
Здесь я хочу вернуться к аргументированному выступлению на съезде председателя Госплана СССР Маслюкова. Он предупреждал, что разрыв экономических связей, который станет неизбежным следствием объявленного правительством Литвы намерения изменить структуру своей промышленности, вызовет потери для хозяйства самой Литвы и других союзных республик порядка 14 миллиардов рублей. При переходе на расчеты в свободно конвертируемой валюте Литва получит отрицательное ежегодное сальдо порядка 3,7 миллиарда рублей. Допускаю, что краски несколько сгущались, но в основе своей оценки было достаточно объективными. Однако литовское руководство пропустило их мимо ушей, находясь в состоянии эйфории после собственных смелых решений и полагаясь на благосклонное отношение Запада.
В своем выступлении Маслюков привел отрывок из любопытной статьи, опубликованной комиссией по независимости Литвы. В ней говорилось, что стратегия внешнеэкономических связей республики должна ориентироваться на дальнейший импорт основного сырья и топлива из СССР. В то же время намечалось заимствование прогрессивной техники и технологии путем создания совместных предприятий с западными странами и экспорта их продукции на Восток, а по мере повышения уровня — на Запад. Иначе говоря, открыто и довольно беспардонно заявлялось о намерении использовать Россию в качестве своего рода дешевой сырьевой базы для «технологизации» Литвы. Одна из московских газет поместила карикатуру: корова с длинной шеей поедает корма в России, а доят ее в Литве.
Я уже рассказывал о направлении Ландсбергисом неофициального посла с предложением заключить своего рода перемирие. В это же время я не раз беседовал с Прунскене. В литовском руководстве того периода она отличалась более взвешенным подходом к проблемам отношений Литвы с Россией и Союзом, старалась, как и Бразаускас, искать взаимоприемлемые развязки. Будучи неплохим экономистом, Казимира Яновна отдавала себе отчет, что, и добившись независимости, Литва остается соседом нашего великого государства, ее будущее в огромной мере зависит от сохранения истинно партнерских, дружеских отношений с Москвой. Но, похоже, как раз эта ориентация Прунскене и ее популярность у сограждан вызвали неудовольствие радикально настроенных идеологов «Саюдиса». Во время последней встречи (это было 7 января 1991 года) она призналась, что, пока находится в Москве, ее могут снять с работы. И действительно, уже 8 января ей пришлось уйти в отставку.
Фактически на правительство Прунскене свалили плачевные результаты всей политики Ландсбергиса и его окружения, приведшие республику к глубокому экономическому кризису. К этому добавились непродуманные эксперименты, рассчитанные на то, чтобы на порядок опередить Союз в хозяйственных реформах, совершить, так сказать, «большой скачок». Вероятно, немалые расчеты возлагались на щедрую помощь Скандинавских стран: те действительно сулили многое, но особенно раскошеливаться никто не стал.
Не может быть сомнений, что самоуверенность литовских руководителей в немалой мере подпитывалась событиями в России. Я говорил, что Ландсбергис вроде бы дрогнул, пошел на попятную и начал искать пути для установления контактов. Но едва радикал-демократы добились избрания Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР, как литовцы дезавуировали свои «миротворческие» инициативы. Больше того, словно пожалев о потраченном зря времени, Верховный Совет Литвы принял одно за другим дискриминационные решения по отношению к Союзу, общесоюзным интересам, ущемляющие граждан нелитовской национальности. И на все это, я не сомневаюсь, в Вильнюсе отважились потому, что получили заверения о поддержке от российского руководства, а может быть, даже рекомендации действовать более жестким образом.
В этой связи предприятия союзного подчинения, офицерские собрания частей армии и флота, отдельные граждане засыпали Кремль телеграммами с требованием введения президентского правления. Все смелее выступала и компартия, стоявшая на платформе КПСС. Атмосфера накалялась, и искрой для взрыва послужило повышение розничных цен. Оно вызвало недовольство трудящихся всех национальностей.
Поначалу выдвигались экономические, а затем и политические требования: долой правительство, долой Ландсбергиса! Рейтинг его практически упал до нуля. Было известно, что среди депутатов обсуждался вопрос о замене Председателя Верховного Совета. Не странно ли, что спасение его пришло, можно сказать, от «противной стороны»? Не было бы «литовского путча» 13 января — по-другому могли бы развиваться события.
«Развод» без закона
Судьба Литвы решалась в зависимости от того, какой из трех подходов возьмет верх. Ландсбергис и его сторонники были полны решимости добиваться независимости любой ценой. Их при этом нисколько не смущало, что немалая часть населения, в том числе литовцев, не хотела разрыва с Советским Союзом и, уж во всяком случае», не сочувствовала столь воинственной, агрессивной позиции сепаратистов.
Бурокявичюс и его сторонники были готовы любой ценой противодействовать этому; их решимость в значительной мере питалась уверенностью в том, что высшее партийное и государственное руководство Союза не допустит ухода Литвы и окажет им всемерную поддержку.
Президент СССР занимал единственно возможную для себя, полностью соответствовавшую Конституции СССР и постановлению Съезда народных депутатов позицию: использовать все политические средства, чтобы предотвратить выход республики из состава союзного государства. А если это не удастся и народ Литвы на референдуме выразит свою волю отделиться — провести переговоры и совершить «развод» по закону и справедливости с тем, чтобы обеспечить в будущем нормальные отношения сотрудничества и партнерства между СССР и независимым литовским государством.
Сегодня, когда пытаются дать оценку событиям 13 января в Вильнюсе, и политики, и исследователи нередко впадают в крайность, занимая априори ту или иную позицию, игнорируя сложный контекст, в котором произошла вильнюсская трагедия.
7 января в Литве объявляется о повышении цен. 8 января в Вильнюсе состоялась массовая демонстрация перед зданием правительства против этой меры. В тот же день, как я уже говорил, Казимира Прунскене вынуждена была уйти в отставку. 9-го в литовской столице вновь собралась мощная демонстрация, участники которой потребовали немедленного введения президентского правления.
В записке от 7 января ЦК КП Литвы (на платформе КПСС) обратился ко мне с предложением ввести президентское правление. Из республики одна за другой шли тревожные телеграммы с просьбой принять меры по наведению порядка. Но и в этой ситуации идти на крайнюю меру я по-прежнему не считал себя вправе. 10-го обратился к Верховному Совету Литовской ССР и призвал незамедлительно восстановить в полном объеме действие Конституции СССР, так как обстановка принимает взрывной характер.
Смысл послания сводился к тому, чтобы предотвратить дальнейшее нагнетание обстановки. И сделать это не ценой отказа от требований независимости, а обязательством добиваться этой цели в рамках конституционной законности. Однако тогдашний литовский лидер не воспользовался и этим шансом. Почему? Думаю, есть только одно объяснение. Он отдавал себе отчет, что очевидное фиаско проводившегося до сих пор непримиримыми саюдистами политического курса окончательно дискредитирует их в глазах народа и вынудит передать власть более умеренному и разумному течению в национально-освободительном движении литовцев.
Всякий компромисс был губителен для будущего Ландсбергиса как политического деятеля. Действуя по принципу «чем хуже, тем лучше», он спровоцировал создание 11 января Комитета национального спасения. На антиконституционные действия Верховного Совета Республики, отбросившего союзную Конституцию, последовало создание неконституционного органа. Борьба из конституционного русла перешла в русло прямой конфронтации.
В последующие два дня в Вильнюсе установилась классическая ситуация двоевластия, когда ни одна из сторон не в состоянии сломить сопротивление другой. Язов, Крючков и Пуго доложили мне, что ими принимаются меры на случай, если обстановка в Вильнюсе выйдет из-под контроля и начнутся прямые столкновения сторонников «Саюдиса» и коммунистов, станет неизбежным введение президентского правления. Речь шла именно об этом и ни о чем другом — на случай, если дело дойдет до крови.
Пришла телеграмма генерала Варенникова, прибывшего в Вильнюс 10 января, в которой ситуация оценивалась как опасная и ставился вопрос о президентском правлении. В самый канун трагических событий в литовской столице была предпринята еще одна попытка удержать ситуацию под контролем и помочь схватившимся там политическим группировкам найти разумное решение. 12 января положение в Литве обсуждалось на заседании Совета Федерации. Докладывал Пуго. Я констатировал, что остался шаг до кровопролития, и предложил послать представителей Совета Федерации, с тем чтобы разобраться на месте и доложить нам о желательных мерах. Назвал Дементея и Нишанова.
Ельцин сказал, что информация, которой мы располагаем, носит односторонний характер, имеет место демонстрация силы союзных органов. Он, в частности, утверждал, что послание Президента СССР Верховному Совету Литвы «составлено не в тех выражениях, которые требовались. Это не ультиматум, но и не призыв к соглашению». Он высказался против включения в состав делегации Нишанова.
Председатель Верховного Совета Латвии Горбунов назвал информацию Пуго упрощенной. А вот что говорил эстонский премьер Сависаар: «Мы нашли с Язовым компромисс по вопросу о призыве в армию. Я спросил: у нас тоже ждать десантников? Он сказал категорически — нет. Час назад мне сообщили, что такие части уже высажены». Язов утверждал, что десантники в Эстонию на направлялись.
Я напомнил присутствующим, что истоком событий явились торопливые решения Верховного Совета Литвы, принятые 11 марта 1990 года.
— Не будем признавать Конституции, законов — ввергнем страну в пучину конфликтов. Бичкаускас говорил здесь о саботаже переговоров. Но ведь сами литовцы сделали упор на протоколе, безосновательно требуют, чтобы переговоры носили межгосударственный характер. И только две недели назад отказались от этого условия. Мы — против применения силы и все время искали разумные развязки. Недавно приезжала Прунскене, вновь просила ускорить начало переговоров. Нужно снимать противостояние, идти к экономическому соглашению, к Союзному договору.
Ельцину я высказал пожелание, чтобы в Верховном Совете России воздержались от заявлений, которые могут лишь подтолкнуть литовское руководство к более агрессивной позиции. В заключение подчеркнул: причины нарастающего в Литве недовольства не сводятся к ценам. Речь идет о самочувствии многих сотен, тысяч людей — и коренного населения, и русских, и поляков, оказавшихся в положении изгоев.
В конечном счете было решено немедленно направить в Вильнюс делегацию Совета Федерации в составе Тер-Петросяна, Дементея, Олейника, Фотеева. В тот же день, 12-го, я сделал заявление, что кризис будет разрешен политическими методами. Но еще до приезда делегации Совета Федерации, в ночь с 12 на 13 января, был осуществлен захват телевизионной башни и радиостанции с участием советских войск, приведший к гибели людей.
Поэтому, едва получив известие о событиях в Вильнюсе, я связался с Крючковым и потребовал объяснений. Председатель комитета госбезопасности сказал, что ни он, ни Пуго не отдавали приказа о силовой акции. Решение принималось на месте, а кем именно, нужно еще выяснить. Он пытался преуменьшить масштабы столкновения, представить его как результат обструкционистских действий местных властей и агрессивно настроенной националистической толпы. Я прервал Крючкова, сказав, что погибли люди и за это власти несут ответственность. У меня все меньше уверенности в том, что у Бурокявичюса и его сторонников серьезная общественная поддержка. Если она и была, то теперь Ландсбергис в глазах литовцев будет выглядеть героем. Потребовал от Крючкова поддержать усилия делегации во главе с Дементеем.
Позвонил и Язову:
— Как могло случиться, что использовали войска, кто дал санкцию?
Он говорит:
— Мне доложили, что это исходило от начальника гарнизона. Трудно было поверить, что он мог сделать это без согласия министра. Но я тогда доверял Язову.
Кстати, на другой день, отвечая на вопросы депутатов в Верховном Совете СССР, Пуго заявил, что взятие под охрану имущества КПСС в Вильнюсе было осуществлено в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, но ни президент, ни кто-либо из центра не давал указания о применении армейских подразделений.
Механизм, который был приведен в действие в ночь с 12 на 13 января (вооруженная акция по взятию башни и радиостанции) до сих пор не раскрыт; не выяснены и конкретные лица, давшие команду уже после того, как состоялось заседание Совета Федерации и были приняты его решения направить полномочных представителей в Литву.
Но, как говорится, все тайное станет явным. Постепенно проясняются многие важные детали происшедшего. Недавно я получил книгу от ветеранов подразделения «Альфа». Она называется «Альфа — сверхсекретный отряд КГБ». Вот что, в частности, там написано:
«7 января 1991 года сотрудники группы — заместитель начальника группы «А» подполковник Головатов Н.Б., начальник 4-го отделения майор Мирошниченко А.И. и старший оперуполномоченный 1-го отделения капитан Орехов И.В. находились в командировке в городе Вильнюсе для проведения рекогносцировки и других подготовительных мероприятий по планированию чекистско-войсковой операции с участием сотрудников группы «А».
Итак, планировалась «чекистско-войсковая операция». Могут сказать, что все это делалось на тот случай, если события примут чрезвычайный характер и потребуются действия союзных властей. Хорошо, путь так. Но 12 января Совет Федерации обсудил ситуацию и принял решения, предусматривающие политические меры для ее разрядки. Остается предположить, что руководители силовых структур не были согласны с этими решениями, хотя и не выступили с возражениями. И, сговорившись, пошли на авантюрный шаг, полагая, что задуманная операция удастся им легко. Главный расчет был — сделать это до приезда делегации Совета Федерации, поставить президента перед фактом, втянуть и его в эту авантюру. Считали, видно, что мне просто некуда будет деваться.
Что это было именно так, подтверждает следующая выдержка из упомянутой книги: «В соответствии с разработанным оперативным штабом КГБ Литвы и Прибалтийским военным округом Министерства обороны СССР планом, исходя из складывающейся критической политической обстановки в республике, перед сотрудниками Министерства обороны, МВД СССР была поставлена задача по деблокированию ряда объектов, недопущению вывода их из строя сторонниками движения «Саюдиса», прекращению вещания провокационных и подстрекательских теле- и радиопередач и взятию этих объектов под охрану внутренних войск МВД СССР… В оперативное подчинение «Альфе» передавались силы 234-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии Министерства обороны СССР и сотрудники ОМОНа МВД Литвы».
Напоминаю, что я поручал Крючкову, Язову и Пуго внимательно наблюдать за развитием обстановки и оказать содействие нашим товарищам, поехавшим от имени Совета Федерации.
Спустя много месяцев, уже в ходе расследования августовского путча 1991 года, Прокуратурой РСФСР были обнаружены документы, относящиеся к событиям в Вильнюсе. В так называемой «Справке по итогам командировки в г. Вильнюс» есть запись: «После принятия инстанциями решения о проведении операции в ночь с,12 на 13 января был произведен боевой расчет сил и средств… и т. д.»[26] Значит, были «инстанции»? Но если президент и Совет Федерации высказались за политическое решение и направили своих представителей в Вильнюс, то какие же это были инстанции?
Худшие мои опасения в связи с исходом событий в Литве очень скоро подтвердились. Дело не только в том, что после кровопролития 13 января все усилия предотвратить выход Литвы да и других Прибалтийских республик из состава Союза оказались тщетными. За исключением части русскоязычного населения в Балтии, можно сказать, в общественном мнении страны произошел поворот. Люди начали задавать вопрос: «Стоит ли удерживать прибалтов силой, проливать кровь? Раз уж они так хотят стать независимыми, Бог с ними, пусть уходят».
Ситуация в Прибалтике снова обострилась, когда через неделю за кровопролитием в Вильнюсе последовали кровавые столкновения в Риге. И здесь события развивались по очень похожему сценарию. 13 января Пленум ЦК Компартии Латвии заявил, что поддерживает требования трудовых коллективов о роспуске Верховного и всех местных Советов республики, отставке правительства, назначении новых выборов. В противном случае «Вселатвийский комитет общественного спасения» готов принять на себя всю полноту государственной власти.
Словом, выступление Компартии Латвии явно было продиктовано стремлением оказать поддержку своим литовским товарищам и надеждой, что возвращение коммунистов к власти в Прибалтике примет как бы «цепной» характер. Случилось обратное. Слабость позиций привела к проигрышу.
Теперь о самой стычке в латвийской столице между ОМОНом, охранявшим здание союзной прокуратуры, и силами МВД республики, уже сформированными на основе провозглашения независимости Латвии. Дело вылилось в настоящий бой в центре Риги. Человеческие жертвы, как и в Литве, только укрепили латышей в намерении добиваться полной независимости.
Ранним утром Язов доложил мне, что к нему ночью трижды звонили из кабинета Горбунова. Ссылаясь на поручение Председателя Верховного Совета республики, который «находится где-то на ужине с иностранной делегацией и слышит стрельбу», просили связаться с министром обороны СССР с просьбой ввести войска, чтобы остановить кровопролитие. Язов, по его словам, трижды ответил «нет» и дал указание не реагировать на подобные обращения, от кого бы они ни исходили.
Странное все это дело, подумалось мне тогда. Неужто по такому вопросу Горбунов не нашел нужным подойти к телефону и сам поговорить с министром?
Теперь по существу. Конечно, не обязательно подозревать провокацию. Всякому нормальному человеку, узнавшему о стрельбе в центре большого города, приходит в голову прежде всего обратиться к помощи милиции или армии. А если известно, что столкнулась республиканская милиция с отрядом союзного МВД, — то именно к армии. Вроде бы вполне логично, и на такую просьбу надо реагировать.
С другой стороны, нельзя отделаться от подозрения, что намеренно втягивают армию, чтобы потом поднять шум. Короче, хотел этого Горбунов или нет, но кому-то в Риге вооруженное столкновение было позарез необходимо. Темное вообще было это дело. Схватка произошла вроде бы на небольшом пространстве между зданием ЦК Компартии Латвии и прокуратурой — это всего двести метров. А убит оказался человек в другом месте, выстрелом в спину. Словом, в Латвии, как и в Литве, это отвечало интересам местных сепаратистов и едва ли обошлось без провокаций с их стороны.
Вспоминаю я в этой связи и свою встречу с Горбуновым и Рубик-сом. Она состоялась уже на другой день после событий, 22 января. Я говорил собеседникам, что с обеих сторон необходимо принять немедленные меры, чтобы не допустить эскалации конфликта. Президентский аппарат буквально завалили письмами из Латвии, что там может разгореться большая война. Я показал почту — два огромных короба.
Рубикс сказал, что не хочет обвинять в происшедшем персонально Горбунова, но Председатель Верховного Совета должен знать, что форсированными темпами идет формирование вооруженных отрядов и уже составляются списки лиц, которых намерены репрессировать. Он положил копии этих списков на стол.
Мы пришли к выводу, что возможности для сотрудничества есть. На этой хорошей ноте и расстались. Я просил Пуго помочь их взаимодействию, быть у них своего рода третейским судьей, поскольку сам он оттуда, всех знает лично. Тем не менее никакого взаимодействия не получилось. А Рубикс оказался в тюрьме.
Что касается вооруженного столкновения в Риге, то есть основание полагать, что оно было сознательно спровоцировано. Скорее всего, нити тянутся к радикально настроенным местным сепаратистам. Дело в том, что после вильнюсской трагедии, как я уже говорил, были отданы категорические распоряжения против использования вооруженных сил. Кроме того, поднятая в прессе, отечественной и зарубежной, мощная кампания протестов не могла не повлиять и на руководителей наших силовых ведомств. Сомневаюсь, чтобы они в тот момент хотели навлечь на себя суровые обвинения в насилии.
Кроме того, разбирательство случившихся инцидентов проходило публично, при участии многих народных депутатов СССР. Верховный Совет заслушал сообщения Дементея, Олейника, Тер-Петросяна, Фотеева об обстановке в Литве и принял решение направить в Вильнюс Г.С.Таразевича, председателя Комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Несколько дней спустя Президиум Верховного Совета СССР постановил: принять к сведению информацию группы народных депутатов, выезжавших по поручению Верховного Совета в Латвию, и призвать государственные органы Латвийской ССР, все политические партии и объединения граждан исключить из своей деятельности какие-либо попытки решать вопросы внутренней жизни республики путем применения насилия.
Вдумчивый историк не пройдет мимо огромного количества постановлений Верховного Совета, правительства, президентских указов и обращений, в которых отмечаются нарушения Конституции СССР и советских законов Верховными Советами и правительствами Прибалтийских республик. Став на путь, как я уже говорил, достижения независимости любой ценой, сепаратистские партии, пришедшие здесь к власти, действовали своевольно, можно сказать, необольшевистскими методами. И они могли действовать так только потому, что опирались на поддержку российского руководства. Сразу после вильнюсского столкновения Ельцин, как известно, вылетел в Таллинн, где встретился с руководителями трех республик и подписал документ о признании Россией их суверенитета. Одновременно — беспрецедентный шаг в международной практике — руководители России и трех Прибалтийских республик обратились к Генеральному секретарю ООН с предложением созвать международную конференцию по урегулированию проблемы Прибалтийских государств. Иначе говоря, это был акт прямого приглашения к вмешательству во внутренние дела СССР.
Российские сепаратисты (не правда ли, странно звучит, но такова политическая реальность), всячески подталкивая прибалтов к отделению, в свою очередь активно использовали вильнюсский и рижский инциденты в интересах укрепления своих позиций и мощной атаки на Союз, союзный центр. 20 января в Москве состоялась демонстрация в знак протеста против событий в Вильнюсе, и здесь уже раздавались требования отставки Горбачева, Язова, Пуго. Пресса, тон которой задавали в основном радикальные демократы, не пытаясь разобраться в сути происшедших событий, валила все на президента, и это не могло не произвести впечатление на интеллигенцию.
Некоторые ее представители в одночасье забыли о том, что именно перестройка дала возможность провести скрупулезное расследование обстоятельств, связанных с заключением секретного Протокола к советско-германскому пакту 1939 года, и подтвердить наличие сговора в отношении Прибалтики; восстановить историческую справедливость и осудить наше вторжение в Венгрию и Чехословакию, что на съездах народных депутатов СССР подверглись критическому разбору драматические столкновения в Тбилиси, в том же Вильнюсе и других местах.
Пылая «праведным негодованием», не дав себе труда по-настоящему разобраться в тайных пружинах, которые привели к кровопролитию, они поторопились объявить существующий союзный режим преступным и выступить с яростными нападками на Президента СССР. Я имею в виду, в частности, заявление Абуладзе, Амбарцумова, Бовина, Голембиовского, Заславской, Петракова, Попова, Рыжова, Станкевича, Старовойтовой и Шаталина о событиях в Литве, опубликованное в «Московских новостях». Кстати, никто из них не говорил о неконституционных действиях литовских властей.
Между тем 22 января я выступил по телевидению с заявлением о событиях в Литве, подчеркнув, что они никоим образом не являются выражением линии президентской власти. Указав на недопустимость использования военной силы для решения политических вопросов, я в то же время обратил внимание на необходимость устранить источники конфликтной ситуации, восстановить конституционный порядок. В тот же день было опубликовано заявление Прокуратуры СССР с призывом к повсеместному соблюдению законности и осуждению применения силы. Говорилось, что случаи использования военной силы будут расследованы и виновные, вне зависимости от должности, будут наказаны по закону.
В те дни, наряду с Горбуновым и Рубиксом, я встретился с Арнольдом Рюйтелем, Председателем ВС Эстонии. Это вдумчивый, серьезный руководитель, сумевший удержать от крайностей эстонских сепаратистов, отличавшихся не меньшей агрессивностью, чем их литовские и латышские партнеры.
Не откладывая дело в долгий ящик, было решено назначить делегации для обсуждения с представителями Прибалтийских стран всего комплекса политических, социальных и экономических вопросов. Делегацию для переговоров с Латвией возглавил Владимир Макарович Величко, бывший тогда первым заместителем премьер-министра СССР, с Литвой — Виталий Хусейнович Догужиев, тоже первый заместитель премьера, с Эстонией — Николай Павлович Лаверов, видный ученый, академик, заместитель премьера.
Эту часть своих воспоминаний завершу эпизодом с проведением опроса в Литве. Сама по себе эта инициатива свидетельствовала об определенном сдвиге в политике Ландсбергиса. Руководители «Саюдиса» поняли, что им все-таки придется заручиться согласием народа на отделение от СССР. Вдобавок после случившейся драмы у них был, вероятно, уникальный шанс рассчитывать на положительный для себя исход опроса.
Я по совету товарищей принял тогда указ, объявив заранее, что результаты опроса не могут заменить референдума, предусмотренного законом о выходе из СССР. Откровенно говоря, считаю, что с этим указом поторопился. На опросе литовцы получили довольно внушительные результаты в пользу независимости и тем самым, пусть не полноценно правовое, но достаточно веское моральное основание продолжать взятый курс на полное отделение.
Вновь и вновь размышляя над всем этим, думаю, что события все же развивались бы по-другому, если бы не авантюра путчистов и сговор в Беловежской пуще.
«Артподготовка» и объявление войны
В январе и феврале 1991 года велся в полном смысле слова артиллерийский обстрел позиций союзных властей, рассчитанный на то, чтобы «выбить их из седла», лишить воли к сопротивлению и в конечном счете уничтожить.
Именно так следует квалифицировать скоординированные выступления газет и радиостудий, находившихся под прямым или косвенным влиянием Демроссии. В августе 93-го, грозясь распустить парламент вопреки его воле, Ельцин заявил, что сентябрь станет временем «пропагандистской артподготовки». Так вот, похоже, именно такую артподготовку изо всех имеющихся в их распоряжении орудий начали демократы в начале 91-го, чтобы организовать фронтальное политическое наступление на Союз, центр, президента. Не только события в Прибалтике, но и все, что в то время происходило в стране, подавалось исключительно под одним углом зрения — как происки засевших в Кремле реакционеров. Писали, что Горбачев пошел на сговор с правыми, дал задний ход, переродился и т. д. В грубо искаженном виде интерпретировали любую акцию властей. А наиболее одиозные публикации содержали прямой призыв к неповиновению и сопротивлению.
Нагляднее всего об этом свидетельствует пресс-конференция, проведенная Ельциным 14 января по итогам своей поездки в Таллинн. Он заявил, что руководители четырех республик — России, Украины, Белоруссии и Казахстана — решили, не дожидаясь подписания Союзного договора, заключить четырехстороннее соглашение. Мотивировалось это тем, что им пытаются навязать проект, «одобренный Пленумом ЦК и Верховным Советом СССР». А чтобы никто не питал иллюзий относительно решительности российского руководства, добавил, что «защитить суверенитет без российской армии нам, видимо, не удастся».
Итак, российская армия должна была защищать независимость России против… союзной армии, состоящей на 80 процентов из русских. Большее безрассудство, если не сказать безумие, трудно придумать. Поэтому я вынужден был уже на другой день на заседании Верховного Совета СССР категорически осудить это заявление. Ельцин тогда не рискнул приступить к практическому осуществлению своих угроз в отношении создания «собственных» вооруженных сил, но в «мозговом центре» радикал-демократов работа кипела вовсю. Одна за другой проводились прицельные атаки по центру, и нет никаких сомнений, что существовал стратегический план кампании.
Вместо того чтобы заниматься насущными проблемами преодоления кризисных тенденций, решением сложных межэтнических споров и предотвращением возникающих на этой почве конфликтов, приходилось все чаще вступать в изнуряющую борьбу с «демократической» оппозицией. Она настолько измотала союзные власти, отняла столько драгоценного времени, что лишила Союз достаточных запасов прочности и сделала возможным покушение на него со стороны консервативных сил, а затем и самих радикал-демократов, которые его добили.
Разумеется, все это выглядит совершенно иначе в изображении идеологов демроссийского направления. Послушать их, так все дело было в том, что президент отошел от позиций «левого центра», сблизился с номенклатурщиками, начал петь под их дуду и так далее. Любой акт союзных властей, все указы президента интерпретировались под этим углом зрения. И особенно постарались дискредитировать меры, направленные на поддержание общественного порядка. В первую очередь речь идет о моем указе от 26 января «О мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и другими преступлениями в сфере экономики», которым устанавливалось, что органы внутренних дел и госбезопасности имеют право входа и осмотра производственных и иных служебных помещений, получения документов и иных сведений от руководителей предприятий и учреждений, информации в банках, опечатывания касс и т. д. И другой указ — от 29 января «О взаимодействии милиции и подразделений Вооруженных Сил СССР при обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью».
На этом хочу остановиться особо. Дело в том, что само содержание обоих указов дает вроде бы основания для трактовки, с какой выступала часть средств массовой информации. Слишком много натерпелись наши люди при прошлых порядках от правового беспредела, беззащитности граждан перед произволом властей. Поэтому даже слабый намек на усиление карательных функций правозащитных органов встречается с настороженностью и опаской. Думаю, такая бдительность полезна, общество должно быть начеку, иметь надежные механизмы защиты от угрозы возрождения полицейского режима.
С другой стороны, нельзя не видеть, что углубляющийся экономический кризис, усиливающиеся политические баталии и ослабление власти резко подстегнули преступность. А параллельно с нею стала разрастаться коррупция в государственных органах. Вдобавок то, что укрывалось от глаз общественности в период застоя, благодаря гласности становилось известным. В печати были опубликованы статьи о злоупотреблениях ряда высших должностных лиц, в том числе руководителей некоторых республик, союзных министерств, партийных деятелей. Все это вызывало законную тревогу и негодование у людей, требовало принятия решительных мер.
Этим я и руководствовался, подписывая указы, подготовленные соответствующими ведомствами. В частности, ничего не видел предосудительного в том, что военнослужащие городских гарнизонов будут помогать милиции поддерживать порядок в городах. Не в первый раз и не только у нас, а и во многих других странах призывают на помощь армию, когда полицейские подразделения не в состоянии справиться с преступниками. Но я, конечно, не мог предполагать, что с первых же шагов указ этот будет дискредитирован неумными распоряжениями соответствующих начальников. Выведя в первый же день после его опубликования бронетранспортеры на улицы Ленинграда, они вызвали законное возмущение людей и дали повод утверждать, что вся эта акция направлена вовсе не против преступников, которых, конечно, не ловят таким способом, а против демонстраций и митингов оппозиционных сил.
Что касается расширения возможностей борьбы с экономическими преступлениями, то, мне кажется, шум, поднятый против этого указа, был инспирирован при прямом участии начавших тогда возникать мафиозных структур и всякого рода сомнительных дельцов. Разумеется, им вовсе не хотелось, чтобы дотошные следователи получили право требовать полную документацию, при необходимости изучать содержимое сейфов и т. д. Поэтому была развернута широкая пропагандистская контркампания, поднят, можно сказать, вселенский вопль о том, что-де подавляют честных бизнесменов, нарушают тайну деловых операций, посягают на права граждан. Боюсь, этот шум повлиял-таки на нервы работников Фемиды, вынудив их чрезмерно деликатничать, чтобы, не дай Бог, не снискать славы душителей свободной инициативы.
Вдумаемся. То, что было в этом смысле два года назад, не идет ни в какое сравнение с разгулом преступности и коррупции, какую мы имеем сейчас. Тогда у нас в печати велись споры, можно ли говорить о наличии в Советском Союзе мафии или до этого еще дело не дошло. Теперь никто не спорит с тем, что по этому показателю мы обогнали Италию, а кровавые разборки между мафиозными-группами в Москве почище, чем в Чикаго во время «сухого закона» Миллиарды долларов уплывают за рубеж и оседают в банках, ожидая будущих своих владельцев из России. Все это — результат попустительства, бездействия властей. Беру и на себя часть вины за то, что не сразу и не в должном объеме развернул борьбу против жулья.
Но факт состоит в том, что предпринимавшиеся в этом направлении попытки фактически блокировались оппозицией, часть которой уже в те времена начала срастаться с коррумпированными структурами в молодом нашем бизнесе, а уж придя к власти, создала им надежное прикрытие. Не оттого ли идут прахом все афишируемые программы борьбы с преступностью?
Ну а тем, кто все еще подозревает меня в недобрых намерениях, хочу напомнить, что 13 февраля я выступил на совещании работников Прокуратуры СССР и республик как раз с четкой ориентацией их на соблюдение закона без каких-либо политических пристрастий. Я говорил, что мы уходим от одной, административно-бюрократической, системы, а другую, демократическую, правовую, еще не успели создать. В этом промежуточном положении «нас болтает», не все выдерживают. Но нельзя ни возвращаться назад, ни поддерживать тех, кто выступает с ультрарадикальных позиций. Недопустимы попытки разваливать страну, создавать какие-то параллельные центры власти. Прокуратуре надо готовиться к новым условиям работы, исходя из того, что у нас должна быть одна для всех диктатура — диктатура закона.
Иначе говоря, уже тогда, зимой 91-го, я не склонялся ни вправо, ни влево, а наоборот, занял центристскую позицию и стремился увести государственные органы, от которых зависело соблюдение порядка в стране, от опасности подпасть под влияние правых и левых экстремистов, стать орудием их групповых интересов.
Уже тогда оба эти фланга начали осуществлять свою далеко рассчитанную стратегию: один — развала Советского Союза, другой — восстановления сверхцентрализованного унитарного государства. В феврале, по позднейшему признанию С.Шушкевича[27], был разработан договор-«заготовка», который послужил основой документа, принятого через несколько месяцев в Беловежской пуще. И тогда же, в феврале, А.И.Тизяков[28] начинает сочинять проекты документов о введении чрезвычайного положения. Две группы заговорщиков вели подкоп под Кремль, стараясь опередить друг друга.
Разумеется, в то время в моем распоряжении не было точных сведений обо всех этих интригах и махинациях. Хотя из разных источников поступала некоторая информация, были догадки, кое-что подсказывала политическая интуиция. Мне все больше становилось ясно, что политическая борьба в предстоящий период развернется прежде всего вокруг вопроса о судьбе союзного государства: быть ли ему вообще, если да, то в каком виде. От этого в конечном счете зависела и перспектива реформ — экономической, политической, правовой. Я считал, что все эти вопросы, затрагивающие судьбы нашего народа, невозможно решать без его участия. Кроме того, не скрою, был убежден, что люди наши в массе своей определенно выскажутся за сохранение Союза и его преобразование в полнокровную федерацию. Верховный Совет поддержал предложение о референдуме, и уже 16 января был опубликован президентский указ, назначивший его проведение на 17 марта.
Должен сказать, что было много споров вокруг формулы всенародного опроса. Мы долго обсуждали ее с помощниками, рассматривали на Совете Федерации и, конечно, на заседаниях Верховного Совета. А когда наконец пришли к общему мнению и предали гласности, демократическая печать немедленно приняла ее в штыки. При этом приводилось два довода. Во-первых, жаловались на то, что в одну связку соединены вопросы о сохранении Союза ССР и его обновлении, преобразовании в федерацию — такая-де расплывчатость формулировки может подтолкнуть многих проголосовать «за» и в будущем послужит основой альтернативных трактовок итогов опроса. А другой довод заключался в том, что-де воля народов малых республик будет искажена, поскольку в численном отношении их население несопоставимо с населением России. Русские люди, скорее всего, выскажутся за сохранение Союза, и это решит дело.
Разумеется, оба довода не выдерживают никакой критики. Отвечая на них, мне много раз пришлось разъяснять, что упоминание об СССР не содержит в себе никакого подвоха, никакой задней мысли. Это очевидно из того, что к тому времени был готов проект договора о Союзе суверенных государств. С другой стороны, отвечая на вопросы о сохранении Союза, граждане должны были, конечно, иметь в виду, что речь идет не о старом, а о новом, преображенном, подлинно федеративном, союзном государстве.
Что касается республик, то здесь домыслы противников референдума были уж совсем смехотворны, поскольку с самого начала планировалось опубликовать результаты референдума не только по Союзу в целом, но и по каждой республике в отдельности. Следовательно, у нас не было никакого намерения исказить волю народов малых республик.
Допускаю, стилистически можно было еще и еще шлифовать формулы референдума. В таких случаях вообще трудно представить идеальные решения, способные удовлетворить всех, отвечающие вкусам и запросам различных движений, партий и социальных слоев. Мне представляется, что противники референдума уцепились за формулу лишь потому, что не могли прямо и откровенно признать, что выступают против совета с народом.
С того момента, когда стало ясно, что сорвать референдум не удастся, сепаратисты во всех республиках развернули бешеную кампанию, чтобы убедить избирателей дать негативный ответ на вопросы референдума. Еще в конце января в Харькове собралась учредительная конференция блока «Демократический конгресс», куда вошли Демроссия и ряд родственных ей партий из республик. Она высказалась против сохранения СССР как Федеративного социалистического советского государства. А так называемый консультативный совет этого конгресса, работавший в Москве, призвал всех граждан сказать «нет» обновленной федерации, «навязываемой руководством Кремля», провести 10 и 16 марта политические акции под лозунгами «Нет — вопросам союзного референдума» и «Поддержка — Председателю Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину».
Здесь и была, как говорится, зарыта собака. Ельцин и его сторонники понимали, что позитивный исход референдума укрепит положение союзного центра, даст Президенту СССР правовые и моральные основания для продолжения курса на сохранение и преобразование союзного государства. Это, естественно, шло вразрез с их планами, угрожало надолго отложить, если не вовсе перечеркнуть, возможность захвата власти в стране. Отсюда — буквально ярость, с какой наши радикалы набросились на референдум. Употребить в данном случае слово «демократы» просто язык не поворачивается. Это была уже не артподготовка, это было объявление войны.
19 февраля Председатель Верховного Совета России выступил с сенсационным заявлением по телевидению, потребовав немедленной отставки Президента СССР и передачи всей власти Совету Федерации. Его речь была переполнена грубыми, оскорбительными замечаниями по моему адресу. Руки дрожали. Видно было, что он не владел полностью собой и с усилием, с натугой читал заготовленный заранее текст. Спустя 20 дней, 9 марта, в очередном своем выступлении в Доме кино Ельцин уже призвал своих сторонников «объявить войну руководству страны, которое ведет нас в болото». Заявил, что Горбачев «обманывает народ и демократию». 10 марта в Москве состоялся митинг «в поддержку Ельцина, шахтеров, суверенитета России».
Смысл этих конфронтационных действий был ясен. За ними стояло стремление заранее обесценить результаты референдума, помешать использованию его в интересах укрепления Союза. Очевидно, в штабе радикал-демократов имели неплохие сведения о настроении людей и чувствовали, что ответ на вопросы референдума будет бесспорно положительным. Успех референдума они расценивали как успех Горбачева, а это не согласовывалось с их расчетами.
Откровенно говоря, я и раньше предвидел, как отреагирует Ельцин на референдум. В президиуме он сидел справа от меня и даже от злости бросил наушники, когда съезд все-таки проголосовал за проведение всенародного опроса. Считал, что Горбачев таким образом «перехитрил», наберет себе «очки», а в итоге его честолюбивые планы будут перечеркнуты. В кругу моих советников мы говорили и о том, что выступление Ельцина по телевидению было составлено в привычном для его окружения стиле. Ударить слушателя обухом по голове, привести в шоковое состояние — вот излюбленный их прием. Конечно, они отдавали себе отчет, что разумные, серьезные люди не примут на веру бездоказательных обвинений и будут обеспокоены явной конфронтационностью этого выступления. Ведь кому не ясно, что если Председатель Верховного Совета России призывает идти войной на Президента СССР, то добра от этого стране не будет.
Все это команда Ельцина понимала, но в то же время рассчитывала на то, что наглой и грубой ложью, беспрецедентными обвинениями по адресу Горбачева сумеет привлечь на свою сторону ту часть людей, которая переживала тревогу за состояние страны, оказалась наиболее уязвимой перед растущими экономическими трудностями. Иначе говоря, основная ставка делалась как раз на тех, кого радикал-демократы своей последующей экономической политикой «шоковой хирургии» загнали действительно в непроходимое болото.
Но Ельцин и К° в тот раз просчитались. Первое впечатление от этой лобовой атаки на президента было все-таки не в ее пользу. С серьезным противодействием они встретились в Верховном Совете РСФСР. По требованию группы депутатов был созван внеочередной Третий съезд с докладом Председателя Верховного Совета о ситуации в России и выходе из кризиса.
Но вот парадокс, какие нередко бывают в политике. Ельцину и иже с ним удалось несколько поправить положение, как раз благодаря сформировавшейся в Верховном Совете России оппозиции своему председателю. Я имею в виду заявление шести членов Президиума Верховного Совета республики, выступивших с решительным осуждением действий своего лидера и потребовавших его отставки. Это был смелый поступок, продиктованный растущей обеспокоенностью конфронтацией, нагнетавшейся ельцинистами. Должен отвести всякие подозрения в том, что эта акция якобы планировалась в ЦК КПСС. Ерунда! Члены Президиума действовали вполне самостоятельно, да и не такие это люди, чтобы действовать по указке. Они ведь не случайно были избраны заместителями председателя и вначале были настроены вполне лояльно работать с ним. Но очень скоро убедились, что на первом месте у него борьба за власть, а не решение практических проблем, стоявших в ту пору перед Россией.
Однако «шестерка» допустила психологический просчет и фактически пришла на выручку Ельцину. Ухватившись за их заявление и объявив, что против Председателя Верховного Совета России готовится заговор, инспирированный Кремлем, радикал-демократы мобилизовали все свои силы и организовали в Москве несколько демонстраций подряд в защиту своего вождя. Этот испытанный прием, рассчитанный на «жалостливость» нашего народа к обиженным и преследуемым, сработал и на сей раз. Первое негативное впечатление от выступлений Ельцина несколько отступило. Начатая им схватка окончилась в глазах зрителей своего рода ничьей. Ельцин требует отставки Горбачева.
Самого Ельцина хотят «отставить» его соратники — вроде бы так на так. Нехорошо только, что наверху воюют друг против друга, не могут найти способа сотрудничать. И, как бы выражая это доминировавшее в народе настроение, ко мне в президентский аппарат стали поступать тысячи писем с настойчивой просьбой протянуть руку Ельцину. Кажется, такой же поток обращений шел и в Белый дом.
Третий съезд народных депутатов России открылся в накаленной обстановке. Митингующие в канун съезда переступили грань, угрожая «идти на штурм Кремля». Во избежание беспорядков в день открытия съезда в столицу были введены силы милиции и внутренних войск. Противостояние достигло опасной черты. Это осознали обе стороны и действовали соответственно.
29 марта съезд продолжил работу. Ельцин воздержался от конфронтационных формулировок, даже выступил за диалог и сотрудничество с центром. Тем не менее весь доклад пронизывала тема противопоставления двух курсов политики — линии Демроссии на глубокие преобразования и якобы ретроградской по духу линии союзного руководства.
Прения на съезде были жесткими, так как веры в примирительные жесты Ельцина у многих уже не было. Его сторонникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы дело не кончилось смещением их шефа. Острую постановку на съезде в отношении Ельцина тогда я разделял по вполне понятным причинам. Выручил Ельцина Александр Руцкой, заявивший о создании депутатской группы «Коммунисты за демократию» и поддержке Председателя ВС РСФСР. Это изменило соотношение сил на съезде. Ну и, наконец, Ельцин получил поддержку из того угла, откуда вряд ли ее мог ожидать: лидер РКП Полозков заявил от микрофона, что отвергает упреки в адрес фракции коммунистов, будто бы требующей отставки председателя. Мне говорили, что Полозков расценил происходящее как стремление союзного руководства использовать его в борьбе с Ельциным и пошел на подобный шаг. Это дало возможность Ельцину не только удержаться в кресле, но и добиться дополнительных полномочий от съезда, решения о выборах Президента России.
Поездка в Белоруссию и политический центризм
Она состоялась 26–28 февраля, через неделю после провокационных выступлений Ельцина. Главным в ней было ознакомление с обстановкой в областях, оказавшихся в зоне наибольшего воздействия Чернобыльской аварии. Но там же, на встречах с работниками партийных и советских органов, науки и культуры, я решил показать необоснованность и никчемность ельцинских нападок на проводимый союзным руководством политический курс, разъяснить нашим людям, что экстремистские силы на левом и правом флангах политического спектра грозят столкнуть страну в пропасть.
Собираясь в Белоруссию, я был достаточно хорошо проинформирован о том, какие настроения владеют сейчас населением республики. Что касается экономики, она находилась тогда в лучшем положении, чем у многих других, оказалась более устойчивой к кризисным явлениям, поразившим страну. Но была у белорусов большая боль — последствия Чернобыля. Несмотря на значительные средства, выделенные для преодоления этого бедствия, многие вопросы, особенно социальные — пенсии, лечение пострадавших, отселение людей из зоны радиации, — не были решены. И депутаты от республики, и организации, частные лица бомбили президента просьбами о помощи. Необходимо было сделать все, что было в наших силах, что позволяло тогдашнее экономическое положение страны, чтобы ответить на эту жизненную необходимость. Этот вопрос обсуждался в союзном правительстве. Решено было выделить дополнительные средства на ликвидацию последствий чернобыльской трагедии. Так что приехал я, как говорится, не с пустыми руками. Побывал в пострадавших областях — Гомельской, Могилевской. Были, как всегда, встречи с людьми.
Белорусская поездка особенно четко отложилась в памяти еще и потому, что тогда удалось изложить некоторые важные выводы уже из всего опыта перестройки. Многие наблюдения и оценки, существовавшие до того времени как бы в разрозненном виде, сложились в нечто целое. И то, что содержалось в моих выступлениях на встречах с представителями научной и творческой интеллигенции Белоруссии (26 февраля), с руководителями городов и районов, предприятий, хозяйств и учреждений, ветеранами войны и труда Могилевской области, мне кажется, не устарело.
В первую очередь я обратил внимание аудитории на опасные сепаратистские тенденции. Все позитивное, что заложено в процессе демократизации и децентрализации, в повышении самостоятельности предприятий, республик и регионов, — все это вне рамок уравновешенной системы обязательно превратится в свою противоположность. Необходимо помнить, что мы нужны другу другу, у нас общая судьба, перед нами общие проблемы. И решить их мы сможем только вместе.
Тогда я спрашивал своих слушателей: «Неужели нужно еще раз вернуть государственность в состояние, напоминающее времена Ивана Калиты, чтобы начать все снова? Не верю, что мы сможем так легко и просто разойтись, как кто-то думает: собрались ночью, руки подняли, проголосовали — и все решено. Это была бы авантюра, а не политика — белорусы понимали, что речь я веду об их соседях, литовцах. (Но тогда ни я, ни мои слушатели не знали, что это речь и о беловежском сговоре.) Дезинтеграция — вещь опаснейшая. Это путь к гражданским конфликтам, и я не знаю, как мы разберемся, где кому жить, где чьи границы проходят. А что делать с теми семьюдесятью пятью миллионами, которые живут вне пределов «своих» республик?»
В тот момент я считал важным опровергнуть усиленно распространяемое оппозицией представление, будто все, что происходит в стране, совершается по воле «центра», от него все переживаемые обществом трудности. И в доперестроечные времена далеко не все зависело от воли всесильного Политбюро, и тогда действовали факторы, которые не в силах были держать под абсолютным контролем ни партия, ни сама тоталитарная власть. Теперь же, когда началось фундаментальное обновление государственных структур, заявили о себе новые общественно-политические течения, а теперь уже и партии, стала реальностью свобода печати, то, что происходит, и хорошее, и плохое, совершается не по чьей-то верховной воле. Это — результат сложнейшего взаимодействия и борьбы политических сил. А она стала особенно жесткой, когда перестройка подошла к своему решающему этапу — перераспределению на демократической основе власти и собственности:
«Мы сказали, что отказываемся от монополии КПСС на власть, приветствуем политический плюрализм, в условиях которого различные общественные слои и группы могут выражать и отстаивать свои интересы — через партии, профсоюзы и другие организации, но обязательно в рамках законных процедур, в конституционной форме. Это азбука демократии. Между тем некоторые образовавшиеся политические течения начали добиваться реализации своих целей не благодаря существующей законности, а вопреки ей. Нетерпение и радикализм стали оборачиваться нетерпимостью и агрессивностью. Курс на смешанную экономику пытаются подменить авантюристическим требованием тотальной приватизации. Законное стремление народов к самостоятельности, национальному возрождению — трансформировать в националистическую самоизоляцию и автаркию. Развернутая в соответствии с этой идеологией «война законов» во многом парализовала власть, разорвала рынок, дезорганизует живые связи, формировавшиеся десятилетиями.
Группировки, выступающие под флагами демократии, разношерстны, но уже достаточно ясно выявились программные установки их лидеров. Куда же хотят вести нас эти «новоявленные друзья народа»? Первый тезис их программы — дефедерализация, под которой подразумевается раздробление нашего великого многонационального государства на 40–50 государств, переселение целых народов, перекройка границ между республиками. А за программными установками следуют и политические действия — бешеные нападки на центр, на референдум о будущем нашего многонационального государства. И не приходится удивляться, что «демократы» вступают в политический альянс с сепаратистами, националистическими группировками. У них общая цель: ослабить, а если удастся — и развалить Союз».
В этой связи я считал необходимым внести ясность в вопрос о расстановке политических сил в стране и прежде всего раскрыть парадоксы, связанные с особенностью происходящего у нас процесса. «Правая по своей природе политическая сила взяла на вооружение средства борьбы, присущие левым радикалам. Не сумев захватить власть законным путем — через Съезд народных депутатов, Верховный Совет, — она решила применить то, что называют необольшевистской тактикой. Это — разрушение государственных структур, перенос борьбы на улицы, организация демонстраций, митингов, забастовок, голодовок, создание психологической атмосферы, которая выбивала бы из колеи другие политические движения. В последние несколько недель можно было наблюдать пик этой тактики. Искаженно истолковав драматические события в Прибалтике, а затем действия союзных властей по укреплению правопорядка — я имею в виду упоминавшиеся меры борьбы против преступности и коррупции, — они подняли крик о наступающей диктатуре, требуют отправить в отставку президента, призывают к неконституционным формам политической борьбы».
Перечитывая сегодня этот текст, можно задаться вопросом: а разве не правы были «демократы», говорившие об угрозе диктатуры и государственного переворота? Мой ответ заключается в том, что именно своими откровенно неконституционными действиями, нагнетаемой «антицентристской» истерией радикал-демократы в тот период создали подходящую психологическую атмосферу для гэкачепистов. Те наверняка рассуждали так: раз им можно, то нам сам Бог велел.
Указав на опасности справа и слева, я тогда, пожалуй, впервые достаточно определенно высказал мысль о значении политического центризма, способного воспрепятствовать столкновению крайних позиций и предложить обществу реальный путь выхода из кризиса. И процитировал меткую характеристику этого явления, данную Александром Исаевичем Солженицыным: «Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решетка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания».
Для меня центр не какая-то геометрическая середина между двумя очками. «Речь не о том, чтобы занять некую промежуточную позицию — она была бы мертва, лишена динамики. Центр, в моем понимании, — это направление, ставящее целью преобразовать общество на новых началах, но не на основе противопоставления одной части другой, не на основе конфронтации, тем более объявления врагом противостоящей стороны, а на основе сплочения подавляющего большинства общества.
Здравый смысл в любом обществе преобладает — вот реальная база политического центра. Пусть он не криклив, не так шумлив, как крайние фланги, но охватывает основную массу народа, который обеспокоен судьбой своей страны и в нужный момент скажет свое решающее слово. Мы не должны пренебрегать его мнением. Именно в этом смысл перестройки — идти через глубокие революционные реформы, а не через конфронтацию, не через новый вариант гражданской войны. Хватит нам противостояния белых и красных, черных и синих. Мы — одна страна, одно общество и должны в рамках политического плюрализма, сопоставляя программы перед лицом народа, находить ответы, которые отвечали бы коренным интересам страны, двигали ее вперед.
Подлинно центристская позиция не приемлет ни возврата к сталинизму и застою, ни авантюризма радикалов, пытающихся одним махом загнать страну в рынок. Центристская политика — это линия на согласие и учет объективно существующих в обществе интересов». Если же говорить о ее содержании, я тогда определил его — социалистическая ориентация. Не стал бы и сегодня корректировать это определение.
— Мы не считаем, — говорил я в Бышове, — что и справа, и слева работают одни авантюристы. Другое дело, там есть вожди, которые толкают неизвестно куда: одни требуют вернуться назад, другие пускаются в галоп, не считаясь с реальностями, состоянием умов и вообще положением общества. Но и там, и там много здоровых сил. Главная идея центризма на сегодняшний день и на перспективу — это, безусловно, идея гражданского или национального согласия. Не беспринципное согласие любой ценой, а согласие на тех целях, которые приемлет большинство народа.
Тогда я верил в возможность глубокого реформирования КПСС и считал, что для этого она должна определить свою четкую позицию как по отношению к догматично-консервативным течениям, выступавшим за социализм без демократии, так и к либерально-буржуазным, выступающим за демократию без социализма. Таково в основном содержание моих выступлений в Белоруссии. Там, как мне кажется, они нашли понимание. Но центральная печать пропустила их мимо ушей. Видимо, решили избрать такую тактику, потому что трудно было возразить что-нибудь путное. Не хотели даже через критику пропагандировать эти идеи.
А между тем, завершив «артподготовку», радикалы двинули в «бой» основные свои резервы. Я имею в виду начавшуюся 1 марта вторую крупную забастовку шахтеров, одним из требований которых была отставка Президента СССР. Выступления шахтерских коллективов сыграли роковую роль в судьбе Союза. Ничто так не подорвало позиций центра и моей лично как президента. Дело, конечно, не только и не столько в нанесенном стране экономическом ущербе от многомесячного простаивания шахт в Кузнецком бассейне, Тюмени, на Печоре и т. д. Гораздо болезненнее отзывались на положении в стране психологические последствия действий шахтеров. По сути своей, они были направлены на защиту интересов трудящихся одной из самых тяжелых отраслей производства, а по форме оборачивались в тот момент дискредитацией политики перестройки. И надо сказать, с коварнейшим политическим мастерством использованы идеологами радикал-демократов как таран, разрушающий стены осаждаемой ими крепости. Мы недооценили это.
Вдохновители шахтерской забастовки все продумали, даже когда ее начать — 1 марта, за день до моего 60-летия. Пришли поздравить меня члены Политбюро, министры, многие депутаты, писатели, журналисты, с которыми я поддерживал добрые давние отношения. Тепло поздравили меня помощники. Дома в тот вечер собрались в семейном кругу, много было цветов, обращений, поздравительных телеграмм, в том числе от моих зарубежных коллег.
Ну а что касается прессы… Поздравила меня «Рабочая трибуна». «Комсомольская правда» опубликовала приветствие от бюро ЦК ВЛКСМ и от себя несколько двусмысленных фраз. Неприличную подборку высказываний напечатала «Вечерка».
Но, пожалуй, самое приятное, что было как-то связано с моим 60-летием, это обнародованное на другой день, 3 марта, сообщение о готовности проекта Союзного договора, парафированного девятью республиками. Долгая работа сначала Подготовительного комитета, потом Совета Федерации все-таки принесла свои плоды. И мне тогда казалось, что мы сумеем одолеть центробежные тенденции, ввести жизнь страны в нормальную колею.
Референдум 17 марта
С приближением референдума резко повысилась политическая активность партий и движений. Стали формироваться новые организации. Еще в конце февраля было провозглашено создание «Движения за великую единую Россию», главными действующими лицами которого были Проханов, Стародубцев, Полозков. Тогда же при ведущей роли Аркадия Вольского сформировался Научно-промышленный союз. Я уже говорил о «Демократическом конгрессе», объединившем в избирательный блок несколько партий с близкой друг другу ориентацией.
Иными словами, именно тогда начала складываться партийно-политическая структура, которая без больших изменений просуществовала до конца 1993 года. Вот, пожалуй, наглядное свидетельство того, что искусственным путем многопартийную систему не создать. Она может сложиться лишь в связи с референдумами, выборами, когда возникает необходимость четкого определения позиций, выступлений с программами, соревнования за голоса избирателей и депутатские мандаты.
А вот что касается мартовского референдума 1991 года, то там особого многообразия позиций не просматривалось и расстановка сил была предельно простой. С одной стороны, Демроссия, идеологи которой отбросили всякое стеснение и прямо призывали избирателей сказать «нет» на вопрос сохранения Союза ССР. С другой — КПСС, да и, можно сказать, все остальные возникшие к тому времени партии и группировки, отстаивавшие сохранение нашего союзного государства.
За неделю до голосования проводились и публиковались опросы общественного мнения, и поскольку их результаты были не слишком благоприятными для радикалов, те все больше теряли выдержку. Впрочем, предвидя неизбежность своего поражения по основному вопросу референдума, они «подстраховались», включив в бюллетень для населения России вопрос об учреждении поста Президента РСФСР. Можно было смело прогнозировать, что ответ будет утвердительным, поскольку к тому времени многие республики уже обзавелись своими президентами или готовились к этому.
Словом, и здесь дала себя знать привычка к политиканству, имевшему малое отношение к действительным интересам общества. Свой вопрос к референдуму «прицепил» Верховный Совет Украины. Задумка у настоявших на нем сепаратистов была очевидна: сохранить лазейку, которая позволила бы затем трактовать итоги референдума в свою пользу или хотя бы в нейтральном смысле. Используя эту «зацепку», они позднее добьются проведения еще одного референдума и вслед за российским руководством нанесут тяжелейший удар союзному государству.
15 марта я выступил по телевидению с обращением к гражданам страны в связи с референдумом. Выступление было коротким, но работали над ним долго. Нужно было найти верные слова, обращенные к уму и сердцу людей. Учесть и то, что одна и та же мысль по-разному может быть воспринята в России, в Средней Азии и на Кавказе. Конечно, одно выступление в таких случаях мало что решает, но, думаю, свою позитивную роль оно сыграло. Вот что я, в частности, тогда сказал:
«…Участвуя в референдуме, каждый из нас должен отдавать себе полный отчет в том, что он решает главный вопрос, затрагивающий сегодняшний и завтрашний день нашего многонационального государства. Речь идет о судьбе страны, о судьбе нашей Родины, о нашем общем доме, о том, как жить нам с вами, нашим детям и внукам.
Это вопрос такого масштаба и такого значения, который стоит выше интересов отдельных партий, социальных групп, политических и общественных движений. Его вправе решать только сам народ. Призываю вас всех, дорогие сограждане, принять участие во всесоюзном референдуме и на поставленный вопрос ответить «да».
Наше «да» — это уважение к державе, которая не раз доказывала свою способность отстоять независимость и безопасность народов, в ней объединившихся.
Наше «да» сохранит целостность государства, которому тысяча лет и которое создано трудом и разумом, неисчислимыми жертвами многих поколений. Государства, в котором неразрывно сплелись и судьбы народов, и миллионы человеческих судеб, наших с вами судеб.
Наше «да» — это гарантия того, что никогда пламя войны не опалит нашу страну, на долю которой и так выпало немало испытаний.
Наше «да» — это не сохранение старых порядков с засильем центра и бесправием республик. Положительные итоги референдума откроют путь к радикальному обновлению союзного государства, превращению его в федерацию суверенных республик, где надежно будут гарантированы права и свободы граждан всех национальностей.
Наше «да» на референдуме и заключение Союзного договора позволят положить конец разрушительным процессам, происходящим в нашем обществе, решительно повернуть к восстановлению нормальных условий жизни и работы.
Как я понимаю, именно это и нужно народу, именно этого больше всего хотят наши люди. Им надоели бесконечные словопрения и нагнетание страстей. Они требуют решения практических вопросов и в том, что касается производства, и в том, что касается потребительского рынка, законности и правопорядка, деятельности государственных органов. Одним словом, люди хотят введения жизни в нормальную колею.
Успех референдума — это я тоже хочу подчеркнуть — откроет новые возможности для уверенного продолжения всех начатых в стране реформ, с которыми мы связываем свои большие планы.
И еще. Трудно, если вообще возможно, решить стоящие перед нами задачи без согласия и сотрудничества в обществе. Поэтому надо, пока не поздно, остановить нарастание нетерпимости, озлобленности, а кое-где и враждебности. Это также мы можем сделать сообща, как говорится, всем миром. Позитивный итог референдума положил бы начало консолидации общества.
Твердое мое убеждение состоит в том, что, если в обществе произойдет глубокий раскол, победителей не будет. Проиграют все…»
И вот референдум состоялся. Бесспорная, убедительная победа сил объединения, интеграции над силами раскола и развала страны. Несмотря на бешеные усилия радикал-демократов, вопреки сомнениям скептиков, люди твердо высказались за сохранение и обновление союзного государства. Причем не только в общесоюзном масштабе, но и в каждой из республик, где референдум состоялся. А частично даже и там, где республиканские власти не позволили его провести, — я имею в виду Прибалтийские республики, Молдавию.
Позитивно ответила Россия и на вопрос о своем будущем президенте.
Не стану утомлять читателя конкретными цифрами. Итоги референдума были обнародованы, много раз обсуждались в печати. Но вот о чем мне хотелось бы сказать. Спустя два года Россия проведет еще один референдум — на сей раз о реформах, доверил президенту и Верховному Совету. И что же, не слишком убедительная победа на нем демократов будет использована, как говорится, «на всю катушку», чтобы реализовать давно задуманные стратегические цели. Квалифицированные юристы, многих из которых я знал лично и считал преданными Закону, неподкупными специалистами, станут утверждать вопреки всем очевидностям, что итоги голосования якобы «легитимизируют» покушение президента на роспуск Верховного Совета. И так далее.
Никто из этих людей не оглянется, не вспомнит о том, как беспардонно была проигнорирована суверенная воля советского народа, выраженная голосованием 17 марта. А ведь тогда 76 процентов населения страны, 71,34 процента населения России сказали «да» Союзу. Столь же впечатляющи были результаты референдума на Украине и в Белоруссии. Но это не остановило Ельцина, Кравчука и Шушкевича, когда они собрались в Беловежской пуще. Не дрогнула у них рука подписывать документ, идущий вразрез с волеизъявлением русских, украинцев, белорусов, смею сказать, и всех других населяющих нашу страну народов.
Хотя радикалистская пропаганда всячески пыталась преуменьшить значение референдума, все же Ельцин и его окружение вынуждены были считаться с его итогами. Думаю, без этого голосования не могло быть и встреч в Ново-Огареве, разрядивших на время обстановку в стране и создавших предпосылки для преодоления кризиса.
Сказалось это и на наших с ним отношениях. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что Ельцин готовился к выборам на пост Президента России и был заинтересован, чтобы со стороны Союза, моей, как Президента СССР, была проявлена лояльность. Что ж, я счел себя обязанным придерживаться строго нейтральной позиции, хотя не хочу скрывать — симпатии мои были не на его стороне. Граждане России имели право свободно, без всякого давления решить, кто из кандидатов им по душе. Рейтинг у Ельцина был достаточно высок, и мало кто сомневался, что он одержит победу над своими соперниками. Немалое значение при этом имел точный выбор кандидата в вице-президенты. Руцкой, бесспорно, сильно помог Ельцину, обеспечив голоса части избирателей, продолжавших ориентироваться на социализм.
Но все это будет позже. Тогда президентская кампания только брала старт, и будущим претендентам важно было наладить добрые отношения со всеми, кто мог так или иначе повлиять на исход выборов.
Должен сказать, что в те весенние месяцы я не раз встречался и беседовал с Ельциным. Мы обсуждали весь комплекс возникавших тогда вопросов, и встречи проходили, как правило, в хорошей атмосфере. Но оказываясь перед телеэкраном или поднесенным к нему журналистским микрофоном, депутатами в Верховном Совете или выступая на собрании в Доме кино, Ельцин интерпретировал наши с ним беседы весьма своеобразно. Вероятно, у него было огромное желание показать всем, что перед ними победитель, ультимативные требования которого с покорностью приняты. Что в Кремле, в кресле Президента СССР, сидит человек, выполняющий указания Председателя Верховного Совета России.
Раз или два я отреагировал на это, сказав, что общественность должна знать, как проходят наши встречи. На них мы серьезно и по-деловому обмениваемся мнениями, никаких ультиматумов не предъявляется и не принимается. Он оправдывался, возражал, утверждал, что мне не совсем точно докладывают о его высказываниях.
В марте и апреле, в последующие месяцы не обошлось без «стычек» между союзным и российским руководством по разным поводам. Далеко не все в окружении Ельцина были настроены миролюбиво. А некоторые просто не могли остыть от «антицентристской» горячки. Взвинтили себя настолько, что продолжали, где можно, выступать с суровыми обличениями, клеймить президента. Но у меня сложилось впечатление, что все-таки в их «мозговом штабе» в то время возобладала линия на некоторое, пусть временное, «перемирие». Вот, мол, проведем шефа в российские президенты, станем полными хозяевами Белого дома, а там посмотрим.
Отдавая себе отчет в шаткости этого замирения, почти не сомневаясь, что экстремисты в «демократическом» лагере будут все время толкать Ельцина к возобновлению атак на Союз и союзного президента, я все же считал необходимым использовать эту передышку, чтобы довести наконец до практических результатов затянувшуюся работу над проектом Союзного договора. Мне казалось важным связать российское руководство обязательствами, которые ему было бы нелегко нарушить. Так родилось то, что получило затем название ново-огаревского процесса.
Ново-Огаревский процесс
Чтобы понять, насколько сложным и противоречивым было это сотрудничество, я хочу напомнить, что на Третьем внеочередном съезде народных депутатов РСФСР 30 марта Ельцин выдвигает свою программу и характеризует при этом действия центра как возвращение к курсу до апреля 1985 года. А спустя две недели в интервью «Известиям» отмечает: не правы те, кто утверждает, будто у него «непримиримый раскол» с Горбачевым; если речь пойдет о защите страны от правых, «мы объединимся».
Нет нужды говорить, что опасения перед угрозой фундаменталистов были небезосновательны. Если меня и моих единомышленников итоги референдума укрепили во мнении о необходимости довести до успешного завершения начатое преобразование государственного устройства страны (то есть превращения ее из унитарного государства в федерацию), то консервативные элементы в партии решили, что референдум дал мандат на сохранение Союза в прежнем виде, без каких-либо существенных изменений. При этом они просто игнорировали тот очевидный факт, что избиратели голосовали за сохранение Союза именно в связке с его преобразованием. Более того, поскольку проект нового Договора о Союзе суверенных государств был уже опубликован, люди сознательно высказались на этот счет, заведомо одобряя именно предложенный народу проект нового Договора.
Партийных руководителей в центре и на местах заботило, что власть буквально ежедневно и ежечасно перетекает из партийных структур в государственные, советские, не говоря уж о былом политическом влиянии КПСС. После отмены статьи 6 Конституции СССР партия еще долго оставалась де-факто руководящей силой общества, правила, так сказать, по инерции. Но без конца продолжаться это не могло. Сформировалась оппозиция с довольно жесткой программой, появились десятки других партий и организаций, наступавших на «владения» коммунистов и бравших под свой контроль те или иные слои и группы населения. Но вместо того чтобы сделать из этого должные выводы, научиться вести борьбу за массы, за свое положение в обществе, партчиновники, привыкшие считать свою власть данной чуть-ли не от Бога, винили во всем ЦК, Политбюро и в первую очередь, естественно, Генерального секретаря.
КПСС из положения правящей партии с понятным чувством горечи переходила на положение оппозиционной. Это порождало растущее уныние у рядовых членов и озлобленность у партийной верхушки. 30 декабря 1990 года на совещании первых секретарей ЦК компартий союзных республик, республиканских, краевых и областных комитетов компартии в выступлениях прорывались нотки обиды и непонимания курса руководства. А на другой день, на Пленуме, где с докладом «О текущем моменте и задачах партий» выступил Ивашко, в выражениях и вовсе не стеснялись. Только заложенное, можно сказать, в гены партработников почтение перед постом генсека еще удерживало от грубостей по моему адресу. Зато в полной мере досталось моему реформаторскому окружению. Но на следующем, апрельском Пленуме был разрушен и этот барьер, дело дошло до требований смены руководства.
Партийная верхушка свой бунт стремилась подкрепить снизу. Стали формироваться группировки, объявлявшие своей целью борьбу с ревизионизмом, восстановление диктатуры пролетариата. 2 апреля в Ленинграде завершилась конференция Всесоюзного общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», потребовавшая моей отставки с поста генсека. Это было детище небезызвестной Нины Андреевой. В начале апреля Киевский горком, за ним Ленинградский обком, а затем и ЦК Компартии Белоруссии выступили с одинаковым требованием — о созыве чрезвычайного Пленума ЦК и отчете его руководства.
Ко мне на стол ложились десятки и сотни депеш от парткомов разного уровня, в ультимативной форме ставивших вопрос о необходимости принятия неотложных мер для спасения социалистического строя, вплоть до введения чрезвычайного положения в стране. 22 апреля при обсуждении доклада Кабинета министров о выходе из кризиса экономики Союза депутаты, с подачи Павлова и при сочувствии Лукьянова, начали муссировать тему введения чрезвычайного положения в стране или в решающих секторах экономики. Снова мне пришлось вмешиваться и возвращать парламент в русло нормальной работы, давая отпор ярым консерваторам.
В привычном кругу мы несколько раз обсуждали обстановку, и после долгих размышлений я принял решение форсировать подготовку и подписание Союзного договора, собрав для этой цели руководителей союзных республик. Сразу же подчеркну, что эти встречи вовсе не имелось в виду превратить в некий орган, полномочный принимать официальные решения. То, что позднее получило название «1+9», или в просторечии «Десятка», было просто более эффективным способом завершения работы над Союзным договором. Причем отнюдь не за спиной и без ведома законодателей — союзного и республиканских Верховных Советов.
Говорю это к тому, что любители параллелей утверждают, будто Ельцин в 1993 году всего лишь «пошел по тропе, проторенной Горбачевым». Крайне поверхностная аналогия. Я никогда не считал для себя возможным покушаться на права парламента и тем более учреждать собственным указом неконституционные органы. Так, было получено согласие Верховного Совета СССР на создание Совета Безопасности (13 марта), своего рода узкий кабинет, в который вошли вице-президент, премьер, министры внутренних и иностранных дел, обороны, председатель КГБ, а также Примаков, которому я хотел поручить наблюдение за внешнеэкономическими отношениями, и Бакатин. Больше того, парламент дал предметный урок президенту, когда забаллотировал Болдина, предложенного мною в качестве одного из членов Совета Безопасности.
Это, пожалуй, подходящий случай признаться и в других ошибочных кадровых назначениях, которые сыграли роковую роль в судьбе и союзного государства, и моей лично. В первую очередь это относится к Янаеву, которого я, ставя на карту свой авторитет, буквально навязал Съезду народных депутатов на должность вице-президента. Хочу сразу же отвести подозрение, будто Горбачев не желал видеть в своем окружении действительно ярких людей, ориентировался на серость, на фоне которой сам выглядел более эффектно. Это ерунда. Среди моих соратников и помощников много талантливых людей. И уж чего-чего, а конкуренции я никогда не опасался. Как раз наоборот, меня подвело то, что, наблюдая за несколькими выступлениями Янаева с трибуны съезда, я принял его решительный вид, уверенную манеру держаться и свободно рассуждать обо всем за свидетельство высоких деловых качеств. До сих пор не могу простить себе, что не пригляделся к нему как следует, поторопился вытянуть на второй по значению пост в стране. И прежде всего, конечно, не прислушался к столь ясно выраженному мнению народных депутатов.
Добавлю, что Янаев всплыл в ситуации необычной. Первоначально я думал выдвинуть Рыжкова на пост вице-президента, но даже намеки на это вызвали у него огорчение. Ну а потом случился инфаркт. После неудавшегося разговора с Рыжковым мой выбор остановился на Шеварднадзе. Не успел даже поговорить на эту тему — он выступил со своим предостережением о грядущей диктатуре. Думал о Назарбаеве, но не видел, кто мог тогда его заменить в Казахстане. Времени на обдумывание не оставалось, и тут «подвернулся» Янаев. Крупный просчет.
Возвращаюсь к теме. Тогда президентский «мозговой центр» пришел к правильному выводу о нарастании угрозы со стороны консервативных, реваншистских сил. Единственным рациональным ответом на это было соглашение центристов с демократами. Это если говорить несколько упрощенно, общей формулой. В действительности ново-огаревский процесс был намного более сложным и многосторонним явлением. Начался он с моей встречи с Ельциным в загородной резиденции правительства, в которой Брежнев вел переговоры с Никсоном, а мне пришлось встречаться с Рейганом, Бушем, другими руководителями зарубежных государств.
Мы шли к этой встрече исподволь, как бы прощупывая друг друга, взаимную готовность пойти на компромисс, отказавшись от бесконечных нападок и особенно «войны законов». В моем аппарате подготовили свой вариант сообщения о встрече, а Ельцин держал в портфеле свой. Но оба пришлось в конечном счете выбросить в корзину. После длившейся почти целый день беседы мы передали в печать текст своего совместного обращения.
Уже на другой день Ельцин выступил на пресс-конференции, где явно нарушил достигнутый баланс и попытался представить соглашение как, прежде всего, собственную победу. Как говорится, ничего не поделаешь — такова натура. Я не стал оппонировать, тем более из опубликованного коммюнике было ясно видно, что достигнут действительно разумный компромисс, способный создать основу для прекращения изнурительной конфронтации и начала сотрудничества. А экстремистски настроенные радикал-демократы вроде Юрия Афанасьева накинулись на Ельцина, обвиняя его в предательстве и сдаче позиций. Право же, нет ничего хуже фанатиков в политике.
10 апреля я собрал Совет безопасности — это было одно из первых заседаний после его формирования. Проинформировал о состоявшемся накануне заседании Совета Федерации, обсудившем антикризисную программу, некоторые международные вопросы, в том числе положение в бывшей ГДР. Затем спросил мнение коллег о предложении Социал-демократической партии России (О.Румянцева) провести 10 мая «круглый стол». Все высказались за то, что президенту не следует с этим соглашаться. Переговоры с представителями различных политических сил целесообразно организовать через диалог между партиями, без включения в это президентских или иных официальных государственных структур. Вместе с тем прозвучала мысль о желательности провести доверительную мою встречу с руководителями союзных республик.
Это был шаг к зарождению ново-огаревского процесса, позволившего приступить практически к реализации курса на «центризм», выход из тупиковой ситуации, достижение результатов путем согласия. Он давал ответы и на вопросы оппозиции, но не в той плоскости, в какой они ставились с ее стороны, а в реалистическом плане.
В те дни я не раз советовался со своим окружением и укреплялся в убеждении, что только механизм, отражающий реальное соотношение политических сил, обеспечит возможность продолжить реформы. А они, в свою очередь, будут содействовать упрочению объединительных, интеграционных тенденций. В таком политическом механизме нуждались и антикризисная программа, и Союзный договор.
Не скрою, мои размышления в немалой мере стимулировались тем, что назначенная на 23 апреля встреча с руководителями девяти республик должна была пройти накануне Пленума ЦК КПСС, который должен был собраться 24 апреля. Надо было четко определиться с программой практических действий по выходу из экономического и политического кризиса, согласовать ее с руководителями республик и выйти с ней на пленум, вынудив критиков слева и справа публично занять позицию по отношению к тому, что было, по сути дела, программой национального спасения. Так в дальнейшем и развивались события.
16 —19 апреля состоялся ранее запланированный мой визит в Японию, а после возвращения, 23-го, мы собрались с руководителями высших государственных органов России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и четырех среднеазиатских республик в том самом ново-огаревском особняке. Я повел разговор с коллегами, глядя им в глаза. Обстановка тяжелейшая, нужны неординарные, согласованные эффективные действия. Надо постараться отложить в сторону расхождения, касающиеся в общем-то частных вопросов, и тем более личные симпатии и антипатии. Поставить выше всего интересы страны. Это велит наш долг, бремя ответственности. Сейчас важно сформулировать документ — краткий, понятный людям, которые увидели бы, что руководители намерены действовать решительно и согласованно. Это сразу успокоит общество, разрядит грозовую атмосферу. Мое настроение передалось участникам встречи. Один за другим, каждый по-своему, они поддержали такой подход и высказались за согласованное заявление. Состоялся краткий обмен мнениями — что в нем следует отразить. Потом я объявил перерыв, прошел в свой рабочий кабинет, где были Ревенко и Шахназаров, вызвал стенографистку и продиктовал текст. Отредактировали его, отпечатали и вручили «Девятке».
Под воздействием референдума удалось четко сказать о Союзе. За недостатком времени придумать собственный термин, заявили, что государства, объединенные в Союз, предоставляют другу другу режим наибольшего благоприятствования, а с остальными бывшими союзными республиками будут строить отношения на основе общепринятых международных правил. Главным средством стабилизации объявлялось скорейшее заключение Союзного договора. Президент СССР и главы республик призывали трудящихся прекратить забастовки, а все политические силы действовать в рамках Конституции. В документе подтверждалось намерение продолжить реформы. Замечания к тексту были, но незначительные. Согласовав его содержание окончательно, срочно передали в ТАСС, «Правду» для публикации.
А сделав дело, поужинали. Прозвучали тосты. И у меня, и у коллег, как говорится, от души отлегло, появилась надежда. И хотя после этого не обошлось без кривотолков, участники встречи твердо отстаивали заявление. Само по себе это имело большое значение, придавая вес совместному документу.
Характерный момент. В то время «Независимые профсоюзы России» (Клочков) намеревались в знак протеста против повышения цен объявить предупредительную всеобщую забастовку. Рабочих подталкивали и радикалы, все еще настроенные на «войну с центром» и не сразу подчинившиеся приказу «своего» главнокомандующего. Так вот, после апрельского заявления «1+9» ситуация и здесь разрядилась. Кроме отдельных трудовых коллективов, прервавших работу на несколько часов, на стачку никто не пошел.
Важную роль заявление «Десятки» сыграло и в исходе апрельского Пленума ЦК КПСС.
Раскаты грома
Партийная номенклатура не собиралась сдаваться без боя. Весной 1991 года организаторы уже сформировавшейся в КПСС оппозиции решили перейти в наступление. Явно рассчитывали использовать обострение социальной ситуации, недовольство в обществе в связи с введением 2 апреля повышенных цен на продовольственные и промышленные товары,
16 апреля в Смоленске собрались партработники из городов-героев РСФСР, Украины, Белоруссии. Участвовали в основном первые и вторые секретари партийных организаций Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Бреста, Керчи, Мурманска, Новороссийска, Одессы, Севастополя, Смоленска, Тулы. Официальный повод — подготовка к 50-летию начала Великой Отечественной войны.
Организаторы этих встреч, среди которых выделялись член Политбюро, первый секретарь Московского горкома Прокофьев, секретарь ЦК КП РСФСР Мельников, были озабочены отнюдь не тем, чтобы воздать должное фронтовикам и поддержать миролюбивую политику, продиктованную уроками той войны. В их выступлениях содержались резкие выпады против Политбюро, в первую очередь против генсека, призывы к чрезвычайным мерам «спасения страны». Приезжие поздравляли партийных и хозяйственных работников Смоленщины с тем, что до них перестройка еще не дошла.
А ведь до этого публично восхваляли перестройку, говорили о необходимости глубоких преобразований, ратовали за рынок и плюрализм. Выходит, все это было сплошным лицемерием, за которым скрывалась надежда на реванш, возврат к господству партократов!
В рамках общей встречи состоялись заседания узких групп, на которых шла речь о предъявлении жестких претензий Горбачеву, проведении внеочередного съезда КПСС, смене руководства. Знала об этих разговорах, если не выступала их инициатором, та часть Политбюро, которая пыталась повлиять на генсека с целью использовать президентские полномочия для введения чрезвычайного положения, восстановления диктата руководства КПСС.
Накануне апрельского Пленума ЦК дебаты вокруг вопроса об отставке генсека вышли на поверхность на пленумах Московского городского и Ленинградского областного комитетов КПСС. Они шли с одобрения Прокофьева и Гидаспова. Сами они этот вопрос впрямую не ставили, но объясняли так: идет «снизу», отражает настрой рядовых коммунистов, ничего не поделаешь. Примечательно, что требования сместить генсека напрямую смыкались с призывами лидеров Демроссии отправить в отставку президента.
Короче, консервативные силы в КПСС решили превратить апрельский Пленум ЦК в своего рода разбор персонального дела Горбачева, намеревались открыто предъявить мне политические обвинения и ультимативные требования. Был даже подготовлен проект постановления по главному вопросу повестки дня — положению в стране и путях вывода экономики из кризиса. В нем, по сути дела, выносился «смертный приговор» всему курсу на реформы и отвергалась антикризисная программа правительства, уже принятая, хотя и в итоге острой дискуссии, Верховным Советом СССР.
Зная обо всем этом, я решил «взять быка за рога» и сразу дать понять своим оппонентам, что капитуляции они от меня не дождутся, а вот сами могут остаться на обочине политической жизни. Готов был к худшему, мысленно смирился уже и с возможным расколом партии, но считал своим долгом побороться за нее с ретроградами, тащившими КПСС в пропасть.
Вот что я сказал в своем вступительном слове: «Считаю необходимым информировать Пленум о принципиальных оценках нынешней политической ситуации в стране и партии. Мы собрались в исключительно сложной обстановке. Накаляется атмосфера в обществе. Нагнетается атмосфера и в партии. Происходит это отнюдь не стихийно. Со всех сторон делаются жесткие заявления, выдвигаются далеко идущие политические требования, затрагивающие судьбы народа и государства. Сейчас важнее всего не поддаться соблазну эмоциональных решений. Конечно, переживаемый момент не располагает к спокойным академическим размышлениям. Уже не только на словах, но и на деле предпринимаются попытки сбить страну с пути реформ, либо бросив ее в еще одну ультрареволюционаристскую авантюру, грозящую разрушить нашу государственность, либо вернув в прошлое, к чуть подкрашенному тоталитарному режиму. Думаю, не надо объяснять, что имеются в виду планы левых и правых радикалов.
Оба эти направления — губительны. И самая большая опасность нынешнего момента в том, что они сейчас сошлись, несмотря на, казалось бы, непримиримую взаимную враждебность. Посмотрите, с каким единодушием выдвигаются одни и те же лозунги! Уже несколько месяцев экстремистски настроенные руководители движения «Демократическая Россия», используя в своих политических целях во многом справедливое недовольство трудящихся тяжелым экономическим положением, подстрекают трудовые коллективы к выдвижению требований распустить Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР, отправить в отставку президента и Кабинет министров. Теперь почти слово в слово с тем же требованием выступают и некоторые партийные комитеты в РСФСР, ряде других республик, а также некоторые депутаты из группы «Союз».
Но давайте трезво представим, что будет, если эти требования осуществятся. Разрушение законных государственных структур неминуемо создало бы взрывоопасный вакуум власти. Разнородные политические силы, которые сегодня смыкаются в экстремистских претензиях, окажутся лицом к лицу друг с другом. Без того барьера, который конституционный порядок, деятельность законно избранных органов власти прокладывают сейчас между борющимися в обществе социальными силами, партиями и движениями. Их иллюзорная коалиция не долго будет скрывать стремление каждой из сторон к монопольному господству над государством и обществом. Неизбежно произойдет жестокая, скорее всего, массовая схватка. И кто бы ни взял в ней верх, на смену демократическим институтам придет очередной произвол. Если говорить проще — самая настоящая диктатура, а не та мнимая, которую кое-кто усматривает в нынешнем конституционном режиме. Исторический шанс модернизировать страну путем реформ, то есть мирными средствами, будет упущен. В проигрыше окажутся вся страна, народ, миллионы и миллионы граждан.
Я говорю обо всем этом с предельной откровенностью. Иначе нельзя сегодня вести разговор. Тем более здесь, на нашем партийном форуме. Из анализа ситуации для каждого здравомыслящего человека вытекает один вывод: ни в коем случае нельзя допустить разрушения существующего конституционного порядка. Любые, в том числе и самые решительные, изменения в экономике и политике — а потребность в них сейчас действительно велика — могут достигаться только в рамках конституционной законности. У нас есть впервые свободно избранный Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР, есть высшие представительные органы власти республик, есть гласность. В этих рамках, используя эти демократические институты и советские законы, каждая партия и движение вправе добиваться своих целей. В том числе, естественно, бороться за политическое лидерство и власть. Всякие же попытки действовать методами пугачевщины, путем внепарламентского шантажа, вплоть до превращения экономики страны в пыль и пепел, должны быть решительно отвергнуты.
Вижу первостепенный долг в том, чтобы пресечь нарушения демократического процесса и всеми законными мерами решительно укреплять конституционный порядок в стране. Совершенно очевидно, что без этого остались бы благими пожеланиями даже самые идеальные программы преодоления экономического кризиса. Разумеется, восстановление и укрепление конституционного порядка — это прямая обязанность прежде всего всех органов государственной власти, каждого должностного лица. Но это и задача всего общества в целом, всех подлинно демократических сил, групп и организаций.
Обстановка требует от всех политических сил и движений, которые не на словах, а на деле стоят на патриотических позициях, отбросить амбиции, отложить хотя бы на время взаимные претензии, помочь стране собраться с силами в трудный для нее момент…»
Любые изменения в экономике и политике могут достигаться только в рамках конституционной законности — вот с чем не могла тогда смириться партийная номенклатура, как не хочет смириться сейчас «демократура».
Первый день Пленума прошел относительно спокойно. Ошеломляющее впечатление произвела публикация Ново-огаревского Заявления. Рвущихся в бой, вероятно, попридержало и мое вступительное слово. Но не надолго. Видимо, они держали совет ночью, и на другой день обойма ораторов, распаляя зал, насела на генсека. Особенно резко, даже грубо выступил Гуренко, заявивший: «Со страной сделали то, что не смогли сделать враги». Он потребовал «законодательно закрепить за КПСС статус правящей партии», восстановить прежнюю систему расстановки руководящих кадров, контроль партии над средствами массовой информации. Трудно было поверить, что можно в такой степени быть рабом предрассудков и оторваться от жизни.
Не отстали от него Прокофьев, Гидаспов, Малофеев. Первый секретарь Компартии Белоруссии прямо потребовал от президента ввести чрезвычайное положение. Собственно говоря, к этому вели и другие критики генсека: пусть он либо вводит ЧП, либо уходит. После самого жесткого из таких выступлений — кажется, это был Зайцев из Кузбасса — я взял слово. Сказал: хватит демагогии, ухожу в отставку.
У меня спрашивали, было такое решение принято под влиянием импульса, раздражения и досады, вызванных нападками на генсека, или это был заранее взвешенный, обдуманный «на холодную голову» тактический шаг? Как ни странно, в какой-то мере верно и то и другое. Конечно, не обошлось без эмоций, возникло желание сразу же покончить с этим. А с другой стороны, повлияло и то, что я заранее не исключал такой развязки, был готов к ней. Что ж, подумалось тогда, вероятно, настал «момент истины», когда надо отбросить колебания и принимать решение.
Многие мои соратники и доброжелатели давно меня уговаривали сложить обязанности Генерального секретаря. Но я исходил из того, что, хотя мне это не нужно в личном плане (огромное бремя!), с точки зрения большой политики не следует сейчас идти на разделение постов. Ведь партию уже начали растаскивать по национальным отсекам, то же грозило союзному государству. Я же был интегратором, выполнял объединительную роль.
Был объявлен перерыв, во время которого собралось Политбюро. Я зашел на минутку, резко заявил, что члены ПБ, в частности Гуренко, вели к этому. Вот пусть они и разбираются, чего вообще хотят. Гуренко яростно отрицал, вспыхивал и подпрыгивал.
— Слушайте, — говорил я им, — почему Горбачев должен на каждой сессии Верховного Совета, на каждом Съезде народных депутатов и еще на Пленуме ЦК доказывать, что реформы нужны стране, делаются ради ее достойного будущего?
Меня стали уговаривать взять свое заявление обратно. Я отказался и ушел в свой кабинет. В Политбюро продолжались дебаты. Тем временем в зале вокруг Вольского, Лациса, Бакатина, Грачева и ряда других товарищей стали собираться многие члены ЦК, выражавшие категорическое несогласие с нападками на Горбачева, бывшие решительно против его отставки. Таких набралось, кажется, 72 человека. Они составили заявление, в котором речь шла о том, что ЦК в данном составе не в состоянии руководить партией, выдвигалось требование созвать новый съезд КПСС.
Спустя полтора часа Пленум по предложению Политбюро подавляющим большинством голосов (13 — против и 14 воздержавшихся) решил снять с рассмотрения выдвинутое мной предложение об отставке с поста Генерального секретаря ЦК КПСС.
После этого обстановка несколько разрядилась. Пожалуй, наиболее резкую, но верную оценку происшедшего дал в своем выступлении Назарбаев. «Мы имеем дело, — сказал он, — с попыткой похоронить идею обновления общества и государства, вернуть нас к командной системе, тоталитарному строю». Бакатин, критикуя выступления Гурен-ко и Прокофьева, сказал, что это поиск ведьм и неприятие инакомыслия в понимании социализма.
Постановление Пленум принял довольно сбалансированное. В своем заключительном слове я сказал, что принципиальный диалог по вопросам теории и политики партии еще предстоит в связи с обсуждением проекта партийной программы. Партия должна меняться вместе с обществом, если хочет сохранить свое влияние на него, а общество живет уже по-иному, в условиях укрепляющейся демократии, идейного и политического плюрализма. Многим партийным работникам мешает правильно оценить это ностальгия по монополии КПСС на власть. Понятны трудности, которые переживают партийные организации. Но это не основание затевать вселенскую драку, напоминающую пир во время чумы. В современных условиях самая оптимальная линия — политический центризм, ставка на интересы большинства. Партия должна сосредоточиться на реализации антикризисной программы, на этом мы можем завоевать авторитет у народа, наладить сотрудничество с партнерами и союзниками.
В заключение я призвал со всей ответственностью отнестись к совместному заявлению руководителей Союза и девяти республик.
Так провалилась попытка заставить меня отступить от реформ, встать на путь реваншизма, восстановления прежних порядков. Я не строю иллюзий. Большинство членов ЦК проголосовало против моей отставки не из одобрения перестройки и не из симпатий ко мне лично. Будучи прагматиками, они сознавали, что партия в таком случае останется вовсе без влияния на политику, а ее руководству останется тешить себя воспоминаниями о прежнем величии.
Но я вот все чаще задумываюсь: а не лучше ли было мне тогда настоять на уходе с поста генсека? Вероятно, лично для меня такое решение было предпочтительней. Но я не счел себя вправе «бросить партию», отказаться от попытки ее реформировать, да и реформы могли бы оказаться под угрозой поражения.
Последний Пленум
На многих съездах я был делегатом. Десятки пленумов прошли на моем веку. Большинство из них не запомнились — обычные ритуальные заседания, хотя шума в печати каждый раз было достаточно. Есть несколько пленарных заседаний ЦК, имевших для меня прямое личное значение или отложившихся в памяти в связи с решавшимися там крупными проблемами, столкновением позиций. О некоторых из них я уже рассказал в книге.
Но без всякого преувеличения скажу, что самое крупное значение для партии и развития нашей концепции будущего имел июльский Пленум ЦК 1991 года, на котором состоялась финальная схватка сторонников нового мышления с ортодоксами и был принят проект новой программы КПСС, означавшей окончательный разрыв с прошлым.
На пути к нему пришлось пережить немало испытаний. Уже на втором этапе съезда РКП, собравшемся в начале сентября 1990 года, были предприняты попытки, по сути дела, выхолостить позитивные итоги XXVIII съезда. Доклад Полозкова, многие выступления в дискуссии и программный документ, который готовился кулуарно и лишь накануне заседания роздан делегатам, нельзя было расценить иначе как фронтальное отступление от программного заявления общепартийного форума.
Реформистски настроенные делегаты не собирались сдаваться. Они сразу же потребовали исключить обсуждение и принятие программы из повестки дня, поскольку это суррогат, идущий вразрез с решениями XXVIII съезда КПСС. Кроме того, внесли предложение рассмотреть вопрос о смене первого секретаря. Последовали бурные дебаты, прерванные самим Полозковым. Он сказал, что намерен сделать на завтрашнем заседании специальное заявление по этому вопросу.
Припоминаю: пили чай в комнате президиума, собрались все, и я спросил Ивана Кузьмича, какое он собирается сделать заявление.
— Я еще раз все обдумал, — ответил Полозков, — ив интересах нормализации обстановки хочу говорить не о вотуме доверия, как предлагали некоторые, а о своем уходе с поста первого секретаря ЦК.
До этого мы обменивались мнениями в кругу Политбюро ЦК КПСС и в общем все сходились на необходимости такой меры. Даже те, кто продвигал Полозкова в лидеры Российской компартии. Всякому неглупому человеку было видно, какой ущерб нанесло РКП и КПСС его избрание первым секретарем. Правда, были и оговорки, что, дескать, это надо сделать осторожно, продумать аргументацию, чтобы не вызвать негативной реакции — на сей раз со стороны тех, кого шутя называли «твердыми искровцами».
Я приехал на съезд, решил посмотреть, как будет воспринято заявление Полозкова, но никакого заявления не было. Оказывается, состоялось совещание первых секретарей обкомов партии, и все они в один голос высказались против отставки. Думаю, это был умело поставленный спектакль, с первыми секретарями хорошо поработали. Полозков, так сказать, вынужден был подчиниться общей воле.
Вся эта история наглядно показала, что номенклатура, не сумев навязать угодные ей решения на XXVIII съезде, попыталась отыграться на российском партийном форуме. В обкомы и вновь созданные центральные структуры РКП перемещалась оппозиция реформам и олицетворявшему их генсеку. А направлялась она — сначала из-за кулис, негласно, затем все более открыто — новым составом Политбюро ЦК КПСС.
Я не говорю при этом о руководителях компартий республик — они были поглощены своими заботами и не слишком вникали в деятельность центральных органов. Не хочу также всех валить в одну кучу — среди новых членов руководства были люди современно мыслящие. Но не они задавали тон, а те, кто тянул к прежним порядкам.
Из предыдущего моего рассказа читатель знает, какими драматическими событиями были насыщены первые месяцы 1991 года. Противостояние в Литве и политическая борьба вокруг Прибалтики, объявление радикалами «войны» центру, поиски приемлемого для всех компромисса, положившие начало ново-огаревскому процессу, — все это вновь и вновь свидетельствовало о необходимости поворачивать деятельность партии в новое русло, овладевать методами политической борьбы. Решения XXVIII съезда давали для этого неплохую базу. Увы, партийное руководство не умело и не хотело действовать в этом направлении. Регулярно собирались, обсуждали ситуацию. Без энтузиазма, но одобряли практически каждый шаг президента и правительства. Тем и кончалось.
Оставались втуне все мои призывы по-настоящему взяться за дело, предупреждения, что, если не перестроимся, потеряем время, КПСС окончательно утратит авторитет. В головах моих тогдашних коллег бродили другие мысли — не о политической борьбе, а о насильственной реставрации сталинистской модели, по крайней мере в ее брежневском варианте. И они все более неприязненно смотрели на Генерального секретаря, возлагая на него вину за собственную неспособность идти в ногу со временем, уловить потребности общества и чаяния народа.
Роль «забойщика» все больше брал на себя столичный горком. На очередном пленуме МК, куда были приглашены секретари горкомов КПСС в городах-героях, с резкой критикой политики генсека и президента выступил Прокофьев. Обвинив меня во всех трудностях, переживаемых страной, он заявил: «Партия вынуждена нести ответственность за действия своего лидера, за его ошибки, которых накопилось уже немало». В таком же духе, конечно, с некоторыми нюансами, выступили Гидаспов, Гуренко, Шенин. Фундаменталисты, пылая гневом, требовали расправы над «ревизионистами», изгнания из партии группы Руцкого и Липицкого «Коммунисты за демократию», других группировок, в том числе легализованных XXVIII съездом, чьи лидеры были избраны в ЦК.
Неспособность партийных структур адаптироваться к реальностям и освоить новое положение КПСС, больше того, попытки затормозить и даже сорвать демократические преобразования вызывали разочарование в массе коммунистов. За 1990 год из партии выбыло почти 2,5 миллиона человек. После того как были обнародованы прения на апрельском Пленуме, этот процесс ускорился. По состоянию на 1 июля 1991 года в КПСС числилось 15 миллионов членов. Получается, что за полтора года из партии вышло и было исключено более 4 миллионов человек, или 22 процента.
Проведенные в то время социологические опросы показали, что более половины выходивших из КПСС делали это по идеологическим соображениям. А каждый четвертый говорил о нежелании оставаться в одних рядах с недостойными людьми, прямо указывая на представителей партийной номенклатуры.
В общем, происходил отрыв руководящих органов не только от общества, от граждан, но и от членской базы. Сознавая свою ответственность перед миллионами коммунистов, я многократно обсуждал сложившееся положение в КПСС со своими единомышленниками, с партийными работниками, которым доверял. Вывод был один: необходимо форсировать преобразование КПСС в современную политическую партию, стоящую на позициях демократического социализма. Для этого нужно было как можно скорее подготовить и принять новую программу. Съездовская комиссия, сидевшая несколько месяцев в Волынском, представила уже пять вариантов, но все они оставались в рамках изживших себя традиций. В этой обстановке в работу включился я сам и мои помощники. Итогом стал документ, получивший одобрение комиссии и вынесенный ею на рассмотрение июльского Пленума ЦК.
Чтобы у читателя было представление об атмосфере, в которой это происходило, расскажу об одном из последних заседаний Политбюро — 3 июля. Обсуждалось положение в рабочем движении страны и задачи партии. Купцов привел такие данные: поддержанные КПСС кандидаты на пост Президента РСФСР проиграли на выборах 12 июня во всех городах с населением более одного миллиона человек, то есть в местах наибольшего сосредоточения рабочего класса и интеллигенции.
Выступив на заседании, я призвал членов Политбюро и секретарей ЦК не отсиживаться в столице, чаще выезжать, бывать на предприятиях, в трудовых коллективах, смелее вступать в политическую полемику. При этом не скатываться на позиции хвостизма и популизма, чем стали грешить многие партработники, как бы перехватывая стиль и методы демократов. Партия может восстановить авторитет в обществе только в том случае, если решительно поддержит назревшие реформы. В этой связи я коснулся положения на местах. Из ряда регионов явно скоординированно поступали обращения с требованием отставки генсека. Организацией таких обращений занимаются те же лица, чьи замыслы не удались на апрельском Пленуме ЦК. Потом стало ясно, что все это делалось в Москве, в аппарате ЦК РКП.
По ходу заседания Политбюро слово вдруг взял Фролов и заявил, что в проекте постановления Политбюро он обнаружил тезис, выставляющий генсека в самом неприглядном виде. Он резко поставил вопрос перед Полозковым и некоторыми другими руководителями республиканских организаций об их собственной ответственности за положение дел на местах. Полозков, который явно не справлялся со своими обязанностями и критиковался уже секретарями обкомов, заявил, что может и уйти.
Я на это среагировал:
— Что же, вы можете уходить, Иван Кузьмич.
И тут же в атаку ринулись Прокофьев, Гуренко, Аннус, потребовавшие, чтобы Горбачев регулярнее и полнее отчитывался на Политбюро о встречах с руководителями республик, переговорах с ними.
Я еще раз призвал членов партийного руководства заниматься позитивной работой и расстаться с надеждами на реванш. Что касается названных требований, то я их отклоняю, ибо не обязан согласовывать с Политбюро все свои шаги как президент. Тем более что идут они в русле решений, принятых XXVIII съездом. Партия, как и все общество, своевременно о них информируется. Кстати, они могли обратиться к руководителям своих Верховных Советов и узнать у них, что происходит на встречах с Президентом СССР. Но, как видно, уже и в республиках произошел разрыв между новыми Верховными Советами и ЦК компартий — я имею в виду, в частности, Украину, Белоруссию.
Проект программы был опубликован во второй половине июля, а 25-го собрался очередной Пленум ЦК КПСС.
Уже во вводной части своего доклада я поставил вопрос: почему партии сейчас нужен подобный документ? «Коротко можно ответить так: прежняя теоретическая и практическая модель социализма оказалась несостоятельной. Возникает необходимость глубокой перестройки, демократической реформации всех сторон общественной жизни. С этим связано обновление и самой партии.
В КПСС есть силы, которые с открытым забралом выступили против линии XXVIII съезда, ставят под сомнение всю нынешнюю ее политику. Но те, кто сегодня ругает перестройку и ее инициаторов, не в ладах с фактами. Уже к началу 80-х годов страна подошла к состоянию депрессии: старые и новые болезни общества не обнажались и тем более не излечивались, загонялись внутрь. Это привело к тяжелому кризису. Причем кризису не каких-то отдельных частей общественного организма, а самой модели казарменного коммунизма.
Созданная Сталиным тоталитарно-бюрократическая система позволяла путем концентрации сил и ресурсов огромной страны добиваться крупных результатов. Но чрезвычайные усилия шаг за шагом подтачивали здоровье общества, вели к расточению ресурсов, утрате стимулов производительного творческого труда. На деле подтверждалась мысль Ленина о том, что нельзя строить социализм на голом энтузиазме. То, что возможности системы подходят к исчерпанию, понимали давно. Не случайно после смерти Сталина была предпринята попытка изменить ситуацию. Время брало свое: массовые репрессии были прекращены, отказались от многих элементов тоталитарного наследия. Но в основе власти и управления оставалась все та же бюрократическая система, опиравшаяся на абсолютное господство государственной собственности. Это был, по сути дела, постсталинизм.
Перестройка была жизненно необходимой и потому, что страна нарастающими темпами теряла былые позиции, отставала от развитых государств мира практически по всем направлениям научного, технического, экономического и социального прогресса».
Из множества вопросов программного значения я выделил один, на котором, можно сказать, спотыкались многие поколения сторонников социализма — соотношение социализма и рынка. «В прошлом эти понятия считались у нас несовместимыми на том основании, что рыночные отношения противоречат распределению по труду и на них якобы основана эксплуатация человека человеком. В действительности рынок сам по себе не определяет характера производственных отношений, он был и остается с древнейших времен единственным механизмом, позволяющим объективно и в какой-то мере без вмешательства бюрократии измерить трудовой вклад каждого производителя. Весь мировой опыт последних десятилетий подводит к выводу, что вне рыночной экономики нельзя реализовать принцип распределения по труду. Социализм и рынок не только совместимы, но, по сути, неразделимы.
В полной мере учитывая особенности и традиции нашего общества, мы против того, чтобы на смену тотальной государственной собственности пришла столь же тотальная частная. Речь идет о создании именно смешанной, многоукладной экономики. О свободном развитии всех видов собственности с упором на акционирование и аренду, позволяющую включить в число владельцев, хозяев, собственников все более широкие слои трудящихся.
Наконец, рыночная экономика позволит стране стать органичной частью мирового хозяйства. Для этого нужно иметь общие правила предпринимательской деятельности, свободу обмена товарами, устойчивую валюту, а главное — правовое государство и гражданское общество. Только обеспечив все эти условия, мы сможем занять достойное место в мировом разделении труда. Казалось бы, очевидные вещи, но какими извилистыми путями и с каким опозданием приходим мы к пониманию этих истин!»
Учитывая характер своей аудитории, я обратился к примерам, которые должны были найти отклик у людей, воспитывавшихся в безусловном признании ленинского наследия.
«Вспомните, как в 20-е годы было встречено в партии введение новой экономической политики. Не прошло ведь и четырех лет после Октябрьской революции, совсем недавно победоносно закончилась война. Многим казалось, что до желанного социализма рукой подать. И вдруг — частное предпринимательство, кооперация, синдикаты, допуск иностранных концессий. Пошли разговоры о предательстве, перерождении вождей, измене делу пролетариата. Многие уходили из партии, некоторые кончали с собой. Однако после Ленина началось постепенное сворачивание этого курса. И это особенно проявилось в связи с «хлебным кризисом» конца 20-х годов. Существовало два способа решения возникшей проблемы: включение экономических рычагов, то есть углубление нэпа, или чрезвычайные, силовые меры, отрицающие путь, избранный Лениным. Сталин и его окружение избрали второй вариант, тем самым фактически был сделан выбор в пользу авторитарной, бюрократической модели развития.
Главное в проекте — решительный разрыв с отжившими идеологическими догмами и стереотипами, стремление привести наше мировоззрение и политику в согласие со всем опытом развития, насущными потребностями страны и народа. В XIX и начале XX века возможность преобразования общества на справедливых началах связывалась сторонниками социализма главным образом с насильственным переворотом, установлением диктатуры пролетариата, с классовой борьбой, доводимой до ликвидации враждебных классов. Давно уже настало время признать, что эпоха, когда у народных масс не оставалось иного средства поправить свое положение как штурмом Бастилии или Зимнего дворца, ушла в прошлое».
Говоря о партии, я сказал: «Трезво оценивая положение, надо признать, что в КПСС уже образовались течения различного толка, каждое из которых стремится придать ей свою ориентацию и вместе с тем самим фактом своей деятельности испытывает ее на разрыв. Меньше всего хотел бы огульно обвинять коммунистов, которые по разным причинам присоединяются к тому или иному течению. Во многих случаях это происходит в силу понятной неудовлетворенности тем, как идут дела в стране и в самой партии.
Схема прошлого довлеет над общественным сознанием, мешает понять смысл происходящих изменений. В наш адрес со стороны представителей, я бы сказал, коммунистического фундаментализма раздаются обвинения в «социал-демократизации КПСС». Они базируются на идеологических расхождениях времен революции и Гражданской войны, когда коммунисты и социал-демократы оказались по разные стороны баррикад. Пусть историки разбираются в перипетиях прошлого, но совершенно очевидно, что критерии возникшего тогда противостояния утратили прежнее значение. Мы изменились, изменилась и социал-демократия. Ход истории снял многие проблемы, вызывавшие размежевания в рабочем, демократическом движении, среди сторонников социализма. И те, кто сегодня пугает социал-демократизацией, только отвлекают внимание от главного противника — антисоциалистических, национал-шовинистических течений.
Всем нам нужно еще раз осознать, — подчеркнул я, — что на нынешнем этапе развития общества КПСС может рассчитывать на успех именно как партия политического действия. В условиях ухудшения экономической ситуации и роста социальной напряженности активизируются радикалистские течения. К программному заявлению XXVIII съезда они относятся как ни к чему не обязывающей декларации. В так называемой большевистской платформе КПСС что ни тезис — открытая попытка ревизии установок съезда. Партия, по мнению «необольшевиков», вновь должна стать становым хребтом государства. Реформа политической системы объявляется антинародной политической диверсией, а демократизация экономики клеймится как возврат к дореволюционным порядкам. Характерна и терминология — призывы к решительной борьбе с оппортунистами, ревизионистами, неоменьшевиками, национал-коммунистами и социал-предателями. Сходные тезисы отстаивает движение «коммунистическая инициатива». Его вдохновители отвергают многообразие собственности, не признают необходимости реформирования политических структур, тенденциозной критике подвергают внешнюю политику государства».
Я призвал в докладе все течения и платформы самокритично оценить линию своего поведения, умерить эмоции, отдать приоритет трезвому политическому расчету. «Но, конечно, миротворчество по принципу «давайте жить дружно!» не нужно никому. Выход из КПСС отдельных течений, противопоставляющих себя ее стратегическому курсу и идущих на прямое нарушение уставных требований, не только не повредит партии, а, напротив, укрепит ее».
Рассуждения на эту тему завершались предложением созвать следующий съезд в ноябре — декабре и принять на нем программу партии.
Начались выступления. Вопреки советам доброхотов, рекомендовавших «подстраховаться» и по примеру прежних лидеров «организовать прения» (то есть выпустить побольше своих сторонников, придержать критиков, предварительно побеседовать с некоторыми из них и т. д.), я не стал маневрировать. Решил, что настала пора действовать в открытую. Отвергнет большинство ЦК проект — будет размежевание, которое стало неизбежным. Удастся добиться одобрения его на Пленуме — значит, проба сил и финальная сцена расставания фундаменталистов и реформаторов откладывается до XXIX съезда партии. Не скрою, последний вариант я считал предпочтительным уже потому, что судьбу партии и уместней, и достойней решать не Пленуму ЦК, а именно съезду.
Как и следовало ожидать, с первых выступлений посыпались критические замечания и упреки: недостаточно четко заявили о приверженности идеям Маркса-Ленина, слишком однозначно трактуется переход к рынку, не надо стесняться сказать о заслугах КПСС перед советским народом и т. д. Но чем больше накапливалось претензий и «скучнели» мои помощники, опасавшиеся, что редкомиссия Пленума изуродует проект, тем спокойней становилось у меня на душе. Дело в том, что резким контрастом с содержанием замечаний был тон, каким они высказывались. Прозвучало не больше двух-трех истерических выступлений с проклятиями по адресу отступников от марксизма-ленинизма, неистребимой верой в вечность нашей идеологической догматики. Подавляющее большинство ораторов оценивали подготовленный документ с позиций уже далеко продвинувшегося вперед общественного сознания.
Даже консервативно мыслящие люди, испытывающие ностальгию по старым порядкам или хотя бы по отдельным чертам дорогого им прошлого, не могли не считаться с тем, что после бурных дискуссий на съездах народных депутатов и сессиях Верховного Совета, в прессе и телевизионных клубах понятия рынка, гражданского общества, правового государства, свободных выборов, политического плюрализма, многопартийности, общечеловеческих ценностей, интеграции в мировое сообщество и многие другие из этого же смыслового ряда стали нормой, укоренились в народном мнении.
А как же фанатики, разве их не было в зале? Почему они отмолчались, не встали стеной против «еретиков»? Думаю, тому было несколько причин. Прежде всего, не были еще забыты итоги апрельского Пленума, где твердолобым пришлось отказаться от замысла сместить генсека. Соотношение сил с тех пор не изменилось, и новый «бунт на корабле» расценивался в этой среде как заведомо проигрышный. Далее: не могли они не считаться с тем, что к июлю начали созревать плоды ново-огаревского процесса, общество настроилось на волну согласия. В этой обстановке раскол в КПСС обернулся бы в первую очередь против «партийных боссов».
Наконец, многие из них сочли бессмысленным вылезать с резкой критикой просто потому, что вообще разуверились в возможности достичь своих целей такими средствами, уже тогда начали прицеливаться к «решительным», силовым действиям.
Как бы то ни было, Пленум поручил доработать проект, и редко-миссия сделала это без серьезных потерь.
Заключая работу Пленума, я прежде всего обратил внимание на необходимость проявлять широту взглядов и терпимость к инакомыслящим. Общество устало, не хочет терпеть новые перевороты, конфронтацию, социальную перенапряженность, оно вздохнуло с облегчением, когда разнесся призыв поставить выше всех партийных и политических споров интересы народа, Отечества, государства. Улавливая эту общую тенденцию, очень важно овладевать курсом на реформы, цивилизованный подход к политике.
А тем, кого пугает понятие «реформизм», я напомнил слова Ленина: на место революционного подхода «в смысле прямой и полной ломки старого» необходимо поставить «совершенно иной, типа реформистского». Сказано это было в 1921 году. Все дело в направленности реформ.
Мы подошли к необходимости новой «коренной перемены всей нашей точки зрения на социализм». В рамках старой модели ответы на вопросы не найдем, как не нашли ответов наши друзья, которым мы помогали эту модель у них «проэкспериментировать». Да, это кризис социализма и социалистической идеи, но кризис может быть преодолен. За ним может последовать выздоровление и новый решительный шаг вперед обновленного социализма.
Мое впечатление от июльского Пленума ЦК можно резюмировать так: открылась реальная перспектива реформирования КПСС. А вот удастся ли использовать эту возможность — зависело уже от многих факторов и общего хода событий.
Пленум стал своего рода заключительным актом первой половины 1991 года. Начинался самый драматический этап в жизни страны, в личной моей судьбе.
Цель близка
Давно замечено, что в переломные моменты истории время конденсируется, сжимается до бесконечности. Месяцы, недели, даже дни по насыщенности событиями, их значению и последствиям становятся равными иным столетиям. Такой стала у нас вторая половина 1991 года. И своего рода пружиной действия, осью, вокруг которой оно развернулось, была ожесточенная борьба вокруг трех капитальных вопросов.
Во-первых, это целостность страны и судьба нашего союзного государства: быть ему и дальше в обновленной форме реальной федерации или распасться на части, рассыпаться, породив острейшие проблемы и неисчерпаемые бедствия для народов.
Во-вторых, судьба перестройки, экономической и политической реформ, начатых в 1985 году, взятого тогда курса на демократизацию: найдут ли они продолжение или будут свернуты? А если движение по пути реформ будет продолжено, то какими методами и темпами, какую цену придется уплатить за переход к более эффективной системе хозяйствования и управления.
В-третьих, это борьба за власть: кому, каким социальным силам, партиям, группировкам, лидерам встать у руля на новом этапе нашей истории.
Эти фундаментальные вопросы решались, конечно, не изолированно, а в тесном переплетении. И исход дела определялся, увы, не только так называемыми объективными закономерностями и назревшими общественными потребностями, но также ожесточенным соперничеством политических группировок, вожделениями национальных элит и просто человеческими амбициями и страстями.
Очень важно, что в итоге всего пережитого, сложных политических маневров, дискуссий и столкновений противоборствующих сил удалось к исходу июля вплотную приблизиться к рациональному решению коренных проблем, осложнявших ход перестройки. Подготовить тем самым необходимые предпосылки для преодоления возникшего кризиса. Может быть, я несколько повторюсь, но хочу еще раз зафиксировать в памяти это принципиальное обстоятельство.
Решающее значение имело, бесспорно, завершение (23 июля) согласования нового Союзного договора. Я уже рассказал, как трудно это далось. Объявив себя по примеру России независимыми, республики стремились «застолбить» как можно больше прав, избавиться от опеки союзных органов. Справедливости ради отмечу, что при этом республиканские лидеры за редким исключением сознавали необходимость иметь достаточно сильный и авторитетный центр, способный решать общие задачи. Словом, нужен был разумный баланс в распределении полномочий, и то, что он в конце концов был найден, свидетельствует о жизненности принципов, которые закладывались на том этапе в основу обновленной федеративной государственности.
Пожалуй, нагляднее всего об этом говорит решение вопроса о субъектах Союза Суверенных Государств. Новый статус автономий, становившихся соучредителями Союза, обеспечивал равноправие наций, их возможность самостоятельно устраивать свои дела. В то же время не нарушалась целостность союзных республик, не ставились под сомнение исторически сложившиеся границы государств и национально-территориальных образований.
Я далек от намерения утверждать, что в итоге найдено решение, годное на все времена. Проблема эта архисложная. Сегодня она стоит острее, чем когда-либо, и к ней, видимо, придется возвращаться не раз. Но, повторюсь, при сохранении и обновлении союзного государства в соответствии с проектом Договора она решалась оптимальным образом, позволявшим избежать конфликтов и вносить назревшие изменения в межнациональные отношения правовым путем, а не силой оружия.
Не менее важно, что новый Союзный договор стал предметом согласия не только республик, но и основных институтов власти, прежде всего Верховного Совета СССР. Лукьянов и Нишанов участвовали практически во всех встречах в Ново-Огареве и, кстати, не раз подсказывали компромиссные формулировки. После каждого заседания обновленный проект направлялся в Президиум Верховного Совета для ознакомления депутатов. При его обсуждении в комитетах и комиссиях высказывалось немало замечаний. Они передавались в рабочую группу, и та учитывала их, как и предложения, поступившие от парламентов республик.
Лукьянов не раз информировал членов Совета Федерации о настроениях депутатов, имевшихся у некоторых из них опасениях, что подписание Договора приведет к ослаблению роли центральных органов, включая союзный парламент. Но все это было частью ново-огарев-ской дискуссии. В конечном счете Верховный Совет выразил принципиальное согласие с проектом, и его председатель, председатели палат должны были вместе с делегациями республик его подписать.
По ходу работы в Ново-Огареве варианты Союзного договора обсуждались и в правительстве. В первую очередь, разумеется, статьи, касавшиеся экономики, но не только. От премьера Павлова и руководителей ведомств поступали замечания, отражавшие их взгляд на этот документ, на природу будущей союзной государственности. В частности, руководство Госбанка, его председатель Геращенко активно добивались закрепления принципов единой денежно-кредитной политики. Подробные записки, иной раз целые трактаты со статистическими выкладками и весомой аргументацией представлялись министерствами иностранных и внутренних дел, связи и железнодорожного транспорта, практически всеми другими. Излишне говорить, что в них главным образом обосновывалась необходимость сохранения больших полномочий у союзных органов. Эти аргументы тщательно обсуждались; не раз — с приглашением их авторов на заседания Совета Федерации. Конечно, не все предложения правительства принимались, но в целом оно против Договора не высказывалось.
Точно так же обстоит дело и с политическими движениями. Ни одна сколько-нибудь солидная партия не выступала (по крайней мере открыто) с осуждением проекта. Напротив, многие из них связывали с новым Союзным договором надежду на нормализацию политической ситуации в стране. Что касается КПСС, то проект неоднократно обсуждался на Политбюро ЦК КПСС и пленумах ЦК. Последний его вариант был рассмотрен на Пленуме 25–26 июля и получил принципиальное одобрение. На том же Пленуме, как я уже говорил, были созданы предпосылки для реформирования самой КПСС на основе новой Программы.
Другое июльское событие давало основание считать если не окончательно решенным, то, по крайней мере, отложенным вопрос о власти. 10-го на торжественном заседании Верховного Совета РСФСР состоялась инаугурация Ельцина. С моей стороны была проявлена полная лояльность, хотя не составляли секрета и опасения, которые у меня были в этой связи. Думалось, однако, что, достигнув своей цели, Президент России и его команда (фактически — партия) займутся управлением республикой, продвижением реформ, отложат, пусть на время, далеко идущие амбициозные планы.
В июле же — и это, конечно, не случайное совпадение — началась реализация антикризисной программы. Много с ней маялись и колебались — уж слишком ответственным было это решение, последствия которого сразу же отразились бы на жизни миллионов людей. Много слышали хулы — и от тех, кто цеплялся за прежнюю хозяйственную систему, и от тех, кто рвался ее в одночасье разрушить. Но в конечном счете выработали все-таки вариант, одобренный республиками. Программа стала, повторюсь, не только программой Кабинета, но и правительств союзных республик.
Тогда же произошло еще одно событие, о котором я рассказал, — встреча в Лондоне с участниками «семерки», на которой был рассмотрен вопрос о взаимодействии в этой ответственной фазе наших реформ.
Как бы «под занавес» июля, 29-го, удалось снять последнее препятствие для подписания Союзного договора. Дело в том, что российское руководство долго не соглашалось на установление союзного налога, без чего было невозможно существование федеративного государства, союзные органы ставились в положение просителей у республик и не смогли бы выполнять возложенные на них функции. В конце концов была найдена компромиссная формула, и Ельцин снял последнее возражение. Согласованный текст статьи 9 («Союзные налоги и сборы») выглядел так: «Для финансирования расходов союзного бюджета, связанных с реализацией переданных Союзу полномочий, устанавливаются единые союзные налоги и сборы в фиксированных процентных ставках, определяемых по согласованию с республиками на основе представленных Союзом статей расходов. Контроль за расходами союзного бюджета осуществляется участниками Договора».
Все, что «сошлось» в июле 1991-го, явилось итогом длительных поисков и усилий, завершило путь, пройденный нами с апреля 1985-го. Складывались реальные предпосылки для того, чтобы вытащить страну из кризиса и масштабно продвинуть начатые демократические преобразования. Поэтому я уехал в отпуск 4 августа, не сомневаясь в том, что через две недели в Москве в торжественной обстановке будет подписан Союзный договор, откроется новый этап наших реформ.
А выступая за два дня до этого по телевидению, постарался объяснить, что означает для страны заключение нового Союзного договора. Прежде веего это реализация воли народа, выраженной на референдуме 17 марта. Сохраняется единое государство, в котором воплощен труд многих поколений людей, всех народов нашего Отечества. И вместе с тем создается новое, действительно добровольное объединение суверенных государств, в котором народы самостоятельно управляют своими делами, свободно развивают свою культуру, язык, традиции.
«Теперь, — продолжал я, — когда мы уже имеем Договор и он будет в ближайшее время подписан республиками, надо исключить из нашего государственного обихода конфронтацию, ничем не оправданную политическую нетерпимость».
Развернулась практическая работа по подготовке самого акта подписания Договора. Находясь на отдыхе в Крыму, я постоянно держал в поле зрения этот процесс. В связи с тем, что Верховный Совет Украины должен был определиться по этому вопросу только в сентябре, мне показалось разумным провести подписание в три этапа. Однако республики, которым предлагалось подписать Договор во «вторую очередь», с этим не согласились. В результате обмена мнениями оказалось так: второй этап у нас исчез, а третий, намечавшийся на начало октября, стал вторым. Предполагалось, что это будут Украина и Азербайджан.
Хотя была достигнута высокая степень согласия и, казалось, ничто не должно помешать подписанию Договора, по мере приближения назначенной даты усилились нападки на него слева и справа. В прессе разной направленности шли яростные баталии. С одной стороны, обвиняли президента страны в том, что он, идя на подписание такого Договора, делает уступку сепаратистам, и это грозит ослаблением союзного государства. С другой — велись не менее яростные атаки на Президента России за согласие подписать Договор, который якобы сохраняет всесилие центра и господство коммунистической номенклатуры. Возглавили это наступление Ю. Афанасьев, Е.Боннэр и другие радикалы из «Демроссии».
Разговаривая с Ельциным 14 августа по телефону, я понял, что Президент Российской Федерации чувствует себя неуверенно, колеблется. Спросил, вижу ли я, каким атакам он подвергается. Мой ответ свелся к тому, — передаю наш разговор по смыслу — что не меньшим нападкам подвергается и президент страны. Меня критикуют за то, что я, подписав Договор, подвергну опасности целостность государства, а Президента России — за то, что он, сделав то же самое, продлит жизнь империи. Но раз недовольны и крайне правые, и крайне левые, то это лишь свидетельствует, что мы на правильном пути.
Завершая разговор на эту тему, я сказал:
— Борис Николаевич, мы не должны ни на шаг отступать от согласованных позиций, с какой бы стороны их ни атаковали. Нужно сохранять хладнокровие и продолжать подготовку к подписанию.
Поскольку Президента России интересовало, как будет организована сама процедура, подробно рассказал об этом. Поначалу у него не встретило понимания предложение рассадить делегации республик за столом подписания по алфавиту. Но после разъяснения, что благодаря такому расположению Россия окажется в центре, у него, как мне показалось, сомнения отпали.
В общем, мы попрощались на хорошей ноте. Хотя у меня остался осадок, не ушло ощущение, что Ельцин чего-то не договаривает, я постарался сделать все, чтобы предостеречь его от колебаний в этот решающий, в полном смысле исторический момент. Как потом стало известно, некоторые ближайшие соратники Ельцина действительно наседали на него, готовили какие-то условия, которые должны сопровождать его подпись под Договором о Союзе Суверенных Государств. Во всяком случае, на одном из мероприятий еженедельника «Московские новости» Старовойтова в кругу единомышленников «раскрыла секрет», что Президент России вряд ли подписал бы Договор в таком виде, как намечалось на 20 августа, он высказал бы какие-то оговорки.
Но все это запоздалые суждения. Тогда у меня была уверенность, что Договор будет подписан. Попытаться сорвать этот акт, зная позицию народа, выраженную на референдуме, и видя, как трудно продвигать реформы, значило пойти на слишком большой риск.
Сейчас, на определенной «временной» дистанции, можно сказать, что Ельцин обдумывал такой вариант. Он давно, на протяжении нескольких месяцев (со мной об этом делился Назарбаев), вел закулисный разговор об альтернативном соглашении «четверки» — России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Разговор то затухал, то возобновлялся, эта идея не покидала Президента Российской Федерации, и не только его. Но, наверное, он понимал, что это опасный шаг, который может полностью его дискредитировать.
Впрочем, сейчас можно лишь гадать о том, как бы действовал Ельцин. Я склоняюсь к тому, что интуиция, чутье политика предостерегали его от срыва подписания Договора. Что же касается оговорок, попытки таким путем затормозить вступление его в силу — этого нельзя исключать.
А вот путчисты, действуя с другой стороны и по иным мотивам, пошли на прямую атаку, не остановившись перед нарушением Конституции и личным предательством, встав на путь государственного преступления.
Конечно, возможность острого столкновения между силами обновления и реакцией я допускал. А с ноября — декабря 90-го консервативные силы использовали самые разные возможности для атак на президента и реформаторов: сессии ВС, съезды народных депутатов СССР, партийные пленумы, всякого рода встречи и конференции, организацию требований о введении президентского правления или объявления чрезвычайного положения и т. д.
Я не просто все это видел, но и действовал, срывая расчеты реакции. С самого начала кризисных процессов, связанных с коренным преобразованием общества, стремился предотвратить взрывную развязку противоречий, выиграть время за счет тактических шагов, чтобы дать демократическому процессу приобрести достаточную устойчивость, потеснить старое, укрепить в народе приверженность к новым ценностям.
Словом, моей главной целью было подвести страну к такому этапу, когда любая подобная авантюра обречена на провал; сохранить, вопреки любым трудностям, курс преобразований; удержать развитие общества в конституционном русле.
Глава 43. Август. Путч
Преступная авантюра
На днях, когда я уже редактировал этот раздел мемуаров, пришла неожиданная новость, относящаяся к событиям зимы — лета 91-го. «Новая ежедневная газета» в номере от 18 февраля 1994 года опубликовала материалы Павла Вощанова, бывшего пресс-секретаря Президента России. Воспроизведу один абзац: «Это было на рубеже зимы и весны 1991 года. Ельцин только что выступил по Центральному телевидению, потребовав отставки Горбачева. В Кремле это было воспринято по-разному. Кое-кто, видимо, решил сыграть на противоречиях двух лидеров и заручиться поддержкой российского… Несколько дней спустя ко мне обратилось одно из доверенных лиц союзного вице-президента с предложением: надо организовать конфиденциальную встречу Ельцина и Янаева. Мол, Горбачев ни на что не способен… Страна гибнет… Надо спасать… Доложив об этом и получив отказ, тем же путем довел наше решение до адресата. Ответная реакция не заставила долго ждать: «А вы, ребята, не ошибаетесь? Смотрите, не пришлось бы жалеть. И очень скоро».
Итак, Янаев, которого я настойчиво продвигал в вице-президенты, меньше чем через год встал на путь предательства. Характерно и то, что Ельцин, отклонив предложение Янаева о сговоре против Президента СССР, тем не менее не довел до моего сведения ни в тот момент, ни впоследствии факт подобного к нему обращения. Наверное, оставлял про запас, вдруг еще пригодится.
Начиная с вильнюсских событий и вплоть до августа не прекращалось давление крайне правых и крайне левых на президента с целью толкнуть его на чрезвычайные насильственные меры. Отчетливо видя это, не думая об опасности лично для себя, я стремился выиграть время. Был убежден, что после заключения Союзного договора и реформирования партии обозначится коренной перелом к лучшему, жизнь войдет в нормальную колею, начнут решаться проблемы, на которых спекулируют оба политических «края».
То, что, несмотря на все злобные нападки, при всех допущенных мною просчетах, удалось добиться согласия по ключевым вопросам нашего развития, конечно же, давало основание, как принято говорить, для «осторожного оптимизма».
Линия поведения консервативного крыла в партийном руководстве давно просматривалась. И все же — что непосредственно подтолкнуло их на явную авантюру? Раздумывая над этим, я прихожу к выводу, что «последней каплей», переполнившей чашу терпения, стало опасение утраты личной власти.
В самом конце июля, уже перед моим отъездом в отпуск, я встретился в Ново-Огареве с Ельциным и Назарбаевым. Разговор шел о том, какие шаги следует предпринять после подписания Союзного договора. Согласились, что надо энергично распорядиться возможностями, создаваемыми Договором и для республик, и для Союза.
До сих пор мы исходили из того, что за Договором должна последовать разработка Конституции, для чего потребуется месяцев шесть, а после ее принятия — избрание новых органов власти. Так вот, возник вопрос, уместно ли откладывать надолго выборы. Ельцин и Назарбаев были за приведение структуры союзных органов в соответствие с Договором, не откладывая дела в долгий ящик, так как дезинтеграционные процессы во всех сферах общества нарастают, приобретают опасный характер. Договорились все это обсудить с руководителями других республик.
Возник разговор о кадрах. В первую очередь речь, естественно, пошла о президенте Союза суверенных государств. Ельцин высказался за выдвижение на этот пост Горбачева.
В ходе обмена мнениями родилось предложение рекомендовать Назарбаева на пост главы Кабинета. Он сказал, что готов взять на себя эту ответственность, если союзный Кабинет министров будет иметь возможности для самостоятельной работы. Говорилось о необходимости существенного обновления верхнего эшелона исполнительной власти — заместителей премьера и особенно руководителей ключевых министерств. Конкретно встал вопрос о Язове и Крючкове — их уходе на пенсию.
Вспоминаю, что Ельцин чувствовал себя неуютно: как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает. А свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойства.
Сейчас я вижу, что чутье его не обманывало. Плеханов готовил для этой встречи комнату, где я обычно работал над докладами, рядом другую, где можно перекусить и отдохнуть. Так вот, видимо, все, было заранее «оборудовано», сделана запись нашего разговора, и, ознакомившись с нею, Крючков получил аргумент, который заставил и остальных окончательно потерять голову.
Поэтому заявления гэкачепистов о том, что ими двигало одно лишь патриотическое чувство, — демагогия, рассчитанная на простаков. Не хочу сказать, что им вовсе была безразлична судьба государства. Но они отождествляли его с прежней системой, а действовали, исходя в первую очередь из карьерных или даже шкурных интересов, чтобы сохранить за собой должности.
Не скажу, что мой отдых в тот год был нормальным. Находясь в Форосе, мне приходилось заниматься многими вопросами, поскольку события в стране приобретали все более тревожный характер. Не только на основе анализа, но и интуитивно я чувствовал, что надо быстрее двигать реформы, а это можно сделать только при условии подписания Союзного договора. Поэтому постоянно держал подготовку к нему под контролем, связывался по телефону с руководителями республик и союзных органов, членами правительства, моими помощниками и советниками.
Меня не покидало ощущение, что надо скорее возвращаться и действовать, поэтому я каждый день торопил всех, кто связан был с подготовкой подписания. Уже был заказан самолет. С Шахназаровым, который отдыхал в санатории «Южный», рядом с Форосом, мы вели разговор о выступлении при подписании. 18-го я высказал ему свои последние пожелания — кстати, это был последний разговор, после которого связь была прервана. Я обнаружил это без десяти пять вечера, а наш разговор, как зафиксировано документально, закончился в 16.32. Теперь известно, что за спиной телефонисток уже стояли офицеры, которые должны были отключить связь в четыре тридцать.
Около пяти дня меня поставили в известность, что на дачу прибыла группа в составе Бакланова, Шенина, Болдина, Варенникова, Плеханова. Я удивился, сказал явно растерянному Медведеву — начальнику охраны, что никого не приглашал. Оказывается, стража пропустила визитеров, поскольку с ними были Плеханов и Болдин. В других случаях ничего подобного не могло произойти; по правилам охраны без моей санкции никого не могли пропустить на территорию дачи.
Отправив Медведева, я решил выяснить, в чем дело. Хотел связаться с Москвой, переговорить в первую очередь с Крючковым и вдруг обнаружил, что один, второй, третий, четвертый, пятый телефоны, в том числе стратегический, отключены. Даже аппарат городской АТС. Я вышел из кабинета на веранду, где Раиса Максимовна читала прессу, и сказал ей, что на даче появились незваные гости, трудно предсказать, что они задумали, можно ждать самого худшего. Она была потрясена такой новостью, но сохранила самообладание. Мы перешли в рядом расположенную спальню. Лихорадочно работала мысль: от своих позиций не отступлю, никакому нажиму, шантажу, угрозам не поддамся. Об этом я и сказал Раисе Максимовне. «Решение ты должен принять сам, а я буду с тобой, что бы ни случилось». Потом мы позвали Ирину и Анатолия. Выслушав меня, они сказали, что целиком полагаются на меня, готовы ко всему.
На это ушло, наверное, минут 30–40. Как мне говорили офицеры, визитеры нервничали: почему их не принимают. Выйдя из спальни, я обнаружил, что они без приглашения поднялись на второй этаж. Вообще, вели себя бесцеремонно, чуть ли не как хозяева. Пригласив в кабинет, я спросил, с какой миссией прибыли. Бакланов сообщил, что создан комитет по чрезвычайному положению. Страна катится к катастрофе, другие меры не спасут, я должен подписать Указ о введении ЧП. По сути дела, приехали с ультиматумом. Позднее, беседуя со следователем, я узнал, что у них были с собой заготовленные для моей подписи документы — разные варианты.
Бакланов перечислил состав ГКЧП, причем назвал в числе его членов Лукьянова. Сказал, что Ельцин арестован, хотя тут же поправился: будет арестован по пути (из Алма-Аты, откуда он возвращался в Москву). Торопя события, заговорщики явно хотели таким способом дать мне понять, что они уже взяли ситуацию под свой контроль и назад пути нет.
Все это были люди, которых я выдвигал и которые меня теперь предали. Я категорически отверг их домогательства, заявил, что никаких указов подписывать не буду.
— Вы и те, кто вас послал, обеспокоены ситуацией? Но я не хуже вас знаю обстановку в стране, и она тревожит меня не меньше, чем вас. Считаете, что нужны адекватные меры? Я такого же мнения. Главная из них уже подготовлена — это подписание нового Союзного договора. На заседании Совета Федерации 21 августа намечено обсудить ход выполнения экономической реформы. Вы же все спасение видите в чрезвычайных мерах. Я с этим не согласен. Давайте созывать Верховный Совет СССР, Съезд народных депутатов, раз у части руководства есть сомнения в правильности политического курса. Давайте обсуждать и решать. Но действовать только в рамках Конституции, закона. Иное для меня неприемлемо. То, что вы себя загубите, — черт с вами, но ведь дело может кончиться большой кровью. Не тот стал народ, чтобы мириться с вашей диктатурой, с потерей свободы, всего, что было добыто в эти годы.
На мои доводы последовали рассуждения Бакланова, проникнутые «заботой» о моем здоровье, которое-де сильно подызносилось за напряженные годы перестройки.
— Не хотите сами подписывать Указ о введении чрезвычайного положения, передайте свои полномочия Янаеву, — предложил он. И добавил: — Отдохните, мы сделаем «грязную работу», а потом вы сможете вернуться.
Я, разумеется, отверг это гнусное предложение.
— Тогда подайте в отставку, — проговорил Варенников.
— Не рассчитывайте. Вы, преступники, ответите за свою авантюру! — На этом разговор закончился. Мы попрощались. Когда они уходили, не сдержался и обругал их «по-русски».
Хочу ответить на вопрос, который нередко мне задавался: почему Горбачев не задержал их, у него ведь была вооруженная охрана?
Прежде всего, я рассчитывал, что мой отказ принять ультимативные требования ГКЧП отрезвит зачинщиков заговора. Не раз я удерживал этих людей от опрометчивых шагов, о чем уже писал, и оставалась надежда, что и на сей раз моя твердая позиция окажет свое воздействие. Да, я не терял надежду.
Кроме того, попытка задержать их на даче ничего не решала. Ведь главные заговорщики были в Москве, держали в тот момент в своих руках рычаги власти. Да я и не сомневался, что гэкачеписты позаботились обезопасить развитие событий здесь, в Форосе, от всяких случайностей. Что и подтвердилось. Заранее было предусмотрено все, чтобы наглухо изолировать президента. Отключена связь. Выставлена двойная линия охраны вокруг дачи и со стороны моря. Запрещен выход кого бы то ни было из дачи и допуск на ее территорию. Мои помощники, журналисты, депутаты Верховного Совета пытались проникнуть на дачу, чтобы разобраться в случившемся и, в частности, собственными глазами убедиться, насколько достоверна версия ГКЧП о болезни президента, но это им не удалось.
Называя вещи своими именами, это был арест президента и узурпация его власти. Путчисты понимали, что не заполучат меня в сообщники, но надеялись взять «на испуг», принудить к подписанию указов, придающих легитимный вид их авантюре. Мой решительный отказ сделать это сразу ставил их в положение преступников.
Ночь для них была не простой, как теперь известно. Когда явился «передовой отряд» из Фороса и доложил о результатах, в стане заговорщиков начался разлад. Янаев заколебался, подписывать или нет, потянулся к рюмке. Павлов начал симулировать болезнь. Лукьянов стал спешно готовить запасные позиции. Задумался маршал Язов, позднее сказавший: «Дернул меня черт, старого дурака, в это ввязаться». Раздавались голоса, не остановить ли все это. Но было уже поздно, да и Крючков, те, кто был выделен для предъявления мне ультиматума, слишком далеко зашли, чтобы бить отбой. Именно тогда сказал Бол-дин, что «знает президента, он никогда не простит подобного обращения с ним». Им не оставалось ничего иного, как идти напролом.
Пытаясь хоть каким-то образом придать своим действиям «легитимный» характер, изобрели ложь, что Горбачев якобы в тяжелом состоянии, недееспособен, не может выполнять функции президента. Когда я вернулся из Фороса, врачи рассказали, что у них вымогали документальное свидетельство о моей болезни. Они заявили, что должны прежде всего переговорить с лечащим доктором, но им сказали, что связи с Форосом нет. Плеханов утверждал, что это-де в интересах Михаила Сергеевича, поскольку иначе ему грозит арест. Все-таки медики пошли на сделку с совестью и выдали текст, который вроде бы свидетельствовал об ухудшении моего здоровья в связи с обострением болезни 16 августа 1991 года. Пакет был направлен Плеханову в 17.00 19 августа 1991 года. Словом, вооружили заговорщиков «аргументами» перед печально знаменитой пресс-конференцией.
В своем письме Верховному Совету СССР от 23. августа 1991 года зампремьера Щербаков пишет, что утром 19 августа связался с Янае-вым и попросил его ответить на три вопроса: 1. Имеются ли достоверные доказательства того, что Горбачев по состоянию здоровья не способен исполнять свои обязанности? 2. Что все указы вице-президента и решения ГКЧП полностью согласованы с Лукьяновым? 3. Что ситуация руководством всесторонне осмыслена и не найдено иных возможностей удержать страну от хаоса и массовых беспорядков, кроме как путем введения чрезвычайного положения? На все три вопроса был дан однозначный утвердительный ответ…
Щербакову удалось часом позже связаться с Павловым, и тот подтвердил, что по информации из достоверных источников Президент СССР действительно тяжело болен. Премьер добавил, что в Крым выезжали Бакланов, Шенин, Болдин, Плеханов, которые «…в течение короткого периода времени общались с Горбачевым М.С., принимавшим их лежа в постели. Президент СССР находился в тяжелом состоянии, и по поведению, высказанным словам было видно, что он не в состоянии адекватно воспринимать внешний мир. Р.М.Горбачева также находилась в крайне тяжелом состоянии. Официального заключения о состоянии здоровья еще не было, но врачи сказали о том, что в настоящее время М.С.Горбачев недееспособен, и потребовали сократить время визита до минимума».
Потерпев неудачу в противоборстве с президентом, заговорщики сникли. «Хрущевский вариант» не прошел, и этим объясняется их нерешительность на последующих стадиях. Другим сильнейшим ударом по их замыслам стало твердое противодействие Президента и Верховного Совета России, многих генералов и офицеров, московских и санкт-петербургских властей, видных общественных деятелей, народных депутатов, москвичей.
Вслед за первым поражением в Форосе гэкачеписты потерпели поражение в Москве, и это предопределило провал переворота. Правы аналитики, усмотревшие в этом и более глубокие причины: общество в большинстве своем уже не хотело возвращения к прежним порядкам, созданные в результате перестройки демократические институты, несмотря на свою хрупкость, выдержали испытание, устояли.
Не могу не отреагировать на спекулятивные утверждения, будто я чуть ли не добровольно «отсиживался в теплом местечке», когда в стране разворачивались драматические события.
В следственных материалах по делу ГКЧП перечисляются меры, принятые заговорщиками в целях полной изоляции президента: полностью отключена связь всех видов; заблокирована вся территория — для чего представителю ГКЧП Генералову дополнительно были подчинены 79-й пограничный отряд и 5-я отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей; взяты под арест и круглосуточную охрану автоматчиков все транспортные средства; самолет «Ту-134» и вертолет, находившиеся в распоряжении президента в Бельбеке, угнаны; на вертолетной площадке на территории дачи поставлены транспортные средства и пост охраны; то же самое сделано при въездах на дачу; отключена связь службы охраны на территории дачи с подразделениями погранвойск, несущих ее внешнюю охрану! Никто не смог пробиться на дачу и выбраться из нее.
Три дня заточения были для меня самым тяжелым испытанием в жизни, имели серьезные последствия для близких.
Из дневника Раисы Максимовны
Чтобы дать возможность читателю лучше понять наше состояние в дни полной изоляции, позволю себе привести выдержки из дневника Раисы Максимовны, которые были опубликованы 20 декабря 1991 года в «Комсомольской правде».
«18 августа, воскресенье
Где-то около пяти часов ко мне в комнату вдруг стремительно вошел Михаил Сергеевич. Взволнован. «Произошло что-то тяжкое, — говорит. — Может быть, страшное. Медведев сейчас доложил, что из Москвы прибыли Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников». — «Кто он, последний?» — спрашиваю. «Генерал, заместитель Язова… Требуют встречи со мной. Они уже на территории дачи, около дома. Но я никого не приглашал! Попытался узнать, в чем дело. Все телефоны отключены. Ты понимаешь?! Вся телефонная связь — правительственная, городская, внутренняя, даже красный «Казбек» — вся отключена! Это изоляция! Значит, заговор? Арест?»
Потом: «Ни на какие авантюры, ни на какие сделки я не пойду. Не поддамся ни на какие угрозы, шантаж». Помолчал. Добавил: «Но нам все это может обойтись дорого. Всем, всей семье. Мы должны быть готовы ко всему…»
Позвали детей. Я зачем-то попросила чай. Галина Африкановна — повар — принесла. Пить его, естественно, никто не стал. Рассказали Ирине и Анатолию о случившемся. От них узнали, что несколько минут назад в доме замолчало радио и перестал работать телевизор. У центральной входной двери, неизвестно откуда появившийся, стоит Плеханов. Спросил: «Где Михаил Сергеевич? К нему товарищи». Анатолий ответил: «Не знаю. Видимо, у себя».
Дети и я поддержали Михаила Сергеевича, его решение. Наше мнение было единым: «Мы будем с тобой».
Встреча Михаила Сергеевича с приехавшими проходила в его кабинете. Все это время Анатолий, Ирина и я находились рядом, около дверей кабинета. Вдруг арест? Уведут…
…Вышли «визитеры» из кабинета где-то часов в 18 без Михаила Сергеевича, сами. Варенников прошел мимо, не обратив на нас внимания. Болдин остановился в отдалении. Подошли ко мне (я сидела, ребята стояли рядом) Бакланов и Шенин. Сказали: «Здравствуйте». Бакланов протянул руку. Я на приветствие не ответила, руки не подала. Спросила: «С чем приехали? Что происходит?» Услышала одну фразу, произнесенную Баклановым: «Вынужденные обстоятельства». Повернулись и вместе, втроем, ушли.
Из кабинета вышел Михаил Сергеевич. В руках держал листок, подал его мне. Сказал: «Подтвердилось худшее. Создан комитет по чрезвычайному положению. Мне предъявили требование: подписать Указ о введении чрезвычайного положения в стране, передать полномочия Янаеву. Когда я отверг, предложили подать в отставку. Я потребовал срочно созвать Верховный Совет СССР или Съезд народных депутатов. Там и решить вопрос о необходимости чрезвычайного положения и о моем президентстве».
«Сказали, что арестован или будет арестован, так я и не понял, Ельцин…»
«Здесь, на листочке, фамилии членов комитета…»
Был возмущен не только ультиматумом прибывших, но и их бесцеремонностью и нахальством.
При встрече с А.Черняевым сказал, что назвал их «самоубийцами» и «убийцами»: «Страна в тяжелейшем положении… Мир отвернется… Блокада экономическая и политическая… Это будет трагическим концом».
Отбыл с «делегацией» и Медведев — начальник личной охраны Михаила Сергеевича. Уехал или увезли? Сведения у офицеров охраны противоречивые. Главное — не выразил никакого протеста, не зашел к президенту, сел в машину и уехал. Только кого-то попросил собрать его вещи и переслать в Москву… Сказали еще, будто бы Плеханов написал приказ о его отстранении.
С дачи после работы никого не выпустили. Все, кто оказался сегодня здесь, оставлены: А.С.Черняев — помощник президента, Ольга Васильевна Панина — стенографистка, референт секретариата; медики, обслуживающий персонал. Все — в том числе из местного обслуживающего персонала — женщины, у которых дома семьи. Опечатали все машины. Сказали, самолет, на котором Михаил Сергеевич завтра должен был лететь в Москву, отправлен назад.
Пытаемся что-то услышать, уловить с помощью маленького карманного транзистора «Сони». Какое счастье, что он оказался с нами! По утрам, бреясь, Михаил Сергеевич обычно по нему слушал «Маяк». Взял его с собой в Крым. Стационарный приемник, имеющийся здесь, в резиденции, ни на одном диапазоне не дает приема. Маленький «Сони» работает. Но никаких особых сообщений нет. Все как обычно…
Договорились: Анатолий будет прятать транзистор. И никто не должен знать, что он у нас есть. Никто. Я буду делать более подробные записи.
Не сплю… Мучает горечь от предательства людей, работавших рядом с Михаилом Сергеевичем.
Днем по телефону Янаев спрашивал у Михаила Сергеевича, когда завтра он прилетает в Москву. Выяснял точное время прилета 19-го. Он, мол, будет встречать президента в аэропорту.
По ассоциации в сознании всплывают кадры недавно виденной кинохроники: празднуется 70-летие Хрущева. Георгиевский зал заставлен столами… Брежнев вручает награду… Сладкоречивые слова… Через несколько месяцев будут убирать Хрущева.
Что же происходит сейчас в стране, в Москве? В подмосковной резиденции президента?
А люди, которые здесь с нами… Кто из них и что будет делать в этой обстановке?
Олег Анатольевич — прикрепленный, Плеханов оставил его старшим в личной охране президента — сказал: «Михаил Сергеевич, мы с вами». Но будет ли охрана до конца защищать нас или выполнит все-таки указание своего руководства?
…На что пойдут предатели? Стал опасен Михаил Сергеевич им сегодня или всегда был опасен? В последние годы несколько человек сообщили о фабриковавшихся в 1983–1984 годах в следственных органах документах с целью обвинить Михаила Сергеевича во взятках. В приемную ЦК КПСС были переданы документы, из которых видно, что следователи требовали от подследственных давать ложные показания. Делалось это, несомненно, по приказу людей «самого высокого ранга в стране».
…Тревога за мужа, за судьбы детей, внуков терзает душу.
19 августа, понедельник
Около 7 часов утра Анатолий и Ирина по транзистору (волна не «Маяка», кажется, «Всемирной службы новостей» или Би-би-си) уловили сообщение: создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, в отдельных регионах страны введено чрезвычайное положение. Передают призыв комитета к соотечественникам, обращение к государствам мира, содержание указа о выделении 15 соток земли на каждого человека… И «в связи с болезнью Президента СССР и невозможностью выполнять им свои функции, его полномочия берет на себя вице-президент Янаев». Значит, все документы были уже готовы…
Ранним утром, где-то около пяти часов, сказал Анатолий, к нашей бухте подошло несколько больших военных кораблей. «Сторожевики» необь1чно приблизились к берегу, постояли минут пятьдесят, а затем отошли, отдалились. Что это? Угроза? Изоляция с моря?
Почты нет, газет нет. Передали: «И не будет». Офицер фельдсвязи задержан со вчерашнего дня здесь, на территории. Радио молчит, телевизор отключен. Анатолий пытается с ребятами из охраны сделать антенну для стационарного приемника. Борис Иванович — прикрепленный — нашел кусок проволоки. Однако ничего добиться так и не удается.
Через старшего по охране Михаил Сергеевич передает Генералову — для сообщения в Москву — требования: восстановить телефонную связь, доставить почту и газеты, включить телевизор, немедленно прислать самолет для возвращения в Москву, на работу.
На территории резиденции «новые лица», с автоматами.
Приходил А.Черняев. Разговаривать выходили на балкон, опасаемся прослушивания. Офицеры охраны не исключают такой возможности. Анатолий Сергеевич жалуется: у него нет самого необходимого с собой, даже набора для бритья. Все осталось там, в «Южном», — санатории, где располагался он и стенографист-референт Ольга Васильевна и секретарь его Тамара Алексеевна. Сюда, в служебный дом резиденции, они ежедневно приезжают работать. Сказал, что говорил с Генераловым. Требовал, чтобы его выпустили: «Я же — народный депутат СССР. И я — не интернированный. Почему меня здесь держат?»
Ходили по территории, к морю. Надо, чтобы все видели — и «наши», и те, кто наблюдает за нами со скал и моря, — что Михаил Сергеевич здоров, в нормальном состоянии.
Ксения и Настя не могут поделить зонт — кому его нести. Настёнка мне: «Бабуля, Ксюха мучает меня. Не дает ни играть, ни спать. Ее ничем не испугаешь! Надо было родить меня одну. Понимаешь?»
Борис Иванович, Игорь Анатольевич рассказывают о новостях, услышанных через старый приемник с приделанной самодельной антенной. Из-за рубежа передают: Ельцин не арестован. «А Генералов вчера, — говорит Борис Иванович, — сказал мне, что арестован на даче». В общем, сведения о происходящих событиях очень разные. Трудно понять… Передают, как будто арестован кто-то из российских депутатов.
У нас здесь, в резиденции, тоже новости: на вертолетной площадке поставили пожарную и поливальную машины. Перед въездом, поперек дороги, грузовые машины. Поставлены автоматчики: у гаража, на воротах, на вертолетной площадке. Все люди новые, незнакомые.
Олег Анатольевич и Борис Иванович заявили вновь: «Михаил Сергеевич, мы будем с вами. Будем до конца».
На море тишь: не видно ни прогулочных катеров, ни пассажирских судов, ни сухогрузов, ни барж… На «приколе», как всегда, один сторожевик. Обычно на его палубе видны люди. Они что-то делали, иногда купались, удили рыбу. Сейчас на палубе ни одного человека. Татьяна Георгиевна — медсестра — возмущается: «Надо же, «друзья», «сторонники» — предатели они. Ольга, как увидела Болдина — он же ее начальник, — говорит: быть беде, ужаснее этого человека нет в аппарате». «Пуго ведь отдыхал в санатории «Южный». Вчера уехал, должен был раньше. Говорят, будто бы у него и у жены было отравление». «Никого, Раиса Максимовна, не выпускают с территории. Никого. Видно, чтобы правду никто не узнал: Михаил Сергеевич здоров».
Мы с Михаилом Сергеевичем в его кабинете. Прибежали Анатолий и Ирина. Новости: заработал телевизор, идет музыкальная передача. На море появились дополнительные сторожевики. Держатся на удалении от берега, но в зоне видимости. Вести по транзистору, волна Би-би-си: Б.Ельцин выступил с осуждением заговорщиков. Призывает к противодействию новоявленной власти. Н. Назарбаев по казахскому телевидению обратился к народу республики, призвал к спокойствию, выдержке, соблюдению порядка. О смещении Президента СССР — ни слова.
В 17.00 старший по охране доложил: с территории вывезли военных связистов.
В 17.30 Михаил Сергеевич пригласил А.Черняева. Сказал мне, что дал поручение немедленно вновь передать Янаеву его требования о восстановлении правительственной связи, предоставлении самолета для вылета в Москву. В случае отказа или молчания передать требование о встрече с советскими и иностранными журналистами.
После ухода Анатолия Сергеевича попросил меня записать Политическое заявление. Продиктовал:
1. Решение вице-президента о возложении на себя обязанностей президента страны под предлогом болезни Президента СССР и невозможности исполнения им своих функций является обманом, поскольку я нахожусь в нормальном состоянии, даже отдохнувшим, и собирался сегодня, 19 августа, отбыть для подписания Союзного договора и проведения Совета Федерации. Поэтому данное решение не может рассматриваться иначе как государственный переворот.
2. Все решения, принятые вице-президентом и Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) на этом основании, — незаконны.
3. Эскалация мер, связанных с незаконным введением чрезвычайного положения, может обернуться дальнейшим большим обострением всей ситуации в стране, расколом, противоборством в обществе и непредсказуемыми последствиями.
4. Требую немедленно приостановить исполнение принятых решений, а товарищу Лукьянову как Председателю Верховного Совета срочно созвать Съезд народных депутатов СССР или Верховный Совет СССР для рассмотрения сложившейся ситуации в руководстве страны.
…Пресс-конференция членов ГКЧП по ТВ. Какое вероломство, какое беззаконие, какая гнусная ложь! Ясно, что пойдут на все: даже самое худшее. Солгать перед всем миром, заявив о недееспособности президента… Вопрос судьбы Михаила Сергеевича, нашей судьбы ими уже решен.
На ночь усилили наружную охрану дома. Теперь офицерам личной охраны президента придется практически работать круглосуточно.
Договорились — Михаил Сергеевич, дети и я — перейти на режим экономии продуктов питания, использовать только старые, имеющиеся в запасе, приобретенные до 17 августа. Собрали пакет с фруктами для детей. Ирина на всякий случай спрятала его на шкафу под кондиционером. Собрали все имеющиеся лично у нас лекарственные препараты, таблетки. Решили пользоваться только ими.
Ночь не спали…
(Нашей видеокамерой мы делали записи Обращения, Заявления Михаила Сергеевича к народу. Для того чтобы попытаться передать их «на волю», если же не удастся, спрятать, сохранить. Что бы с нами ни случилось — люди должны знать правду о судьбе президента. Нашли комнату, которая, на наш взгляд, не просматривалась ни с моря, ни со скал. Зашторились. Когда около 4 часов утра просматривали отснятые кадры, приглушив звук, внизу — на цокольном этаже — вдруг хлопнула дверь. Срочно все отключили. Анатолий с пленкой скрылся в другой комнате, Михаил Сергеевич и Ирина спустились вниз и проверили все двери. Все было закрыто. Михаил Сергеевич вышел на улицу. У двери стоял удвоенный пост. Пленку Ирина и Анатолий обрабатывали до шести утра. Просмотрели пленку через смотровое окошко камеры, маникюрными ножницами надрезали конец каждой из четырех записей. Разобрали кассету и разрезали пленку. Каждую запись перемотали на тонкий бумажный валик, запаковали скотчем, завернули в бумагу. Затем спрятали их в разные места дачи. Кассету собрали, чтобы не было видно, что ее кто-то разбирал.)[29]
20 августа, вторник
Почты, газет по-прежнему нет. Но «Сони» продолжает трудиться.
У входа в нашу бухту все время курсирует несколько охранных кораблей, «сторожевиков».
Михаил Сергеевич вновь передает в Москву свои требования: восстановить телефонную связь, дать газеты, немедленно прислать самолет для возвращения в Москву, на работу. Добавляет новое требование: сообщить по радио и телевидению о грубой дезинформации о состоянии его здоровья.
Пока, кроме заверений Генералова, что все требования передаются в Москву, других результатов нет. Михаил Сергеевич высказывает предупреждение: в случае невыполнения требований пойду на крайние меры.
Внешне стараемся вести себя обычно: выполняем назначения врача, выходим на территорию резиденции, к морю. Держимся все вместе — Михаил Сергеевич, Ирина, Анатолий, я и внучки: все может быть.
Морально поддерживаем друг друга. Не только мы — члены семьи, — а все, кто оказался здесь вместе с нами, по существу, тоже интернированными. Особенно беспокоюсь за женщин, чтобы они меньше волновались, держались. И конечно, чтобы ни о чем не догадывались внучки.
Старший по охране и врач высказывают тревогу в связи с питанием семьи: «продукты доставляют извне», «чужой машиной», «есть опасность». Значит, они ситуацию оценивают так же, как и мы. Принимаем теперь уже общее решение: жить на запасах, имеющихся у нас и в столовой охраны. Еще раз тщательно обговариваю все с поваром — Галиной Африкановной. Договорились также: пищу употребляем только в вареном виде.
Поговорила со старшим личной охраны, спросила: «Олег Анатольевич, можем ли мы передать «на волю» информацию, минуя Генералова?» (О чем конкретно идет речь, не сказала). Ответил: «Нет, не сможем. С моря мы блокированы полностью. На суше окружены, так что не проползешь…»
Со мной осталась только моя записная книжка.[30]
Делаем попытку использовать одну реальную ситуацию: у Ольги Васильевны заболел оставленный дома, в Москве, маленький ребенок. Отец — инфарктник. Михаил Сергеевич поручил Черняеву поставить перед Генераловым категорически вопрос об отправлении Ольги Васильевны в Москву.
…Михаил Сергеевич и я обсуждаем обстановку. Почему молчат Лукьянов, Верховный Совет? Почему молчит Ивашко? А руководители республик? Ведь сегодня день подписания Союзного договора. Самое страшное предположение: неужели страна приняла ГКЧП?
По украинскому телевидению вчера выступал Кравчук. Призывал «к спокойствию, благоразумию, соблюдению законности, предотвращению конфронтации». О президенте ни слова…
Передают ли требования Михаила Сергеевича? Как все-таки протолкнуть нам информацию «на волю»?
С дачи так никого и не выпускают. Может быть, пойти на «прорыв»? Наша «боевая единица», по словам Олега Анатольевича, «не очень значительна», но все-таки достаточно вооружена…
Радио Запада передает сообщения: в Москве объявлено чрезвычайное положение; введены войска; Москва, Ленинград не поддерживают заговорщиков. Передается требование внести ясность о положении Горбачева — где он, в каком состоянии. Сообщают также о возможном прекращении экономической помощи СССР.
Новости у нас: кто-то пытался извне прорваться на территорию резиденции. Не удалось, не впустили… Генералов вдруг стал появляться в служебном доме, где находятся офицеры охраны. Двое суток он практически к ним не заходил… И главное — Генералов передал Борису Ивановичу ответ Янаева на требования Михаила Сергеевича: будут, мол, выполнены. Генералов при этом разъяснил, что «он все передает в Москву через Плеханова. Через него же получил и ответ».
Старшие по охране опасаются нарастания активности на море. Олег Анатольевич не рекомендует вести вечером детей купаться и даже выпускать их на территорию дачи. Ксении и Анастасии сказали: «Ожидается сильный ветер — выходить нельзя. Будьте в помещении».
Ощущение: вот-вот что-то может произойти. Часть охраны ввели в дом. Игорь Анатольевич и Николай Феодосьевич — врачи, тоже будут в доме с нами. Ирина взяла к себе в постель Ксению и Настю. Анатолий лег спать рядом с ними на полу.
Три часа ночи.
21 августа, среда
Утренняя информация: в Москве столкновения. Есть жертвы — раненые и убитые. Неужели началось самое страшное…
Михаил Сергеевич требует немедленно передать Янаеву: прекратить использование войск, вернуть войска в казармы.
Около 10 часов утра в море на горизонте появилось две группы кораблей. У входа в бухту стоят три «сторожевика». Появившихся кораблей — пять. Это десантные корабли на воздушной подушке. Прямым курсом они шли к берегу, на нас. Но, не дойдя немного до «сторожевиков», резко изменили курс, повернули в сторону Севастополя, скрылись за мысом Сарыч. Что они демонстрируют? Блокаду? Возможность арестовать нас? Выручить? Не сомневаюсь, что они знают — президент жив, здоров.
Олег Анатольевич, Борис Иванович не советуют сегодня никому из семьи выходить из помещения. Опасаются, что может быть спровоцирована перестрелка, поставлена под угрозу жизнь президента.
В дом принесли старые, «позавчерашние» газеты.
Никаких официальных сообщений — ни по ТВ, ни по радио — о состоянии здоровья Михаила Сергеевича нет. Дикость: президент «болен, недееспособен» — и ничего не сообщается. В то же время телевидение информирует о самочувствии и здоровье премьер-министра Павлова.
…20.00. Я в постели. Мне лучше. Михаил Сергеевич в кабинете. Господи, самое страшное, кажется, позади! Ирина и Анатолий, сменяя друг друга, уходят из комнаты и возвращаются обратно с ворохом новостей: папа разговаривает по телефону с Ельциным, Назарбаевым, Дементеем, Кравчуком, Каримовым, Панюковым, Моисеевым, Дзасоховым. Отказался говорить с Крючковым и Ивашко! Летит делегация российского парламента! Говорит по телефону с Бушем. Самолет делегации российского парламента будет принят в Бельбеке… В кабинете Черняев. На море впервые за трое суток появились баржи, гражданские суда… К даче ползли люди в маскхалатах. Охрана по рации передала: «Повернуть назад. Иначе будем стрелять». Повернули, поползли в противоположную сторону…
…Где-то около 15 часов дня Ирина и Анатолий по «Сони» услышали сообщение английской радиостанции Би-би-си: Крючков дал согласие на вылет в Крым, в Форос, группе лиц, «делегации», чтобы лично убедились, что Горбачев действительно тяжело болен и недееспособен.
Мы расценивали это как сигнал самого худшего. В ближайшие часы могут быть предприняты действия, чтобы гнусная ложь стала реальностью.
Михаил Сергеевич отдал приказ охране блокировать подъезды, вход в дом, без его разрешения никого не впускать; находиться в состоянии боевой готовности; в случае необходимости применить оружие.
Офицеры охраны с автоматами встали по лестнице дома и у входных дверей.
Детей, Ксению и Анастасию, заперли в одной из комнат. Попросили с ними быть Александру Григорьевну — сестру-хозяйку.
Меня охватило чувство надвигающейся опасности. «Что предпримут?» В голове билась одна мысль: нужно прятать Михаила Сергеевича. Где? Дача как на ладони. И вдруг, в одно мгновение, я ощутила, что немеет, обвисает рука и я не могу, никак не могу ничего сказать… В сознании мелькнуло: инсульт…
Слава Богу, все оказались рядом: моя семья, врачи — профессор Игорь Анатольевич Борисов и Николай Феодосьевич Покутний. Все были в доме. Меня уложили в постель, дали лекарства: гипертонический криз.
…Около 17 часов к нам постучал и быстро вошел в комнату Олег Анатольевич: «Михаил Сергеевич, на территорию прибыли машины — два «ЗИЛа» и «Волга». Приехали: Язов, Крючков, Бакланов, Ивашко, Лукьянов, Плеханов. Просят о встрече с вами». Добавил: «Что у них за планы? Зачем приехали?» Михаил Сергеевич: «Взять под стражу. Передать требование — принимать никого не буду до тех пор, пока не будет включена правительственная связь».
Через несколько минут Олег вернулся с ответом: «Это слишком долго, говорят. Включение связи займет не менее 30 минут. Приехавшие просят о встрече сейчас». Михаил Сергеевич: «Подождут. Никаких переговоров вести не буду, пока не включат всю связь».
…В 17.45 связь была включена. Через 73 часа. Изоляция кончилась! Арест тоже!
Вошла Иринка: «В дом пытались пройти Плеханов и Ивашко. Остановил у входа Борис Иванович: «Приказ — никого не впускать. Будем стрелять!» Плеханов сказал: «Я так и знал… эти будут стрелять». Развернулись и ушли назад. Папа продолжает говорить по телефону».
Зашел Михаил Сергеевич. Спросил, как я себя чувствую. Сказал, что не стал разговаривать (несмотря на неоднократные попытки с их стороны) ни с кем из заговорщиков. Сразу переговорил с Борисом Николаевичем Ельциным: «Михаил Сергеевич, дорогой, вы живы? Мы 48 часов стоим насмерть!» Переговорил с другими руководителями республик. Джордж Буш и Барбара передали мне привет, сказали, что три дня молились за нас. Показал записку, подписанную Лукьяновым и Ивашко: «Уважаемый Михаил Сергеевич! Большая просьба по возможности принять нас сейчас. У нас есть что доложить вам». Сказал: «Вообще я не буду принимать Крючкова, Бакланова, Язова. Не о чем мне теперь с ними говорить. Лукьянов и Ивашко… Может быть, приму — потом. Жду российскую делегацию».
…Прибыла делегация. Руцкой, Силаев, Бакатин, Примаков, Столяров, Федоров, депутаты, пресса. Все в доме. Снизу, с первого этажа, доносятся радостные, возбужденные голоса…
Попросила Ирину, чтобы ко мне пришли женщины, кто в эти дни был здесь, в доме с нами. Мы обнялись, всплакнули. Я поблагодарила их за все, что они сделали для нас и что разделили с нами.
Вошел Анатолий: «Михаил Сергеевич дал команду — собираться. Улетаем. Вещи пусть остаются. Их упакуют и отправят следующим рейсом, на котором вылетят все «наши москвичи».
Провал заговора
Как видно из дневника, три августовских дня были пережиты нами на пределе человеческих возможностей. Но я сохранил равновесие духа и действовал. Услышав с пресс-конференции, что заговорщики делают ставку на «болезнь и недееспособность Горбачева», я стал ходить на прогулки, чтобы моряки на сторожевых кораблях, офицеры охраны, да и все, кто мог наблюдать за дачей, видели, что здоров.
Потребовал немедленно прислать самолет для отъезда в Москву, включить связь. Записал на пленку свое заявление, о чем рассказано в дневнике Раисы Максимовны.
На этот счет, кстати, тоже приходилось слышать иронические замечания. А ведь я обязан был учитывать возможность худшего. Если бы президента не стало, эта запись становилась важным политическим документом. Хорошо, что все так быстро завершилось. Но ведь по-разному могло обернуться. Никуда не денешься от того, что по проведенным позднее опросам около 40 процентов все-таки сочувствовали гэкачепистам. И руководители республик, за исключением России, брали тайм-аут для раздумий, колебались. Кроме, может быть, Акаева. Да и со стороны руководства многих зарубежных государств реакция была неоднозначной, во всяком случае, выжидательной. Путч потерпел поражение, но, случись это годом раньше, не исключаю, исход мог быть иным. Вот, пожалуй, самый убедительный аргумент в пользу политики, которой я придерживался.
Внимательно слушая радиоголоса, я уже 20 августа почувствовал, что ситуация складывается не в пользу путчистов. Это нашло подтверждение со срочным прилетом главарей заговора: Крючкова, Язо-ва, Лукьянова. В одном самолете с ними прибыл Ивашко.
Не думаю, что они ехали повиниться. Это была еще одна отчаянная попытка нажать на меня, перетянуть на свою сторону. Ведь иначе зачем надо было подтягивать к аэропорту, Бельбек новые подкрепления морской пехоты, давать команду открывать огонь по всем самолетам, которые пойдут на несанкционированную посадку. Имелась в виду, разумеется, возможность прилета представителей российского руководства.
Прибывшие сразу потребовали встречи. Я велел охране, уже зная, что они едут, занять позиции в доме и около него, быть готовыми открыть огонь, если будут предприниматься попытки войти на дачу без моего разрешения. Такая попытка была со стороны Лукьянова и Ивашко, которые говорили охране, что они не имеют ничего общего с путчистами, и повторяли это мне, когда я в конце концов все-таки их принял.
Я выдвинул требования: никаких бесед, пока не будет включена связь. Переговорил по телефону с Ельциным, Назарбаевым, Дементеем, другими руководителями республик.
Связался с Бушем. Начал отдавать распоряжения. Прежде всего отстранил Язова от должности, возложил обязанности министра обороны на Моисеева и обязал его обеспечить посадку в Бельбеке самолета, которым летели Руцкой и другие товарищи. Дал указание начальнику правительственной связи отключить все телефоны у членов ГКЧП. Коменданту Кремля — взять под охрану Кремль и изолировать всех оставшихся там путчистов.
Прибыла российская делегация. Тогда-то я по-настоящему понял, что теперь свободен.
С Лукьяновым и Ивашко я беседовал в присутствии Бакатина и Примакова, сказал им, что они — те два человека, которые могли сорвать путч или, во всяком случае, обнажить его преступный характер. Один — Председатель Верховного Совета, который знал, что версия о болезни Горбачева — ложь, а действовал в расчете на то, что плоды заговора упадут в его «корзину», уже видел себя президентом и ради этого пошел на предательство, государственный переворот.
Что до Ивашко, он мог от имени руководства партии решительно отмежеваться от действий путчистов и потребовать немедленной встречи с Генеральным секретарем ЦК КПСС. Этого не было сделано. Напротив, от Секретариата пошла команда местным парторганам поддержать переворот.
Как рассказал мне позднее Шахназаров, прилетев в Москву 20 августа, он тотчас связался с членом Политбюро, секретарем ЦК Александром Дзасоховым и сказал ему, что, если руководство не хочет окончательно погубить партию, необходимо срочно выступить с осуждением путча и потребовать освобождения генсека. Дзасохов взялся за это и вечером того же дня сообщил, что удалось собрать часть членов Политбюро в больнице у Ивашко; согласились заявить о необходимости встречи с Генеральным секретарем, но отказались выступить против ГКЧП.
С Язовым и Крючковым я решил не встречаться.
По возвращении из Фороса они и другие гэкачеписты были задержаны, начались допросы. Меня знакомили с первыми их показаниями: они признавали, что пошли на преступление, хотя каждый старался преуменьшить свою вину, выгородить себя.
Тогда я получил письмо от Крючкова, написанное от руки, — всего одна страница, три абзаца. Приведу последний без изъятий (кстати, ксерокопия находится в деле о ГКЧП):
«Уважаемый Михаил Сергеевич! Надо ли нас держать в тюрьме: одним под семьдесят, у других со здоровьем. Нужен ли такой масштабный процесс? Кстати, можно было бы подумать об иной мере пресечения. Например, строгий домашний арест. Вообще-то мне очень стыдно! Вчера прослушал часть (удалось) Вашего интервью о нас. Заслужили или нет (по совокупности), но убивает. К сожалению, заслужили.
По-прежнему с глубоким человеческим уважением.
22.8.91. В. Крючков»
Позволю себе для полноты рассказа о возвращении в Москву еще раз прибегнуть к дневнику Раисы Максимовны.
«22 августа, четверг
Форосскую резиденцию покинули в 11 часов ночи 21 августа.
Перед глазами последнее впечатление: возбужденные, взволнованные лица «спасателей» и «затворников», как метко заметил кто-то, «новых советских зеков». Но теперь, к счастью, уже бывших.
…Вылетели с аэродрома в Бельбеке, на самолете А.В.Руцкого. Расположили нас в отдельном, маленьком салоне. Михаил Сергеевич пригласил Руцкого, Бакатина, Силаева, Примакова, Черняева, Борисова, Климова, Голенцова.
Настёнка заснула на боковом сиденье около Ирины. Ксенечка, свернувшись, — на полу. Но, как говорят, в тесноте, да не в обиде. Главное, все вместе.
…В этом же самолете летит Крючков, сидит в отдельном отсеке.
…Вели разговор, обсуждали все, что произошло за эти дни в Москве, стране, в крымской резиденции президента, что пережили, как пережили. Говорили о нашем времени, о людях в нем. Александр Владимирович рассказывал о защитниках Белого дома: как за два часа обучил людей держать цепь; об офицерах охраны, прилетевших с ним спасать президента. Ни один из них не отказался, не остался в Московском аэропорту, хотя знал о возможности трагического исхода полета. Вадим Викторович и Евгений Максимович рассказали, как они готовили текст заявления, с которым выступили 20 августа. Показали текст, я оставила его у себя: «Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, Президент СССР М.С.Горбачев здоров. Ответственность, лежащая на нас, как на членах Совета безопасности, обязывает потребовать незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать все, чтобы не допустить кровопролития. Мы также требуем гарантировать личную безопасность М.С.Горбачева, дать возможность ему незамедлительно выступить публично». Заявление это отказался подписать член Совета безопасности, министр иностранных дел СССР А.А.Бессмертных.
Приземлился самолет в Москве в 2 часа ночи, во Внуково II. В аэропорту много встречающих. Плотным кольцом окружили Михаила Сергеевича. Ирина и я с детьми сразу садимся в машины. Меня бросает в дрожь. Не могу совладать с собой.
…Москва прощается с Владимиром Усовым, Дмитрием Комарем, Ильей Кричевским. Сотни тысяч москвичей в похоронной процессии. Верю, их скорбь и боль разделяют миллионы.
26 августа, понедельник
…Вновь и вновь переживаю случившееся. В сознании одна за другой всплывают детали, на которые раньше как-то не обратила внимание я.
Перед отъездом Плеханова из Фороса (он вместе с нами прилетел туда 4 августа, побыл дня два-три и улетел в Москву) в беседе на вопрос Михаила Сергеевича: «Как обстановка в Крыму?» — ответил: «В общем, ничего. Но мы немного усилили охрану на море, добавили группу аквалангистов». Было это действительно вызвано необходимостью охраны президента? Или уже реализацией определенного плана по его изоляции?
В той же беседе Плеханов настоятельно просил отпуск для Медведева. Хотя, на взгляд Михаила Сергеевича, никаких объективных причин для этого не было.
13 и 14 августа Анатолий заметил, что на смену стоявшему обычно у входа в бухту «сторожевику» № 026 пришел другой, иного типа «сторожевик». Это был большой корабль, который раньше можно было видеть только в бинокль на линии горизонта.
Каждый день, утром, Анатолий встречался с Медведевым на теннисном корте. 18 августа, когда расходились, Анатолий спросил: «Владимир Тимофеевич, завтра будем играть?» (19-го намечался отлет Михаила Сергеевича в Москву, и Анатолий решил уточнить.) Медведев ответил: «Вообще не знаю… У Михаила Сергеевича ведь радикулит». Анатолия это удивило, и за завтраком он спросил у нас: «Вы поменяли день отлета в Москву? Перенесли на 20-е?»
Когда 15 августа Михаилу Сергеевичу срочно понадобилась дополнительная медицинская помощь, доктор Лиев, который должен был ее оказать, прилетел только через двое суток. Причины задержки до сих пор не ясны.
27 августа, вторник
…Путч провалился. Демократы празднуют победу, говорят о консолидации сил, о свободе, обновлении общества, воплощении в жизнь долгожданных реформ.
Но что происходит с нами сегодня? Идет обострение национальных, экономических проблем, общество все больше раскалывается. Разносят не только «путчистов», но и «коммунистов», «кагэбистов», «партократов» и им сочувствующих. Идет яростная борьба за захват «власти», «сфер влияния», «имущества». Разрываются веками сложившиеся в стране связи, традиции. Разрушается… государство.
Заметались вечно холуйствующие в поисках нового «хозяина», «покровителя» люди без стыда и морали.
В средствах массовой информации одна за другой печатаются статьи о необходимости «хорошего диктатора», «хорошей диктатуры». Под сомнение ставится позиция президента страны. Кое-кто не останавливается и перед открытой клеветой, ложью».
Судьба партии: кто кого предал
Продолжу свой рассказ. Я вернулся в Москву в 2 часа ночи 22-го. Самолет приземлился во Внукове, нас сердечно встретили. Мы с Раисой Максимовной и Ксенией сели в один автомобиль, Ирина, Анатолий и Настёна — в другой. И тут дало о себе знать напряжение, копившееся все эти дни. Мужественно держалась в Форо-се Ирина, а потом с ней произошел тяжелый нервный срыв. Жаль было старшую внучку, которая уже многое понимала. Раиса Максимовна два года болела: последствия Фороса и послефоросских событий в стране.
23 августа я отправился в Кремль. По пути в кабинет сказал корреспондентам фразу, которую потом так часто цитировали и по-разному толковали: «Я приехал из Фороса в другую страну и сам уже не тот, кем был, другой человек». Это было первое спонтанное впечатление от происшедшего. Тогда я еще не мог осознать всего масштаба совершившейся трагедии.
Очень многое ведь оставалось мне неизвестно, и было просто невозможно сразу переварить всю обрушившуюся на меня информацию. Рабочие дни проходили в бесконечных совещаниях, работе над документами, принятии неотложных решений. А поздно вечером я увозил домой несколько тяжелых портфелей, до утра читал докладные записки, депеши послов, сводки телеграфных агентств. Постепенно складывалась цельная картина событий.
Я узнал, что некоторые из тех, кого в первый день после возвращения в Москву утвердил в должностях (в частности, Моисеева и Бессмертных), готовы были служить «и нашим, и вашим». Пришлось пересматривать принятые еще вчера решения. Кое-кто поспешил высказать суждение, что Горбачев утратил волю, мечется, не знает, что делать. Нет, допущенные промахи объяснялись незнанием всей суммы фактов. Многое ведь открылось лишь через месяцы, а кое-что и сейчас не до конца выяснено. Остается надеяться, что «все тайное станет явным».
Узнал я и о позорной позиции большинства Секретариата ЦК, многих партийных органов на местах, поддержавших ГКЧП. Сразу хочу сказать, что в этой сложнейшей ситуации зрелыми политиками и честными людьми проявили себя секретари ЦК Галина Семенова, Андрей Гиренко, Егор Строев. Не выдержал испытания ЦК как орган коллективного руководства, по сути, солидаризировался с ГКЧП, хотя многие члены ЦК выступили с осуждением путча. Сложили с себя обязанности членов Политбюро Назарбаев, Каримов, ряд руководителей компартий республик вышли из состава ЦК.
Уже в сентябре в печати стали появляться публикации, авторы которых высказывали подозрение, а то и прямо утверждали, будто я был в «сговоре» с путчистами либо, по другой версии, не захотел подписывать их декларацию, но обещал, так сказать, «примкнуть» к ГКЧП в случае, если все пройдет гладко. Обе версии, разумеется, лживы. Союзный договор, преобразование страны в жизнеспособную демократическую федерацию, так же как и общий замысел перестройки, глубокие реформы, новое мышление в международной политике, стали в полном смысле этого слова делом моей жизни, вышли на путь реализации. И самому поднять на это руку?!
Политическая слепота, ограниченность взглядов, продиктованные корыстными интересами, привели ГКЧП к действиям, о которых сепаратисты, крайние радикалы только и мечтали. Они получили самый убийственный аргумент в пользу дезинтеграции Союза. Гэкачеписты столкнули камень, повлекший селевой поток.
Я человек не мстительный и не сторонник того, чтобы этих людей, в большинстве своем пожилых, нездоровых, обрекли на физические лишения. Судебный процесс, который намеренно затягивался, был прерван со ссылкой на амнистию и прекращен военной коллегией Верховного Суда России в феврале 1994 года. Но история все равно вынесет заговорщикам суровый обвинительный приговор. Даже если согласиться с тем, что у обвиняемых на первом месте стояло не стремление сохранить свои посты, что ими руководили не шкурные, личные и групповые интересы, а забота об Отечестве, последствия предпринятой ими авантюры оказались катастрофичными.
Невольно приходит на ум такое сравнение. Убийством царя Александра II народовольцы, по общему признанию, загубили начавшиеся реформы, на десятилетия задержали общественное развитие России. Возможно, именно этим предопределили неизбежность революционного, кровавого и насильственного пути осуществления назревших преобразований. А организаторы августовского заговора сорвали обозначившуюся возможность сохранить Союз путем его преобразования в Федерацию, и КПСС — путем ее реформирования в политическую партию левых сил.
На этом следует остановиться особо. Сразу после возвращения в Москву пришлось заняться рядом неотложных дел, в первую очередь, разумеется, кадровыми перемещениями. Нельзя было оставлять на ответственных постах людей, прямо или косвенно связанных с ГКЧП. Но несравненно более важной, затрагивающей судьбы миллионов, была проблема КПСС.
Я обсуждал ее в кругу своих советников и помощников — Яковлева, Медведева, Примакова, Черняева, Шахназарова, Ревенко, Кудрявцева, встречался с некоторыми членами партийного руководства. В результате мучительных раздумий родились известные решения: сложение с себя обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и рекомендация Центральному Комитету самораспуститься, предоставив партийным организациям самостоятельно решить вопрос своей дальнейшей деятельности.
По этому поводу мне пришлось выслушать немало упреков со стороны своих бывших товарищей по партии. Некоторые из них, осуждая путч, не могли согласиться с тем, что была необходимость именно таких шагов в отношении КПСС. Вновь и вновь возвращаясь мысленно к этим вопросам, я все-таки считаю, что здесь не было допущено ошибки. Прежде всего беспочвенны обвинения в предательстве и сетования, что я-де «бросил партию». Как я уже говорил, все осуществленные в русле перестройки преобразования нашли официальное одобрение в решениях съездов КПСС и пленумов ЦК. Я до конца, в последнее время даже в ущерб своему положению президента страны, оставался на посту генсека. Если кто кого предал, то не я партию, а ее руководство и большая часть партноменклатуры — своего лидера.
Что касается «роспуска» КПСС, то, повторяю, я лишь заявил, что в сложившихся после путча экстремальных условиях партийные организации сами должны определиться. Более того, когда через несколько дней на Верховном Совете России Ельцин демонстративно стал подписывать Указ о запрете КПСС, я пытался остановить его, считая, что эта акция может вызвать волну антикоммунистической истерии, что было бы и несправедливо, и опасно. После чего был чуть ли не освистан в Верховном Совете нетерпимыми радикалами, которых не без основания называют необольшевиками. Один из них заявил от микрофона в истерическом тоне, что всех коммунистов надо «метлой из страны убрать». Тогда я сказал слова, от которых и сейчас не отказываюсь.
— До подобных предложений даже больной мозг Сталина не додумался, недобрые призывы свидетельствуют, что у вас «крыша поехала». Вы что, собираетесь выгнать из страны 18 миллионов коммунистов, а с семьями — 50–70 миллионов человек? Если называете себя демократами, так будьте на деле ими.
Эти слова пресса замолчала.
Встреча в Верховном Совете России была заснята. Те, кто увидел ту телепередачу, многое поняли. Ельцин все делал на этой встрече с садистским наслаждением. А еще мне показалось, что не меньшее наслаждение испытали и некоторые мои соратники, сидевшие в зале; не проронил ни слова Александр Яковлев.
После встречи мы с Ельциным поднялись в его кабинет. Почувствовав, что перебрал, он хотел смягчить обстановку рассуждениями о том, что надо их, депутатов, понять — им пришлось такое выдержать! И добавил:
— Я ничего не буду вам говорить. Вы сами запросите информацию и узнаете, кто как вел себя 19 и 20 августа. В том числе те, к кому вы испытываете особые чувства. Мы были одни, практически все выжидали.
Мои опасения по поводу позиции российских властей в отношении коммунистов были не напрасными. Запрет партии пагубно отразился на миллионах ни в чем не повинных ее членов. Кстати, в большинстве своем поддерживавших перестройку, проводимые реформы. И уж категорически не могу согласиться с попытками очернить всю историю партии, изобразить злодеем ее основателя, отказать КПСС в каких-либо заслугах перед Родиной. Раздуть шум вокруг мнимых миллиардов долларов, вывезенных в зарубежные банки, помощи иностранным партиям и т. д. Недостойные все это были кампании, и хорошо, что Конституционный суд в конечном счете своим взвешенным решением не дал развернуться очередной «охоте на ведьм».
Надо видеть случившееся и в более широкой исторической перспективе. Распад КПСС на определенном этапе был неизбежен, потому что она включала в себя представителей различных идейно-политических течений. Я был за то, чтобы сделать это демократическим путем — провести в ноябре съезд, на котором по-доброму размежеваться. Принятый мной и моими единомышленниками вариант программы, по данным некоторых опросов, поддерживали около 1/3 членов партии. Остальные разошлись бы кто куда: к Нине Андреевой и Анпилову, к Бузгалину и Косолапову, Зюганову, Р.Медведеву и Денисову, Липиц-кому и Руцкому. А немалая часть, видимо-, присоединилась бы к Демократической России, к Демократической партии Травкина, христианским демократам. Это в конечном счете и произошло. Поэтому лишены смысла бурные сожаления о распаде КПСС. Она свою историческую роль отыграла и должна была уйти со сцены. Формируются новые левые партии, в том числе коммунистической направленности.
Но то, что все это произошло в крайне болезненной, даже скандальной форме, нанесло огромный нравственный ущерб миллионам членов партии — целиком на совести путчистов и тех, кто оказал им поддержку. Прежде всего — консервативного крыла РКП. Именно они нанесли самый тяжелый удар по партии, скомпрометировали ее, использовали как главный инструмент реализации своих планов, лишили тем самым последнего шанса на реформирование. И при этом всячески пытаются обелить себя, искажая те или иные моменты в ходе событий.
Не беру на себя задачу обличать — пусть окончательный приговор вынесут историки. Но об одном человеке, бывшем моем университетском товарище, кого я выдвинул на второй по значению пост в государстве и кто сыграл ключевую роль в заговоре, о Лукьянове, не умолчу.
Я уже цитировал записку Щербакова, из которой ясно, что все было согласовано с Лукьяновым.
Но допустим на минуту, что Лукьянов действительно ни о чем не ведал и был введен заговорщиками в заблуждение — так он оправдывался передо мной в Форосе. Тогда почему не созвал, как был обязан в подобных обстоятельствах, Верховный Совет СССР? Ведь сделай он это, все встало бы на свои места. Он не сделал, потому что как опытный игрок просчитал: за неделю — а эта отсрочка в принципе не противоречит регламенту — все прояснится. Либо заговор увенчается успехом — и он на коне. Либо провал — и тогда ему удастся увильнуть. Играл, как говорится, на двое ворот. Но просчитался.
Самое удивительное, сейчас Лукьянов утверждает, что никакого путча не было и в помине, не только не отмежевывается от действий гэкачепистов, но вместе с ними присутствует на собраниях, митингах, идет в рядах демонстрантов; заседая в Госдуме, продолжает свою игру.
Вот что он говорил 22 августа 1991 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР, где председательствовал Нишанов и присутствовали председатели комитетов, большая группа депутатов: «Мы отставали от событий. Надо было и в личном плане гораздо резче реагировать на все, возможно, обратиться непосредственно к народу уже не 21-го, а 20-го, скажем. Тем более такое постановление было подготовлено. Тут вина прежде всего, может быть, и моя, но, видит Бог, была такая загрузка, которая позволила за все три дня, если и спать три часа, то хорошо. Правда, сегодня стали раздаваться уже такие критические заявления, в которых Президиум Верховного Совета СССР обвиняется в пособничестве путчистам (подчеркнуто мною. — Автор), а я, его председатель, — в идейном вдохновении переворота. Скажу сразу и твердо, что это не соответствует действительности ни в малейшей мере».
И еще. «Сама эта авантюра является заговором обреченных и совершенно незаконным актом… Я неизменно доказывал незаконность путчистских действий». Это говорил Лукьянов в беседе с Руцким, Хасбулатовым, Силаевым, что впоследствии зафиксировано в Указе Президента России от 20 августа: «Проведенные 20 августа 1991 года переговоры руководителей РСФСР с Председателем Верховного Совета СССР Лукьяновым, по существу так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, подтверждают антиконституционность образования и действий этого комитета».
Итак, тогда Лукьянов признавал, что был путч, и лишь категорически отрицал, что сам ему способствовал. А сегодня, если ему верить, это было патриотическое выступление, чуть ли не вторая Октябрьская революция.
Здесь уместна еще одна ссылка на письмо Щербакова в Верховный Совет СССР:
«События 21.08.
В присутствии т. Величко В.М. (в 13–13.20) я связался с т. Лукьяновым и попросил подтвердить лично достоверность информации, переданной по радио России, и содержащиеся в выступлении Ельцина по радио сведения о том, что Лукьянов признал неконституционными действия вице-президента СССР Янаева и неправомерными — решения ГКЧП.
Тов. Лукьянов сказал, что заявлений подобного рода он не делал. Я спросил, какова может быть его реакция, если президиум КМ СССР примет подготовленное мной (и предварительно обсужденное с т. Величко) заявление — изложил ему основные положения этого заявления. Тов. Лукьянов в принципиальном плане поддержал это, но отметил, что по закону мы не имеем права не подчиняться решениям вице-президента СССР Янаева, особенно в сложившейся обстановке, и предложил в каком-нибудь месте заявить эту позицию в том духе, что КМ СССР подчиняется ВС СССР и вице-президенту (а не и. о. Президента СССР) Янаеву. После чего он проинформировал, что в ближайшие часы вместе с Язовым и Крючковым вылетает в Крым для разговора с Президентом СССР М.С. Горбачевым».
Все, чем я располагаю, мои знания о депутатах Верховного Совета СССР позволяют мне утверждать — соберись высший законодательный орган в самом начале авантюры, он, несомненно, занял бы позицию в защиту конституционного строя, решительного осуждения гэка-чепистов. Да, четкой законодательной разработки механизма созыва парламента в экстремальных условиях не было. И Лукьянов воспользовался этим: действовал по букве закона о чрезвычайном положении, назначив созыв «не позже, чем через неделю».
Гораздо важнее извлечь уроки из случившегося. Августовские события 91-го обнаружили ахиллесову пяту созданной нами демократической системы — слабость представительных органов. Ведь что получилось? Лукьянов, играя свою игру, затянул созыв Верховного Совета. С.С. Алексеев испугался — и Комитет конституционного надзора начал бормотать что-то себе под нос, когда это было уже вполне безопасно.
Иначе говоря, во всех основных институтах демократии решающую роль у нас по-прежнему играют руководители, все зависит от их личных качеств. А ведь Маркс был прав, сказав, что не личности должны быть гарантами против законов, а законы против произвола личностей.
Полтора года спустя — сходная ситуация с другим результатом. 20 марта 1993 года Президент России выступает с заявлением, содержание которого нельзя оценить иначе как покушение на государственный переворот. Оставим в стороне мотивы и обоснования. Факт состоит в том, что было публично объявлено о намерении лишить Съезд народных депутатов его полномочий, сосредоточить в руках президентской команды функции всех ветвей власти.
На сей раз институты демократии не бездействовали. Срочно был созван Верховный Совет, а затем и съезд. С осуждением так и неопубликованного президентского указа выступил Конституционный суд. Протест прозвучал со стороны многих партий и, увы, немногих средств массовой информации. Президент вынужден был пойти на попятную.
Но я спрашивал себя тогда: можно ли принять это как свидетельство зрелости наших демократических институтов или лишь как счастливую случайность? Что на сей раз выручило от самовластия — законы или личности? И не спешил с ответом. Октябрьские события 93-го показали, что необходимые уроки из событий августа 91-го и марта 93-го не были усвоены, а это в конечном счете привело к расстрелу парламента и кровавым событиям 3–4 октября 1993 года.
Граждане России 12 декабря 1993 года на выборах в Госдуму нашли очень чувствительный способ дать понять российским властям, что они не приемлют ни их политического курса, ни методов его осуществления. Пойдет ли этот урок на пользу? Опять с ответом я не спешу.
Глава 44. Сентябрь — декабрь. Последние усилия и беловежский сговор
Возобновление процесса реформ
При всем значении первых шагов по ликвидации последствий путча больше всего меня занимало в те дни возобновление процесса реформ. Честно говоря, не было полной уверенности, что эта задача в принципе разрешима в тех условиях. То и дело накатывали сомнения. Переворот до основания потряс страну. В сентябре — октябре, по сути, все республики заявили о своей независимости. Сепаратисты чувствовали себя на коне, настал их час. А тут еще Президент России вошел в раж: уже возобновил свою деятельность Президент СССР, а Ельцин продолжал еще два-три дня выпускать указы общесоюзного значения. Это еще больше побуждало республики быстрее отгородиться от союзного центра.
И все-таки нельзя было сдаваться. За мной были результаты референдума 17 марта. За сохранение целостности страны говорила вся ее многовековая история. Такой выбор властно диктовали насущные экономические потребности, безопасность государства и граждан.
Честно говоря, меня особенно ободрили данные опросов общественного мнения жителей крупных городов (Москва, Киев, Алма-Ата, Красноярск), проведенные в начале октября. Они показали, что за истекшие полгода настроения в поддержку Союза в целом не ослабли. Так, если 17 марта в трех республиках (РСФСР, Украина, Казахстан) за Союз проголосовали 73 процента принявших участие в референдуме, то осенью 1991 года по итогам опроса в крупных городах тех же трех республик за Союз высказались 75 процентов опрошенных. В Москве число сторонников Союза возросло за полгода с 50 до 81 процента; это свидетельствовало, что 17 марта часть москвичей голосовали не столько против идеи Союза, сколько под влиянием тогдашней «антицентристской» пропаганды демократов. И, очевидно, реальная угроза распада Союза вызвала резкий всплеск «просоюзных» настроений в столице, что, собственно говоря, было характерно и для большинства областей России. В Киеве итоги опроса были не столь впечатляющи, тем не менее свыше 50 процентов было за Союз. В Алма-Ате в марте 91-го года на референдуме «за» было 94 процента, а по данным октябрьского опроса — 86 процентов.
Словом, не было никаких сомнений в том, что народ не хочет разрушения целостности страны. Но ключи к решению вопроса находились в руках национальных элит и политических лидеров. А здесь дело обстояло сложнее.
Наиболее последовательно отстаивал Союз Назарбаев. Мы часто и долго беседовали с ним на эти темы. Должен сказать, что за его позицией стояли такие объективные факторы, как состав населения Казахстана, не просто высокий, а уникальный уровень интеграции его экономики с экономикой России. Но дело было еще и в личных качествах Нурсултана Абишевича, как политика, а главное — человека, в сознании которого неразрывно соединились русская и казахская национальные культуры. Чувствовалось, что для него это не вопрос калькуляций, а дело принципа, вытекающего из убеждений. Я давно присматривался к Назарбаеву, ценил его деловую хватку и сожалею, что стечение обстоятельств помешало мне рекомендовать его на пост вице-президента СССР или премьер-министра.
Практически такие же позиции занимали лидеры среднеазиатских республик — Каримов, Акаев, Ниязов и Искандаров, представлявший тогда Таджикистан. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба каждого из них в наше «турбулентное» время, но должен сказать, что на том исключительно ответственном отрезке истории, когда решалась судьба Союза, эти национальные деятели проявили ясное понимание той истины, что разрушение Союза нанесет колоссальный ущерб их народам. Вовсе не хочу сказать, что они всякий раз безоговорочно поддерживали предложения, исходящие от союзных органов. Все они стремились избавиться от тягостного сверхцентрализма, добивались, что вполне естественно, большей самостоятельности. Но я бы сказал, что они не теряли при этом здравого смысла, не делали из независимости фетиша, самоцели.
Сразу после того, как были приведены в порядок «растрепанные чувства», приняты неотложные меры по ликвидации последствий пуг-ча, я начал встречаться с республиканскими лидерами. 23 августа беседовал с Ельциным, Назарбаевым, Акаевым, Муталибовым — все тогда не смогли приехать в Москву. В последующем, собравшись уже в более полном составе в Ново-Огареве, мы как бы заново проинвентаризировали весь комплекс неотложных проблем, стоявших перед страной, и сошлись на том, что начинать нужно с восстановления эффективного механизма власти и управления.
После путча этот механизм был настолько разлажен, что никакие самые своевременные и оптимальные решения не имели шансов быть проведенными в жизнь. «Осваивая» суверенитет, республиканские власти все чаще принимали к исполнению только те распоряжения центральных министерств, какие им были выгодны. В центре же нарастала чехарда в связи с тем, что власть, если не де-юре, то де-факто, раздвоилась между Кремлем и Белым домом. Занятая этой внутренней междоусобицей, столица все больше теряла рычаги контроля за экономикой. А это, в свою очередь, побуждало «места» все больше полагаться на самих себя, действовать на свой страх и риск.
Всем нам было ясно, что реальные шансы на восстановление порядка в этих условиях может иметь только орган, обеспечивающий согласование интересов и воли республик с общесоюзными интересами и волей. Вначале возникла идея включить республиканских лидеров в Совет безопасности, а затем решили вместо этого учредить Государственный совет.
Сосредоточение власти в руках Государственного совета рассматривалось нами как временная мера, которая будет сохранена до принятия нового Союзного договора, определяющего устройство союзных органов, их отношения с республиками и т. д. Уже с первых наших «по-слепутчевых» встреч в Ново-Огареве речь зашла о необходимости возобновления работы над Союзным договором. В сентябре казалось вполне возможным дать проекту Союзного договора второе рождение, и на этот раз без помех довести его до подписания.
В то же время мы сознавали, что в сложившихся условиях трудно рассчитывать на участие в обновленном Союзе всех республик. Поэтому решено было воплотить идею, которая давно, еще с середины 1990 года, активно обсуждалась, а именно: наряду с Союзным договором предложить республикам подписать Экономическое соглашение. Этот, как бы второй, этаж союзнических отношений давал возможность «не потерять» те республики, которые, как и все остальные, кровно нуждаются в экономическом сотрудничестве, но по разным причинам не готовы войти в состав Союза. Не скрою, мы рассчитывали, что экономические узы помогут постепенно преодолеть недоверие к союзным структурам.
Августовский путч сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами. Понимая всю опасность новой ситуации для демократических преобразований, возобновление работы над Союзным договором я рассматривал как главный приоритет. Этим определялись все мои действия в ходе чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР, созванной сразу после путча и принявшей решение о безотлагательном проведении внеочередного Съезда народных депутатов СССР.
Оценивая атмосферу, сложившуюся накануне съезда, и особенно дискуссию вокруг повестки дня, я и руководители республик были весьма обеспокоены тем, чтобы съезд вновь не втянулся с самого начала в бесплодные споры.
На съезд надо было выходить с общей позицией президента и руководителей республик. В ночных дебатах родились идея и сам текст Заявления — его подписали главы 10 союзных государств, а в разработке участвовала и Грузия (отсюда известная формула «10 (11)+1»).
По данному поводу было немало спекуляций, некоторые договаривались до того, что будто Горбачев и лидеры республик совершили своего рода государственный переворот, не удавшийся путчистам.
Это — чепуха уже потому, что все сентябрьские решения были приняты самим съездом, иначе говоря, конституционным путем. Далее, потому что был сохранен высший законодательный орган — Верховный Совет. И наконец, потому, что серьезная реорганизация структур управления страной была предпринята не по прихоти лидеров, а как вынужденная, временная мера, продиктованная последствиями путча, новыми реальностями.
Иначе говоря, мы ни на шаг не преступили Конституцию. Другой вопрос — насколько эффективны оказались эти решения. Увы, последующие месяцы показали, что созданная система не выдержала испытаний, оказалась нежизнеспособной. И не в силу каких-то пороков самой ее конструкции, а прежде всего потому, что она не отвечала концепции, выношенной окружением Президента России.
Во всяком случае, тогда Ельцин в частных беседах и публично выступал за сохранение Союза в преобразованном виде. Благодаря этому мы сравнительно легко достигли общей точки зрения и по вопросу об организации власти в переходный период. В заявлении Президента СССР и руководителей 10 республик предлагалось подготовить и подписать Договор о Союзе Суверенных Государств, причем каждая республика самостоятельно определила бы форму своего участия; обратиться ко всем республикам независимо от декларируемого ими статуса с предложением безотлагательно заключить Экономический союз; создать Совет представителей народных депутатов для «решения общих принципиальных вопросов», Государственный совет — для «согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы республик», Межреспубликанский экономический комитет — для «координации управления народным хозяйством и согласованного проведения экономических реформ»; подготовить и вынести на рассмотрение парламентов союзных республик проект Конституции, который должен был быть окончательно принят на съезде их полномочных представителей; заключить соглашение о принципах коллективной безопасности в области обороны в целях сохранения единых вооруженных сил и военно-стратегического пространства, проведения радикальных реформ в вооруженных силах, КГБ, МВД и Прокуратуре СССР с учетом суверенитета республик; подтвердить строгое соблюдение всех международных соглашений и обязательств, принятых на себя Советским Союзом; принять декларацию, гарантирующую права и свободы граждан; просить Съезд народных депутатов СССР поддержать обращение союзных республик в ООН о признании их субъектами международного права и рассмотрении вопроса об их членстве в этой организации.
Этот документ и стал стержнем дискуссии на Пятом внеочередном съезде народных депутатов СССР, состоявшемся 2–5 сентября. Проходил он бурно, не обошлось без острых столкновений и эмоций. Но в конечном счете предложения были приняты и узаконены. Существенной корректировке подвергся лишь пункт, предлагавший, чтобы роль законодательного органа в переходный период сыграл Совет представителей народных депутатов. После дискуссии съезд решил — и, думаю, сделал правильно, — что Верховный Совет продолжит свою работу до заключения Союзного договора и создания на его основе новых органов власти. Тем самым обеспечивались контроль за действиями Госсовета и более надежная конституционная преемственность.
На вечернем заседании председательствовал Ельцин, и выступивший первым Кравчук говорил о готовности Украины принимать «самое активное участие в создании межгосударственных структур в области экономики, координации и управлении народным хозяйством, согласованном решении вопросов внутренней и внешней политики, выработке концепции коллективной безопасности, реорганизации вооруженных сил». Не пройдет и полутора месяцев, как тот же Кравчук начнет бить отбой чуть ли не по всем этим позициям.
4 сентября страсти разгорелись. Ряд депутатов выступили с обвинениями президиума в недемократическом ведении съезда. Должен признать, что для подобных обвинений были известные причины. Президиуму действительно приходилось вести заседания в жесткой манере — в противном случае у нас получился бы отечественный вариант «Долгого парламента», чего нельзя было допустить в напряженной по-слепутчевой атмосфере. Конечно, дело тут было не в процедурных вопросах, при всей их важности. Часть народных депутатов просто не хотели реально оценить ситуацию, понять, что после августа сохранить СССР в прежнем его облике было уже тем более невозможно. А значит, единственным способом спасти целостность страны стало заключение Договора о Союзе Суверенных Государств. Большинство народных избранников, можно сказать, подавляющее большинство, это осознавало. Постановление съезда, Закон об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период, другие решения были приняты голосами 3/5 — 4/5 состава депутатов.
Дни съезда были наполнены бесконечными встречами, совещаниями, консультациями. В перерывах между заседаниями шла напряженная работа в комиссиях и комитетах. Надо было отвечать на запросы депутатов, искать вместе с лидерами автономных республик формулу их участия в Союзе, без чего они отказывались поддержать решения съезда. Ну и нельзя было отказать многим депутатам, желавшим просто поддержать президента, выразить ему сочувствие в связи со случившимся в Форосе или попросить разъяснения, пожаловаться, поставить какой-то насущный для своей области вопрос. Не было, разумеется, отбоя и от прессы.
Признаюсь, устал я дьявольски. Но помогало держаться сознание того, что мы все-таки не допустили развала Союза. Верилось, что, миновав переходный период и вдоволь насладившись прелестями независимости, мы начнем уже на новой основе собираться в государственное целое. Надежду на это подкрепляли и данные социологических опросов. На вопрос, как вам представляется устройство СССР в будущем, народные депутаты ответили так: несколько самостоятельных государств — 15 процентов, конфедерация — 27 процентов, федерация — 46 процентов, другое — 3 процента. Нисколько не сомневаюсь, что, если сегодня будет задан этот вопрос гражданам России и других республик, ответы большинства будут очень близкими к этим результатам.
Иная точка зрения, однако, преобладала (хотя и сохранялась в тайне) в российском руководстве. И оно уже очень скоро после съезда начало методически, шаг за шагом подтачивать и разрушать только что узаконенную съездом концепцию переходного периода.
Первым актом Государственного совета стало признание независимости Прибалтийских республик. Я стремился сделать все, чтобы Прибалтийские республики продолжали оставаться в рамках Союза. В то же время решительно отклоняю домыслы, будто бы союзное руководство прибегало ради этого к военной силе. Трагические инциденты в Вильнюсе и Риге ни в коей мере не направлялись из президентского кабинета.
С другой стороны, жизнь опять-таки подтвердила, что мы были правы, настаивая на цивилизованном и демократическом решении проблемы обретения независимости Латвией, Литвой и Эстонией. Если бы не нагнетаемое сепаратистами давление и недальновидная позиция российского руководства, скорее всего, не было бы сегодня тех острейших проблем, которые связаны с нарушением гражданских прав русских и русскоязычных людей на территории Балтии.
Приняв решение о признании независимости республик Прибалтики, нам так и не удалось запустить механизм переговоров. Этому помешал Беловежский сговор.
Второе рождение Союзного договора
Итак, 5 сентября Съезд народных депутатов по предложению президента страны и руководителей республик принимает решение о создании Союза Суверенных Государств и ускоренной подготовке проекта Договора.
По договоренности между членами Госсовета я и Президент России взяли на себя разработку проекта нового Договора. Работа началась практически сразу после съезда.
10 сентября состоялась встреча с Ельциным, на которой мы обсудили связанные с этим проблемы. 16 сентября вопрос о будущем Союза рассматривался на заседании Госсовета, причем 8 республик (РСФСР, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан) заняли позитивную позицию.
На том же заседании Госсовет рассмотрел проект Договора об экономическом сообществе. После того как 18 октября 8 суверенных государств, включая Украину, его подписали, он был направлен на ратификацию в республиканские парламенты. Ускоренными темпами готовился пакет сопутствующих соглашений.
Одновременно шло формирование союзных структур власти в соответствии с изменившимися условиями — назначены новые руководители, начата реорганизация министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел и Комитета государственной безопасности, создан Межреспубликанский экономический комитет.
Таким образом, оправившись от шока, вызванного августовским путчем, руководство Союза и республик вернулось к прерванной работе над преобразованием Союза и по политической, и по экономической линии. Появились основания считать, что ново-огаревский процесс удалось восстановить. Но как трудно, со сбоями, с периодическими откатами он продолжался в осенние месяцы.
Темпы подготовки Союзного договора зависели от старта: какой текст положить в основу проекта — согласованный и подведенный к подписанию в августе (разумеется, с учетом изменений в обстановке) или совсем иной. Так вот, когда по поручению Госсовета мы начали с Ельциным готовить обновленный проект, его команда попыталась положить в основу свой текст. Достаточно было беглого прочтения, чтобы понять, что речь в нем не идет ни о федеративном, ни даже о конфедеративном государстве. Дело вели к образованию сообщества типа ЕЭС, но с еще более ослабленными функциями центральных органов.
Я без обиняков дал понять Ельцину, что на такой базе ничего путного у нас не получится. Аналогичную позицию заняли республиканские лидеры, которым россияне, в надежде на «подмогу», неофициально подкинули свою разработку. После некоторых колебаний (видно, очень уж давило на него окружение) Президент России согласился возобновить работу на основе доавгустовского проекта — разумеется, с учетом «российского» варианта.
В рабочую группу представителей Президента Союза и Президента России вошли Шахназаров, Кудрявцев, Топорнин, Батурин — это со стороны центра, а российский руководитель уполномочил Шахрая, Станкевича и Котенкова.
Сразу возобновились споры по поводу распределения полномочий между союзными и республиканскими органами власти и управления. В конечном счете пришли к согласию не фиксировать подробно в Договоре распределение полномочий, а предусмотреть «сферы совместного ведения». Предполагалось в последующем заключить специальные многосторонние соглашения — об экономическом союзе, совместной обороне, государственной безопасности, внешней политике, научно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве в области образования и культуры, защите прав человека и национальных меньшинств, экологическое, в области энергетики, транспорта, связи и космоса, по борьбе с преступностью.
Такой порядок имел, конечно, свои минусы — откладывалось на какое-то время формирование предельно четкой управленческой структуры, столь необходимой, чтобы побыстрее вытащить страну из кризиса. С другой стороны, у него были определенные преимущества. Перенос этой проблематики в многосторонние соглашения позволял более детально предусмотреть, какие вопросы должны решаться совместно и посредством каких процедур.
Обновленный вариант Договора датирован 1 октября. Пока в Москве трудились над проектом нового Договора о Союзе, в Сочи, с грифом «Сугубо конфиденциально», Ельцину был направлен документ — «Стратегия России в переходный период». Многое из того, что происходит в России и странах Содружества, своими корнями уходит в «теоретические изыскания», которые велись в «мозговом центре» Демроссии.
Вот некоторые пассажи из него, напоминающие инструкцию по «минному делу», только не в военной, а государственной сфере.
«До августовских событий руководство России, противостоящее старому тоталитарному центру, могло опереться на поддержку лидеров подавляющего большинства союзных республик, стремившихся к упрочению собственных политических позиций. Ликвидация старого центра неизбежно выдвигает на первый план объективные противоречия интересов России и других республик. Для последних сохранение на переходный период сложившихся ресурсопотоков и финансово-экономических отношений означает уникальную возможность реконструировать экономику за счет России. Для РСФСР, и так переживающей серьезный кризис, это серьезная дополнительная нагрузка на хозяйственные структуры, подрыв возможности ее экономического возрождения».
Другой тезис: «Объективно России не нужен стоящий над ней экономический центр, занятый перераспределением ее ресурсов. Однако в таком центре заинтересованы многие другие республики. Установив контроль за собственностью на своей территории, они стремятся через союзные органы перераспределять в свою пользу собственность и ресурсы России. Так как такой центр может существовать лишь при поддержке республик, он объективно, вне зависимости от своего кадрового состава, будет проводить политику, противоречащую интересам России».
Из двух названных ими формул объединения (экономический союз плюс немедленная политическая независимость или экономическая независимость плюс временное политическое соглашение) авторы записки безоговорочно рекомендовали избрать вторую. В соответствии с этим утверждалось, что «Россия должна воздерживаться от вступления в долгосрочные жесткие и всеобъемлющие экономические союзы», «не заинтересована в создании постоянно действующих надреспубли-канских органов общеэкономического управления», «категорически отказывается от введения налоговых платежей в федеральный бюджет», «должна иметь собственную таможенную службу» и т. д.
В то же время, как бы «откупаясь» от бывших своих сородичей, авторы предлагали признать существующие границы республик (в частности, при этом утверждалось, будто «права русскоязычного населения в реальной защите не нуждаются»?!), а также помочь им получить полное международное признание как независимых государств.
Существо этой концепции заключается в окончательном отказе России от выполнявшейся ею роли «ядра» мировой державы. Мотив — сохранив свои ресурсы для себя, быстро разбогатеем. Не знаю, кто непосредственно исполнял эту бумагу, но, читая ее, легко было угадать влияние ведущих идеологов Демроссии. Именно такие взгляды они проповедовали и сумели, видимо, навязать их своему лидеру. Мне они представляются в корне порочными.
Разве Россия не несет ответственности за судьбу народов, с которыми бок о бок шла веками, за будущее огромных пространств, которые она осваивала? Впрочем, ожидать нравственного подхода от людей, которые ставят во главу угла сугубо эгоистический интерес, бесполезно. Не только моральный долг, но и первозначный экономический интерес России заключается в том, чтобы не порывать с республиками. Целостный народно-хозяйственный механизм — это не фраза, не выдумка коммунистической пропаганды, а живая реальность. И сейчас, когда вопреки всем доводам разума он почти разрушен, наглядно видно, кто был прав в этом историческом споре. А территориальные вопросы, демографические проблемы, права человека, судьба науки и культуры, наконец, экология и безопасность?
Как я понимаю, Президент России в сентябре еще не готов был окончательно принять эту ошибочную философию и действовать в соответствии с нею. Видимо, это-то и послужило причиной написания записки. Упрекая своего лидера за то, что якобы «утеряны плоды августовской победы», авторы, сами того не желая, выдают потаенную свою мысль: возникшую в результате путча угрозу распада Советского Союза воспринимают как «победу», а не как трагедию. Этого они сами хотели, это, можно сказать, и преподнесли им «на блюдечке» вроде бы заклятые враги — гэкачеписты. И не этим ли объясняется снисходительное отношение демократов, обычно свирепых и безжалостных, ко всем, в ком они видят «не наших», к узникам «Матросской тишины»[31]?
Ознакомившись с этой запиской, я был серьезно встревожен и при очередной встрече с Ельциным завел с ним «концептуальный разговор» на эти темы. Он соглашался с моими аргументами и, как мне показалось, был тогда искренен. Впрочем, как я уже говорил, много раз бывало так: поговоришь с Борисом Николаевичем, убедишь его, условишься, как действовать, а буквально назавтра под чьим-то иным влиянием он поступает прямо наоборот. Такова уж эта неустойчивая натура. Так было и на сей раз.
28—30 октября я оказался в зарубежной поездке — в Мадриде, где вместе с Дж. Бушем в качестве сопредседателя должен был открыть конференцию по Ближнему Востоку. А в Москве произошли события, означавшие не что иное, как начало нового наступления на Союз. Так что наши опасения, связанные с колебаниями президента РФ, оправдались. Можно сказать, как в воду глядели.
28 октября на Съезде народных депутатов РСФСР Ельцин выступил с программой реформ и требованием для себя особых полномочий на переходный период. Де-факто эти меры подрывали Договор об экономическом Сообществе или противоречили ему. Буквально ввергло в шок его заявление о намерении объявить Госбанк СССР Российским, сократить на 90 процентов численность МИД СССР, распустить 80 министерств и т. д. Правда, после разговора с Силаевым российский президент отрекся от покушения на банк, которое напугало республики и привело в смущение Запад при всем его расположении к нашему новому реформатору.
Я встретился с Ельциным 2 ноября, считая, что назрел, как говорится, мужской разговор:
— Ты меняешь политику, уходишь от всех договоренностей. А раз так, теряют смысл и Госсовет, и Экономическое соглашение. Тебе не терпится взять вожжи в свои руки? Раз этого хочется — правь в одиночку. Скажу тебе и другим лидерам: я вас подвел к независимости, теперь, похоже, Союз вам больше не нужен, живите дальше как заблагорассудится, а меня увольте. Но и ответственность ложится на всех вас.
Ельцин доказывал, что менять политику не собирается, слово у него твердое. Тут же, не ощутив неловкости, согласился, что в отношении персонала МИДа есть «перехват». И по другим пунктам несколько отступил, обещал действовать более взвешенно, а главное, согласованно. Но не сдержал ни одного своего «твердого» слова.
На Госсовете 4 ноября я решил продолжить разговор на эти же темы. Ельцин сознательно опоздал на 15 минут, демонстрируя свою независимость и неуважение к партнерам. Не ожидая его прихода, в присутствии тележурналистов я сделал вступление, прозвучавшее тревожным колоколом: в сложнейшей ситуации мы делаем то, чего не должны делать. Безответственно распорядились капиталом, который получили после путча и в результате совместной работы, а также возникшей надеждой на возможность быстрого выхода из кризиса. Снова разворачиваются политические игры, налицо перетягивание каната. Страна задыхается, а Госсовет раскалывается. Нужно преодолеть колебания и действовать решительно. Нужны согласованные действия республик. Поскорее заключить Договор и в связи с судьбой Союза уже сейчас подумать, как быть с союзными институтами — МИД, МВД, Минобороны. Без решения ключевых вопросов государственности не решим и экономических проблем.
Большая часть моего выступления проходила в присутствии Ельцина, и оно ему было явно не по душе. Он сидел то насупившись, то делая вид, что все это его мало волнует. Словом, на заседании возникла напряженная обстановка. На мое приглашение обменяться мнениями, просьб о выступлении не последовало. Только Назарбаев сказал:
— Нам все ясно. Важно, что у вас с Борисом Николаевичем был разговор и достигнуто взаимопонимание. — Ельцин кивнул.
— Хорошо, — заключил я. — Тогда давайте действовать в этом духе.
Любопытно, что сведения о заседании немедленно были переданы на Запад; радио «Свобода» их интерпретировало так: «Состоявшееся 4 ноября заседание Госсовета при Президенте СССР принесло кое-какие сенсации, продемонстрировало кое-какие конфликты, но в основном не те, которых ждали. Выяснение отношений Ельцина с республиками и Горбачева со всеми «удельными князьями» оказалось отсроченным. Горбачев открыл заседание весьма драматическим выступлением, ключевыми словами которого были «тяжелейшая ситуация», «на краю пропасти» и «безответственность». С точки зрения Президента СССР, отечественные политики не сумели взять под контроль после-путчевую ситуацию и страна летит под откос в неуправляемом режиме. Свое исполненное тревоги выступление Горбачев закончил предложением обменяться мнениями по текущему моменту. Далее случилось самое интересное. В зале заседаний Госсовета воцарилась гнетущая тишина.
Горбачев понял, что лидеры нерусских республик не готовы идти на открытое выяснение отношений с Ельциным, а сам Ельцин всем своим поведением намерен показать, кто в этом зале настоящий хозяин».
«Догадки» обозревателя радио «Свобода» Максима Соколова были близки к истине. Но острая постановка вопроса на заседании Госсовета не прошла зря. Ельцин вынужден был дать формальное согласие на то, чтобы завершить доработку текста Союзного договора и парафировать Договор на следующем заседании.
Сообщение о заседании Госсовета содержало важную констатацию — 14 ноября будет парафирован согласованный проект Договора. Тем самым и самого Ельцина, и российские верхи снова «вернули» в конституционное русло.
Последние заседания Госсовета
14 ноября на Госсовете развернулся острый спор о том, что нужно народам, населяющим эту огромную страну: союзное государство или союз государств? Может показаться, что спор чисто словесный. Но за ним стоял вопрос, будет ли у нас одна страна, или мы разделимся на несколько государств со всеми вытекающими последствиями для граждан, экономики, науки, вооруженных сил, внешней политики и т. д.
Четырехчасовая дискуссия завершилась согласием в том, что это должно быть конфедеративное союзное государство. Тут же, в Ново-Огареве, на пресс-конференции все руководители республик вышли к телеобъективам. Мне казалось, что некоторые мои партнеры склонны упрощенно толковать аргументы в защиту союзного государства. Выступая последним на той пресс-конференции, я сказал: «Договор о Союзе Суверенных Государств просто необходим как база для реформирования нашего унитарного многонационального государства. Необходим и для решения самых неотложных задач. Без согласования между республиками реформы не пойдут. Согласование нам необходимо, потому что мы так сложились и деваться нам некуда. Сейчас делиться, гадая, хорошо ли это получится или нет, недопустимо. Если разойдемся по национальным обособленным государствам, то даже в рамках Содружества процесс согласования и взаимодействия необычайно усложнится».
Представляет интерес документальный комментарий «Известий» об итогах заседания Госсовета 14 ноября.
Событие, которое произошло в подмосковном Ново-Огареве 14 ноября, можно назвать обнадеживающим. Семь суверенных республик, участвовавших в заседании Госсовета, высказались за создание нового политического союза. Это своего рода сенсация. В последнее время мало кто верил в возобновление работы над Союзным договором — по крайней мере в ближайшем будущем. И все же сама жизнь расставляет все по местам. Многие республики пришли к выводу, что без политического союза продвигаться дальше невозможно.
Основное время члены Госсовета потратили на обмен мнениями по поводу статуса будущего Союза. Рассматривалось три варианта. Это — просто союз суверенных государств, не имеющий своего государственного образования. Или союз с централизованной государственной властью — федеративный, конфедеративный. И третий вариант — союз, выполняющий некоторые государственные функции, но без статуса государства и без названия. Обсуждалось несколько компромиссных решений. В конце концов участники сошлись на том, что будет Союз Суверенных Государств — конфедеративное государство, выполняющее делегированные государствами — участниками договора функции.
Россия. Борис Ельцин: «Трудно сказать, какое число государств войдет в союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет».
Казахстан. Нурсултан Назарбаев: «Республика всегда стояла за сохранение Союза, безусловно, не того, который был, а за союз, который реально сегодня существует. Это союз суверенных государств — самостоятельных и равноправных. Я на этой позиции стою, выражая мнение большинства населения Казахстана. Каким будет этот союз в конечном счете — конфедеративным или каким-то другим, покажет будущее».
Беларусь. Станислав Шушкевич: «По моему убеждению, вероятность образования нового союза существенно возросла. Я думаю, союз будет».
Кыргызстан. Аскар Акаев: «Присоединяюсь к коллегам. Я полон уверенности — союз будет».
Туркменистан. Сахат Мурадов (Председатель Верховного Совета республики): «На состоявшемся на днях заседании Верховного Совета все депутаты высказались за то, чтобы наша республика была в составе Союза Суверенных Государств».
Таджикистан. Акбаршо Искандаров (заместитель Председателя Верховного Совета): «Наша республика с самого начала была за союз. После сегодняшнего заседания появилась уверенность, что он будет».
Казалось, было сделано все, что в человеческих силах, чтобы сохранить союзное государство, завершить огромную работу над проектом Договора, преступно прерванную в августе. Но в этом трехлетнем марафоне пришлось одолеть еще один этап. Я имею в виду заседание Госсовета 25 ноября, на котором Ельцин вновь потребовал заменить формулу «Союзное государство» на «Союз государств» и заявил об отказе парафировать текст до рассмотрения его Верховным Советом.
Ссылка на парламент была не более чем уловкой. Я знал о настроениях в российском парламенте и был уверен, что там мало кто будет поддерживать ельцинскую формулу.
Будучи, не скрою, крайне раздраженным этим вероломством, я взял себя в руки и начал урезонивать Ельцина, настаивая на выполнении решений, согласованных всего десять дней назад. Но уже начинало срабатывать новое соотношение сил. Сначала Шушкевич, затем и некоторые другие, видимо, не желая вступать в ссору с российским лидером, заколебались. Тогда я заявил:
— С меня достаточно. Участвовать в развале Союза не буду. Оставляю вас одних, решайте. И помните, что на вас падет вся ответственность за судьбу страны.
Несмотря на попытки остановить меня, я встал и ушел в свой кабинет на первом этаже. Со мной вышли все «союзники». Через полчаса спустились Ельцин с Шушкевичем. Скрывая досаду, что пришлось все-таки на этот раз отступить, мне вручили текст сообщения о заседании, согласованный оставшимися наверху.
Взяв сообщение, убедился, что оно приемлемо, ограничился небольшими поправками, которые «парламентеры» приняли.
14 ноября мы условились на следующем заседании окончательно согласовать текст, парафировать каждую страницу и передать Верховным Советам, в печать. Почему же Ельцин, а за ним и другие не захотели ставить свои подписи? Думаю, советники уговорили его сохранить свободу рук для очередных поправок уже «под занавес» всей работы над Договором. Не исключаю, Президент России уже тогда знал, что документ этот так и не вступит в силу, а посему не хотел его визировать.
Сразу после заседания состоялась пресс-конференция. Я рассказал журналистам, что все принципиальные положения проекта остались без изменений. Но некоторые поправки все же внесены. Согласились упразднить должность председателя в будущем двухпалатном Верховном Совете ССГ. По настоянию республиканских лидеров «восстановили» Госсовет как орган согласования внутренней и внешней политики под руководством президента. Уточнили статус союзной прокуратуры — она должна была стать органом надзора за соблюдением законов при Верховном суде Союза. «Поточили» формулу, касающуюся принципов координации внешней политики.
Журналисты спросили меня на пресс-конференции, сохраняется ли возможность подписания Договора в начале декабря. Я ответил: в начале декабря нет, а к середине, к 20-м числам, вполне вероятно. Предстоит работа в комитетах, в Верховных Советах, потом дебаты и одобрение, формирование полномочных делегаций, которым будет поручено окончательно доработать текст и подписать его.
Помню, кто-то спросил, сохраняется ли у меня надежда, что к Договору присоединятся другие республики, не участвовавшие на последнем этапе в ново-огаревских консультациях. Я ответил положительно. Добавил: «И Украина будет участвовать. Не мыслю себе Союзного договора без Украины».
Корреспондент «Труда» поинтересовался, будет ли отдельно обсуждаться вопрос о названии нашего нового государства, поскольку аббревиатура «ССГ» уже подвергается критике. Я рассказал журналистам, что обратил внимание руководителей республик на критические публикации в прессе по этому поводу, предложил еще раз подумать. Но практически все стояли за Союз Суверенных Государств.
Кто-то из журналистов задал этот вопрос и Ельцину: некрасиво-де звучит аббревиатура «ССГ». Тот отшутился:
— Ничего, привыкнем.
А привыкать по воле «беловежской троицы» пришлось к СНГ. Привыкнем ли?
Вероломство
Я уже понимал, что Президент России хитрит, тянет время: значит, у него есть другой план. Поэтому перед самой встречей в Минске прямо спросил его: с чем он едет? Мой подход: есть проект Договора, Украина может присоединиться ко всем его статьям или к части из них. Ельцин, аргументируя задержку с рассмотрением Договора, вдруг заявил, что может встать вопрос об иной форме объединения. Я сказал, что разговор мы должны продолжить в Москве с участием руководителей Украины и Казахстана.
Когда же я узнал, что в Минск приехали Бурбулис и Шахрай[32], мне все стало ясно. Именно Бурбулис писал Ельцину записку, смысл которой состоял в том, что Россия, мол, потеряла уже половину из того, что она выиграла в результате разгрома путча, что «хитрый Горбачев» плетет сети, реанимирует союзный центр и его будут поддерживать республики. Все это России не выгодно, надо любой ценой предотвратить реализацию подобного сценария.
Итак, в Минске, в Бресте состоялась встреча трех президентов: России, Украины, Беларуси. И приняты были решения — вопреки тому, о чем мы договаривались на Госсовете СССР.
С 25 ноября минуло всего две недели, а Ельцин, вероломно нарушив свои обязательства, поставил подпись под документом, ликвидирующим Советский Союз.
Мне уже приходилось, и не раз, рассказывать о трагических событиях декабря 1991-го. Главное, что считаю нужным добавить сегодня: истекшие три года должны были убедить каждого, кто способен трезво рассуждать, что решение, принятое тремя президентами в Беловежской пуще, было в корне ошибочно.
Если даже исходить из того, что участники Беловежского соглашения, как сами они утверждают, не имели другого выхода, хотели спасти что можно, учредить хотя бы Сообщество, если не удается создать конфедерацию, то прошедшее время опровергло все эти утверждения.
Подтвердилось то, в чем я без устали и без успеха пытался убедить своих тогдашних партнеров: потери от распада СССР явятся колоссальным потрясением, несоизмеримым ни с какими приобретениями от суверенитетов. Ничего путного не получилось из Содружества. И в то же время все сильнее дает о себе знать тяга к интеграции, к объединению, к спасению хотя бы того, что еще можно спасти общими усилиями. Но, видимо, придется делать это заново, искать уже другие решения. Сделать это смогут только руководители следующего поколения, наученные нашим горьким опытом, способные поставить народные интересы и права человека выше национального и группового эгоизма.
3 декабря 1991 года сотрудник президентского аппарата Ю.М. Батурин, не встретившись со мной, оставил записку. Вот ее содержание: «Михаил Сергеевич, сегодня много новостей из Белого дома относительно Союзного договора, в том числе и неафишируемых. Завтра будет подготовлено заключение Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР».
К этой записке прилагались два документа. Один — замечания к проекту договора Комиссии Совета Национальностей по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям. Замечания датированы 29 ноября и свидетельствуют о том, что депутаты решительно настроены в пользу Союзного договора. Более того, комиссия считала, что вопрос о формировании союзного бюджета, его доходной части должен быть определен в самом договоре, без ссылок на какие-то другие соглашения. Тем самым депутаты фактически высказались за необходимость федеральных налогов и сборов. И другие замечания носили конкретный, деловой характер, расширяли сферу совместных действий, функции союзных органов.
Вот почему при наших встречах я обратил внимание Ельцина, что вопреки высказывавшимся им опасениям в Верховном Совете России не следует ожидать оппозиции Договору. Напротив, депутаты считают, что он нужен, и счет идет на часы.
В то же время, по сведениям из конфиденциальных источников, Бурбулис и К° готовили свой тактический ход: в последний момент отвергнуть проект Союзного договора, уже направленный в республики, и предложить совершенно иной. Тот самый, который впоследствии был извлечен из кармана госсекретаря и, как свидетельствуют очевидцы, наспех завизирован в Беловежской пуще. Как теперь стало ясно, замысел состоял в следующем. Официально инициатором нового договора должен был стать Кравчук. Признаюсь, у меня до недавнего времени оставались сомнения, вел ли Ельцин все эти месяцы двойную игру или все-таки проявил «слабину» в последний момент, сдался под напором своих советников и Кравчука, да еще в «теплой обстановке». Не верилось, что человек способен на такое коварство. Но, встречаясь в 1993 году с членами депутатской группы «Смена» в бывшем Верховном Совете России, я узнал от одного из депутатов, входившего в прошлом в круг рьяных сторонников Ельцина, следующее.
После возвращения из Минска в декабре 91-го Президент России собрал группу близких ему депутатов, с тем чтобы заручиться поддержкой при ратификации минских соглашений. Его спросили, насколько они законны с правовой точки зрения. Неожиданно президент ударился в 40-минутные рассуждения, с вдохновением рассказывал, как ему удалось «навесить лапшу» Горбачеву перед поездкой в Минск, убедить его, что будет преследовать там одну цель, в то время как на деле собирался делать прямо противоположное. «Надо было выключить Горбачева из игры», — добавил Ельцин.
Комментарии, как говорится, излишни. Президент России и его окружение фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле.
Черные дни Союза и России
Первые дни декабря были наполнены тревогой. Не только журналисты, но и зарубежные государственные, общественные деятели искали контактов со мной. Они хотели знать, что происходит и какая судьба ждет те грандиозные начинания, которые оказали огромное воздействие на всю мировую ситуацию.
А ситуация выглядела так. Проходит день, никаких новостей из Минска до меня не доходит, никому ничего не известно. Подумалось: решили «расслабиться» — так оно и было. Но потом я начал интересоваться, что же там происходит. Оказалось, через мою голову ведут разговоры с министрами, в том числе с Шапошниковым, а он, как и Баранников, не счел нужным меня информировать. Я позвонил министру обороны и спросил, что происходит. Он извивался как уж на сковородке, но все же сказал, что ему звонили, спрашивали, как он смотрит на характер объединенных вооруженных сил в будущем государственном образовании. Ничего, мол, больше не знаю. Откровенно врал. (Шапошников сейчас «философствует» по поводу событий тех дней, но я-то, грешным делом, думаю, что он пытается замутить ситуацию с его поведением в те дни как министра обороны Союза.)
Наконец вечером раздался звонок Шушкевича, которому, оказывается, Ельцин и Кравчук поручили в их присутствии сообщить мне о принятых решениях. Он сказал, что уже был разговор с Бушем и тот «поддержал».
Я попросил передать трубку Ельцину и сказал ему: «То, что вы сделали за моей спиной, согласовав с Президентом Соединенных Штатов, — это позор, стыдобища!» Потребовал более подробной информации. Была подтверждена договоренность о встрече назавтра, в понедельник.
В тот день в Москву по договоренности прилетел Назарбаев. Узнав о событиях в Минске, стал советоваться со мной, сказал, что его туда приглашают. Я поинтересовался, что он сам думает. Видел: оскорблен случившимся. И вместе с тем почувствовал, что, если бы его позвали раньше, и он бы поехал. Наверное, это было бы лучше. Хотя трудно предугадать.
Свое официальное отношение к Минскому соглашению я выразил в Заявлении Президента СССР, опубликованном 10 декабря. В нем подчеркивалось: «Судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств и учетом воли их народов. Неправомерно и опасно также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе. Вызывает недоумение скоропалительность появления документа. Он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых подписан. Тем более это произошло в тот момент, когда в ' парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным советом СССР».
Поскольку в соглашении провозглашалась «иная формула государственности», я заявил о необходимости созвать Съезд народных депутатов СССР, не исключал и проведения всенародного референдума (плебисцита) по этому вопросу.
11 декабря я дал интервью главному редактору «Независимой газеты» Виталию Третьякову.
— Не кажется ли вам сегодня, — спросил он, — что ваша политика, нацеленная на подписание Союзного договора, и включенный в нее ново-огаревский процесс оказались ошибочными?
— Нет, я убежден, что Союзный договор как база для реформирования унитарного многонационального государства просто необходим. Я не собираюсь претендовать на лидерство в каких-то новых структурах, выдвигать свою кандидатуру — для меня это вопрос неактуальный. Я бьюсь за то, что нам нужно союзное государство, суверенные государства сами договариваются и сами формируют тот центр, который им нужен. Но обязательно Союз…
Не выдерживают критики утверждения ельцинистов, что-де у «героев» Беловежской пущи не было выбора, что Украина «уходила» и идея Союза лишилась всякой перспективы. Это — сплошная ложь.
Еще до того, как Кравчук использовал референдум 1 декабря, чтобы заблокировать подписание Украиной Союзного договора, было достигнуто согласие, что будет конфедеративное государство с общим рынком, согласованной внешней политикой, едиными вооруженными силами, общими валютой, банковским союзом, энергетикой, космической деятельностью, транспортом и связью, то есть всеми теми сферами, где Союз работает для всех.
В Минском заявлении говорится, что «договорный процесс зашел в тупик». Я спрашиваю: кто в тупике? Восемь республик готовы были подписать Союзный договор, в парламентах начались обсуждения. В тупике Украина? Ну так давайте не будем все в этот тупик рваться, а поможем Украине.
Наконец, уместно спросить: что, развалив Союз якобы ради связей с Украиной, Ельцин спас эти связи? Напротив, в рамках СНГ они оказались в самом плачевном состоянии.
Вернувшись из Минска, Ельцин пришел ко мне. Небезынтересно, что предварительно он выяснял по телефону, насколько безопасен его приход ко мне: понимал, что нашкодил. В беседе, как и намечалось, участвовал и Назарбаев, хотя Ельцину это не понравилось. Разговор был тяжелым: «Вы встретились в лесу и «закрыли» Советский Союз. Речь идет о своего рода политическом перевороте, совершенном за спиной Верховных Советов республик. Я остаюсь верен своей позиции, но буду уважать выбор, который сделают республики, парламенты. Если мы за демократию и реформы, то должны действовать по демократическим правилам. Ведь вы же не с большой дороги!»
Акция в Минске поставила азиатские республики перед свершившимся фактом. Эффект «отталкивания», намек на «вторичность» азиатских государств в определении характера Содружества не пройдут даром. Была допущена большая, может быть, даже историческая ошибка.
Руководители и парламенты Казахстана, государств Средней Азии проявили тогда реализм, заняли, я бы сказал, более цивилизованную позицию, чем их европейские коллеги.
Ашхабадская, а затем Алма-Атинская встречи несколько сбалансировали грубый перекос, допущенный в Минске. Содружество — взамен Советского Союза — получило большую легитимность. Однако логику дезинтеграции принятые там документы не поломали. Многие существенные для жизнеспособности Содружества вопросы оставлены в виде деклараций о намерениях, да и то по-разному толкуемых. Последовавшее поведение Украины и другие события — тому свидетельство.
Вообще, все происходящее после «Пущи» я не могу охарактеризовать иначе как иррациональное. В российском парламенте все, кроме тринадцати депутатов, голосуют «за»[33]. Хасбулатов спустя год-два весьма сожалел, что добивался ратификации беловежского соглашения, обращался к Зюганову с просьбой уговорить депутатов-коммунистов голосовать «за».
На встрече с прессой 12 декабря мне, в частности, задали вопрос: не примешивается ли к моей оценке сделанного в Минске и Беловежской пуще горечь поражения?
— Нет! Я об этом сказал и Ельцину, мы с ним всегда говорили откровенно. Я не разделяю позицию создателей СНГ, но обсуждаю с ними все интересующие их вопросы.
После Минска я встречался с Ельциным, Назарбаевым, Муталибо-вым, Набиевым, беседовал с Кравчуком, Шушкевичем, Акаевым. Вчера снова звонил мне Назарбаев. Сказал, что азиатские республики собираются обсудить свою совместную линию в Ашхабаде.
В конце концов, каждый в политике делает выбор. В свое время я был инициатором референдума, первого в истории нашего Отечества. Народ проголосовал тогда за Союз. Соглашаясь преобразовать его в Союз Суверенных Государств как конфедеративное государство, мы уже тогда отступали от того, что понималось под обновленным Союзом, за что голосовали на референдуме. Но все же могли говорить о единой стране, едином Отечестве.
По чести говоря, надо было и новое образование — Союз Независимых Государств — представить на суд народа. Пусть народ решит — согласен разделить страну или нет…
18 декабря я направил письмо участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств. Опубликовано оно было 20 декабря и осталось без последствий.
23 декабря, в течение многих часов, с небольшими перерывами, мы с Ельциным обсуждали вопросы перехода от союзного государства к СНГ. 25 декабря я подписал Указ о сложении полномочий Президента СССР и выступил по телевидению с обращением к народу, с которым я ознакомил читателя в начале книги.
Вновь и вновь возвращаюсь мысленно к событиям декабря. И прихожу к выводу, что поступить иначе я не имел права. Пойти наперекор решениям 11 республик, когда их Верховные Советы одобрили Минское соглашение, значило развязать в стране кровавую бойню, которая могла перерасти во вселенскую катастрофу. А мое тогдашнее состояние, логику действий в известной мере передают приводимые рассуждения из беседы с корреспондентами «Комсомольской правды» (24 декабря 1991 г.).
— Знаете, — говорил я им, — хотя в эту концепцию Содружества не верю, раз пошли республики, я не могу, не считаю возможным в нынешней сложнейшей ситуации раскалывать общество.
— У Бека в «Новом назначении», — сказал В.Фронин, — описывается такая болезнь: «сшибка», конфликт между внутренним состоянием личности и необходимостью выполнять свои функциональные обязанности. Возможно, показалось, но вы сейчас описали симптомы именно этой болезни.
— Я все-таки не раздваиваюсь, но есть интересы, которым подчиняюсь и как политик, и как человек. Если создание Содружества поможет согласию людей, надо смирить свою гордыню.
— У нас есть ощущение, что созданием Содружества вы в какой-то степени пугаете. Вы сами когда-то говорили, что нам «подбрасывают» то идеи о голоде, то о катастрофе, а теперь и у вас появились похожие интонации…
— Я и сейчас не хочу никого запугивать. Но об опасностях должен сказать? Думаю, самые большие опасности связаны с двумя моментами: с расчленением страны, с решением вопросов гражданства. Вы представляете ограниченное границами и паспортами передвижение в мире, где 75 миллионов живет за пределами своих родных мест? Вот об этом я думал, когда говорил, что мы заложим страшные бомбы.
— Все-таки и единый рубль сохраняется, и Украина не уходит.
— Еще неясно, объединение это или разъединение. Знаете, какая концепция была у Бурбулиса? Нужен центр, чтобы осуществить бракоразводный процесс независимых государств.
— Брак для развода? Вряд ли…
Глава 45. Мы и внешний мир после путча
Как восприняли путч за рубежом
Путчисты были готовы пренебречь реакцией международного сообщества. Не учли принципиальные изменения в международном положении нашего государства, особенно в отношениях с США и европейскими странами. Поначалу, может быть, и были некоторые колебания, однако очень скоро большинство правительств осудили путч и отвергли претензию ГКЧП представлять СССР.
Из всех разговоров, которые я имел в первые часы и дни после возвращения в Москву — с Бушем, Миттераном, Колем, Мейджором, Ан-дреотти, Малруни, Хоуком, Кайфу, Мубараком, другими главами государств и правительств, — никто путчистов не одобрил. Кроме Каддафи и Хусейна. Новые отношения с внешним миром наряду с демократическими завоеваниями перестройки — один из главных факторов, предопределивших поражение заговора.
В начале сентября 1991 года, спустя несколько дней после провала путча, состоялась — в соответствии с ранее намеченным планом — Московская гуманитарная конференция в рамках СБСЕ. У нас были серьезные сомнения — проводить ее, отложить или перенести в другую страну. Тогда еще было много неясностей. Но консультации с правительствами европейских государств, США и Канады показали, что все они — за проведение конференции в Москве в намеченный срок. Нам дали понять, что видят в этом долг солидарности с победившей демократией.
В своем выступлении при открытии Московского совещания я сделал упор на тех аспектах защиты прав человека, которые особенно резко высветила сложившаяся у нас ситуация. Один из них — нрава меньшинств. И прежде всего я думал в тот момент о судьбе русских в государствах Прибалтики, которые как раз в эти дни отделились от Советского Союза, были приняты в СБСЕ. Отношение к меньшинствам в этих странах уже тогда вызывало серьезную тревогу. Если, говорил я, Европа не хочет оказаться перед лицом потока беженцев, вооруженных конфликтов, межнациональной ненависти, гибели людей и разорения городов и сел, она должна очень строго следить за соблюдением прав меньшинств всеми государственными субъектами на ее пространстве.
Я считал, что после заключения нового Союзного договора нужно еще активнее действовать на всех направлениях, предусмотренных Хартией для новой Европы, участвовать в совместной выработке оптимальных подходов, чтобы не сыграть на руку силам сепаратизма и национального экстремизма, не нанести ущерба начавшемуся формированию новой Европы. Исходил из того, что европейцы и все мировое сообщество, наученное югославской трагедией, заинтересованы в сохранении целостного государства на 1/6 части земного шара как одного из основных гарантов нового мирового порядка. Тогда у нас и на Западе раздавались голоса, ратовавшие за то, чтобы сохранить Союз ради того, чтобы иметь противовес объединенной Германии. Я считал, что обновленный Союз и новая единая Германия как раз и могут стать могучим фактором сотрудничества и мира во всей Европе, своим дружественным взаимодействием дадут мощный импульс общеевропейскому процессу без потрясений и хаоса.
Проведение в Москве представительного международного форума дало возможность встретиться со многими моими старыми друзьями и партнерами, обсудить с ними волновавшие и нас, и их вопросы. Решения, принятые незадолго до того Пятым внеочередным съездом народных депутатов СССР, открывали возможность превращения страны в Союз Суверенных Государств. Это коренным образом меняло и ситуацию в Европе. В беседах с Бейкером, другими руководителями внешнеполитических ведомств Запада, приехавшими в Москву, я подчеркивал, что в этой новой ситуации будущий Союз Суверенных Государств должен стать восприемником всего позитивного, что было в предшествующие годы сделано СССР на международной арене.
Остро восприняло сообщение об августовском путче испанское руководство. 11 сентября я принял приехавшего в Москву на гуманитарную конференцию Ф.Ордоньеса, который сказал:
— Фелипе Гонсалес поручил мне передать вам свое устное послание. Прежде всего он просил сказать, что все мы в дни путча испытали огромное напряжение и озабоченность вашей судьбой и судьбой вашего дела. Напряжение усилилось в связи с тем, что первая информация, поступившая из Советского Союза, носила крайне неопределенный характер. Нас также крайне обеспокоила «смазанная» реакция на события в вашей стране со стороны некоторых наших партнеров. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу добиться необходимой жесткой реакции международного сообщества на происходившее в СССР.
Позднее, в конце октября, когда мне довелось вновь посетить Мадрид в качестве сопредседателя Международной конференции по Ближнему Востоку, Гонсалес рассказал, как он действовал, узнав о путче. «Утром 19 августа после сообщения о перевороте я в вертолете по дороге в Мадрид за два часа пути составил правительственное заявление с недвусмысленной характеристикой происшедшего. Этот проект мы обсудили с моим заместителем и министром иностранных дел. Три главных элемента в нем я считал абсолютно необходимыми: охарактеризовать происшедшее как государственный переворот, потребовать сохранения политики перестройки в полном объеме, призвать международное сообщество к скоординированным действиям, чтобы в Советском Союзе знали, что мир со сложившейся ситуацией мириться не будет.
Министр иностранных дел, уже имевший информацию от всех западных коллег, прямо сказал, что мы — единственные, кто занял такую позицию. Я ему ответил, что это не может повлиять на наш принципиальный подход, путчисты не должны укрепляться у власти. Сказал, что необходимо начать соответствующие усилия по координации шагов с союзниками. Сам позвонил Бушу, он летел в этот момент из Мэна в Вашингтон, и рассказал о нашем заявлении. Буш откровенно мне сказал, что для него главное, чтобы не пришлось говорить общественному мнению, прессе США, что в результате событий в Москве под угрозой оказывается вся система безопасности Восток — Запад. После Персидского залива он не мог себе позволить опять мобилизовать американское общество из-за возникновения напряженности в Европе. Его можно, конечно, понять, но я ему тогда сказал, что заявление свое не изменю.
Я, — продолжал Гонсалес, — также обратился к Бушу с просьбой, чтобы он по прямой связи позвонил в Кремль — у меня нет такой линии, а по обычным каналам меня в Москве ни с кем не соединяют. Пусть Президенту США из Кремля объяснят, что происходит и где Горбачев. Буш согласился со мной, но я сказал, что и этого недостаточно. Необходимо по всем официальным каналам оказывать соответствующее давление на путчистов. И еще одно — . — давайте, сказал я ему, условимся не говорить о Горбачеве и его деле в прошедшем времени. Он тоже с этим согласился».
Затем Гонсалес (чувствовалось, что он тяжело переживал этот разговор) сказал мне прямо: «Михаил, у меня в те дни сложилось впечатление, что Запад воспринял происшедшее как необратимое и был готов смириться с этим. Я это настроение ощутил даже среди своих ближайших сотрудников. Отсюда делаю вывод, что политические лидеры Запада не имеют сегодня уверенности в способности Советского Союза сохраниться и поэтому исходят из двух возможных вариантов, включая распад СССР. Меня, — признался Фелипе, — это очень гнетет». Он не мог скрыть своего возмущения школярской, близорукой позицией некоторых своих коллег по НАТО: министр иностранных дел одной натовской страны в его присутствии заявил, что не видит ничего страшного в появлении в Европе 100 государств вместо 34, подписавших Парижскую хартию.
Во время моего пребывания в Мадриде произошла еще одна знаменательная встреча, которую по уникальности трудно с чем-либо сравнить. Король Испании решил воспользоваться одновременным пребыванием в его столице президентов США и СССР и пригласил нас с Бушем на «дружеский ужин», в котором участвовал и Фелипе Гонсалес.
Разговор начался с вопросов открывавшейся на утро конференции по Ближнему Востоку. Но больше всего моих собеседников интересовало положение в СССР. Это был четырехчасовой поразительно откровенный, «мужской» разговор. Гонсалес говорил: ч — Действия путчистов — пример того, когда люди разрушают то, что якобы хотят спасти. Никто так не способствовал центробежным тенденциям в СССР, как они. А между тем Европе и миру нужен Союз. В Европе создаются две основные окружности — одна на Западе, тяготеющая к ЕС, другая должна быть на Востоке. Это нынешний Советский Союз, Союз Суверенных Государств, за который вы выступаете. Если второй окружности не будет, не будет важной опоры стабильности в Европе и в мире. Образуется опасный вакуум.
— Нас всех, — сказал Дж. Буш, — волнует будущая судьба Союза. Как следует воспринимать речь, с которой только что выступил Ельцин? — задал он мне вопрос. Ее политическая часть вызвала у моих собеседников (не без оснований) сомнения в приверженности Президента России новому, уже согласованному проекту Союзного договора.
Я старался, естественно, сгладить это впечатление, говорил об окружении Ельцина, о его подверженности влияниям. Но не мог не признать: в речи есть такие вещи, которые уводят от концепции союзного государства. (Между прочим, Егор Яковлев, который был с нами в этой поездке, прочитав речь, сказал: Ельцин будет разрушать Союз, но так, чтобы свалить вину на другие республики.)
Моих собеседников интересовала позиция украинского руководства, в частности Кравчука, руководителей других республик. И им, людям рационально мыслящим, просто трудно было понять действия некоторых руководителей республик. Мнение сводилось к тому, что в современных государствах понятие самоопределения нельзя доводить до абсурда. Отделение — это абсурд. До какой степени делиться? Вплоть до самоопределения поселка? Но это логический итог, если начинать дробление. В самом деле: центра, олицетворявшего тоталитарные структуры, больше не было, а борьба «против центра» продолжалась.
Тогда я был убежден и говорил участникам этой необычной встречи: шанс создать полнокровный новый Союз, такой, где республики будут действительно суверенны, еще есть. Этим же я руководствовался в своих действиях в октябре — ноябре 1991 года.
Буш посетовал, что будущий год будет для него трудным, предстояли президентские выборы.
— Не хочу, — сказал он, обращаясь ко мне, — сравнивать эти заботы с той гигантской задачей, которую решаете сегодня вы. Это потрясающая, захватывающая драма. Мы следим за ней, затаив дыхание, и желаем вам успеха.
Новые усилия в пользу реформ
После августовского путча возникла совершенно новая ситуация. С одной стороны, отпали многие препятствия на пути радикальных перемен. Мы получили уникальный шанс для ускорения реформ, более быстрого перехода к рынку. С другой — последствия путча обострили политическую борьбу, подтолкнули центробежные тенденции в Союзе, усугубили кризис народного хозяйства.
Началось расстройство основных систем жизнеобеспечения, прежде всего продовольствием и топливно-энергетическими ресурсами. Критической точки достигли валютные трудности. Поступления средств по ранее согласованным кредитам в дни путча оказались замороженными. Полностью прекратилось предоставление краткосрочных средств на финансовых рынках. Затруднилось проведение всех других валютных операций. Необходимо было срочно разблокировать предоставленные ранее кредиты и изыскать до конца года дополнительно 5–8 миллиардов долларов. В противном случае свертывание импорта повлекло бы за собой спад производства, особенно в машиностроении и легкой промышленности.
В сложившейся ситуации проблема экономической поддержки реформ со стороны Запада приобрела неотложный характер. Западные партнеры, в общем, понимали это. Но продолжали колебаться, «переминались с ноги на ногу». В сентябре — ноябре 1991 года, несмотря на огромную занятость внутренними делами, я чуть ли не каждый день, чаще по вечерам, встречался с зарубежными деятелями (на иной день приходилось по две-три встречи), стремясь побудить их к конкретным шагам. Среди моих собеседников в те месяцы — Мейджор, Коль, Миттеран, Буш, Андреотти, Гонсалес, министры иностранных дел и финансов всех стран «семерки», многих других стран Европы, парламентарии, крупные бизнесмены.
Началось все с переговоров с Мейджором — координатором «семерки». Его позиция имела существенное значение в определении линии других партнеров. Разумеется, я помнил, что до Лондонской встречи он не был в числе тех, кто активно поддержал концепцию встречного движения в процессе интеграции Советского Союза в мировое экономическое сообщество. Надо, однако, отдать должное британскому премьеру — он первый из западных руководителей прилетел в Москву (1 сентября), чтобы на месте оценить сложившуюся ситуацию и обсудить пути реализации лондонских договоренностей.
Разговор происходил накануне открытия Пятого съезда народных депутатов. Я информировал премьер-министра о развитии событий, о том, что предпринято после путча, о наших планах. И, конечно, сразу выделил главную мысль: нужна более существенная и открытая поддержка со стороны западных стран. Прямо сказал:
— Я знаю, что и сейчас у вас идут споры. Мне известно, что вы обсуждали этот вопрос с президентом Бушем. Хочу сказать откровенно: вам тоже надо отказываться от догм и стереотипов в вопросе о том, когда нужно оказать поддержку Советскому Союзу.
В конкретном плане речь шла о поддержании нашего импорта, который пришлось бы фактически свернуть без отсрочки текущих платежей, о проблеме обслуживания внешнего долга, содействии скорейшему переходу к конвертируемости рубля, структурной перестройке через осуществление крупных международных инвестиционных проектов. Наконец, о помощи в развитии частного сектора и подготовке кадров для рыночной экономики.
Мейджор сказал, что западные политики действительно с тревогой обсуждают ситуацию в СССР и линию «семерки» в этой связи. Его высказывания подтвердили впечатление, что европейцы лучше чувствовали ситуацию, чем, скажем, Япония или США. Он говорил об «огромном облегчении», которое испытали он и его коллеги в связи с провалом путча. Но упомянул и об озабоченности Запада рядом проблем — таких, как процесс подготовки Союзного договора, формы связей между республиками и центром, контроль над ядерным оружием и, конечно, перспектива экономических реформ и управляемости экономикой.
Мейджор заверил меня, что они заинтересованы в успехе реформ. Вновь назвал те сферы (продовольствие, медикаменты, консультации экспертов и т. д.), где США и Великобритания готовы оказать помощь в самом оперативном порядке и намерены активно побуждать к этому других участников «семерки». Мы рассмотрели возможные способы смягчения проблемы нашей внешней задолженности и договорились, что эксперты оперативно обсудят все поставленные мной вопросы, а затем Мейджор проинформирует лидеров «семерки».
Я попросил Джона быть готовым к еще одной встрече в этот день поздно вечером. К этому времени рассчитывал закончить выработку Совместного заявления с руководителями республик. Так и вышло — почти. За окном кремлевского кабинета была глубокая ночь, когда я излагал Мейджору содержание Совместного заявления. Он задал несколько вопросов, в частности — о преемственности во внешне-экономических связях (на другой день мы включили в текст подтверждение всех внешнеэкономических обязательств СССР). Было видно, что заявление произвело на него впечатление.
По просьбе Мейджора мы продолжили беседу с глазу на глаз. Речь шла о вопросах контроля над ядерным оружием и новых данных, касавшихся подозрений Запада относительно проведения в Советском Союзе работ по биологическому оружию. Я обещал провести дополнительное расследование, поручив его новым людям. И был задан еще один вопрос, который я не считаю себя вправе воспроизводить, но, думаю, могу привести свой ответ:
— Можете исходить из того, что сотрудничество Горбачева и Ельцина — это реальность. Такая реальность, что если она будет подорвана, то это будет гибельно. И между нами есть понимание, что наше взаимодействие вступило в новую фазу.
— Нам очень хотелось бы, — реагировал он, — чтобы в новых обстоятельствах у вас сложились правильные рабочие взаимоотношения. И кажется, это происходит.
6 сентября моим собеседником был министр экономики, финансов и бюджета Франции Пьер Береговуа.
— Мы преисполнены желания, — говорил я, — выйти из нынешней кризисной ситуации, все ждут этого. И к Франции обращаемся как к старому и доброму другу. К сожалению, передряги последнего времени помешали реализации договоренностей, достигнутых с президентом Миттераном по крупным проектам в аграрной области, в области энергетики и некоторых других. Но все эти проекты остаются в силе.
Думаю, началом осени можно датировать признаки сдвига в отношении содействия нашей стране со стороны ранее колебавшихся наших партнеров. Но давался этот сдвиг нелегко. Как и прежде, французы, немцы, итальянцы проявляли большее понимание. Это проявилось в беседах с Береговуа, Геншером, Дюма, Де Микелисом, Вайгелем и многими другими деятелями, с которыми мне пришлось разговаривать в тот период.
Состоялся разговор по телефону с Колем. Канцлер сообщил, что в конце недели намечена «принципиально важная» встреча заместителей министров финансов стран «семерки», и просил принять 12 сентября статс-секретаря Х.Келлера. Очень важно, сказал Коль, чтобы до встречи он мог условиться о ряде аспектов. Мы договорились и о поездке в Бонн Яковлева.
Разумеется, все, с кем тогда пришлось вести переговоры, хотели быть уверенными, что помощь не уйдет в песок, не станет жертвой «войны» между центром и республиками. Многое вызывало у них тревогу. Характерны слова Де Микелиса, сказанные в беседе со мной 9 сентября: «Для меня абсолютно ясно, что отсутствие у вас координирующего центра в переходный период грозило бы провалом всех планов». Мне постоянно тогда задавали вопрос: с кем иметь дело, как распределены полномочия между центром и республиками?
Я рассчитывал на то, что республики будут следовать достигнутым договоренностям. И с их стороны необходимо было одно — политическая воля, решимость действовать разумно в собственных же интересах.
Конечно, я понимал, что серьезного сдвига не будет без изменения позиции США. Поэтому ключевое значение имела состоявшаяся 11 сентября беседа с Бейкером. За три года наши отношения стали такими, что можно было начинать разговор без околичностей и предисловий. И он получился широким по охвату вопросов — политических и экономических.
В этот же день я встретился с министрами иностранных дел Дании — У.Эллеманом-Енсеном, Норвегии — Т.,Столтенбергом, Швеции — С.Андерссоном, Финляндии — П.Вяярюненом и специальным помощником министра иностранных дел Исландии Т.Олафссоном.
— Что конкретно советская сторона ожидает от Запада, в первую очередь от «семерки»? — спросил Столтенберг.
— Первое и главное, — ответил я, — содействие в решении неотложных проблем с продовольствием, медикаментами, в финансовых вопросах. Мы рассчитываем на поддержку «методом быстрого реагирования». Остальное, когда выйдем на экономический договор, будем решать на основе нормального сотрудничества в осуществлении проектов, программ, на базе органического включения советской экономики в мировую.
Король Саудовской Аравии Фахд, получив мое послание, переданное специально посланным мной в Эр-Рияд Примаковым, направил в Москву своего личного представителя принца Бендера бен Султана, которого я принял 19 сентября. Он сообщил о готовности Саудовской Аравии ускорить осуществление ранее достигнутых договоренностей о кредите, а также оказать помощь в удовлетворении наших неотложных потребностей в продовольствии и медикаментах.
«Мы считали бы прискорбным, — сказал Бендер бен Султан, — если бы республики Советского Союза разошлись и действовали поодиночке. Это было бы плохо для Советского Союза, для нас, для всего мира. В интересах всех нужно, чтобы они остались вместе. Помощь, которую готово оказать международное сообщество, будет существенной только в том случае, если ее получателем будет единая страна. В противном случае готовность помочь будет меньшей».
23 сентября представилась возможность обсудить весь этот круг вопросов с Андреотти, который остановился в Москве, возвращаясь из Китая. Я поблагодарил его за поддержку в августовские дни. Рассказал собеседнику, как развивались события. Затем мы вернулись к встрече в Лондоне, к вопросу о реализации достигнутых нами договоренностей. Андреотти сказал, что в ноябре в Риме будет заседать совет НАТО. Цель заседания — учесть изменения, происшедшие в мире и в Европе, решить, как строить дальнейшую политику.
Программа взаимодействия с «семеркой», перечеркнутая в Беловежской пуще
Думаю, в сентябре 1991 года начала вырисовываться серьезная программа партнерства со странами «семерки» в решении неотложных проблем нашей страны и выходе на новые рубежи сотрудничества. В процессе совместной работы эксперты с обеих сторон убеждались, что проблемы остры, но разрешимы и не так уж велики по сравнению с потенциалом страны. В конце концов, говорил я, что такое для нашей страны внешний долг в 65 миллиардов долларов? Дело даже не в том, что еще большую сумму — 84 миллиарда долларов — должны нам, а в общем потенциале страны.
В октябре работа на уровне экспертов по уточнению наших потребностей и выработке путей совместного решения проблем шла полным ходом. 5 октября я встретился с президентом Всемирного банка Л.Престоном. Подчеркнул:
— Сейчас мы на самом трудном, болезненном, хотя и многообещающем отрезке в нашем движении к рынку. Мы не первые, наверное, и не последние, кому приходится претерпевать такие глубокие перемены. На наших глазах это происходит в Восточной Европе, такой переход совершают Мексика, Бразилия и другие страны. Это часть общего движения. Но у нас оно сопряжено с особыми трудностями. Не просто поворачивать такую огромную махина, как наша страна.
— Да, — согласился Престон. — Это часть одной тенденции, но у вас и корабль больше, и экипаж сложнее. — Он рассказал о проекте содействия аграрной реформе, которую обсуждал в Москве с хозяйственными руководителями различного уровня. Речь шла об участии банка в модернизации агробизнеса, создании инфраструктуры, охватывающей хранение, транспортировку и переработку. Я заявил, что решительно поддерживаю проект. Было подписано соответствующее соглашение.
Краткосрочные потребности в кредитной и гуманитарной продовольственной помощи я обсуждал 9 октября с министром сельского хозяйства США Э.Мэдиганом.
Октябрь прошел в интенсивной работе на уровне экспертов — наших (центра и республик) и «семерки», а также ЕС. Тщательно просчитывались все потребности и возможности. Наступало время принятия принципиальных решений. Буквально в день моего отлета на открытие Мадридской конференции по Ближнему Востоку, где предстоял разговор с Бушем, представители республик и наших западных партнеров приняли важные решения о принципах обслуживания внешнего долга СССР. Подготовка их шла в условиях серьезной политической борьбы вокруг проблемы будущего Союза.
Настойчивая, многоплановая работа с зарубежными партнерами не оставалась безрезультатной. 12 ноября Мейджор сообщил мне, что в «семерке» и ЕС удалось согласовать программу срочной помощи в объеме 10 миллиардов долларов. Сообщение это поступило буквально на следующий день после окончания римской сессии совета НАТО, где также обсуждалась ситуация в Союзе, о чем меня информировал специально направленный Андреотти в Москву его советник Ваттани (13 ноября). Предложения «семерки» о массированной помощи обуславливались готовностью суверенных республик, включая Россию, принять на себя обязательства СССР по внешней задолженности и проявить «сдержанность» в отношении формирования собственных вооруженных сил.
Спустя неделю в Москву для переговоров на эту тему прибыли специальные представители «семерки», так называемые «шерпы». Я принял их 20 ноября. К этому времени они провели переговоры на уровне союзного и республиканских правительств. Переговоры шли трудно, но в итоге выяснилось, что 8 или 9 республик выразили готовность подписать меморандум о договоренности без каких-либо оговорок. Уикс проинформировал меня о состоявшихся переговорах, о том, что пакет западных предложений включает семь взаимоувязанных элементов. В нем предусматривалась отсрочка платежей основной части задолженности на определенных условиях. Важным элементом представленных предложений была их взаимосвязь с экономическими реформами внутри страны. Я подтвердил, что именно так ставился мною вопрос на встрече с руководителями «семерки» в Лондоне. Сейчас, подчеркнул Уикс, необходимо разработать механизм оказания содействия вашим реформам.
К этому времени была достигнута договоренность о предоставлении нашей стране статуса ассоциированного члена Международного валютного фонда. В 20-х числах ноября в Москву приехал исполнительный директор МВФ Камдессю. Мы обсудили возможную роль фонда в содействии нашей экономической реформе. От имени Советского Союза я подписал протокол о вступлении СССР в качестве ассоциированного члена в Международный валютный фонд. При этом имелось в виду, что в скором времени нам будет предоставлен статус полноправного члена МВФ.
Спустя несколько дней я получил важное послание от Джона Мей-джора, которое мне принес посол Р.Брейтвейт (2 декабря). В нем конкретно перечислялись обязательства «семерки» по оказанию продовольственной и медицинской помощи, интеграции Союза в мирохозяйственные связи. Однако через неделю произошла «Беловежская пуща».
Мейджор в срочном порядке направил в Москву специального представителя британского правительства Д.Эплярда. Мы беседовали с ним 13 декабря. Миссия Эплярда, как он пояснил, состояла в том, чтобы, во-первых, из первых рук получить представление о последних событиях в Москве, Минске и Киеве; во-вторых, прояснить вопрос о международных обязательствах Советского Союза в новой ситуации.
Изложив свое видение создавшейся обстановки, я счел необходимым сказать: «Передайте господину Мейджору, что я очень удовлетворен сотрудничеством с ним. Его позиция после июля приобрела большой масштаб, я чувствовал его большую расположенность к нам. Я знаю, что он понимает процессы, которые у нас идут. Пожалуйста, передайте ему, что нельзя останавливать помощь. Надо ее увеличить. Надо все сделать, чтобы спасти демократию у нас. А это значит, необходимы продовольствие, товары, медикаменты, надо не допустить, чтобы люди вышли на улицу».
Эплярд сказал, что из-за совещания в Маастрихте Мейджор не сможет, как он надеялся, прибыть до конца года в Москву. Я понимал, конечно, что дело не в этом. У меня не было оснований обижаться. «Жизнь, — сказал я, — обгоняет нас, история снова ускоряет свой ход».
Зарубежное эхо на беловежские решения
Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза вызвало за рубежом разную реакцию. Среди западных политиков второго эшелона было немало таких, кто рассматривал ликвидацию СССР как основную цель, ради которой и велась «холодная война». В этих кругах сообщение о беловежских решениях вызвало удовлетворение, а кое у кого — ликование. Однако основные фигуры на международной политической арене восприняли эту акцию с тревогой. В своей политике, как только возникла сама проблема, они, руководствуясь, естественно, национальными интересами, делали выбор в пользу сохранения целостности нашего государства. Их высказывания на этот счет я приводил выше. Для любого серьезного государственного деятеля было очевидно, что распад СССР создаст опасный геополитический вакуум с трудно предсказуемыми последствиями.
Вместе с тем некоторые зарубежные политики поверили, что объявленное в Беловежской пуще СНГ станет реалистическим вариантом замены СССР. Отсюда и размытость у кое-кого позиций, которую я почувствовал в телефонных разговорах с некоторыми лидерами Запада в те полные драматизма декабрьские дни.
Еще до беловежского сидения, 3 декабря, мне позвонил Коль, он с беспокойством спрашивал, как обстоят дела. Я кратко обрисовал обстановку и призвал канцлера способствовать тому, чтобы не произошло худшего также и для внешнего мира. Договорились вернуться к разговору через неделю.
4 декабря состоялся телефонный разговор с Президентом Польши Лехом Валенсой. Он высказал солидарность с моей концепцией реформирования СССР и выразил готовность, в случае необходимости, обратиться к народам нашей страны с призывом следовать по эволюционному пути реформ.
На другой день я беседовал с венгерским премьером Иозефом Ан-талом. Он говорил о необходимости удержать процесс суверенизации в СССР в цивилизованных рамках, не допустить ливанизации страны. Сослался на опасный пример Югославии.
13 декабря позвонил Буш. Отвечая на его вопросы, я сказал:
«Соглашение трех президентов — это лишь эскиз, экспромт. Осталось много нераскрытых вопросов. И среди них главный — нет механизма взаимодействия в объявленном СНГ. Мой подход состоит в том, чтобы придать законный, правовой характер преобразованию государства. Я обратился к народным депутатам. Должна быть выражена воля народов, воля республик. Однако рассмотрение проекта Союзного договора в парламентах республик сорвано. Попраны состоявшиеся после путча договоренности и решения. Вольное заявление, сделанное в Минске главами всех трех республик, означает, что, раз нет СССР, нет и законов, регулирующих общественный порядок, оборону, границы, международные связи».
Стремясь получить информацию из первых рук, Буш принял решение срочно направить в Москву Бейкера. Беседа с ним состоялась накануне Алма-атинской встречи. Приведу краткое ее изложение.
— Моя роль, — подчеркнул я, — должна, очевидно, состоять в том, чтобы использовать свои политические возможности для предотвращения еще большей дезинтеграции. Такая угроза есть.
Как опытный человек, вы понимаете, что соглашение, заключенное в Минске, можно легко было принять, но на его основе невозможно жить. Необходимо, чтобы процесс обрел выраженные формы и черты, чтобы были выработаны принципы, а главное — механизмы, обеспечивающие жизнеспособность СНГ. Общество находится в состоянии неопределенности, нестабильности. А времени очень мало, и действовать надо быстро.
Бейкер сказал примерно так: администрация делает все возможное, чтобы не втягиваться в наши внутренние дела. США заинтересованы в том, чтобы трансформация у нас происходила упорядоченным и конституционным путем, ибо если этот процесс не увенчается успехом, то дезинтеграция еще более усилится со всеми негативными последствиями для советского народа и для внешнего мира.
— Мы разделяем, — сказал он, — вашу точку зрения, что Беловежское соглашение является лишь оболочкой. Более того, уже имели место противоречивые заявления, расходящиеся даже с положениями подписанного соглашения.
Дж. Бейкер выразил сомнение в том, что СНГ сможет создать общую оборону.
— Из бесед здесь, в Москве, — сказал он мне, — я понял, что будет 10 полностью независимых суверенных государств. И каждое будет иметь свою собственную внешнюю политику. В таком случае возникает вопрос: как может идти речь о совместной обороне, если будет 10 отдельных внешних политик? И кто будет давать указания главнокомандующему совместными вооруженными силами, от кого он будет получать директивы?
— Вы правы, я предвидел такой оборот дела, — сказал я. — Мои пророчества начали сбываться быстро. Положение очень трудное.
На вопрос Бейкера, как им, американцам, сейчас поступать, я сказал, что сейчас для Содружества главное — дополнительная продовольственная помощь.
Бейкер спросил, что имеется в виду под переходным периодом, о котором ему говорил Ельцин.
Необходимо, ответил я, полноценное соглашение о Содружестве, чтобы канализировать процесс во всех областях в правильном направлении; должно быть все-таки ясно, что с этого «пространства» будет исходить в мир.
Я повторил ему то же, что отстаивал и перед своими гражданами: потребуется по крайней мере заключительное заседание Верховного Совета СССР. И необходимо соглашение относительно внешней политики. Международное сообщество должно знать, с кем оно имеет дело, — то ли это десять государств и внешних политик, то ли политическое образование, имеющее согласованную внешнюю политику и выступающее в качестве преемника Советского Союза, в частности, в Совете Безопасности ООН, а также по важнейшим договорам, заключенным СССР.
— Меня критикуют: дескать, Горбачев хочет подорвать идущий процесс, потому и требует созыва Съезда народных депутатов и т. д. Но я понимаю ответственность момента, понимаю, какой вопрос мы решаем: единое государство прекращает существование, была одна страна, пусть и с противоречиями, а теперь она начинает делиться на разные государства. Это очень серьезно, такое может решать только народ.
Меня вот что еще волнует: идет обвал экономики. Поэтому так важно положить конец политической шизофрении.
Ельцин мне постоянно говорит: не пугайте людей. Конечно, мое положение очень деликатное, но я не могу не предупреждать.
Словом, я попытался представить госсекретарю США реальный процесс, происходящий в стране после беловежской встречи. На следующий день мне позвонил Франсуа Миттеран. Вот его слова: «Вы, конечно, понимаете, что я внимательно слежу за событиями у вас. Вероятно, вы помните, что во время вашего последнего визита (в конце октября на юге Франции) я выразил пожелание, чтобы все республики оставались едиными и объединенными. Я сказал тогда и хочу повторить сейчас, что это крайне необходимо не только для вашей страны, но и для всей Европы, для сохранения равновесия как на Востоке, так и на Севере Европы. События, происходящие в вашей стране, глубоко нас интересуют и одновременно не могут не беспокоить. Как и прежде, я считаю, что Вы были и остаетесь гарантом стабильности и постоянства в этой стране. Хочу, чтобы вы знали, что сейчас, когда возникли столь серьезные трудности, Франция пристально и с чувством понимания и симпатии следит за каждым вашим действием, за каждым вашим шагом».
19 декабря вечером позвонил Коль. «Введи меня в курс дела, — попросил он. — Что там у вас происходит, какие последние оценки накануне встречи в Алма-Ате, куда идет процесс, какое твое место в этом будущем Содружестве, уверен ли ты, что оно состоится, как ты вообще смотришь на все это?»
Обо всем этом Коль спрашивал с несвойственным ему волнением, даже тревогой.
Первое, что я сказал: отказ от Договора о Союзе Суверенных Государств как конфедеративного, союзного государства — серьезная ошибка стратегического порядка. Исторически страна так сложилась, что надо идти не по пути разъединения, расчленения и разрывов, а по пути перераспределения полномочий. И не только между республиками, но и внутри республик, между регионами — на основе самоуправления.
Разъясняя свою позицию в отношении встречи в Алма-Ате, я сказал Колю: «Моя позиция остается той же. Но раз процесс пошел в другом направлении, надо быстрее пройти организационную стадию. Я обратился с письмом к участникам встречи в Алма-Ате, высказал свои соображения и свои опасения. Если эта встреча завершится созданием Содружества, я сделаю то, о чем не раз говорил: вне Союза я не вижу необходимости и возможности продолжать свою государственную деятельность, это не отвечает моим представлениям».
Первым из иностранных государственных деятелей, с кем я разговаривал после Алма-атинской встречи, был Миттеран. Это было 21 декабря. С первых же слов — доброжелательных и дружеских, как всегда, — я ощутил, что его прежде всего интересовало мое душевное состояние и намерения.
Я поблагодарил его за внимание, кратко проинформировал о решении, принятом в Алма-Ате. Подчеркнул свою заинтересованность в том, чтобы новое межгосударственное объединение стало жизнеспособным.
Вновь выразил беспокойство по поводу того, что не вижу в решениях руководителей суверенных государств четких представлений о механизмах взаимодействия. Не определены и формы преемственности в отношении бывшего Союза. Высказал тревогу по поводу позиции Украины — в том виде, как сейчас, она может серьезно затруднить продвижение реформ и в России. Говорил, что очень хотел бы, чтобы Россия и Украина действовали вместе. Выйти из кризиса поодиночке — иллюзия.
Сообщил Миттерану, что в ближайшие дни объявлю о своем решении оставить пост президента.
23 декабря состоялся разговор с Мейджором.
На его тревожный вопрос о произошедшем я сказал:
— Да, события в нашей стране, даже при самом оптимистическом взгляде, нельзя не назвать драматическими. Я думаю так: пусть не Союз, но нельзя допустить, чтобы все, что происходит сейчас, привело к большим потерям для нас самих и для всех.
Какой должна быть моя роль, чтобы она была адекватной событиям? Я остаюсь приверженным своей позиции, но вижу реальный процесс как он есть. Пока не думаю, что дело пойдет, как в Югославии. Для меня это самое главное. Надеюсь, и для вас. Остальное в конечном счете жизнь расставит по местам.
У меня просьба: будьте очень внимательны к тому, что у нас происходит. И надо помочь Содружеству, прежде всего России. Это сейчас — основное. Отбросьте рутинные подходы, поддержите усилия, направленные на реформы.
— Когда мы смотрим в будущее, — ответил Мейджор, — то думаем, что нельзя потерять достигнутое. Отсюда стремление помочь вашей стране, в основе которого лежит осознание того, что было сделано вами в последние несколько лет. Что бы ни произошло дальше в связи с решением, о котором вы намерены объявить в ближайшие два дня, нет сомнений, что вы обеспечили себе особое место в истории страны и всего мира. Мы понимаем, какими трудными будут предстоящие месяцы.
— Нужна также финансовая помощь, — продолжал я, — чтобы рубль стал крепким и стабильным. Нельзя жалеть на это 5—10–15 миллиардов. В противном случае, если процесс преобразований будет сорван, придется всем заплатить цену в десять, в сто раз большую.
24 декабря мне нанес визит итальянский посол Фердинандо Саллео. Он передал послание от президента Коссиги и сугубо личное, написанное от руки письмо председателя совета министров Джулио Андреотти.
Отвечая на вопросы посла, я сказал, что до тех пор, пока будут продолжаться реформы, демократические процессы в обществе, я буду поддерживать соответствующую политику. Главная забота, чтобы состоялись реформы. Нужно построить новую систему, причем так, чтобы она заработала. И если мы не передеремся, решить эту задачу можно.
В этот же день позвонил Малруни. Приветствуя меня, сказал лестные слова:
— Я не знаю, что будет происходить в эти ближайшие дни, но уверен: ваш личный вклад в историю страны и мира поистине уникален. Ваши усилия в деле демократизации СССР, модернизации экономики страны можно охарактеризовать только одним словом — героические. Они оставят неизгладимый след в мире, равно как и ваш вклад в дело разоружения и всеобщего мира.
— Я очень ценю то, что мы смогли сделать вместе за эти годы, — ответил я своему канадскому другу. — То, что мы начали, дав импульс переменам, это такой глубокий процесс, который неизбежно несет в себе элементы нестабильности. Нужно быть готовым к этому, чтобы удержать курс демократических преобразований.
Я считал и продолжаю считать, что можно справиться с нашими проблемами и задачами только в рамках политического процесса, обеспечивающего взаимодействие между республиками. События пошли по другой колее, и это усиливает многочисленные опасности. Если пойти слишком далеко по пути разделения, это может погубить реформы на решающем этапе.
Вчера, беседуя с Ельциным, я все время подчеркивал: сейчас надо все сделать для того, чтобы было максимальное сотрудничество республик, насколько это возможно в рамках Содружества. Хотя сделать это будет труднее, чем в Союзе.
Однако считаю: сейчас надо отбросить политические разногласия, не допустить конфронтации. Общество в очень трудном состоянии.
В ближайшее время приму свое решение. Естественно, я не ухожу из политики и общественной жизни. У меня большие планы, и, думаю, мы сможем продолжить контакты и сотрудничество.
Как и Бушу, Мейджору, я говорил Малруни о необходимости оказать большую поддержку России.
— Здесь очень острая социальная ситуация, а на России ведь ответственность за то, чтобы реформы пошли везде. Я хочу, чтобы был успех, несмотря на то что сохраняю критическое отношение к идее Содружества.
В ответ на вопрос: как им, странам Запада, вести себя с новыми государствами, я сказал:
— Позиция канадского правительства и других, думаю, должна состоять в том, чтобы помочь Содружеству в главном — ваши шаги должны стимулировать сотрудничество и взаимодействие республик. Разлад, дезинтеграция имели бы опасные последствия также и для Европы и всего мира. Могут возникнуть такие неожиданности, с которыми уже невозможно будет справиться.
25 декабря состоялся еще один разговор по телефону с Бушем. Я ему сообщил, что примерно через два часа сделаю заявление об уходе. Сказал, что только что направил ему прощальное письмо. Однако пользуюсь этим звонком, чтобы еще раз подтвердить, что я высоко ценю то, что нам вместе удалось сделать — и когда он был еще вице-президентом, и в особенности когда мы оба стали президентами. Выразил надежду, что руководители стран Содружества, в первую очередь России, понимают свою ответственность за то, чтобы капитал, накопленный нами в эти годы в советско-американских и международных отношениях, был сохранен и приумножен.
— Несомненно, Джордж, — продолжал я, — надо идти по пути признания государств СНГ. Я бы просил иметь в виду следующее. Очень важно и для Европы, и для мира, чтобы в СНГ не обострились противоречия. Поэтому важна поддержка СНГ как межгосударственного образования, а не только его членов в отдельности. Не дезинтеграцию, не разрушительные процессы, а сотрудничество — вот что надо стимулировать. На это я делаю акцент.
Второй акцент — это поддержка России. Нужно, чтобы и США, и ЕС, международное сообщество общими усилиями поддержали Россию. Она возьмет на себя главное бремя реформ.
У меня на столе лежит Указ Президента СССР. В связи с прекращением выполнения мной обязанностей Верховного Главнокомандующего я передаю право на использование ядерного оружия Президенту Российской Федерации. Придаю большое значение тому, что эта сторона дела находится под надежным контролем. Как только я сделаю свое заявление об уходе, указ вступит в действие. Так что вы можете спокойно праздновать Рождество.
Что касается меня, то я не собираюсь прятаться в тайгу. Буду оставаться в политике, в общественной жизни. Свою миссию вижу в том, чтобы помочь налаживанию позитивных процессов у нас в стране, утверждению нового мышления в мировой политике.
Представители американской прессы много раз спрашивали меня, что я думаю об отношениях с вами. Хотел бы не только через прессу, но и непосредственно вам в этот день сказать, что очень высоко оцениваю наше сотрудничество, партнерство, дружбу. Наши роли могут меняться, и они фактически изменятся. Но то, что между нами сложилось и совместно сделано, останется навсегда.
Вот что сказал мне на все это Джордж Буш:
— Хочу заверить, что мы сохраним заинтересованность в ваших делах. Будем стараться помочь, особенно Российской республике, учитывая те проблемы, с которыми она сейчас сталкивается и которые могут обостриться зимой.
Я очень рад, что вы не собираетесь «прятаться в тайгу», будете продолжать политическую и общественную деятельность. Уверен, что это пойдет на пользу новому Содружеству.
Я написал вам письмо, которое будет отправлено сегодня. В нем я выражаю свое убеждение, что сделанное вами войдет в историю и будущие поколения в полной мере оценят ваши достижения.
Я с удовлетворением отмечаю то, что вы сказали о ядерном оружии. Этот вопрос имеет важнейшее международное значение. Приветствую то, как вы и руководители республик подошли к нему. Также отмечаю ваши слова о том, что передача права применения его Ельцину осуществляется в конституционных рамках. Хочу заверить, что мы и впредь будем самым тесным образом сотрудничать в этом важном вопросе.
Теперь о личном. Я обратил внимание на ваши замечательные, вполне определенные высказывания об отношениях, сложившихся у вас со мной и Джимом Бейкером. Я очень ценю эти слова, они в точности отражают и мои чувства.
Надеюсь, наши дороги вскоре снова сойдутся. Вы будете желанным гостем, мы рады будем вас принять после того, как все уляжется, может быть, здесь, в Кэмп-Дэвиде.
Мое дружеское отношение к вам неизменно и по мере дальнейшего развития событий будет таким всегда. На эхрт счет не может быть никаких сомнений.
Конечно, я буду с должным уважением, открытостью, позитивно и, надеюсь, на прогрессивной основе строить отношения с руководителями Российской и других республик. Мы будем вести дело к признанию, с полным уважением суверенитета каждой республики. Будем работать с ними по широкому кругу вопросов. Но это никак не повлияет на мою решимость поддерживать контакты с вами, прислушиваться к вашим соображениям уже в новом качестве, беречь нашу дружбу с вами и Раисой. Мы с Барбарой очень дорожим ею.
Последним из иностранных деятелей, с кем я говорил, будучи еще президентом, был Ганс-Дитрих Геншер — министр иностранных дел Германии. Вспомнили с ним о том, что нам удалось вместе сделать хорошего в эти годы и для наших стран, и для Европы.
25 декабря я подписал прощальные письма государственным деятелям, с которыми на протяжении более шести лет работал над решением сложных международных проблем. Начался новый этап в моей жизни. Однако международная политика осталась в центре моих интересов.
Post scriptum
Для меня начиналась новая полоса в жизни. В Алма-Ате Совет глав СНГ принял решение, касающееся моего статуса и обеспечения после сложения полномочий Президента СССР. В нем есть пункт, в котором принимается к сведению заявление Президента России о том, что все связанные с этим вопросы будут решены руководством Российской Федерации.
По моей просьбе Президент России подписал указ о выделении помещения для размещения Фонда социально-экономических и политологических исследований, который я решил создать и возглавить, с тем чтобы продолжить свою деятельность в новых условиях. (Через несколько месяцев Ельцин откажется от этого решения.)
Никаких проводов не было. Никто из руководителей государств СНГ мне не позвонил. Ни в день ухода, ни после — за три с лишним года.
Вечером 25 декабря должна была состояться передача полномочий Верховного Главнокомандующего Президенту России. Процедуру передачи условились провести в моем кабинете в Кремле. Там уже ждали нас министр обороны Шапошников и несколько генералов, а также офицеры, постоянно дежурившие при том самом знаменитом «чемоданчике» с системой контроля главы государства над ядерным оружием. Прошло несколько минут… Президент России опаздывает. Затем мне сообщают, что он, вопреки нашей договоренности, отказывается прийти. В чем дело? Оказывается, Ельцин вместе со своими приближенными слушал мое выступление и пришел в неистовство.
Спустя некоторое время мне доложили, что Президент России предлагает встретиться на «нейтральной территории» — в Екатерининском зале, то есть там, где обычно ведутся переговоры с руководителями иностранных государств. Ельциным и его командой, по-видимому, все это расценивалось как эффектный ход против Горбачева. Но выглядело это смешно, если не сказать — глупо. Поэтому я не стал утруждать себя размышлениями по поводу возникшей несообразной ситуации и тут же направил Ельцину пакет с указом Президента СССР о передаче Президенту России полномочий Верховного Главнокомандующего вооруженными силами. Министру обороны Шапошникову вручил «чемоданчик с ядерной кнопкой», попросил доставить его срочно новому владельцу и доложить мне об исполнении. Все было сделано в течение нескольких минут.
Так, уже в первые минуты после сложения с себя полномочий президента страны мне пришлось столкнуться с бесцеремонностью людей, оказавшихся у власти. Как показало дальнейшее течение событий, это был не единичный всплеск мстительных эмоций Ельцина, а проявление определенной линии по отношению ко мне.
Отложив президентские дела, Ельцин лично руководил «изгнанием» Горбачева из Кремля. По его указанию был составлен сценарий спуска Флага СССР и поднятия Флага РСФСР, и сам он проследил за тем, чтобы все выполнялось по графику и было заснято телекамерой. Была договоренность о завершении моих дел в Кремле к 30 декабря. На 27 декабря была назначена беседа с журналистами японской газеты «Иомиури». Но утром мне позвонили из приемной в Кремле и сообщили, что в полдевятого утра Ельцин вместе с Хасбулатовым и Бурбулисом заняли мой кабинет, бурно веселились, распили бутылку виски… Это было торжество хищников — другого сравнения не нахожу.
Мне было предписано за три дня освободить загородную резиденцию и президентскую квартиру. 25 декабря, еще до моего выступления по телевидению, группа лиц появилась в доме по ул. Косыгина, чтобы опечатать квартиру президента. В этой ситуации было решено все сделать быстро. Поняли это и члены семьи, и офицеры охраны — мои «форосцы». Слов лишних не было, действовали не теряя времени, с каким-то даже ожесточением. За сутки переехали в новое обиталище. Наутро я увидел результаты — кучами, вперемешку лежали вещи, книги, посуда, папки, газеты, письма и Бог знает что.
«Великий» переезд состоялся. Надо было размещаться. Я занялся своим «хозяйством» (библиотека, бумаги разных лет — записи, письма, телеграммы, фотографии, справочные материалы). Волны воспоминаний одна за другой наплывали на меня. Возникали картины и далеких и совсем недавних событий. От этих свидетельств неповторимого времени, прожитого вместе со страной, исходили импульсы, побуждающие к размышлениям.
Я был во власти мучительных раздумий. Снова и снова приходил к одному и тому же выводу — мы еще только в начале того пути, на который встали в марте — апреле 1985 года. Пусть сколь угодно говорят о конце «эпохи Горбачева» — главное только еще начинается. Значит — выводы и уроки нужны сейчас, а не когда-нибудь. Так, с первых дней нового года я был поглощен размышлениями о предстоящей работе над точным, объективным описанием и новым осмыслением тяжелейшей борьбы за демократические реформы, борьбы, в центре которой я оказался.
А жизнь уже с самого начала 1992 года приобрела другое течение и вызвала большие тревоги и опасения за судьбу страны. Беда следовала за бедой. Кавалерийская атака на экономику обернулась для народа России невероятными трудностями. Власть оказалась у людей безответственных и некомпетентных, амбициозных и безжалостных. Становится все более очевидным, что нужна новая комбинация политических сил, новая политика. В тяжелой ситуации не только Россия, но и все остальные государства бывших республик СССР.
Все это в огромной мере результат декабрьского переворота — черной страницы в истории России и Союза. Но это, конечно, не последняя ее страница. Жизнь продолжается, и народы, «освоив» обретенную свободу, найдут новые пути к объединению, к обновлению своей жизни. Верю и надеюсь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О чем сказать в заключение? Наверное, об уроках моей жизни.
Прежде всего об уроках нравственных.
Мне не в чем себя винить, если говорить об отношении к семье. Я всегда старался делать все для того, чтобы она была крепкой и здоровой. И был вознагражден сполна возможностью опереться на неизменную поддержку своих близких.
Другой нравственный урок, который я вынес из своей жизни, заключается в том, что доброе отношение к людям вознаграждается сторицей. Читатель может возразить, что так бывает не всегда. Это верно. Были на моем пути и люди нечестные, неблагодарные, отвечавшие на доверие коварством. Без этого, увы, никогда не обходилось. Особенно в такие бурные переломные моменты истории, как тот, что мы переживаем сейчас. Тех, кто отошел от меня еще тогда, когда я был президентом, и уж тем более предпочел держаться в стороне от «частного гражданина» Горбачева, я не отношу к этой категории и не осуждаю «чохом». Есть среди них люди, не выдержавшие напряжения и ответственности момента, побоявшиеся оказаться в водовороте, поспешившие выбрать себе более надежную почву. Но есть и такие, кого нельзя назвать иначе как предателями. Причем я имею в виду предательство не по отношению ко мне лично. В конце концов, я никогда не требовал от всех, кто со мной сотрудничал, входил в мое окружение, личной верности. Я говорю об измене делу, которое мы поставили себе целью. Нет ничего омерзительнее перевертышей и перебежчиков.
Но, возвращаясь к своей изначальной мысли, хочу сказать, что множество людей, с которыми сводила меня жизнь на различных ее перекрестках, сочувствовали моим начинаниям, сопереживали, поддерживали. Так было, когда мы только «прицеливались» к перестройке. Так было на всех ее последующих этапах. И сейчас, когда я заканчиваю свои воспоминания, ко мне идут письма из России, бывших союзных республик, из разных стран и концов Земли с уверенностью, что начатые в 1985 году реформы, пройдя через трудные испытания, принесут желанные плоды и моей Родине, и всему миру. А часто — просто с выражением человеческого участия ко мне и Раисе Максимовне.
Теперь о некоторых политических уроках из моего жизненного пути. Премудрости политики мы постигали еще на университетской скамье, знакомясь с произведениями Аристотеля, Макиавелли, Монтескье, Локка, Джефферсона, Чернышевского и, конечно, Маркса, Энгельса, Ленина.
Но как ни ценно поучение политических мыслителей прошлого, каждому поколению приходится все-таки жить своим умом. Прежде всего потому, что коренным образом меняются условия жизни, особенно в наше время, когда чуть ли не каждое десятилетие обновляются техника, условия производства и быта, экономические и социальные структуры, когда стала реальной угроза ядерной и экологической катастрофы.
Так вот при всей новизне проблем, которые встали перед нами в связи с перестройкой, демократизацией, экономической и политической реформами, все-таки главный урок стар как мир. Это — необходимость соблюдать меру. То есть то, чему учили еще древние греки. Тот самый девиз, который Платон велел написать на портале своей академии.
Еще и еще раз прокручивая в памяти драматическую киноленту случившегося у нас во второй половине 80-х — начале 90-х годов, нетрудно прийти к заключению, что почти все наши срывы, ошибки и потери были связаны как раз с нарушениями рациональной меры в ту или иную сторону. В одних случаях это — излишняя поспешность в осуществлении назревших шагов. В других, наоборот, — задержка, медлительность.
Признавая, что не всегда мне и моим соратникам удавалось найти оптимальный вариант действий, я должен все-таки добавить, что многое не зависело от нас. Негативный ход событий, приведший к распаду Союза, стал результатом действия как раз тех сил, которые, утратив всякое чувство меры, стремились одни — любой ценой сохранить старые порядки и свою власть, другие — захватить власть любым способом.
На этом примере вновь обнаружились все трагические последствия одной из самых пагубных человеческих страстей — жажды власти. Именно жаждой власти были обуреваемы и гэкачеписты и Ельцин, когда вместе с Кравчуком и Шушкевичем разрушили великое Советское государство, чтобы въехать в Кремль. Именно жаждой власти объясняются крайняя нетерпимость и агрессивность национальных элит в бывших союзных республиках, которые принесли в жертву собственным амбициям интересы своих народов, кровно заинтересованных в сохранении союзного государства.
Но это — тема для нового Шекспира и Пушкина. Мне, как профессиональному политику, важно здесь еще раз подчеркнуть, что люди, приходящие к власти, должны иметь нравственный стержень, не позволяющий безответственно ею пользоваться. В этом отношении совесть моя чиста. Придя на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, я обладал властью, сравнимой с той, что была у абсолютных монархов. Но с самого начала видел свою цель в том, чтобы поставить ее под демократический контроль, сделать легитимной. И на этом пути пришлось выдержать самое тяжелое испытание в декабре 1991 года.
От очень многих я слышал утверждение: самая большая ошибка Горбачева в том, что он отдал власть. Это рассматривается как проявление слабости, своего рода жизненная неудача. Действительно, в той шкале ценностей, какая существовала до сих пор, правитель, лишившись власти, является неудачником. У меня иная точка зрения на этот счет. Я не только был готов, но фактически сознательно вел дело к тому, чтобы на каком-то этапе, после того как будет установлен стабильный демократический режим, верховная власть у нас передавалась из рук в руки, от одних избранных народом лиц — другим. В сущности, я был готов к такой передаче после подписания Союзного договора. К сожалению, в результате заговоров — августовского и декабрьского — такая возможность была сорвана. С тех пор Россия никак не может вернуться на колею политической стабильности. Ее сотрясают следующие один за другим перевороты. Задачу, которую мы не сумели решить, придется решать следующему поколению политиков.
Другой важный урок, который я вынес из своей деятельности, — это непродуктивность насилия как средства достижения политических целей. Почти не сомневаюсь: многие читатели в этом месте скептически улыбнутся. Действительно, трудно поверить в справедливость идеи ненасилия, когда кругом льется кровь, перед глазами множество примеров торжества грубой, наглой силы над справедливостью. Когда силовые методы по-прежнему используются если не в доктринах, то на практике многими государствами. Сторонников ненасилия, согласно идеологическим догматам, принимали у нас за убогих, за никчемных утешителей.
Если отбросить предрассудок и внимательно всмотреться во все, что сейчас происходит на территории бывшего Советского Союза, в Югославии, да и во многих других местах мира, нетрудно убедиться: там, где применяется сила, дело оборачивается в конечном счете поражением всех. Можно, конечно, на какое-то время подавить сопротивление слабой стороны, навязать свою волю. Но рано или поздно это приведет к накоплению горючего материала, к неизбежному взрыву. И потери при этом бывают в тысячи раз больше.
Вот почему во всех случаях, когда это от меня зависело, я стремился до конца использовать возможности политического урегулирования. И убежден, что, если современные политики позволят себе соблазниться кажущейся простотой силовых решений, такой путь будет гибельным. В конце его — не мир, а разрастание конфликтов, угрожающих слиться во вселенский пожар.
Осуждая насилие, важно, конечно, не впасть в крайность. Здесь, как и во всех других вопросах, нужна мера. Без применения принудительных методов современное общество, к сожалению, жить не может. Вся суть в том, чтобы они были строго взвешены. И что особенно важно — применялись в полном согласии с законом. Строжайшее соблюдение закона было для меня всегда самым важным. И не только потому, что я получил юридическое образование. Фактически нет иного способа переводить общество из одного состояния в другое, обновлять его в соответствии с требованиями времени, как своевременная разработка и применение законов. Если, конечно, не считать переворотов, бунтов, революций, которые обходятся непомерной ценой.
В законе выражается общая, согласованная воля народа и избранных им представителей. Когда власть проводит реформы с помощью законов, она чувствует себя уверенно. И так же уверенно чувствуют себя граждане. Стоит отойти от этого принципа, встать на путь произвола, как становятся неизбежны нетерпимость, анархия, кровопролитие.
Наконец, скажу еще об одной идее, которая была ведущей в моей политической деятельности. Это — идея обновления. Основная беда прежней системы была именно в ее неспособности к обновлению. После XX съезда было покончено с наиболее негативной чертой сталинской модели — массовыми репрессиями. Но при этом сохранился нетронутым ее «кощеев дух» — монопольная власть партии, а на самом деле — узкого круга людей, входящих в состав Политбюро. Это резко ограничивало кругозор власти, делало ее самодержавной, сводило к минимуму возможность преобразований в экономике, политике, других сферах.
Необходимость постоянно чувствовать пульс жизни, чутко вслушиваться и своевременно откликаться на новые потребности относится не только к нам, русским. Я много раз говорил своим слушателям в разных странах мира, что обновление должно охватывать все современное общество. Уже невооруженным глазом видно, что грядут огромные перемены и в технике, и в отношениях человека с природой, в устройстве обществ и государств, в международном порядке. Если мы не будем шагать в ногу со временем, будем запаздывать с обновленческими мерами, то окажемся погребенными под грузом обостряющихся глобальных проблем.
Отставание Советского Союза в соревновании с Западом произошло потому, что в развитых странах еще в 60-е годы поняли необходимость структурных перемен и высоких технологий, обновления всего производственного аппарата. Но сейчас на том же Западе все более ощутимо дает о себе знать потребность и в переменах социального характера. Вновь не удовлетворена своим положением молодежь. Вновь встали вопросы самоуправления, межнациональных отношений. Причем ответы, которые обычно давались на эти вопросы с позиций традиционных доктрин — консервативной, либеральной, социалистической, коммунистической, христианско-демократической, уже не могут служить эффективной основой для практической политики.
Значит, нужно повышать уровень нашего мышления, создавать новую синтетическую концепцию общественного развития. Встает, может быть, самый важный для формирования будущего вопрос: пойдет ли поиск путей обновления мира автономно в разных странах и регионах или все же при теснейшем их взаимодействии, а может быть, и в целостности? Преимущество последнего подхода очевидно. Но пока еще нет уверенности, что дело пойдет именно так, верх не возьмут эгоизм, стремление выжить, спастись в одиночку. Я был и остаюсь сторонником того, чтобы вопросы своего будущего народы решали все больше на путях сотрудничества и взаимодействия. Этому, как могу, стараюсь содействовать в роли председателя Международного Зеленого Креста. Этому подчинена вся творческая деятельность Фонда Горбачева.
Наверное, мои читатели не воспримут с одинаковым интересом все части этого объемного труда. Но я постарался рассказать о событиях насколько возможно подробнее, рассчитывая, что это поможет лучше понять и оценить намерения тех, кто делал политическую погоду в мире в прошедшие бурные годы.
Надеюсь и на то, что мой труд может быть полезным для всех, кому не безразличны судьбы России.
Ну а тем, кто все-таки осилил весь этот рассказ о моей жизни и реформах, — моя благодарность.
ПРИЛОЖЕНИЕ
I
Сегодня человечество находится на решающем поворотном этапе своей истории. Ядерное оружие грозит уничтожить не только все, что было создано человеком на протяжении веков, но и самого человека и даже жизнь на Земле. В ядерную эпоху человечество должно выработать новое политическое мышление, новую концепцию мира, дающую надежные гарантии выживания человечества. Люди хотят жить в более безопасном и более справедливом мире. Человечество достойно лучшей участи, чем быть заложником ядерного ужаса и отчаяния. Необходимо изменить сложившуюся мировую ситуацию и построить мир, свободный от ядерного оружия, свободный от насилия и ненависти, страха и подозрительности.
Мир, доставшийся нам в наследство, принадлежит нынешним и грядущим поколениям, и это требует, чтобы приоритет отдавался общечеловеческим ценностям. Должно признаваться право каждого народа и каждого человека на жизнь, свободу, мир и стремление к счастью. Необходимо отказаться от применения силы и угрозы применения силы. Должно уважаться право каждого народа на собственный выбор — социальный, политический, идеологический. Должна быть отвергнута политика, рассчитанная на превосходство одних над другими. Наращивание ядерных арсеналов, разработка космических вооружений подрывают общепризнанное убеждение, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителей.
От имени более чем миллиарда мужчин, женщин и детей наших двух дружественных стран, которые составляют одну пятую всего человечества, мы обращаемся к народам и руководителям всех стран с призывом предпринять безотлагательные действия, которые должны привести нас к миру без оружия массового уничтожения, без войн.
Проникнутые сознанием нашей общей ответственности за судьбы своих стран и всего человечества, мы предлагаем следующие принципы построения свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира.
1. Мирное сосуществование должно стать универсальной нормой международных отношений:
в ядерный век необходимо перестроить международные отношения таким образом, чтобы на смену конфронтации пришло сотрудничество, а конфликтные ситуации разрешались мирными, политическими, а не военными средствами.
2. Человеческая жизнь должна быть признана высшей ценностью:
лишь творческим гением человека обеспечиваются прогресс и развитие цивилизации в условиях мира.
3. Ненасилие должно быть основой жизни человеческого сообщества:
философия и политика, построенные на насилии и устрашении, неравенстве и угнетении, дискриминации по расовому и религиозному признакам или цвету кожи, аморальны и недопустимы. Они привносят дух непримиримости, губительны для высоких устремлений человека и отрицают все человеческие ценности.
4. Взаимопонимание и доверие должны прийти на смену страху и подозрительности:
недоверие, страх и подозрительность между странами и народами искажают восприятие реального мира. Они порождают напряженность и в конечном счете наносят ущерб всему международному сообществу.
5. Право каждого государства на политическую и экономическую независимость должно признаваться и уважаться:
необходимо установить новый мировой порядок с тем, чтобы обеспечить экономическую справедливость и равную политическую безопасность для всех государств. Прекращение гонки вооружений является необходимой предпосылкой для установления такого порядка.
6. Ресурсы, расходуемые на вооружение, должны быть направлены на обеспечение социального и экономического развития:
только разоружение может высвободить огромные дополнительные ресурсы, необходимые для борьбы с экономической отсталостью и бедностью.
7. Должны быть гарантированы условия для гармоничного развития личности:
все страны должны работать вместе для решения назревших гуманитарных проблем и сотрудничать в сфере культуры, искусства, науки, образования и медицины, для всестороннего развития личности. Мир без ядерного оружия и насилия откроет грандиозные перспективы для этого.
8. Материальный и интеллектуальный потенциал человечества должен служить решению глобальных проблем:
необходимо найти решение таких глобальных проблем, как продовольственная, демографическая, ликвидация неграмотности, сохранение окружающей среды путем рационального использования ресурсов Земли. Мировой океан и морское дно, а также космическое пространство являются общим достоянием человечества. Прекращение гонки вооружений создаст лучшие условия для достижения этой цели.
9. На место «равновесия страха» должна прийти всеобъемлющая международная безопасность:
мир един, и безопасность его неделима. Запад и Восток, Север и Юг, независимо от общественных систем, идеологий, религий и рас, должны объединиться в общей приверженности разоружению и развитию.
Международная безопасность может быть обеспечена путем комплексных мер в области ядерного разоружения с использованием всех доступных и согласованных средств контроля и мер доверия; справедливого политического урегулирования региональных конфликтов путем мирных переговоров и сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях.
10. Свободный от ядерного оружия и ненасильственный мир требует конкретных и безотлагательных мер, направленных на разоружение:
он может быть достигнут путем заключения соглашений относительно:
— полного уничтожения ядерных арсеналов до конца текущего столетия;
— недопущения вывода любого оружия в космос, который является общим достоянием человечества;
— полного запрещения испытаний ядерного оружия;
— запрещения создания новых видов оружия массового истребления;
— запрещения химического оружия и уничтожения его запасов;
— снижения уровней обычных вооружений и вооруженных сил. Пока ядерное оружие не ликвидировано, Советский Союз и Индия
предлагают незамедлительно заключить международную конвенцию, запрещающую применение или угрозу применения ядерного оружия. Это явилось бы крупным конкретным шагом на пути к полному ядерному разоружению.
Построение свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира требует революционной перестройки в умах людей, воспитания народов в духе мира, взаимного уважения и терпимости. Следует запретить пропаганду войны, ненависти и насилия и отказаться от стереотипов мышления категориями врага в отношении других стран и народов.
Мудрость в том, чтобы не допустить накопления и обострения глобальных проблем, уход от решения которых сегодня потребует еще больших жертв завтра.
Велика опасность, нависшая над человечеством. Но оно располагает большими силами, чтобы предотвратить катастрофу и проложить путь к цивилизации без ядерного оружия. Набирающая силу коалиция мира, которая объединяет усилия Движения неприсоединения, группы шести стран, всех миролюбивых стран, политических партий и общественных организаций, дает нам основание для надежды и оптимизма. Время для решительных и безотлагательных действий настало.
М.Горбачев
Генеральный секретарь
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза
Р.Ганди
Премьер-Министр
Республики Индии
Нъю-Дели, 27 ноября 1986 года
II
Проект.
Государства, подписавшие настоящий Договор, исходя из провозглашенных ими деклараций о суверенитете и признавая право наций на самоопределение;
учитывая близость исторических судеб своих народов и выражая их волю жить в дружбе и согласии, развивая равноправное взаимовыгодное сотрудничество;
заботясь об их материальном благосостоянии и духовном развитии, взаимообогащении национальных культур, обеспечении общей безопасности;
желая создать надежные гарантии прав и свобод граждан,
решили на новых началах создать Союз Суверенных Государств и договорились о нижеследующем.
Первое. Каждая республика — участник договора является суверенным государством. Союз Суверенных Государств (ССГ) — конфедеративное демократическое государство, осуществляющее власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники договора.
Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности социально-экономического и культурного прогресса всем народам, проживающим на их территории. Участники договора будут исходить из сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток ограничения прав народов.
Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом приоритет прав человека в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, другими общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гарантируется возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ к информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-экономические, личные права и свободы.
Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие свободы и благосостояния своих народов и каждого человека в формировании гражданского общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного выбора формы собственности и методов хозяйствования, развития общесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости и защищенности.
Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно определяют свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления. Они признают общим фундаментальным принципом демократию, основанную на народном представительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к созданию правового государства, которое служило бы гарантом против любых тенденций к тоталитаризму и произволу.
Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших задач сохранение и развитие национальных традиций, государственную поддержку образования, здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и достижениями народов Союза и всего мира.
Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в международных отношениях в качестве суверенного государства, субъекта международного права — преемника Союза Советских Социалистических Республик. Его главными целями на международной арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств" и солидарность народов в решении глобальных проблем человечества.
Государства, образующие Союз, являются субъектами международного права.
Они вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские связи, торговые и иные отношения с иностранными государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами, заключать международные договоры и участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы каждого из государств, образующих Союз, и их общие интересы, не нарушая международные обязательства Союза.
Статья 1. Членство в Союзе
Членство государств в Союзе является добровольным.
Участниками настоящего Договора являются государства, непосредственно образующие Союз.
Союз открыт для вступления в него других демократических государств, признающих Договор. Принятие в Союз новых государств осуществляется с согласия всех участников настоящего Договора.
Государства, образующие Союз, сохраняют право свободного выхода из него в порядке, установленном участниками Договора.
Статья 2. Гражданство Союза
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно гражданином Союза Суверенных Государств.
Граждане Союза имеют равные права, свободы и обязанности, закрепленные законами и международными договорами Союза.
Статья 3. Территория Союза
Территория Союза состоит из территорий всех государств — участников Договора. Союз гарантирует нерушимость границ государств, которые в него входят.
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются настоящим Договором, а также другими, не противоречащими ему договорами и соглашениями.
Государства — участники Договора строят свои взаимоотношения в составе Союза на основе равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешения споров мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств по настоящему Договору и межреспубликанским соглашениям.
Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях между собой к силе и угрозе силой; не посягать на территориальную целостность друг друга; не заключать соглашений, противоречащих целям Союза или направленных против других государств — участников Договора.
Статья 5. Вооруженные Силы Союза
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооруженные Силы с централизованным управлением.
Цели, назначение и порядок использования единых Вооруженных Сил, а также компетенция государств — участников Договора в сфере обороны регулируются соглашением, предусмотренным настоящим Договором.
Государства — участники Договора вправе создавать республиканские вооруженные формирования, функции и численность которых определяются указанным соглашением.
Не допускается использование Вооруженных Сил Союза внутри страны, за исключением их участия в ликвидации последствий стихийных бедствий, экологических катастроф, а также случаев, предусмотренных законодательством о чрезвычайном положении.
Статья 6. Сфера совместного ведения государств — участников договора и многосторонние соглашения
Государства — участники Договора образуют единое политическое и экономическое пространство и основывают свои отношения на закрепленных в настоящем договоре принципах и представляемых им преимуществах. Отношения с государствами, не входящими в Союз Суверенных Государств, основываются на общепризнанных нормах международного права.
В целях обеспечения общих интересов государств — участников Договора устанавливаются сферы совместного ведения и заключаются соответствующие многосторонние договоры и соглашения:
— об экономическом сообществе;
— о совместной обороне и коллективной безопасности;
— о координации внешней политики;
— о координации общих научно-технических программ;
— о защите прав человека и национальных меньшинств;
— о координации общих экологических программ;
— в области энергетики, транспорта, связи и космоса;
— о сотрудничестве в области образования и культуры;
— о борьбе с преступностью.
Статья 7. Полномочия союзных (межгосударственных) органов
Для реализации общих задач, вытекающих из Договора и многосторонних соглашений, государства, образующие Союз, делегируют союзным органам необходимые полномочия.
Государства, образующие Союз, участвуют в реализации полномочий союзных органов посредством их совместного формирования, а также специальных процедур согласования решений и их исполнения.
Каждый участник Договора может путем заключения соглашения с Союзом дополнительно делегировать ему осуществление отдельных своих полномочий, а Союз, с согласия всех участников, передать одному или нескольким из них осуществление на их территории отдельных своих полномочий.
Статья 8. Собственность
Государства — участники Договора обеспечивают свободное развитие и защиту всех форм собственности.
Государства — участники Договора передают в распоряжение органов Союза имущество, необходимое для осуществления возложенных на них полномочий. Это имущество является совместной собственностью государств, образующих Союз, и используется исключительно в их общих интересах, включая ускоренное развитие отстающих регионов.
Использование земли, ее недр и других природных ресурсов государств — участников Договора для реализации полномочий союзных органов осуществляется в соответствии с законодательством этих государств.
Статья 9. Бюджет Союза
Порядок финансирования союзного бюджета и контроля за его расходной частью устанавливается особым соглашением.
Статья 10. Законы Союза
Конституционной основой Союза Суверенных Государств является настоящий Договор и Декларация прав и свобод человека.
Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и в пределах полномочий, переданных ему настоящим Договором. Они обязательны для исполнения на территории всех государств — участников Договора.
Государство — участник Договора вправе опротестовать и приостановить действие на своей территории закона Союза, если он нарушает настоящий Договор.
Союз в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приостановить действие закона государства — участника Договора, если он нарушает настоящий Договор.
Споры решаются посредством согласительных процедур либо передаются в Верховный суд Союза, который принимает окончательное решение в течение одного месяца.
Статья 11. Формирование органов Союза
Органы Союза Суверенных Государств, предусмотренные настоящим Договором, формируются на основе свободного волеизъявления народов и полноправного представительства государств, образующих Союз.
Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти, управления и правосудия устанавливаются соответствующими законами, не противоречащими настоящему Договору.
Статья 12. Верховный Совет Союза
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза, состоящий из двух палат: Совета Республик и Совета Союза.
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждого государства, образующего Союз, делегируемых его высшим органом власти.
РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Другие государства — участники Договора, имеющие в своем составе республики и автономные образования, дополнительно делегируют в Совет Республик по одному депутату от каждой республики и автономного образования. В целях обеспечения суверенитета государств — участников Договора и их равноправия при голосовании в Совете Республик применяется правило консенсуса.
Совет Союза избирается населением Союза по избирательным округам с равной численностью избирателей. При этом гарантируется представительство в Совете Союза всех государств — участников Договора.
Палаты Верховного Совета Союза совместно принимают в состав Союза новые государства, заслушивают Президента Союза по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики Союза, утверждают Союзный бюджет и отчет об его исполнении, объявляют войну и заключают мир.
Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятельности органов Союза Суверенных Государств, рассматривает вопросы отношений между республиками, ратифицирует и денонсирует международные договоры Союза, дает согласие на назначение правительства Союза.
Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан и принимает решения по всем вопросам компетенции Верховного Совета, за исключением тех, которые относятся к компетенции Совета Республик.
Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу после их одобрения Советом Республик.
Статья 13. Президент Союза
Президент Союза — глава конфедеративного государства.
Президент Союза выступает гарантом соблюдения Договора о Союзе Суверенных Государств и законов Союза, является Главнокомандующим Вооруженными Силами Союза, представляет Союз в отношениях с зарубежными государствами, осуществляет контроль за выполнением международных обязательств Союза.
Президент Союза избирается гражданами Союза в порядке, устанавливаемом Законом, сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.
Статья 14. Вице-президент Союза
Вице-президент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-президент Союза выполняет по уполномочию Президента Союза отдельные его функции.
Статья 15. Государственный совет Союза
Государственный совет Союза создается для согласования наиболее важных вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы государств — участников Договора.
Государственный совет состоит из Президента Союза и высших должностных лиц государств — участников Договора.
Работой Государственного совета руководит Президент Союза.
Решения Государственного совета носят обязательный характер для всех органов исполнительной власти.
Статья 16. Правительство Союза
Правительство Союза является органом исполнительной власти Союза, подчиняется Президенту Союза, несет ответственность перед Верховным Советом Союза.
Правительство Союза возглавляется премьер-министром. В состав правительства входят главы правительств государств — участников Договора, Председатель Межгосударственного экономического комитета (первый заместитель премьер-министра), заместители премьер-министра и руководители ведомств, предусмотренных соглашениями между государствами — участниками Договора.
Правительство Союза формируется Президентом Союза по согласованию с Советом Республик Верховного Совета Союза.
Статья 17. Верховный суд Союза
Верховный суд Союза принимает решения по вопросам соответствия законов Союза и законов государств — участников Договора настоящему Договору и Декларации прав и свобод человека; рассматривает гражданские и уголовные дела межгосударственного характера, включая дела по защите прав и свобод граждан; является высшей судебной инстанцией по отношению к военным судам. При Верховном суде Союза создается прокуратура, осуществляющая надзор за исполнением законодательных актов Союза.
Порядок формирования Верховного суда Союза определяется законом.
Статья 18. Высший арбитражный суд Союза
Высший арбитражный суд Союза разрешает экономические споры между государствами — участниками Договора, а также споры между предприятиями, находящимися под юрисдикцией различных государств — участников Договора.
Статья 19. Язык межнационального общения в Союзе
Участники Договора самостоятельно определяют свой государственный язык (языки). Языком межнационального общения в Союзе государства — участники Договора признают русский язык.
Статья 20. Столица Союза
Столицей является город Москва.
Статья 21. Государственная символика Союза
Союз имеет государственный герб, флаг и гимн.
Статья 22. Порядок изменения и дополнения Договора
Настоящий Договор или отдельные его положения могут быть отменены, изменены или дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз.
Статья 23. Вступление Договора в силу
Настоящий Договор одобряется высшими органами государственной власти государств, образующих Союз, и вступает в силу после его подписания их полномочными делегациями.
Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 1922 года.
Статья 24. Ответственность по Договору
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответственность за выполнение принятых обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоящего Договора.
Статья 25. Правопреемство Союза
Союз Суверенных Государств является правопреемником Союза Советских Социалистических Республик. Правопреемство осуществляется с учетом положений статей 6 и 23 настоящего Договора.
III
«Уважаемые депутаты Верховных Советов суверенных государств!
Обратиться к вам меня побудила нарастающая тревога за жизнь нашего Отечества. Среди многочисленных кризисов, которые оно переживает, самый опасный — это кризис государственности. Он тяжелейшим образом отражается на способности властей всех уровней выполнять свои обязанности перед гражданами, рвет экономику, тормозит и губит процесс реформ, деформирует нравы, противопоставляет друг другу народы, ведет к разрушению культуры.
В каждом из ваших суверенных государств появились демократически избранные законодательные и исполнительные органы. Они облечены ответственностью за политику, которая должна служить интересам людей. Но дела идут все хуже и хуже. И казалось бы, должно быть ясно, что среди главных причин этого — дезинтеграция, которая, нарушив историческую логику существования огромной и целостной страны, перешла пределы разумного и зашла настолько далеко, что приобрела разрушительный характер.
На ваше одобрение представлен проект Союзного договора.
Ваше решение либо приблизит общество к выходу к новым формам жизни, либо наши народы будут обречены надолго и, пожалуй, безнадежно выпутываться поодиночке. Что конкретно ждет в этом случае каждого из них и всех нас вместе, весь внешний мир — предсказать невозможно. Одно ясно — последствия будут тяжелыми.
В марте этого года подавляющее большинство граждан на всенародном референдуме высказались в пользу сохранения обновленного Союза. Последние месяцы, наполненные событиями бурными, тревожными и трагическими, еще больше укрепили убежденность людей в необходимости Союза. Об этом говорят все опросы общественного мнения.
Понимаю, что народные депутаты испытывают сейчас давление со стороны самых разнообразных сил, представляющих часто противоположные интересы и претензии. У каждого из них есть собственные взгляды.
Все это естественно для демократии. Но именно она требует принимать решения в интересах большинства, а не части общества, пусть даже очень активной, на перспективу, а не на текущий момент.
Право на отказ от Союза есть у каждого из вас. Но оно требует от народных избранников учитывать все последствия. Только Союз убережет от самой страшной из грозящих опасностей — от разрыва и потери многовековых уз, которыми история связала целые народы, семьи, людей на просторах одной шестой части земли. Распад такого многонационального сообщества принесет миллионам наших граждан несчастья, которые перевесят все возможные временные выгоды от отделения. Распад прозвучал бы приговором тем — а их десятки миллионов, — кто живет вне пределов своих национальных республик и у кого в поколениях выработалось чувство привязанности к своей огромной Родине.
Распад чреват национальными, межреспубликанскими столкновениями, даже войнами. А это была бы катастрофа для всего международного сообщества, гибель всех тех достижений, которыми мы обязаны политике нового мышления.
Размежевание сделает хрупкой перспективу соблюдения прав человека и прав национальных меньшинств. Это неотвратимо — какие бы вполне честные обязательства и постановления на этот счет сейчас ни принимались. Нарушение же этих прав вызовет серьезные осложнения республик с внешним миром, ибо это будет и нарушением международных договоров.
Разрыв нанес бы окончательный разрушительный удар по производительным силам, настолько тесно завязанным в общий комплекс, что даже нынешнее, пока еще относительное отдаление республик друг от друга резко осложнило экономическое положение каждой из них и еще более ухудшило повседневную жизнь людей.
Он отбросит — и это надо хорошо видеть — все суверенные государства назад в смысле развития науки, технологии, культуры <…>. Престижу и потенциалу нашей науки и культуры в их многонациональном синтезе будет нанесен непоправимый ущерб.
Без Союза неизбежна постепенная эрозия нашей общей безопасности и безопасности каждой из республик. Неизбежна утрата международного авторитета, который дорого оплачен всеми нашими народами и очень много значит для всех граждан.
И наконец, никто не имеет права забывать, что наше государство в последние годы стало одной из главных опор развития мира к новому мирному порядку. Именно так нас воспринимают. Это и ответственность, и признание нашей зрелости. Если такая опора рухнет, пойдет цепная реакция с трудно предсказуемыми для всего мира последствиями.
Обращая ваше внимание на эти угрозы и неизбежные утраты, я далек от преувеличения. Об этом же говорят и пишут как наши, так и зарубежные аналитики самых разных ориентации. Об этом свидетельствуют цифровые выкладки, расчеты, научно обоснованные прогнозы авторитетных исследовательских центров. И должен же нас в конце концов чему-то научить драматический, даже кровавый опыт тех разрывов, которые уже случились в ряде районов страны.
Я не раз публично, на государственных совещаниях и форумах, излагал свою концепцию нового Союза. И в этом обращении к вам хочу еще раз подчеркнуть: речь не о возрождении в новом обличье старого центра. Старого Союза нет, и возврат к нему невозможен. Это доказал и провал августовского путча. Речь идет о создании совершенно нового государственного и межгосударственного образования, суть которого недвусмысленно изложена в проекте представленного вам Договора.
Этот документ — продукт всестороннего, очень серьезного анализа, длительных переговоров и тщательной проработки с участием представителей суверенных государств. Им не раз занимались руководители суверенных государств-республик, вместе и раздельно. Он несколько раз кардинально пересматривался в сторону расширения начал конфедеративности и демократичности.
Две основополагающие идеи заложены в конфедеративную концепцию Договора, которая определяет характер новой, небывалой государственности.
Это идея самоопределения, национально-государственного суверенитета, независимости.
И это идея союзничества, сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи.
Моя позиция однозначна. Я — за новый Союз, Союз Суверенных Государств — конфедеративное демократическое государство. Хочу, чтобы в преддверии вашего решения эта моя позиция была всем хорошо известна. Медлить далее нельзя. Время может быть катастрофически потеряно.
Поэтому я прошу вас, полномочных представителей своих народов, в ближайшие дни обсудить проект Договора о Союзе Суверенных Государств и одобрить его.
Еще раз настойчиво повторяю: не справиться нам с возрождением общества, не выйти из кризиса и не соединиться с цивилизованным миром, хуже того — не избежать общей катастрофы, если мы не остановим процесс дезинтеграции.
Я прошу вас сказать «да» такой форме равноправного сотрудничества и взаимодействия, которая позволяет всем нам совместно — а иначе не получится — пройти труднейшую и очень опасную полосу своей общей истории.
Государственный совет в своем обращении к парламентам выразил пожелание, чтобы Договор был подготовлен к подписанию в этом году. Полномочные делегации Верховных Советов смогут окончательно учесть замечания на последнем этапе работы над Договором, с тем чтобы наконец с подписанием этого документа страна облегченно вздохнула, обрела очень важную точку опоры и надежду на совместное движение вперед».
IV
«Уважаемые товарищи!
Перед встречей, которая определит, каковы будут отношения между новыми суверенными государствами и какое место они вместе и раздельно займут в мировом сообществе, хочу поделиться с вами некоторыми соображениями.
Полагаю, у меня есть на это право — и моральное, и политическое.
Ратификация соглашения о создании Содружества Независимых Государств Верховными Советами РСФСР, Украины, Беларуси и готовность Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана войти в состав учредителей Содружества коренным образом изменили ситуацию. Государственная форма жизни многочисленных народов великой страны начинает свою новую историю. На ее территории образуются несколько независимых государств. На смену длительному и трудному историческому процессу формирования единой страны приходит процесс ее разъединения, расчленения. И он также не будет легким. Тут не должно быть никаких иллюзий. Очевидно, что общество еще не осознало, что это — поворот колоссального масштаба, затрагивающий основы жизни народов и граждан.
С самого начала перестройки мы шаг за шагом шли к тому, чтобы все республики обрели подлинную независимость. Но я все время настаивал на том, что нельзя допустить распада страны. Таково было и есть мое понимание воли народов, выраженной на референдуме как их стремление к независимости при сохранении целостности исторического союза. Эта мысль и это беспокойство лежали в основе моей формулы о «Союзе Суверенных Государств», которая первоначально встретила вашу поддержку.
Пишу вам не для того, чтобы возвращаться к дискуссии на эту тему. Сейчас реальностью становится идея Содружества Независимых Государств. И важно, жизненно важно, чтобы этот сложнейший процесс не усилил разрушительные тенденции, наметившиеся в обществе. Ведь для всех очевидно, что переход будет происходить в обстановке глубочайшего экономического, политического и межнационального кризиса, значительного снижения жизненного уровня.
Со всей серьезностью я отнесся к тому, что содержится в документах, принятых в Бресте и Ашхабаде, в ратификационных постановлениях Верховных Советов трех республик. Обдумывая свои соображения, я учитывал и общественную реакцию внутри и вне страны, вопросы, которые остались открытыми.
Смысл соображений в том, чтобы очертить минимум положений, без которых Содружество в современных условиях, как мне представляется, не сможет стать жизнеспособным.
Среди них, оговорюсь сразу, есть вещи очевидные, которые все вы признаете. Но я тоже не могу их не зафиксировать в своем послании.
Первое. Должно быть четко зафиксировано понимание содружества как многонационального образования при абсолютном равенстве не только самих государств, но и живущих в них национальностей, всех религий, традиций, обычаев, геополитического местонахождения.
Наиболее подходящим названием поэтому для содружества мне представляется «Содружество европейских и азиатских государств» (СЕАГ).
Второе. Мало просто официально признать Декларацию прав человека и демократических свобод. При уникальной расселенности людей на огромных пространствах, где на протяжении веков перемешивались и пересекались судьбы миллионов семей, где десятки миллионов смешанных браков, проблема открытости границ и гражданства должна быть проработана особенно тщательно.
Уверен, что у всех, кто не заражен национализмом и сепаратизмом, а это сотни миллионов, неизбежно возникнет чувство утраты «большой Родины». А когда практически начнется процесс государственного, административного и прочего размежевания, определения условий гражданства, это затронет очень многих самым непосредственным образом — в быту, на производстве, в человеческих связях.
Поэтому, возможно, на какой-то довольно длительный период придется согласиться с нормой — «гражданин Содружества» наряду с гражданством в соответствующем государстве.
Боюсь, что, если это все не будет обдумано, решено и надежно гарантировано, концепция Содружества будет отвергнута на народном уровне.
Третье. Для стабильности Содружества решающее значение имеет создание социально ориентированной рыночной экономики, беспрепятственное развитие и защита всех форм собственности. Я разделяю мнение тех, кто считает необходимым подтвердить решимость участников Содружества соблюдать Договор об экономическом сообществе и завершить работу над комплексом приложений, предусматривающих необходимые условия создания общего «евразийского рынка». В том числе — согласованные меры по таким важным вопросам, как валютно-финансовая и банковская системы, методика ценообразования и налогообложения, таможенные сборы, бюджетные ассигнования на оборону и другие общие цели.
Я убежден: потребуются соответствующие структуры экономического взаимодействия в рамках Содружества.
Убежден и в другом: все это станет возможным, заработает на благо людей и народов только в условиях действительных гарантий экономических прав и свобод личности, их безусловной защиты в законе и на практике.
Четвертое. С полной ответственностью и знанием дела относительно целостной системы военно-стратегической безопасности страны могу сказать, что малейшие попытки дезинтегрировать эту систему чреваты бедой международного масштаба.
С точки зрения утверждения реального суверенитета членов Содружества делить эту сложнейшую и крайне дорогостоящую систему нет никакой необходимости. Договаривающиеся стороны могли бы определить безотлагательно структуры единого контроля и главнокомандования стратегическими силами, включая все основные военно-технические и научно-оборонные компоненты. Коллективное командование — это абсурд. Коллективным может быть контроль за состоянием и содержанием Вооруженных Сил, за проведением согласованной военной политики.
Совместного решения требует и проблема реформирования и сокращения армии. Это теперь — крупнейшая социальная проблема. Одновременно это проблема политической безопасности на территории всей страны, которой пока принадлежат испокон веков единые Вооруженные Силы.
Пятое. Самостоятельная, суверенная деятельность каждого члена Содружества на мировой арене правомерна. Но если есть Содружество, а это политическое образование, то должно быть и его политическое представительство в мировом сообществе. По типу, скажем, Европейского Сообщества, которое является субъектом международного права. Отказывать в таком статусе Содружеству нельзя еще и потому, что от СССР оно унаследует статус ядерной сверхдержавы. От такого наследства так просто не избавиться. Иначе произойдет срыв международного доверия, будет нарушен Договор о нераспространении ядерного оружия, который все суверенные члены Содружества вроде бы обязались подтвердить.
Я не представляю себе, как можно сохранить общую стратегическую оборону без минимума общей внешней политики.
Самое разумное было бы иметь структуру по делам внешних сношений, приспособив ее к нуждам и принципам Содружества, включая и вопрос о членстве в Совете Безопасности ООН.
Подписи Союза стоят под важнейшими документами эпохи — декларациями и договорами. Остаются действующими 15000 внешнеэкономических соглашений. Просто это все перечеркнуть значило бы с первых шагов нанести ущерб международному престижу Содружества и его реальным интересам.
Так же, как все члены Содружества, очевидно, подтвердят свою приверженность принципам современной демократии (свободные выборы, разделение властей, политический, идейный, религиозный плюрализм, правовое государство, гражданское общество, права человека), они должны воспринять и внешнеполитический курс, построенный на новом мышлении. Он получил признание во всем цивилизованном мире.
Шестое. Будет нанесен невосполнимый урон духовному развитию всех народов, если уже сейчас члены Содружества не договорятся о координации (и о ее органах) в области науки и культуры, языка межнационального общения, охраны памятников, об источниках содержания музеев, мирового класса театров, библиотек, архивов, крупнейших институтов, лабораторий, обсерваторий и т. п.
Седьмое. О процедуре правопреемства. Начинать новую эпоху в истории страны надо с достоинством, с соблюдением норм легитимности. Одной из причин исторических несчастий наших народов являются как раз грубые разрывы, разрушительные перевороты, захватные методы в ходе общественного развития.
И есть предпосылки, есть и опыт, чтобы действовать в рамках демократических правил.
Поэтому я предложил бы после ратификации документа о Содружестве и обмена ратификационными грамотами провести заключительное заседание Верховного Совета СССР, который принял бы свое постановление о прекращении существования Советского Союза и передаче всех его законных прав и обязательств Содружеству европейских и азиатских государств.
Таковы мои самые общие соображения. Они продиктованы ответственностью за конечный успех великого дела, начатого в 1985 году».