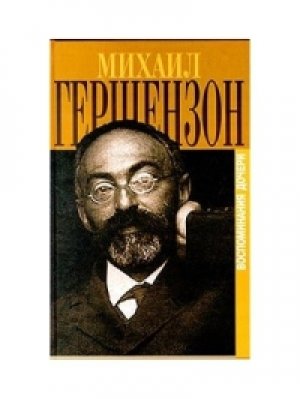
От издателя
Впервые публикуемая мемуарная книга Наталии Михайловны Гершензон-Чегодаевой (1907–1977) имеет двойную ценность.
Во-первых, это рассказ о жизни и взрослении одной юной москвички с Арбата в первой четверти XX века, рассказ удивительно интересный и уже потому вполне самодостаточный.
Во-вторых, потому, что эта девочка была дочерью Михаила Гершензона; он был ее главным героем и стал основным действующим лицом ее воспоминаний.
Текст печатается по рукописи, хранящейся в личном архиве внучки М.О.Гершензона Марии Андреевны Чегодаевой, которая любезно передала права на его издание Захарову и написала по его просьбе несколько биографических очерков об основных персонажах мемуаров ее матери — они печатаются в приложении.
Фотографии в этой книге — из того же архива и почти все публикуются впервые.
В качестве вступительной статьи в книге опубликован — и тоже впервые биографиче-ский очерк о Гершензоне, принадлежащий перу брата его жены А.Б.Гольденвейзера — знаменитого пианиста, профессора Московской консерватории, народного артиста СССР. Текст очерка извлечен из большой мемуарной книги Александра Борисовича, которую издатель планирует выпустить в ближайшее время.
И, наконец, чтобы разобраться, "кто чей дядя", на первом форзаце книги дается генеалоги-ческое древо Гершензонов-Гольденвейзеров-Чегодаевых.
А.Б.Гольденвейзер. Михаил Осипович Гершензон (1869–1925)
Биографический очерк
Говоря о нашей дачной жизни в Кунцеве, я упоминал о товарище брата, в то время студенте, Михаиле Осиповиче Гершензоне Начавшись как обычная студенческая дружба, эти отношения делались все более близкими Он стал у нас часто бывать, вначале как дачный сосед, потом уже, по приезде в город, у нас в доме.
Кроме дружбы с братом и близости со всеми нами, между Михаилом Осиповичем и моей сестрой Марусей возникло глубокое сердечное чувство, связавшее их на всю жизнь Гершензон происходил из среднебуржуазной еврейской семьи из города Кишинева Их было два брата Михаил Осипович и старший — Абрам Осипович. Оба брата кончили кишиневскую гимназию Абрам Осипович после этого поступил в Киевский университет на медицинский факультет, по окончании которого поселился на всю жизнь в Одессе и был одним из известнейших там детских врачей Он умер в 30-х годах Михаил Осипович, при затруднениях, которые в то время были для евреев при поступлении в высшие учебные заведения, уехал за границу и поступил там в какой-то немецкий политехни-кум, где проучился год или два Определенно почувствовав, что изучение математических и технологических наук не является его призванием, он вернулся в Россию и поступил на филологический факультет Московского университета, где оказался на одном курсе с братом.
В университете Гершензон блестяще занимался, так же, как мой брат, главным образом не своей в будущем прямой специальностью Коля в университете занимался римской историей, а Гершензон — греческой, и за работу о, как раз в то время вновь открытом, ранее неизвестном сочинении Аристотеля "Афинская политая" получил золотую медаль Это сочинение за счет университета было напечатано.
По окончании университета Гершензон, так же, как и Николай, был оставлен для подготов-ки к профессорскому званию притом же профессоре П Г Виноградове, который в университете читал курс средних веков и был одним из лучших в мире знатоков английской, особенно средневековой английской, истории. (Впоследствии Виноградов уехал за границу и много лет был в Англии профессором, если не ошибаюсь, в Оксфордском университете, доктором которого был избран, будучи еще профессором Московского университета.)
Гершензон всецело отдался своей научной работе, но, по существовавшему тогда положе-нию вещей, не мог, как еврей, рассчитывать на профессуру. Ему было предложено, если он крестится, получение приват-доцентуры и в дальнейшем профессорства и т. д., но он этого сделать по своим убеждениям не мог. Михаил Осипович всю свою жизнь ни с какой службой связан не был и занимался литературной работой.
Гершензон с юных лет неплохо писал стихи, но в этой области в печати не выступал, кроме нескольких стихотворений, которые однажды были напечатаны, кажется, в журнале "Русская мысль". Постепенно он стал изучать преимущественно русскую культуру и русских писателей и выдающихся людей первой половины XIX века. У него есть ряд работ о Пушкине, книга "Грибоедовская Москва", книги о философе Чаадаеве и о декабристе Кривцове, "Молодая Россия" и "Образы прошлого", большое количество материалов, опубликованных в сборниках под общим названием "Русские Пропилеи", много работ о Герцене и Огареве. Есть у него работа философского характера, первая часть которой напечатана, а вторая осталась в рукописи "Тройственный образ совершенства".
Большую роль в жизни Михаила Осиповича сыграла Елизавета Николаевна Орлова — уже немолодая в то время женщина, происходившая из чрезвычайно интересной семьи. У нее еще была жива в те годы мать, которой было девяносто с лишним лет. Отец ее был сыном известного декабриста Михаила Орлова, женатого на Екатерине Раевской, одной из трех сестер Раевских.
В руках Елизаветы Николаевны Орловой оказались чрезвычайно ценные архивные матери-алы о семье Орловых Раевских, декабристе Кривцове и т. д. Благодаря близости с Орловой, Михаил Осипович эти материалы широко использовал в своих работах.
Елизавета Николаевна на всю жизнь осталась старой девицей. Все свои средства она почти целиком отдавала на воспитание девочек-сирот. Они у нее жили, летом она брала их с собой в имение. Они жили в полном довольстве, учились и все вышли в люди. У нее воспитывалось одновременно до десяти девочек.
Елизавета Николаевна была человеком незаурядным. Не отличаясь особенно глубоким умом, это была очень тонкая, деликатная натура, в лучшем смысле слова — аристократическая. Орлова обладала недюжинным художественным дарованием. Когда-то она училась и по-любительски писала акварелью и масляными красками. После революции, когда от ее богатства ничего не осталось, она стала работать как художник-профессионал — преподавала в одной из художественных школ Москвы и давала частные уроки живописи преимущественно детям. Когда она была уже совсем старой, под восемьдесят лет, случайно на ее рисунки и этюды было обращено внимание, и оказалось, что их художественный уровень довольно высок. Ее маленькие картинки стали покупать художественные учреждения, и это помогло ей существовать. Кроме того, ей была назначена небольшая пенсия. Умерла Елизавета Николаевна, так же как и ее мать, в глубокой старости. До последнего времени она сохраняла значительную бодрость физическую и духовную.
Михаил Осипович, находившийся с Орловой в дружеских отношениях, жил в одном из флигелей принадлежавшего ей дома, который она купила в Никольском (ныне Плотниковом) переулке на Арбате. Дом этот принадлежал раньше известному адвокату, князю Урусову.
Имея большие связи в общественном мире Москвы, Елизавета Николаевна устроила моей сестре Марусе, которую она очень любила, место учительницы в одной из городских школ вблизи Тверской заставы. Вскоре после смерти нашей матери Маруся переехала от нас и поселилась при этой школе.
Роман между Михаилом Осиповичем и сестрой, продолжавшийся довольно долго, натолк-нулся у своего завершения на препятствие: Михаил Осипович, как еврей, по существовавшим тогда законам не мог жениться на моей сестре православной. Православным жениться и выходить замуж за нехристиан законом не разрешалось. Михаил Осипович Гершензон, всю жизнь живший религиозно-философскими вопросами и не бывший материалистом, отрицатель-но относился к догматической стороне религии, как еврейской, к которой он официально, принадлежал, так и христианской. При глубокой его принципиальности для него креститься, т. е. открыто солгать, признав себя верующим в том, во что он не верил. было совершенно невоз-можно.
В те времена к нелегальным отношениям между мужчиной и женщиной относились крайне ненормально. Мой отец воспринимал это чрезвычайно болезненно. Тем не менее, после долгих колебаний роман их кончился тем, что сестра и Гер-шензон соединились. Родилось у них двое детей — Сережа и Наташа, которых мой отец, как своих внуков, страстно любил. Однако, то, что брак сестры с Гершензоном не был оформлен, было для него источником величайших страда-ний. Отец все время осуждал Гершензона за то, что он не хотел или не мог принести этой жертвы. В конце концов, когда вышел закон о веротерпимости, по которому разрешалось из православия переходить в другие христианские вероисповедания, моя сестра Маруся приняла лютеранство, так как лютеранам разрешалось вступать в брак с нехристианами. Таким образом их брачные отношения были оформлены: детей своих они усыновили. Мой отец был этим очень счастлив.
Дом моей сестры был видным культурным центром. У них бывали все лучшие представите-ли тогдашнего интеллектуального слоя России разных направлений. Близки к ним были Андрей Белый, Вячеслав Иванов и многие другие. Жизнь их всегда была насыщена волнующими умственными интересами.
Позже Елизавета Николаевна во дворе дома Урусова построила довольно большой, очень уютный дом, в котором внизу поселились: она сама с матерью и ее сестра, бывшая замужем за профессором Котляревским, а верхний этаж с мезонином она специально построила для моей сестры с Михаилом Осиповичем, где они и прожили всю жизнь. У Гершензона в мезонине были две комнаты с простыми деревянными полами без паркета, на старинный лад. Там же размеща-лась и его огромная библиотека.
Гершензон был очень своеобразный человек. При очень принципиальном характере, выдающемся таланте и уме, безукоризненном благородстве и честности, характер у него был трудный, тяжелый и нелюдимый. Он не умел любить людей, относился к ним подозрительно, а в семейной жизни, несмотря на то, что он глубоко любил мою сестру и детей, он был чрезвычайно нервен. Семейная атмосфера жизни сестры, особенно принимая во внимание постоянные материальные трудности ввиду неопределенности заработка Михаила Осиповича, была очень тяжкая, напряженная. С одной стороны, насыщенная глубокими умственными интересами, а с другой — тяжелыми вспышками нервного характера Гершензона.
Дети сестры — сын Сережа и дочь Наташа — получили в детстве своеобразное воспитание. Избегая шаблона, сестра с мужем отдали их в детскую колонию некоей Арманд. Колония эта была расположена где-то в нескольких десятках километров от Москвы по Северной ж.д. Это было вскоре после революции, в период гражданской войны и полной разрухи. Арманд, отчасти близкая взглядам Толстого, а отчасти теософка, своеобразно вела воспитание детей, которые жили в ее колонии. Они были все вегетарианцами, жили без прислуги, сами себя обслуживали и готовили пищу. В этой жизни было много нравственно высокого, но были и некоторые болезненные ненормальности, да и многие физические трудности оказались не по силам некоторым из детей. Дети довольно часто болели. Наташа заболела дифтеритом, который запустили. Ее с опозданием привезли в Москву, была сделана прививка, но у нее все же сделался паралич гортани, и голос ее на всю жизнь остался хриплым. Ей, доктору искусствоведения, это очень мешает, так как ей трудно читатьлекции в Московском университете.
Когда родители взяли Сережу и Наташу из колонии, Сережа, закончив среднее образование, поступил в университет на естественный факультет, Наташа — на искусствоведческий.
Сережа унаследовал в значительной степени и нервность своего отца и отличные способ-ности. Работая успешно в своей научной области, впоследствии он стал профессором Киевского университета.
Наташа работала одно время в Музее изящных искусств (теперешнем Музее изобразитель-ных искусств им. А.С Пушкина) в Москве. Сблизившись в музее с одаренным искусствоведом Андреем Дмитриевичем Чегодаевым, она вышла за него замуж. У них — единственная дочь Машенька, очень талантливая юная художница, всеми нами любимая.
В 1924 году умер мой брат <Николай…> Смерть его произвела на Михаила Осиповича, который его очень любил, чрезвычайно тяжелое впечатление.
Сам Михаил Осипович отличался неважным здоровьем. У него была наклонность к туберкулезу, но, тем не менее, в его здоровье, казалось, ничего особенно угрожающего не было. В начале 20-х годов его легочное заболевание довольно сильно обострилось Ему удалось получить разрешение на выезд за границу, и они всей семьей прожили год за границей в небольшом курортном городке Баденвейлере (там, где умер А.П.Чехов). Это пребывание на курорте оказалось очень благоприятным. Михаил Осипович поправился, и они вернулись в Москву.
Через год после смерти моего брата, в феврале 1925 года, Михаил Осипович, вернувшись с какого-то своего доклада или заседания в Академии художественных наук, почувствовал себя неожиданно нехорошо. У него сделались сильные боли в груди. Вызванный врач определить заболевание не сумел и предположил припадок печени. Заболевание оказалось припадком грудной жабы. Михаил Осипович, промучившись день и ночь, на следующий день на рассвете умер.
Н.М.Гершензон-Чегодаева. Первые шаги жизненного пути
Авторское предисловие
Я ощущаю в прошлом много для себя важного, о чем хотелось бы поговорить и оставить в памяти хотя бы в виде слов, написанных на страницах тетради.
Грустно лишь, что эти слова не смогут воплотить самого главного аромата и поэзии того, что было когда-то и в чем самые факты, то, что можно рассказать или записать, составляли только одну сторону, наименее важную, а самым важным было когда-то неуловимое, неосязаемое, душистое и сверкающее ощущение жизни, молодости, радости бытия. Как это закрепить? Как удержать? Как передать силу жизни, кипевшую ключом во мне — маленькой черноглазой, всегда веселой девочке, пронизанной вечным ощущением счастья?
Как передать любовь моего отца и ту удивительную, никогда больше не встреченную в жизни мудрость, которая была в нем заключена и которая держала меня в своих крепких объятиях первые 17 лет моей жизни? Как передать звук его шагов, контуры его сутуловатой спины, неповторимую прелесть и значительность интонаций его голоса, для меня звучавшего непререкаемой силой закона, красоту его широкой мужской руки, огонь выпуклых черных глаз?
Как в словах закрепить запах сырой земли в дальнем, немного жутком, конце сада и запах гиацинтов, которые там росли прямо в грунте? И значение карканья множества ворон, осевших на яблонях и грушах в наступающих сумерках зимнего дня? И щемящую сладость дружбы и первых юношеских мечтаний во время жизни в колонии и многое, многое, многое другое.
Как рассказать о звуках колокольного звона вечерами в субботу или в сверкающие пасхаль-ные дни, о восторженном увлечении играми, уюте английской речи — языка моего детства?
Как передать облик удивительного человека, одной из основ детских лет, — Лили, носительницы огромного внутреннего богатства, щедро расточавшегося перед детьми человека, бывшего для нее дороже жизни?
Наконец, как рассказать об основе жизни, втором воздухе, без которого невозможно было дыхание, о безграничной любви моей мамы, ушедшей от меня 12 лет назад и постоянно мной до сих пор ощущаемой?
Все это встает передо мною одновременно. Я вижу лесную дорожку в Силламягах, где папа начал набрасывать кучу сосновых шишек, и набрасывали мы и все проходившие по дорожке знакомые, пока она не выросла до огромных размеров. Вижу его согнутую фигуру, когда он бросает плоские камешки так, чтобы они прыгали по воде.
Вижу золотистые пушистые волосы вокруг высокого лба Вячеслава Иванова и удивитель-ный изгиб его тонких губ. Передо мной возникают глубокие, ежеминутно меняющие цвет глаза Андрея Белого, когда он, на секунду остановившись в своей поражающей необычностью речи, вдруг загадочно улыбнется и застынет, словно прислушиваясь к чему-то таинственному, происходящему у него внутри.
Я вижу картинку с изображением австралийской женщины, идущей по воде, над моей кроваткой и коврик с двумя оленями на полу. Вижу над кроватью Сережи картину — порт с кораблями, в которую взгляд уходил далеко-далеко, блуждая по набережным и палубам.
И странно: я сижу в той же самой комнате, где все это было, среди тех же стен и под тем же потолком, я — старая, седая женщина со сморщенной кожей, без зубов и с иссохшей душой. И вдруг сквозь очертания закрывающих стены предметов выступают узоры палевых обоев с гирляндами и букетами роз, мое собственное тело словно съеживается, приобретая упругость, и я вновь на какую-то долю секунды ощущаю себя маленькой, доброй и счастливой, вижу крошечные, вечно подвижные ручки с шершавой заскорузлой кожей, чувствую на шее жесткую растрепанную косичку. Когда мне приходится проходить по унылому пустырю на месте прежнего волшебно-прекрасного сада под окнами наших комнат, я иногда замедляю шаги, и передо мной, словно галлюцинация, возникают смутные тени деревьев — яблонь и груш, сирени и жасмина, моего любимого ясеня, который стоял прямо за окном и которому я в летние ночи так часто поверяла свои юношеские чувства.
Я вижу высокую траву, усеянную желтыми головками одуванчиков, и из-за стволов передо мной возникает полная фигура Лили в полосатом полотняном фартуке с лейкой и лопаткой в руках. И мне не столько жаль ушедшей жизни, сколько жаль утраченного богатства собственной души, когда-то глубокой и тонкой, а теперь высохшей наподобие ядра негодного лесного ореха. И глядя в меркнущее после заката весеннее небо, я живу не настоящим, а тем щемящим, острым ощущением предчувствия счастья, которое возникало в такие весенние дни или вечера вплоть до последней весны жизни — 1941 года, когда жизнь вдруг вспыхнула неожиданным ярким огнем и тут же, сразу потускнела, чтобы такой и остаться в дальнейшем.
Если я пытаюсь проникнуть памятью в самые истоки моего существования, то я больше всего для первых сознательных мгновений ощущаю — папу. Не маму, не Сережу, не игрушки, а папу. Должно быть, величие его личности, яркость индивидуальности ощущались крошечным существом, только вступающим в жизнь, сильнее всего. "Папа" было первым моим словом, а с его концом ушла богатейшая, самая мудрая и подлинная часть жизни, оставив зияющую пустоту, ничем не заполнившуюся никогда. От него принималось все как непререкаемое.
В раннем нашем детстве он значительно больше любил Сережу, чем меня, и гораздо больше проводил с ним времени. Но никогда, ни на единую долю секунды это не показалось мне обидным, не кольнуло моих чувств. Раз так он считает, значит, так оно и есть, ни рассуждать, ни обдумывать здесь было нечего. И когда однажды вечером, гуляя со мной по Никольскому переулку, дойдя до наших ворот, он в шутку сказал: "Подожди меня у ворот, здесь живет один мой знакомый, я должен зайти к нему на минуту по делу", я, ни секунды не колеблясь, остановилась ждать, потому что от его слов знакомые ворота перестали быть нашими и дома напротив изменили свой облик. И так было всегда, до самого дня его смерти.
А потом, годы подряд, мне снилось, что он вернулся и я тороплюсь рассказать ему все, что произошло без него. И, странным образом, он, такой сильный и волевой, всегда снился мне и снится теперь (только уже очень редко) маленьким, жалким, беспомощным, таким, которого надо жалеть и ласкать как ребенка. Должно быть, его душа всегда была такой, но этого никто не знал и не видел за оболочкой его тела и разума. Всеми забытый, даже тем Сережей, в которого он столько вложил, он живет только в своих никому ненужных писаниях, скрытых за дверцами старинного, подаренного Лили шкафа, в моем сердце и вечном смятении моей бесконечно усталой и тоже никому ненужной души.
Все его великие мысли и горячие, полные живой кровью и огнем чувства ушли куда-то в незримые пространства и только иногда вьются вокруг меня, напоминая об его безграничной любви и неповторимой, больше никогда не встреченной мудрости. И ненужные слезы текут по увядшим щекам той, которую он знал только маленькой девочкой и едва расцветающей девушкой, которой говорил: "Я никогда никого так не любил как тебя, даже маму" или: "В тот день, когда твои руки убирают мой письменный стол, мне совсем по-другому работается". Однако довольно об этом; есть вещи, которые слишком тяжело вспоминать.
Но мне кажется, что если бы моего отца вспоминали и им бы гордились люди, мне было бы не так трудно, не так одиноко жить на свете.
31 марта 1952 года
Дом в Никольском переулке
Я помню себя очень маленькой, когда я еще плохо говорила, а говорила я все с полутора лет. Мне начал открываться мир в маленьком деревянном флигеле с мезонином, стоявшем у ворот большого помещичьего двора старой Москвы. Напротив флигеля был другой — большой двухэтажный дом, где жила Лили с девочками и наверху семейство Шемшуриных, жильцов, перешедших еще от прежнего владельца. Оба дома были розовые, старые, а на флигеле видны были следы копоти, как говорили, от пожара 1812 года. Флигель имел крылечко, которое можно было видеть из окна, и если раздавался звонок, я летела к окну смотреть, кто пришел и кричала: "Белый Андрей пришел!".
Помню себя крошечной, плохо говорящей. Я стою зимой на дворе над примерзшей ко льду щепочкой, стараюсь ее отодрать и обиженно повторяю: пиипла. И рядом папа, поддразниваю-щий меня вместе с Сережей (они любили дразнить меня, пока я была совсем маленькой). Все ранние эпизоды жизни своим фоном имели для меня папу, так они вспоминаются и сейчас.
Смутно помню приезд к нам дяди Бумы и то, как я, стоя внизу у калиточки, загораживав-шей лестницу к папе наверх (чтобы мы на нее не взбирались), кричу: "Дядя Ума, иди тяй пить!" Также смутно припоминается другой приезд, тоже из Одессы, маленькой, согнутой бабушки. От ее пребывания запомнился, собственно, только зеленый фарфоровый горшочек, в котором ей за столом особо подавали еврейскую пищу.
От первых лет жизни, естественно, больше всего вспоминаются летние впечатления. "Они относятся к 1911 и 1912 годам, и я не могу теперь расположить их хронологически. Мы ездили летами в Силламяги в тогдашней Эстляндии, на берегу Финского залива. Я очень хорошо помню это чудное место с северным светлым морем и соснами, с речкой и водяной мельницей, с лесом, полным черникой, и с лужайкой, покрытой земляникой, выступавшей после косьбы.
Помню полурусскую, полуиностранную жизнь, эстонцев и немцев, чистенькие магазины и курзал, из которого неслись вечерами звуки вальсов. Помню некоторых жителей: высокую фрейлейн Брокгаузен — владелицу дач и доктора Барнеля, лечившего нас, маленького Оскара — сына мельника, нашего приятеля, хорошо помню многих дачников, петербургских мальчиков Петю и Никишу Полибиных в матросских костюмчиках и их бонну. Многих московских литераторов, ездивших в Силламяги. Жили там Вячеслав Иванов с семьей и историки Дмитрий Моисеевич Петрушевский, и Дмитрий Николаевич Егоров. У Егорова были дети постарше нас. Они любили тискать меня и затаскивать к себе на дачу. Я почему-то этого ужасно боялась. Боялась даже проходить мимо их дачи. Особенный страх внушал мне старший мальчик Андрюша, так, что потом все детство и юность я не любила имя Андрей. Не могла же я тогда знать, что моя судьба сольется с этим именем и оно будет таким близким, родным.
В одно из этих двух лет в дачном обществе образовались два круга теннисистов и любителей городков. Теннисом заправлял Егоров, красивый и элегантный, в белых фланелевых брюках. Я любила ходить на теннис, смотреть на нарядных мужчин и дам, слушать очень нравившиеся мне возгласы "Аут", "Гейм" и т. д. Городки мне не нравились. Любители городков держали себя вызывающе по отношению к теннисистам, нарочито противопоставляя им свой демократизм. Симпатии папы были на стороне любителей городков, во главе которых, как я узнала от мамы лет двадцать спустя, стоял знаменитый физиолог Павлов. Я же в душе не соглашалась с папой (редкий случай!) и скучала, когда он затевал с Сережей игру в городки. Помню, что мы часто ходили мимо дачи, где в саду все клумбы и газоны были обложены одинаковыми белыми плоскими морскими камешками, а балкон окружали полотняные занавески с красными полосами. Это и была дача Павлова.
Как много запахов запомнилось от этих лет! Особенно запах моря, водорослей, смолы и рыбы, такой интенсивный, какого я больше нигде не встречала, запах резеды и махровой герани, которую мы покупали в горшках в садоводстве, запах сосен, запах печеного хлеба и пирожных, шедший из фургона булочника, приезжавшего по утрам.
Из звуков особенно помню непрерывный шум близкого моря, на фоне которого проходила вся жизнь, и звук бурлящей воды на мельнице, куда мы очень любили ходить.
Всю нашу жизнь в Силламягах организовывали папа и Лили.
Они затевали прогулки на Петгоф, от которого я помню только обрыв, пресный, неизвест-ный в Москве, хлеб и солдат на ученье, прыгавших через копны. Они фотографировали Кодаком, проявляли, печатали и наклеивали карточки в альбомы. Помню запах фиксажа и черные ванночки, в которых мокли фотографии. Мы часто ходили вдоль моря по берегу в рыбачьи деревни, где вверх дном лежали просмоленные черные лодки и сушились сети с прямо-угольными пробками (две такие пробки были у нас в Москве, одна из них постоянно лежала у папы на письменном столе). Заходили в избы, где коптились салакушки — необыкновенно вкусные рыбки с золотистой кожицей. Ночью накануне дня Ивана Купала на берегу бывало народное гулянье. Жгли смоляные бочки на высоких шестах, воткнутых в песок. И нас водили туда. Так странно было находиться на берегу ночью в толпе людей при свете пылающих смоляных факелов!
Ко времени до моих трех лет относятся следующие шалости: однажды я забралась в комнату к жившей у нас тогда немке и вылила из чернильницы чернила на белую скатерть. Зачем я это сделала, не знаю, никакого чувства злобы не помню. После этого папа отшлепал меня по рукам — единственный раз, когда он меня ударил. В другой раз я залезла на комод и перед зеркалом ножницами отрезала у себя локон. Как-то, когда мы были одни с папой, я засунула себе глубоко в нос комочек ваты. Папа вытаскивал его шпилькой, шла кровь. Одно платье я разрезала на себе от подола до ворота, так уж оно мне не понравилось. Залезла в буфет в поисках мелкого сахара и высыпала себе в рот всю соль из солонки, после чего меня рвало.
Я была очень любопытна и говорлива. Мысли скакали у меня поминутно, и я все их высказывала вслух. У меня был маленький курносый нос с красным пятнышком на кончике и в веснушках, черные как вишни глаза и жесткие рыжеватые, всегда растрепанные волосы с короткой косичкой. Я была крошечного роста, ловкая и увертливая, легкая как пушок. Взрослые любили тискать меня и играть мною, как куклой.
Первые лета в Силламягах мы жили в порядочной даче со светлыми большими комнатами, с видом на море. Совсем рядом была дача Лили с девочками. От этой дачи сразу шел мостик через речку, а за мостиком был лужок с травой, под которой скрывался сплошной ковер земля-ники, выступавшей наружу после косьбы. Девочки Лили, разные по возрасту, начиная с 10–12 лет и старше, как-то входили в нашу жизнь. Особенно занимала нас Ольга маленькая, стропти-вая и упрямая, веселая и шаловливая. Она часто бывала наказана и тогда сидела на стуле в углу двора позади дачи, а мы ходили кругом и сочувственно смотрели на нее, не смея заговорить. Помню затененную лесную дорогу между сосен, где мы набрасывали кучу из сосновых шишек, и куча все росла, а на другой год превратилась уже в постоянный холмик. И это имело особенное значение, потому что было придумано папой, как и все, что он придумывал и делал.
Хорошо помню приходы гостей — друзей моих родителей Петрушевских, Франка и Вяч. Иванова. У Петрушевских был старший сын Пава, лет шестнадцати, который служил постоян-ным предметом разговоров взрослых благодаря своей неуравновешенности и распущенности. Я с ужасом слушала рассказ о том, как однажды, убив сову, он ночью положил ее, окровавленную, на голову спящего маленького братишки Васеньки.
Помню отъезды в Силламяги из Москвы. Начало отъезда — два извозчика перед воротами нашего двора в Никольском переулке. Потом цоканье лошадиных копыт по булыжной мостовой. Потом огромный вокзал, зал ожидания (папа ушел брать билеты).
Смутно помню приезд в Силламяги дедушки, прямо из заграницы, из Наухейма, куда он ездил каждый год лечиться. Помню, что привез он маме чудесный малиновый клетчатый шерстяной платок — плед, а нам черные и белые чулочки с пестрыми полосами посередине и мне светло-зеленое батистовое платье с белым горошком и с большим воротником, отделанным кружевом, в котором я снята на нескольких карточках, крошечная, похожая на куклу Зимы вспоминаются слабее.
Родилась я в Борисоглебском переулке в доме, во дворе которого росла у забора сосна, своими очертаниями напоминавшая сосны на японских гравюрах (она исчезла уже перед самой войной 1911 г.). Когда мне было полгода, в 1909 году, мы переехали в Никольский переулок по другую сторону Арбата, где на углу Арбата была церковь Николы Плотника, в тот деревянный флигель, который я описывала. Каменный дом, где я прожила всю жизнь и живу до сих пор. Лили выстроила в 1913 году. Таким образом, во флигеле мы жили в 1909–1913 годах.
Жизнь во флигеле я помню отрывочно. Не помню даже точно расположения комнат. Знаю только, что был мезонин, где у папы были две низкие уютные комнаты — кабинет и библиотека. Внизу в одной из комнат (кажется, в спальной родителей) окна выходили на переулок. Мы очень любили сидеть на этих окнах, наблюдать жизнь улицы. Как бесконечно далека была она от теперешней! Я хорошо помню зимний вид переулка. Туго укатанный, выпуклый горбом санный путь, высокие сугробы вдоль тротуаров. Редкие прохожие и проезжавшие мимо окон извозчики в толстых синих поддевках, красных кушаках и плоских двухэтажных шапках. Против нас в доме жили три мальчика-брата, нашего возраста, с которыми мы не были знакомы, но жизнь, которых постоянно наблюдали в окно. Куда делись двое из них — не знаю, а одного встречаю всю жизнь — мальчиком, юношей, молодым человеком, высоким, худым мужчиной средних лет. Знаю в лицо его жену и сына; а он, очевидно, научный работник, т. к. бывает в научном читальном зале Ленинской библиотеки, сидит над какими-то математическими книгами. Встречаясь, мы смотрим друг на друга как знакомые, хотя и не кланяемся.
Во флигеле я начала учиться с мамой. Сперва она стала учить Сережу, но очень скоро присоединилась и я, сначала в роли "вольнослушателя", а затем и законного ученика. В три года я уже читала.
Весной 1912 года Лили начала строить посереди двора трехэтажный кирпичный дом. Ее мать, Ольга Павловна Орлова, гордая аристократка, не одобряла демократических взглядов и общественной деятельности дочери. Боясь, что та разорится к концу, она дала ей 90 тысяч рублей на постройку дома с тем, чтобы она получила в обладание недвижимое имущество. Когда мы осенью вернулись с дачи, дом был уже почти готов, но еще в лесах. Мы влезали на нижние доски лесов.
С этого момента мои воспоминания становятся непрерывными. Я помню, что дом строил архитектор Иванов-Шиц. Смутно вспоминаются мне разговоры о планировке дома, разгляды-вание его плана за чайным столом. В нижнем этаже должны были расположиться комнаты Лили — кабинет, библиотека, столовая и часть комнат ее девочек. Во втором этаже, куда вела красивая деревянная лестница, спальня Лили и еще две комнаты девочек. Наша квартира тоже располагалась в двух этажах, во втором этаже помещались четыре комнаты столовая, маленькая комната, детская и спальня. В третьем — на одном уровне с чердаком, две папиных комнаты — кабинет и библиотека. Сначала там была только одна комната — с тремя окнами и балконом, а на месте второй устроена была прачечная. Но эта комната сама по себе казалась папе неуютной (он и потом ее не любил), а прачки, которые ходили мимо его двери, стуча корытами и разговаривая, мешали ему работать. Поэтому очень скоро прачечную Лили уничтожила и сделала на этом месте папе прелестный кабинет — такой, как ему нравилось, не с паркетным, а с крашеным полом и невысокими окнами. Возле прохода на чердак помещалась крошечная умывальня-уборная. Так что наверху получалась как будто отдельная квартирка, совсем изолированная и тихая.
Во время постройки дома, которая началась весной 1912 года, мы были в Силламягах, так что я ее не помню, а когда мы вернулись в Москву, он весь уже стоял — красный, кирпичный, в лесах. Переехали мы в новую квартиру, кажется, к Рождеству. Флигель был продан на своз, но как его разбирали и увозили, я не помню. На его месте был выстроен кирпичный домик в две комнаты — для дворника Степана и истопника Кузьмы.
Одним из ярких детских воспоминаний осталась поездка в центр, должно быть к Мюру и Мерилизу, за обоями для комнат новой квартиры. Я увидала там детские обои с крупными, чуть не в натуральный размер фигурами играющих детей, расположенными в один ряд. Фигуры были ярко раскрашены, дети гоняли колеса. Я влюбилась в эти обои (наверное, очень безобразные) и буквально молила папу и маму купить их для нашей детской. Но, несмотря на мои страстные просьбы и, помнится, даже слезы, эти обои не купили.
В детскую были куплены палевые обои с гирляндами розовых роз и большими букетами роз на фризе, очень красивые и веселые. Такими же обоями Лили оклеила свою спальню. Для столовой и передней купили белые обои с тисненым узором. Маленькую комнату оклеили гладкими серо-зеленоватыми обоями, спальню — какими-то синеватыми. Особенно нравились мне темно-малиновые гладкие обои на лестнице, ведшей вниз (парадный вход в нашу квартиру находился на первом этаже; надо было подниматься в квартиру по внутренней теплой лестнице, которая вела и дальше на третий этаж — к папе. Это все было очень красиво и уютно).
Новая квартира стала для нас целым миром, который дополнялся миром сада и двора — весенним, летним, осенним или зимним, всегда равно интересным. Наша Детская жизнь протекала в четырех нижних комнатах — с мамой, не отлучавшейся от нас ни на минуту. Наверх к папе мы ходили не так часто. Но весь этот верх — папин кабинет, библиотека, умывальня и коридорчик, ведший на чердак, — был полон для меня неизъяснимой притягательной силы. Я входила в эти комнаты с безотчетным чувством робости, благоговения и безграничной любви к тому человеку, образ которого освещал их своим присутствием.
Особенно притягивал к себе папин кабинет. Это была довольно большая комната с широки-ми половицами крашеного пола и тремя невысокими окнами. В ней стояло мало вещей. Очень скромный письменный стол с двумя ящиками (тот самый, за которым я сейчас пищу), рядом другой стол, оклеенный черной клеенкой, где лежали разные книги и рукописи. Одна небольшая книжная полка. У стены стояла железная кровать, накрытая шерстяным (еще студенческим папиным) одеялом верблюжьего цвета с красными узорами по концам. На этой кровати папа иногда отдыхал днем, но ночью не спал никогда. Возле кровати помещался низкий детский "рыженький" столик, который сейчас стоит у меня за спиной. В кабинете было два-три стула с черными обитыми клеенкой сиденьями и обтянутое темно-зеленой клеенкой жесткое кресло, на которое обычно садились гости, приходившие к папе.
У двери в стене был узенький стенной шкафчик с белой дверцей. И обои в кабинете были белые. На полу лежал простенький, дешевый, единственный в нашей квартире коврик.
Все вещи в кабинете лежали на одних и тех же местах. Папа отличался удивительной, почти педантической аккуратностью. К вещам у него было свое особое отношение. Он любил только очень простые предметы, к которым привыкал и с ними ему было уютно. Лучшие, более дорогие вещи — письменный стол карельской березы с двумя тумбами ящиков, красивая чернильница и подсвечники, венские стулья и т. п. были сосланы в другую комнату наверху библиотеку, которую папа не любил и в которую входил только за тем, чтобы взять с полки книгу.
На его письменном столе стояли разные вещи — простая чернильница с двумя стеклянны-ми пузырьками, из которых он никогда не писал, а всегда прямо из покупной баночки. Лампа с зеленым стеклянным абажуром (она сейчас передо мной), маленький деревянный ящичек — бюварчик. На чернильнице стояла фарфоровая тележка с голубыми голландскими мельницами (сейчас она стоит на письменном столе у дяди Шуры). Рядом с рукописями всегда лежала подрубленная белая тряпочка, о которую папа вытирал перья. Когда я стала постарше, я два-три раза в год подрубала папе такие тряпочки по его просьбе. На столе постоянно жили еще какие-то предметы — пробка от рыбачьих сетей с вырезанной на ней буквой "К", один-два морских камня красивой формы или цвета. Стоял простой желтенький детский пенал. Этот пенал мне подарил на рожденье, когда мне исполнилось 7 лет, мамин старший брат — дядя Коля. Папе почему-то пенал очень понравился, и на утро после рожденья он его у меня отобрал. Я ужасно гордилась этим.
Папин кабинет имел особый запах — главным образом застарелого, вечного куренья. Этот запах до сих пор безгранично волнует меня. Стоит мне войти в накуренную комнату, как перед моим умственным взором возникает тихий кабинет, в котором, кажется, недвижим и насторожен в своей тишине самый воздух, полные особого значения папины вещи и он сам, согнувшийся над столом со своей сутуловатой спиной. Маленькой девочкой я ощушала насыщенность умственной жизни в атмосфере этой комнаты, словно пропитанной высокой человеческой мудростью.
Рядом с письменным столом в кабинете стояло суровое, деловитое кресло с прямой спинкой. На этом кресле сидели посетители, которых папа принимал наверху. Малознакомые люди, случайные посетители, приходившие по делам, проводились прямо наверх, и таких мы не видели и не знали. Другие большинство приходили в столовую. Иногда и близкие друзья сначала сидели у папы в кабинете, а потом спускались вместе с ним вниз — пить чай.
Друзья отца
У нас, детей, были свои отношения к приходившим людям. Многих мы близко знали и любили. Многие интересовались нами, заходили в детскую, болтали с нами. В то время круг писателей и философов Москвы жил особенно напряженной умственной жизнью, и общение их между собой было чрезвычайно интенсивным. Они часто собирались, горячо и много спорили, читали и обсуждали свои новые произведения. В 1913–1917 годах у нас в доме особенно часто бывали Л.И.Шестов, В.И.Иванов, А.Белый, философы Г.Шпет, С.Франк, Вл. Эрн, Н.Бердяев, Д.Е.Жуковский, юрист Б.А.Кистяковский, историк Д.М.Петрушевский, пушкинист М.А.Цявлов-ский, поэты Ю.Н.Верховский и В.Ф.Ходасевич, издатель М.В.Сабашников, А.М.Ремизов, а также многие другие, приходившие реже. Из окололитературных дам особенно близким человеком была А.Н.Чеботаревская.
Большей частью все эти люди приходили вечером в такие часы, когда мы уже лежали в постелях. В ряд шли три комнаты — наша детская, маленькая комната и столовая. Когда родители были одни или с Лили (которая приходила к ним почти каждый вечер), оставлялась приоткрытой дверь из маленькой комнаты в столовую, по полу проходила полоса света и в детской было не совсем темно. Когда же приходили гости, эта дверь затворялась, и у нас благодаря плотным занавескам на окнах воцарялась полная тьма, чего мы ужасно не любили. Голоса в столовой нас очень занимали, и мы подолгу не спали, прислушиваясь к ним. А в особенно интересных случаях в ночных рубашках стояли у двери в столовую, слушая то, что там делалось. Никогда не забуду одного вечера, когда мы так стояли босые, слушая чтение Белого, потрясавшее нас своей непонятностью. Его поразительный голос, то интенсивный и звучный, то внезапно замиравший, вдруг вскрикивал: "Я есть я!".
Помню звуки громких споров, доходивших до крика (особенно кричал Бердяев), страстные вопли Цявлов-ского, который в азарте спора о Пушкине вскакивал с места и бегал по столовой.
Многие знакомые приходили и в дневные часы, под вечер; так что мы их хорошо знали. Особенно часто приходили А.Н.Чеботаревская и Б.А.Кистяковский.
Александра Николаевна Чеботаревская была очень близким человеком моим родителям с самого начала их семейной жизни. Это была умная женщина, обладавшая литературным талантом. Хорошо известны ее превосходные переводы сочинений Мопассана. Внешне она была несколько чопорной и строгой. Одевалась в темные простые блузки с высокими стоячими воротниками. На шее у нее всегда висело длинное ожерелье из крупных черных бусин. Говоря, она непрестанно слегка покашливала. Она была очень близка с семьей Вяч. Иванова и, как мне позже говорила мама, принадлежала к числу тех многих женщин, которые были в него влюблены. Я помню приходы Александры Николаевны к нам с тех пор как помню себя. Мы ее не стеснялись, хотя она не имела никакой склонности говорить или возиться с детьми. У нее была сестра Анастасия Николаевна — жена поэта Ф.Сологуба. Они жили в Петербурге, но, приезжая в Москву, всегда бывали у нас. Сестры были похожи между собой, но Анастасия Николаевна нервнее — непрестанно подхихикивала. Мы звали ее между собой "подхихика", Сологуб был полный с большим мясистым лицом, с крупной бородавкой возле носа, на которую я неизменно неучтиво смотрела в упор.
Богдана Александровича Кистяковского мы очень любили. Он приходил обычно по пятницам, часов в семь вечера и ужинал с нами. В моих воспоминаниях он так и связался с нашими ужинами, а также, отчасти, с после-банным настроением (мама часто мыла кого-либо из нас двоих по пятницам). Кистяковский очень нравился мне благородством своего внешнего облика и изящным спокойствием манеры держаться. Это был красивый человек, высокий и стройный, с удивительно прекрасным, большим лбом. Говорил он сдержанно и спокойно, двигался неторопливо. В моих воспоминаниях остался его гармонический облик. Жену его, Марию Вильямовну, мы знали меньше. Кажется, она с детьми (три мальчика) появилась в Москве позже, а сначала жила в Киеве, и он приходил к нам один.
Николай Александрович Бердяев также иногда приходил в более ранние часы. Для меня это было настоящим мучением Дело в том, что он страдал уродливым тиком, которого я почему-то ужасно боялась. Время от времени его лицо начинало мучительно дергаться, причем язык выскакивал наружу. У меня совсем не было детских страхов, но гримасы Бердяева наводили на меня такой ужас, что я не могла себя побороть. Когда он приходил в ранние часы, меня во время ужина не заставляли выходить к столу, я оставалась в детской, куда мне приносили еду. Мама говорила, что Бердяев знал о том, какой страх он мне внушает.
В 1914–1915 годах мои родители были очень близки с Бердяевыми, не только с ним, но и с его женой, красивой, величавой дамой (немного поэтессой) Лидией Юдифовной и ее сестрой Евгенией Юдифовной. Их настоящее отчество было Иудовны, но они заменили его выдуман-ным. Нас это очень занимало. Мама говорила, что и сам Бердяев был красив, но я его лица не знала, т. к. никогда не поднимала на него глаз. Бердяевы жили в Б. Власьевском переулке, и одно время общение между нашими домами было частым. Оказывались даже мелкие хозяйственные услуги. Так, памятью о Бердяевых остался наш шкаф со стеклянными дверцами, оклеенными цветной бумагой с изображениями фантастических львов. Мои родители купили его как-то у Бердяевых специально для нас, для наших книг и игрушек.
С Бердяевыми у меня связано одно занятное воспоминание: присутствие мое на свадьбе в церкви. Женился молодой племянник Бердяева. Это было в 1915 году. Недели через две после свадьбы он уехал на фронт, оставив молоденькую жену беременной. На фронте его убили, и она уже без него родила сына. Свадьба эта заняла меня чрезвычайно. Все казалось удивительным начиная с того, что ехали в карете от дома Бердяевых до церкви Св. Власия, т. е. расстояние в несколько домов. Однако то, что оказалось действительно удивительным, была дальнейшая судьба молоденькой вдовы. Она была дочь какой-то француженки и сама писала французские стихи. Многие годы, пока рос ее сын, она жила в крайней нужде с матерью и ребенком. Мы постоянно слышали о ней от Ю.Н.Верховского, который жил у них в одной комнате и, бывая у нас уже после папиной смерти, в конце двадцатых годов, постоянно рассказывал о ней, о каких-то ее чудачествах, отзываясь почему-то иронически. Наконец в жизни этой женщины совершил-ся фантастический переворот. По какому-то поводу она написала письмо Ромену Роллану, послала ему свои стихи. Он ей ответил. Завязалась переписка. Потом она ненадолго ездила в Париж, где у нее разыгрался с Ролланом страстный роман. Устроив на родине свои дела, она навсегда уехала во Францию, где стала женой Ромена Роллана. Когда в 30-х годах французский писатель был в СССР, дядя Шура видел ее вместе с ним за чайным столом у Горького. Мы знали о ней как о Майе. Так называл ее всегда Верховский.
Знакомство с Бердяевыми кончилось нехорошо. В дни Октябрьской революции, когда мой папа весь горел, страстно ожидая и приветствуя новое, они резко оборвали отношения, не сойдясь в политических убеждениях. Сохранилось несколько тяжелых писем, отразивших этот разрыв.
Для меня самыми дорогими остались воспоминания, связанные с Вяч. Ивановым. Он остался для меня наиболее полным воплощением той неповторимой интеллектуальной высоты, на которой находились люди папиного поколения, у него еще озаренной особым обаянием его внешне и внутренне изящной и гармоничной личности.
В восприятии В. Иванова для меня смешиваются и сливаются воедино воспоминания детства и позднейших лет, вплоть до 1924 года, когда я видела его в последний раз, и многочис-ленные мамины рассказы. Разговоров его я, конечно, никаких не помню, и впечатления от него были преимущественно человеческо-эмоционального порядка. Думаю, что мое детское восприятие не лишено было известного оттенка женской заинтересованности — перед Вяч. Ивановым не могла до конца устоять ни одна женщина, будь то старуха или ребенок, любящая жена или влюбленная в своего жениха невеста. А в 1924 году, когда он, первым в моей жизни, галантно поцеловал мне руку, я почувствовала это вполне сознательно. Как я помню эту минуту! Это было в жаркий день в начале лета Мы стояли втроем — В.Иванов, мой папа и я, у ворот Дома ученых на Пречистенке. Стояли долго, они о чем-то разговаривали. Но Вяч. Иванов не забывал и меня, называл "Наталия Михайловна" (мне было 16 Лет') и, прощаясь, поцеловал мою руку. Кажется, это была последняя встреча. Через день-два он уехал из Москвы навсегда.
Не будучи красивым, Вяч. Ив. обладал неизъяснимым внешним и внутренним благородст-вом. Большой лоб, светлые, разлетающиеся вокруг головы, легкие как пух седовато-золотистые волосы, небольшие, проницательно глядящие из-за стекол пенсне глаза. Тонкие его, чрезвычай-но выразительные губы складывались в каком-то особенно красивом изгибе. У него были изящные большие и тонкие руки. Ходил он всегда в черном, с большим черным бантом вместо галстука под белоснежным крахмальным воротничком. Спина его слегка сутулилась. У него был очень красивый, мягкий голос и редкие по изяществу движения.
Как-то, наутро после какой-то встречи, когда у нас были гости и подавали ужин, папа с восхищением рассказывал о том, как он любовался Ивановым во время еды. Он говорил о красоте его движений, манеры есть и перемежать еду с разговором, о том, как красиво он держит вилку. Может быть, Вяч. Иванов и сам все это знал и слегка позировал. Я этого не знаю, но мне кажется, что это могло быть так. В особенности в отношениях с женщинами, которым он в течение всей своей жизни уделял очень много внимания.
С семьей Ивановых мои родители были очень близки на протяжении многих лет, начиная с 1900–1908 годов и кончая моментом окончательного отъезда Иванова за границу. В годы моего раннего детства я знала о Вяч. Иванове то, что у него есть большая дочь Лидия и маленький сын Дима, что у него молодая жена Вера с длинной лебединой шеей, миндалевидными глазами и золотой косой, обвивающей красивую голову. Я знала, что в их доме живет пожилая Мария Михайловна Замятина, которая ведет все хозяйство и по ночам не спит, подавая Вяч. Иванову чай. Он работал всегда по ночам, часов до 8 утра. Потом ложился спать, вставал к обеду, часам к пяти дня. Затем проводил время с семьей, с гостями и около полуночи садился за письменный стол. Потом, взрослая, я узнала, что Лидия — его дочь от Зиновьевой — Аннибал, и Вера тоже ее дочь от первого брака с французом-гувернером Шварсалоном, что Мария Михайловна __ Подруга Зиновьевой-Аннибал и влюбленная в Вяч. Иванова женщина, отдававшая ему всю свою жизнь.
Жизнь Веры кончилась очень грустно. Молоденькой, легкой, а может быть и отчасти легкомысленной, девушкой она соединила свою судьбу с судьбой пожилого, много пожившего мудреца, эгоистичного в своем интеллектуальном величии. Из этого не получилось счастья. Она зачахла рядом с ним. Летом 1920 года или 1921-го она одиноко умирала от туберкулеза на даче под Москвой. Около нее были только семилетний ребенок, Лидия и работница Таня, которая оказалась самым близким, преданным человеком. Занятый своими делами Вяч. Иванов наезжал из Москвы редко, чем Вера очень огорчалась. Мама ездила к ней на дачу и говорила, что ей никогда не приходилось видеть более печальной и трогательной кончины.
После смерти Веры Вяч. Иванов с детьми уехал в Баку, где взял место профессора. Там случилось несчастье с Димой. При каком-то морском переезде ему прищемило правую руку, которую он положил на борт лодки, и пришлось ампутировать четыре пальца. Я видела его потом перед отъездом за границу. Это был тоненький, изящный мальчик 11 лет, который стыдливо прятал изуродованную руку за спину.
Вяч. Иванов интересовался нами, когда мы были маленькие: иногда заходил к нам в детскую, любил заговаривать с нами по-английски. Он свободно говорил на 6–7 языках, в том числе по-латыни и по-гречески, и славился тем, что на каждом языке умел произносить так, как будто это был его родной язык. Он любовался красотой Сережи, отмечая ее особо.
Заметный след в моей жизни оставил и Андрей Белый. Его также я помню на протяжении многих лет. В последний раз я видела его летом 1930 года на пляже в Судаке. Это был очень странный, совсем необычный и трудный человек. У него все было свое, особенное: для него необязательны были общепринятые людские отношения и чувства; папа уверял, что он никого не любил. В нем сильно ощущалась эта необычность. Казалось, что находишься в присутствии гениального человека. Его речь, странные интонации, изменения в выражении лица — все это как будто определялось не реакцией на происходящее вокруг, а независимым внутренним состоянием его души или ума, подчиненными какой-то странной, таинственной силе. Поэтому, когда, увидев грудного, недавно родившегося младенца, он спросил: "А глаза у него уже прорезались (рассказ жены художника Бруни)?" — это не было кривляньем, а вполне закономерным для него вопросом.
У него были свои отношения к словам и звукам. Так, нашу фамилию он всегда писал через букву "С" — Гершенсон, ощущая ее именно такой. Внешность Белого была поражающая. Совсем некрасивый, лысый, с тонкими, пушистыми волосами вокруг лысины, с глубоко посаженными небольшими глазами, которые беспрестанно меняли цвет — от зеленого до почти черного, он был как будто застенчив, любил извиняться. Приходя к нам, всегда извинялся. Его извинения слышались еще в передней, когда он начинал извиняться перед горничной, открыв-шей ему дверь. Вокруг лица и головы Белого был точно какой-то светлый ореол. Недаром папа говорил, что он с гениальной меткостью сочинил для себя псевдоним. Речь Белого так же была совершенно особой. Среди вдохновенного монолога он вдруг внезапно замолкал, глаза становились темными, бездонно-глубокими, на губах на несколько секунд застывала странная улыбка, относящаяся к чему-то известному ему одному.
Мне случилось несколько раз присутствовать при его удивительных речах. Больше всего запомнилось то, как в феврале 1925 года, за несколько дней до папиной смерти, он приходил к нам, кажется, два раза, рассказывать то, что он собирался говорить на заседании в Академии художественных наук по случаю годовщины со дня смерти Пушкина. Содержание этой речи я помню очень смутно, но впечатление от его слов, произнесенных у нас за чайным столом, осталось неизгладимое. Помнится, это было вдохновение в своем чистом виде. Сам доклад потом получился бледнее.
Целый ряд воспоминаний связан с Белым в последующие годы, прежде всего во время нашего заграничного пребывания 1922–1923 годов. В Москве он приходил к нам один. Его жена Ася была за границей. Кажется, она там осталась после того, как они вместе строили в Швейцарии антропософский храм, а он как военнообязанный по случаю начавшейся войны вынужден был вернуться в Россию. В начале 20-х годов, кажется в 1922-м, он поехал в Берлин, как он сказал моей маме, "узнать, почему меня жена забыла". Рассказывали, что, выйдя в Берлине на площадь вокзала, он тут же встретил свою жену и узнал, что она его правда забыла и вышла замуж за какого-то ничтожного поэта Кусикова. Это поразило его. Как все у Белого, реакция на это событие оказалась неожиданной и своеобразной. Он начал кутить и танцевать по берлинским кабачкам. В таком положении мы его застали, приехав в Берлин. Весной 1923 года мы прожили в Берлине около месяца и жили в том же пансионе, где и Белый. Папа употреблял все усилия для того, чтобы прервать его болезненные кутежи и увлечение танцами. Кроме всего другого, это было еще и унизительно: он совсем не умел танцевать и немцы потешались над ним. Папа проводил с Белым как можно больше времени. Однако спас его не он. Московские антропософы, узнав о положении Белого в Берлине, откомандировали "спасать его" одну антропософку, некую Клавдию Николаевну Васильеву. Помню, как она появилась рядом с Белым за столом в пансионате очень типичная для подобных дам — с большими "ангельскими" глазами. Ей не только удалось "спасти" Белого и увести его на родину, но и женить его на себе. Последние годы жизни он прожил с ней.
Словно из тумана встают передо мной и четко обрисовываются образы многих других людей, которые когда-то были живой повседневной реальностью. Худой, высокий, очень некрасивый Лев Исаакович Шестов с большими печальными еврейскими глазами; чудесная, мягкая и нежная Аделаида Казимировна Жуковская, некрасивое лицо которой казалось прекрасным благодаря душевной красоте и внутреннему мягкому свету; желчный и нервный Ходасевич, комик и острослов, охотно читавший вслух свои прекрасные стихи; бесконечно добрый и нежный Юрий Никанорович Верховский, большой, бородатый, застенчиво-неуклю-жий, присутствовавший в нашей жизни до 1940 года — года маминой смерти; корректный Густав Густавович Шпет, философские рассуждения которого звучали для меня абсолютной абракадаброй.
Одно время мои родители и Лили очень дружили с австралийским англичанином — журналистом Вильямсом. В 1914–1915 годах он у нас часто бывал. Это был один из тех людей, которые интересовались нами, детьми, приходили к нам в детскую. Вероятно, его привлекало и забавляло то, что он мог говорить с нами на своем родном языке. Он был очень эффектным англичанином, точно таким, каким англичанин должен быть: стройный, высокий, с суховатым, благородным и красивым лицом, очень сдержанный и воспитанный воплощение английского джентльменского аристократизма. Мне все это тогда очень нравилось. Вильяме рассказывал нам об Австралии разные поразительные вещи, показывал австралийские журналы, подарил картин-ку с изображением австралийской женщины, стоящей по колена в воде знойным декабрьским (что казалось особенно фантастичным!) днем.
Помню один смешной случай, связанный с Вильямсом. Раз вечером мамы не было дома и мы оставались с папой. К нему пришел Вильяме, и мы ложились спать одни. Нам было строго запрещено залезать друг к другу в кровати. Я нарушила этот запрет, забралась к Сереже в постель, и мы о чем-то оживленно беседовали. Вдруг раздались мужские шаги. Испугавшись папы, я пулей выскочила из Сережиной кровати и с криком: "Папа, я только на минутку залезала к Сереже!" — предстала посреди комнаты в длинной ночной рубашке перед Виль-ямсом. Я ужасно смутилась, и говоря словами Чехова "Мне стало так неприлично". А Вильяме весело смеялся надо мной. Хорошо представляю себе сконфуженную маленькую фигурку в длинной белой рубашке, с растрепанной рыжей косичкой, на ночь завязанной косоплет-кой, стоящую посреди комнаты перед высоким элегантным мужчиной.
В самом раннем детстве я очень хорошо сознавала значительность всех этих людей. Напряженная умственная атмосфера, которая царила в нашем доме, служила фоном для нашей детской жизни и определяла ее духовное содержание. Не было никакой изоляции детской. Как папа, так и мама не оберегали нас от проникновения в нашу жизнь больших, высоких понятий и представлений. А папино отношение к нам все строилось на них. Он сознательно заботился о том, чтобы мы жили духовной жизнью и задумывались с самых ранних лет над серьезными вопросами, сознательно втягивал нас и приобщал к своим интересам. С самых маленьких лет он посвящал нас в свои литературные дела, показывал нам все свои выходившие из печати книги. Он постоянно по вечерам читал вслух стихи и заставлял нас учить их наизусть. Старался внушить нам благоговейное отношение к таланту, к высокому произведению искусства. Очень хорошо помню, как, однажды гуляя осенью на дворе, папа вдруг подошел ко мне и указывая на проходящего по каменным плитам дорожки двора тщедушного человека в темном пальто, сказал:
— Посмотри и запомни, это идет настоящий поэт. Его зовут Бунин.
Навсегда запомнился день, когда в один из моих приездов из колонии (мне было лет 13–14) папа торжественно вручил мне для чтения "Дворянское гнездо" Тургенева; я не помню, что он сказал мне при этом, но обставил это как приобщение меня к великому сокровищу русской литературы, выделив этот день и час как полный особой значительности и торжественности. Я так и поняла это тогда и приняла от него книгу с благоговением. Даже пустяшное становилось большим, когда о нем говорил папа, и запоминалось на всю жизнь.
Когда Сережа был крошкой, лет 4–5, он по вечерам сажал его к себе на колени и заставлял чисто произносить трудные слова: рододендрон, абракадабра, электричество и т д. Я, совсем уже малютка, с благоговением слушала эти непонятные слова, ощущая за трудными, я меня непроиз-носимыми звуками какое-то большое значение. Так звучали и те стихи, которые папа читал. Он умел прекрасно читать и своим голосом придавать стихам особое величие. Никогда не читал он случайно, походя, а всегда обдуманно и весомо, словно приобщаясь каждый раз и нас приобщая к великому сокровищу человеческого творчества. У меня в глазах стоит эта картина. В столовой, за столом, покрытым желтой клеенкой, под большой висячей фарфоровой лампой, согнувшись, сидит папа в своем домашнем стареньком пиджачке и, близко глядя через очки в книгу, читает стихи Пушкина, Лермонтова, Огарева. Уже вечер, скоро мы пойдем спать. Перед глазами, живые и конкретные, возникают стихотворные образы, вызванные к жизни мужественным и звучным папиным голосом. Эти стихи попадают прямо в душу и занимают в ней особое место на всю жизнь. Потому что их читал папа.
Так запомнились и приходившие люди. Их непонятные для детского ума разговоры запада-ли в душу и будили в ней смутные представления о большом и глубоком. С самых первых лет жизни мы ощущали то, что за повседневным и конкретно-земным, чем ограничивается большинство детей в своих первоначальных интересах, есть и другое, важнейшее — религия, философия, поэзия. Это представление рождалось отчасти стихийно, но еще больше сознательно направлялось нашими родителями, особенно отцом. Благодаря этому наша детская духовная жизнь становилась сложной и богатой, готовой к восприятию разнообразных умственных ценностей.
В нашем доме никогда не бывало званых вечеров, не организовывалось ранее обдуманных сборищ гостей с парадной едой и т. д. У моих родителей было слишком мало средств для этого. Весь обиход жизни был настолько скромным и деловитым, что ни для какого, даже самого малого, налета светскости в нем не оставалось места. Лишь один раз за все годы моего детства родители устроили званый вечер. Это была встреча Нового года, либо 1915-го, либо, скорее, 1916-го. На встрече этой было много народу, вероятно, все или почти все перечисленные мною выше люди. Были также все мамины родные — отец, братья с женами и Таня с Котом. Нас на эту ночь выселили наверх, в библиотеку. У Сережи был грипп, повышенная температура, и потому нам не дали посидеть с гостями нисколько, мы были отправлены наверх до их прихода. Внизу между всеми четырьмя комнатами настежь распахнули двери, и гости располагались по всем комнатам. Три молодые женщины — Вера и Лидия Ивановы и подруга Лидии по гимназии Параша (воспитанница дяди Шуры) — нарядились в маскарадные костюмы. Они снялись в этот вечер, и у нас сохранилась такая карточка: Параша в наряде цыганки, Вера в большом тюрбане, Лидия тоже в чем-то восточном. Нам это все казалось ужасно интересным. Утром мы получили свою порцию угощения: единственный раз в доме у нас я видела торт корзинку, наполненную белыми червячками из крема.
Запал в голову мне рассказ Тани о том, как Бердяев, войдя из передней в столовую, подо-шел поздравить моего дедушку и как при этом у него "выскочил" язык. Слушая это, я перестава-ла жалеть о том, что меня не было на этой встрече Нового года.
Родители наши уходили из дома сравнительно редко — на парадные вечера мама избегала ходить, т. к. ей всегда было решительно нечего надеть. Помню, что раз они были на елке у Вяч. Иванова. Это была елка для взрослых. Мама рассказывала, что на ней были только серебряные украшения и только красные свечки. Как это похоже было на утонченное эстетство самого Иванова!
На новой квартире
В новой квартире началась сознательная часть моего детства. В сущности, благополучный период жизни в этой квартире был очень коротким, не более четырех лет. Для меня же он вспоминается как целая эпоха — важнейший этап моей жизни, крайне содержательный, интересный и насыщенный впечатлениями.
Наша детская жизнь протекала в четырех нижних комнатах — детской, спальной родите-лей, маленькой комнате и столовой. Это был наш мир со своими интересами, условностями, сложившимися обычаями, со своей символикой форм и очертаний предметов, узоров на обоях, домов городского пейзажа за окнами, обладавших особыми физиономиями и выражениями. В детской стояли наши две кровати: Сережина взрослого размера, покрытая зеленым тканевым одеялом, и моя, маленькая, покрытая вязаным белым одеяльцем работы бабушки. Между окон стоял большой широкий стол с доской-полкой внизу. Над ним спускалась вниз на шарнирах лампа с зеленым фарфоровым абажуром.
Однажды, когда я почему-то была одна дома, я каким-то образом разбила этот абажур. Никогда не забуду своего детского отчаяния, такого, что "больше жить нельзя". И схватилась руками за волосы на висках, рвала их и бегала в исступлении по комнатам. Как всегда, больше всего я боялась папиного гнева. Мама на нас никогда не сердилась. Однако ничего страшного не случилось. На меня никто не сердился — просто купили новый абажур. Папа был суеверен и верил в приметы: бить посуду, по его мнению, было к добру.
На столе, покрытом малиновой шерстяной скатертью, спереди, где мы писали, лежала узкая клеенка. Стояли глобус, пенал, чернильница в виде совы (подарок Лили), еще некоторые наши вещицы. Между кроватями стоял обитый рыжей клеенкой и железными пластинками красный внутри сундучок, где я держала свои сокровища (два таких сундучка мама нам подарила на какой-то праздник). Возле кроваток на полу лежали коврики с изображением оленей самца с большими рогами и пьющей из ручья самки. Сколько фантазии порождало это изображение оленей — друзей и спутников наших вечеров и ночей!
Над кроватями висели картинки. Над Сережиной кроватью долго висело изображение порта с кораблями, над моей — австралийской женщины, стоящей в воде. Но были периоды, когда висели другие изображения. Среди них помню веселую картину, изображавшую деревенских ребят (не русских), забравшихся на изгородь и катающихся на калитке.
Палевые обои с гирляндами роз постоянно рождали у меня зрительные фантазии. На фризе под потолком располагались крупные букеты роз — один из них имел для меня сходство с лицом Тани. Около стены в маленькую комнату находился небольшой белый жестяной умываль-ник _ подарок дяди Бумы, за которым мы всегда умывались. Возле окон слева стоял наш шкаф для белья, а справа — низенький, в две полочки темно-коричневый шкафчик — обиталище наших мишек и целый мир для нас. На окнах висели плотные, зеленовато-оливковые с узорами, в которых тоже виделись лица, занавески, отороченные помпончиками. Имелся еще детский столик и три стульчика — два в виде креслиц и один с соломенным плетеным сиденьем. Они по мере надобности передвигались, ездили по всей комнате, чаще всего пребывая посередине.
В спальной и маленькой комнате тоже находились некоторые наши вещи. Спальня — северная комната, с большим полуторным окном — была очень уютной, любимой маминой комнатой. У стены, примыкавшей к детской, рядом, одна возле другой, стояли простые красно-коричневые металлические с блестящими шишечками кровати родителей. Между ними — мале-нькая желтая тумбочка, над которой со стены спускалась лампочка со стеклянным колпаком. У окна стоял большой круглый стол красного дерева. С другой стороны — у стены мраморный умывальник и рядом с ним большой, массивный комод. Одно место около стены в переднюю занято было нашим имуществом. Долгое время там стоял наш верстак, позднее — шкаф со львами на дверцах, где наверху находились детские книги, а внизу в вечном беспорядке лежали игрушки.
Кровати были покрыты синими покрывалами с замысловатыми узорами в виде желтых с каким-то рисунком поперечных полос, которые возбуждали фантазию и которые я очень любила рассматривать. На окнах и в спальной висели плотные голубовато-серые шторы, как и в Детской, на ночь совершенно закрывавшие свет.
Маленькая комната отчасти была задумана как мамин кабинет. В углу у окна стоял ее мале-нький письменный столик с тремя ящичками и лампочкой с бисерными желтыми висюльками на колпачке. За этим столом мама, впрочем, никогда почти не сидела, а если урывала время для писания, то садилась к своему любимому круглому столу в спальной.
У одной стены в маленькой комнате стоял старый диван, крытый рыжевато-красной материей с узором. Под сиденьем в нем был ящик, куда однажды крыса затащила несколько яблок из подвала розового дома. С этой крысой был связан целый переполох. Так как вообще у нас не было никогда ни крыс, ни мышей, и ее появление показалось ужасным. На нее учинили облаву, в которой участвовал дворник Степан. А яблоки были отрадинские (имение Орловых), известных сортов, с осени привезенные из деревни на зиму. Крыса их носила к нам через двор и в диване устроила для себя кладовую.
Над диваном висела детская карта европейской части России. Возле каждого города были помещены яркие картинки, изображавшие людей в национальных костюмах, животных и предметы промышленности и ремесел. Вся карта пестрела этими рисунками, была очень веселой и интересной для разглядывания. Каждая ее деталь была изучена нами и запомнилась на всю жизнь.
У противоположной стены долгое время стоял наш верстак — настоящий столярный верстак, на котором мы без конца работали. Были у нас и все нужные столярные инструменты: рубанки, лобзик, стамески, клещи, плоскогубцы и т. д. Это была папина затея подарить нам рабочие инструменты, и она оказалась очень удачной.
В столовой наших вещей не было. Это была красивая, нарядная комната с тремя окнами в ряд и дверью на балкон. На окнах висели кремовые кружевные занавески. Посереди столовой стоял большой стол, накрытый желтой клеенкой поверх толстого малинового сукна. Скатертью он покрывался только во время еды.
У окна стоял буфет, между окнами — кругленький столик с клеткой щегла, прожившего у нас больше шести лет. Этого щегла как-то принес нам в подарок изредка приходивший мамин кузен — гимназист Коля Щекотихин (когда он приходил, меня почему-то неизменно спрашива-ли, знаю ли я, кто это; я прекрасно знала, но молчала и, смущаясь, смотрела вниз). У щегла оказалось сломанное крыло, и потому его нельзя было весной выпустить на свободу. Он остался у нас и стал спутником значительной части нашего детства. Умер он уже после революции, году в 1918-1920-м, точно не помню. Мы ужасно любили щегла и много возились с ним. И папа его любил и тоже возился с ним, особенно когда мы летом уезжали, а он еще оставался в Москве. Тогда он считал его товарищем своего одиночества, о чем неоднократно писал в письмах.
В течение каких-то лет в столовой возле двери на балкон стоял рояль, принадлежавший Лили. Она иногда играла на нем из детского альбома Чайковского и т. п. Играла она плохо, с большим напряжением, считая вслух. Но нам ужасно нравилось слушать, и я до сих пор не могу равнодушно слышать игранные ею пьески.
В столовой был сделан камин, весь из белых кафелей. Его почти не топили, так как в комнатах было тепло, а в нем была неважная тяга. Но он украшал комнату, тем более что на нем стояли красивые вещи. Как я помню каждую из них! И какими красивыми они тогда казались! Это были две немецкие фаянсовые вазы с узорами и головами рыцарей в медальонах; две огромные розовые раковины, в которых таинственно шумело внутри. Статуэтка лежащего итальянского мальчика, сделанная из светлой лавы. Точеная деревянная лошадка, очень изящная. На камине же стоял подаренный Лили стереоскоп; к нему у нас была целая куча интереснейших, главным образом видовых фотографий, которые никогда не надоедало рассматривать. Долгое время там стоял сделанный нами в подарок папе и маме к какому-то празднику деревянный корабль, который мы раскрасили взятыми у Лили масляными красками.
В столовой мы часто бывали, занимаясь вполне определенными делами, большей частью вечером. Там на большом столе мы играли в солдатиков, рисовали, клеили вырезные листы, шили с мамой по выкройке из журнала "Маяк" мягких зверей — обезьян и зайчиков. Над столом висела старинная лампа с большим белым фарфоровым абажуром и красным шаром внизу, когда-то служившим вместилищем для керосина. Она и сейчас висит над нашим столом. Но краешек абажура отбит.
В кухне мы редко бывали. Там находилась большая плита, которую топили два раза в день. И ванна топилась из кухни. К кухне примыкали две маленькие комнатки для прислуги. Раньше у нас была одна работница, а в новой квартире я помню двух — кухарку и горничную. Я любила заглядывать в их комнаты, где висели в углу иконы и стены украшали яркие бумажные цветы. У нас не было особенно удачных и близких нам работниц. Помню только очень милую и всеми нами любимую горничную Машу — высокую, похожую на солдата в юбке. Она жила у нас года три, но летом уезжала в деревню, где однажды и осталась, выйдя замуж.
Мы соприкасались с работницами преимущественно тогда, когда наши родители рано уходили в гости, и потому, когда мы ложились спать, очередная горничная сидела в столовой. Это бывало редко, и мы это крайне не любили. Няни бывали у нас только в самом раннем детстве, так что я их не помню. По маминым рассказам знаю, что у Сережи была кормилица Паша и потом девочка-няня, тоже Паша, которую он звал Ма-Паська. А когда я родилась, мне взяли няню Полю: она прожила у нас недолго. Ее уволили после того, как мама узнала, что она меня бьет. На этом наши няни кончились.
Также в ранние годы дважды пробовали брать к нам немок. И каждый раз неудачно. Первую я не помню совсем. Но хорошо запомнила рассказы-анекдоты, связанные с ее крайней глупостью. Мама рассказывала о том, как она, страшная лакомка, раз съела выброшенные на помойку гнилые сухие груши-дули и потом каталась по кровати с болями в животе. Когда ей предложили касторки, она мгновенно оказалась здоровой. В другой раз, когда она пошла гулять с Сережей, он вдруг возвратился домой с отчаянным ревом. Оказалось, что она ни за что не соглашалась опустить письмо в тот почтовый ящик в Гагаринском переулке, куда Сережа привык всегда опускать с папой, а настаивала на том, чтобы идти опустить в другое место. Сережа думал, что тогда письмо не дойдет и исступленно, отчаянно плакал. А она ему не хотела уступить.
Вторую бонну — молоденькую блондинку с круглыми щечками с ямочками — я смутно помню. Она совсем не интересовалась нами и не учила нас немецкому языку, а только выучи-лась от нас русскому.
Все это было еще во флигеле. В новой квартире около нас была только мама. Она и учила нас сама, и мыла, и шила почти все на нас, и гуляла с нами, пока мы были маленькие.
Наши зимние дни проходили в строгом распорядке. По утрам получалось так, что около часу мы были предоставлены самим себе. Папа обычно просыпался в десятом часу. Мама не смела шелохнуться, берегла его сон и потому не вставала, пока он спал.
Мы просыпались часов в восемь и начинали с того, что шепотом или при помощи знаков договаривались, кому из нас отдергивать занавески на окнах, а кому закрывать большую двухстворчатую дверь в спальню родителей и приставлять к ней стульчик, чтобы она не открылась. Обоим хотелось делать первое, более легкое дело. Обычно в этой торговле побеждал брат-деспот Сережа, и я нехотя шла закрывать дверь. Затем чаще всего начинались шалости.
Папа не любил, чтобы мы начинали свой день с игрушек. И мы в это время занимались нередко гораздо более глупыми вещами. Одевшись, застегнувши друг у друга на спине лифчики и т. п., мы отправлялись в маленькую комнату. Катались по дивану, рассматривали карту, забирались в буфет за хлебом. Бывало, что Сережа ложился на диван на спину и задирал кверху ноги, я усаживалась на подошвы его башмаков, и он поднимал меня как можно выше.
Особенно "содержательным" бывало наше утреннее времяпрепровождение по субботам. В субботу нам меняли белье. По этому случаю мы придумали следующую игру. У нас были длинные, до полу ночные рубашки. И вот часто в субботнее утро, когда рубашки должны были идти в грязное, кто-либо из нас вбирал внутрь рубашки голову и руки, застегивал застежку у ворота на пуговицы, поджимал ноги к подбородку, а подол завязывался узлом. Получался тугой шар с обладателем рубашки внутри. Другой спихивал этот шар с кровати на пол и катал его по полу по всем трем комнатам. Что нам тут нравилось, совершенно не знаю. Хоть сколько-нибудь весело могло быть только тому, кто катал. Ощущения же другого были весьма малоприятными. Особенно неприятным был тот момент, когда с кровати шар летел вниз, и заключенный в нем стукался о пол чем попало. Помню, что этой нашей игре был положен конец. Как-то мама заметила, что наши ночные рубашки измазаны в желтой мастике, которой натирался пол, выяснила у нас происхождение пятен и запретила глупую забаву.
Часов в десять мы пили чай с молоком или ячменный кофе вместе с родителями, которые выходили в столовую. Настоящий кофе, который они пили, нам не давали. Потом папа уходил к себе наверх работать, а мы начинали свой день.
Прежде всего мама расчесывала мои непокорные волосы. Эту процедуру я терпеть не могла. Накатавшись в течение утра по дивану, я успевала превратить свою шевелюру в колтун. Мама старалась осторожно расчесать ее, и это занимало довольно много времени. Мне казалось невыносимым сидеть неподвижно, я все время рвалась, ускользала из маминых рук. Затем мы усаживались за уроки. Помнится, мы с мамой учились не в детской, а в столовой за обеденным столом.
Мама умела удивительно хорошо заниматься с нами. Будучи необычайно мягкой и кроткой, она в то же время обладала большим педагогическим чутьем и умением. Она никогда не раздра-жалась за уроками, а направляла нас туда, куда нужно, с большим тактом. Особенное внимание уделяла она тому, чтобы мы выучились грамотно писать, так как для нее самой в гимназические годы это было наиболее слабым местом. Как хорошо я помню красивые, светло-синие с красным корешком ученические рижские тетради, в которых была великолепная гладкая бумага с голубыми линейками! Как помню оранжевую азбуку Толстого, хрестоматию Водовозовой и другие книжки, по которым мы так уютно учились с мамой!
Способности у меня были хорошие, только память плохая. Труднее всего мне поэтому было учить стихи наизусть. Помню, что, когда мы были крошками, в ответственный момент совмест-ного сидения на горшках Сережа наизусть декламировал очень нравившуюся мне книжку "Детки-корешочки", а мне казалось это недосягаемым чудом. Так и позже: когда папа задавал нам учить стихи, Сережа иногда выучивал их за четверть часа, а я сидела долго и иногда даже принималась плакать.
В ученье я боялась всего нового. Так, помню, как в один прекрасный день мама открыла передо мной учебник географии, сказав, что сегодня мы начинаем новый предмет, а я прогляде-ла первую страницу и подняла рев, говоря, что этого предмета выучить не в состоянии. Папа взял мою сторону и сказал, что девочка вполне может обойтись без географии. Когда я немного успокоилась, мама сумела заставить меня вникнуть в сущность нового предмета, и потом дело пошло как по маслу.
Вероятно, часам к двенадцати мы кончали ученье и шли гулять до обеда, который бывал в два часа. Начиналось наряживание в длинные черные рейтузы, валенки, башлыки, я одевалась по-мальчишьи. Шубки у меня были мужского покроя, а на голове — серая каракулевая шапочка с наушниками, как тогда носили мальчики, поверх которой надевался башлык. У Сережи в ранние годы был синий полушубок с красным кушаком и серая каракулевая высокая шапка с синим верхом. В таком виде мы фигурируем на многих фотографических карточках, снятых зимами на нашем дворе. О прогулках я напишу позже. Возвращались мы к обеду часто все в снегу, так что рейтузы, носки, валенки и варежки раскладывались по батареям для просушки к следующей прогулке.
Обеды часто проходили у нас не просто. С одной стороны, они были приятными. Я любила их простую, изящную обстановку; я любила вещи, которые стояли на столе: подставочку с четырьмя баночками для горчицы, соли, сахара и уксуса, зеленые бокалы, которыми всегда снабжала нас Лили и которые стояли у наших приборов Для вида; две деревянные кустарные солоночки Сере-жину в виде креслица с изображениями из жизни св. Сергия и мою в виде кругленькой коробочки с цветочком. Любила наши простые и вкусные кушания. Трудными же бывали иногда настроения.
Крайняя, патологическая нервность нашего отца постоянно находила для себя выход во время еды, когда он придирался ко всяким мелочам. Мама, все утро ежеминутно бегавшая в кухню, претерпевала во время обеда настоящие мучения. Мы же сидели молча, и я нередко удивлялась тому, почему папе не нравится хороший суп, второе и т. п. Прорывалась его нервность часто и по другим поводам, но большей частью всегда связанным с хозяйством. Выросший в еврейском провинциальном доме, в котором царил своеобразный культ домашнего хозяйства (его мать была идеальной хозяйкой), папа и в своей семье хотел видеть образцово поставленный дом.
Мама же, хотя была в общем хорошей хозяйкой, рвалась к высшим интересам и не в состоя-нии была вкладывать душу в приготовление обедов. На этой почве постоянно происходили домашние сцены, которые были особенно мучительны для детей. Это было тяжелой стороной моего детства. Помню, как иногда по вечерам, когда, лежа в постелях, мы понимали, что в столовой невесело, потому что "папа сердится", мы оба начинали быстро-быстро безостановоч-но креститься; этот прием изобрел Сережа, и сначала я только слышала, как стучит его рука. Потом он отрыл мне свою тайну, и я начала присоединяться к нему. Нам казалось, что стоит нам начать креститься, как папин гнев утихнет и в столовой настанет мир.
Вспышки страшной, неудержимой нервности чрезвычайно мучили самого папу. Он нежно и нерушимо любил нашу мать, не был в состоянии оставаться без нее ни на минуту, но при этом всю жизнь терзал ее своим характером. Для него невыносимы были те часы, когда она уходила из дому. Каждый выход ее к родным бывал целым событием. Мама чуть ли не за неделю начинала подготавливать его, и, когда она уходила, он чувствовал себя совсем несчастным. Обычно он не мог заниматься, спускался вниз к нам и, сидя с нами, буквально не находил себе места. Тут, несомненно, известную роль играла и ревность. Он был чрезвычайно ревнив и ревновал маму даже к ее сестре и братьям. Поэтому он не любил, когда она хорошо одевалась и тем подчеркивала свою замечательную красоту.
Не придавая особого значения туалетам и не имея денег для них, мама легко подчинялась этому его желанию. Я же, для которой мамино мнение было священным, все свое детство с величайшим презрением относилась к нарядным дамам, называя их "франтихами". Меня саму никогда не наряжали — папа не любил, даже на нижние рубашечки мне не пришивали кружев, и я этому полностью сочувствовала, всячески борясь против малейших попыток мамы как-нибудь приодеть меня.
В связи с этим вспоминается один смешной случай. Как-то, когда мне было лет 8–9, нас должны были повести на елку к Шпетам. У меня было серое шерстяное платье, пышно собран-ное на груди в сборки, я эти сборки ненавидела. Когда мы стали собираться на елку и мама начала надевать на меня это платье, я нарочно рванула локтем сборки и распустила их. Тогда мама достала другое, песочное платье, отделанное множеством пуговиц, обтянутых той же материей. Я и это платье презирала, но тут уже ничего не могла сказать и отправилась в нем на елку. Однако вряд ли я много удовольствия получила от елки. Весь вечер я старалась уединяться от остальных детей и в укромных уголках занималась тем, что отверчивала и отрывала пуговицы от платья и швыряла их под столы, диваны и стулья. Представляю себе удивление прислуги Шпетов, которая, подметая на следующее утро комнаты, под всей мебелью находила одинаковые пуговицы, обтянутые желтоватой материей!
После обеда мы снова отправлялись часа на полтора гулять.
Возвращались домой к четырем часам, когда подавался самовар и мы пили средний чай. К пяти часам приходила к нам мисс Седдонс.
Мисс Седдонс жила в розовом доме у Котляревских, У которых она занимала должность гувернантки при их дочери Поленьке. Английскому языку нас начали учить зимой 1912–1913 годов, то есть после того, как мне минуло пять лет. Мисс Седдонс была типичной англичанкой по всему своему облику, одежде и т. п. Это была седая дама с красиво причесанными волосами и отвисшими щеками и подбородком. Ходила она всегда в черном платье со стоячим воротником, аккуратно обшитым белым. Держалась прямо и чопорно. Мисс Седдонс была великолепным педагогом и умела заинтересовать детей. Хотя она была строга и никогда не распускала нас, мы очень любили ее уроки и ее саму, никогда не тяготясь занятиями английским языком. Работая все время в аристократических домах, где все окружающие владели иностранными языками, она за многие годы своей жизни в России так и не выучилась русскому языку. Мама кое-как объяснялась с нею по-немецки, а мы уже в первую зиму стали бойко лопотать по-английски.
Я очень хорошо помню наш первый урок с мисс Седдонс. Вероятно, ей тогда было не легко. Маленькие дети 7 и 5 лет, не знающие ни единого английского слова, и она, не говорящая по-русски. Мы сидели (как и всегда потом) за нашим столом в детской под висящей низко над ним лампой с зеленым абажуром. Мисс Седдонс начала с того, что расставила перед нами в ряд игрушечных зверей и начала называть их по-английски. Потом она стала закрывать и открывать дверь, приговаривая: "Shut the door, open the door". Дальнейшие этапы нашего обучения я уже не помню. Знаю только, что к лету мы не только свободно говорили по-английски, но и читали и писали.
Когда мы после этой зимы проводили летние месяцы на даче под Одессой, то по просьбе мисс Седдонс вели там английские дневники. Тогда же, осматривая в порту английский пароход, мы, к удивлению английских моряков, бегло болтали с ними на их родном языке. Мисс Седдонс, а вслед за ней Лили, которая скоро стала говорить с нами по преимуществу по-английски, привили нам огромную любовь к этому чудесному языку. Он стал языком моего детства, тем языком, на котором мы играли в самые увлекательные свои игры, читали самые интересные книжки. Тем интереснее было говорить между собой по-английски, что ни папа, ни мама не понимали наших разговоров. Мама не знала ни одного английского слова, а папа, хотя и мог читать со словарем, но не был в состоянии говорить и улавливать смысл беглой речи.
Нашим товарищем в английском языке была ближайшая подруга нашего детства Поленька, с которой мы росли вместе и были близки как с родной сестрой. С ней мы всегда говорили по-английски. Переход с русского на английский был для нас совершенно не чувствителен, мы очень скоро заговорили на нем с полной легкостью, почти как на родном языке.
Английский язык и детская литература стали нашим особым миром, романтичным, уютным и сказочным. В годы моего детства в Россию попадало множество английских детских книг, тогда лучших в Европе, Лили постоянно дарила нам эти книги. Помню толстые тома: "The green book for girls", "The blue book for boys", "The red book for girls". Там были интереснейшие рас-сказы и сказки про рыцарей круглого стола, принцесс и разбойников, увлекательно написанные, возбуждающие фантазию и благородные, рыцарские чувства. Лили по вечерам читала нам вслух рассказы Киплинга и книги Кэрролла "Alice in the wonderland", "Alice through the looking-glass".
Мы учили наизусть смешные "Nursery Rhymes". Я помню прелестного "Humpty Dumpty sat on a wall" и другие стишки, имевшие смысл только по-английски. Милые, лукавые и такие уютные учебные книжечки, которые мы читали за уроками, тоже были очень содержательными и интересными. Помню два цикла таких книжек, расположенных по номерам, по степени возрастающей трудности — в коричневом и зеленом переплетах.
По-английски говорили мы и во время наших уроков рисования с Лили. Уже лет моих с шести мы начали с ней заниматься рисованием и чрезвычайно полюбили эти занятия. Уроки происходили раза два в неделю. Как я понимаю теперь, они проходили без всякой обдуманной программы. Просто Лили было весело рисовать с нами и нам также. Мы рисовали вместе с Поленькой, втроем. Рисовали самое разное — гипсовую голову Августа, зеленый стеклянный бокал, игрушки, цветы и т. п. Иногда Лили вдруг заставляла нас вырезать из цветной бумаги и наклеивать на листы целые композиции.
Помню, с каким увлечением изображали мы таким путем слона с паланкином на спине, переходящего вброд тропическую реку. Мы с Сережей оба были способны к рисованию и рисовали неплохо карандашом и акварелью, Поленька же рисовала гораздо хуже, и, чтобы ей не было обидно, Лили часто подправляла ее рисунки. Уроки происходили в нашей детской. Как я их помню! Как помню черные снаружи и белые внутри эмалированные коробочки с чудесной акварелью такого высокого качества, о котором теперь не могут мечтать даже лучшие акварелисты. Каждый цвет, казалось, имел свой характер, свое лицо, с каждым существовали свои сложившиеся отношения.
После английского урока у нас оставалось еще часа два до ужина. Это было лучшим нашим временем — отдыха и игры. Чаще всего мы играли в мишек. Игры в куклы у нас не было, и хотя нам изредка дарили кукол, но мы их мало любили. В куклы я играла только с Поленькой, у нее. Зато мы без конца играли в мягких зверей, и здесь у нас была придумана интереснейшая игра, бывшая достоянием только нас двоих. Других детей мы в нее не пускали. Резиденцией наших мишек служил низкий, темно-коричневый шкафчик, стоявший у окна в детской. В нем было два этажа, служивших для зверей комнатами: наверху столовая и одновременно гостиная, а внизу — спальня. В верхнюю комнату было проведено электричество. Его провел нам Танин муж Кот, молодой инженер, который любил возиться с нами и которого мы очень любили, так как он катал нас на велосипеде, таскал на плечах и т. д.
В верхнем этаже стоял обеденный стол, вокруг которого сидели звери; лежал вышитый коврик, стоял зеркальный шкаф, часы, на стенах висели картинки. Внизу располагались кровать и диван, на которых мишки вповалку укладывались спать, если нам только приходила охота их уложить. Это было довольно пестрое общество!
Компания состояла из одних мальчиков-братьев, ведших самостоятельное существование. Старшим над ними был Большой Мишка. Мы определили для него предельный детский возраст — 12 лет, старше, нам казалось, сделать его невозможно — дальше начиналась уже беспредель-ность взрослого возраста. Этот мишка так же, как и двое из его младших братьев, тоже мишек — Степка и Маленький Мишка, был сшит из вырезного матерчатого листа, на который были нанесены раскрашенные в коричневый цвет рисунки частей медвежьего тела. Мы с увлечением шили их вместе с мамой. Самодельными были также две обезьянки — Аким и Мартын. Эти двое сшиты были по выкройке, приложенной к одному из номеров детского журнала "Маяк", который мы получали. Сшили мы их из старых папиных брюк темно-серого цвета. На головах у них были голубые бархатные шапочки. Вместо глаз мы воткнули им булавки с черными фарфоровыми головками. Остальные братья были покупные игрушки. Белый Кот — сначала в черных лакированных сапогах, потом уже без сапог. Две обезьяны — прекрасные шимпанзе в шерсти и с выразительными желтыми глазами — Федор Тимофеевич (подарок дяди Шуры, полученный мною на одной из ёлок у них в доме) и Макар Иванович, в эти годы уже сильно потрепанный, с обновленной шапочкой на голове (синей вместо первоначальной красной).
Я помню мамин рассказ о том, как был куплен Макар Иванович. Это было в начале нашего детства, когда Сережа был еще совсем маленьким. Возле нашего переулка на Арбате до самой революции существовал писчебумажный и игрушечный магазин "Надежда", бывший нашим придворным магазином. Его содержали две пожилые девушки-сестры. Однажды Сережа увидел на витрине в "Надежде" обезьянку и влюбился в нее. Его нельзя было оторвать от окна, он плакал и умолял купить ее. Дома он продолжал тосковать по обезьянке. Вскоре после того наступил какой-то праздник — Рождество или его рождение. Мама купила обезьянку и спрятала ее до этого дня, когда она была торжественно подарена Сереже. Это и был знаменитый Макар Иванович, кончивший свою жизнь в роли проказницы Нади, любимой игрушки моей маленькой Машурочки. Надя пропала вместе с Другими вещами на нашей даче во время наступления немцев на Москву.
Поистине неисповедимы судьбы не только людей, но и вещей! Имя было дано Макару Ивановичу по имени тех обезьянок, с которыми в годы нашего детства ходили по дворам черномазые люди. Этих мартышек почему-то часто звали так. Федор Тимофеевич получил свое наименование по гусю из "Каштанки" Чехова. Далее шел Рыжий Мишка (он существует до сих пор), настоящий плюшевый медведь, очень хорошего качества. Этот тоже дожил до Маши. Десятым был маленький, жесткий мишка в шерсти, стоявший на 4 лапах, принадлежавший мне и называвшийся поэтому Мой Мишка. Это была основная компания. Братья имели несколько животных для езды. Прежде всего у них имелась белая овца на колесиках, прекрасная игрушка, также жившая очень долго. Затем два ослика большой и маленький, — оба в шерсти. На подмогу бралась также с камина деревянная лошадка. Ездили мишки на розвальнях, в тарантасе, верхом. Была у них также большая красная жестяная лодка, в которую они помещались все сразу. В таком виде их однажды нарисовала цветными карандашами на память Лили. Этот рисунок, кажется, цел где-то до сих пор.
У нас разыгрывалась богатейшая фантазия, когда мы играли в своих мишек. Чаще всего они отправлялись в путешествия по тропическим странам — в джунгли и т. д., переплывали реки, подвергались разнообразным опасностям и приключениям. Источником этих фантазий служили, конечно, прочитанные книги — рассказы Киплинга, романы Жюля Верна. Мы в самозабвении целыми часами ползали во полу, возя своих мишек, сооружали им пещеры, палатки, непроходи-мые дебри. Помню, как однажды мы окружили зеленой тканью ножки нашего стола в детской, спустили и привязали к одной из ножек лампу и устроили на нижней доске стола чудную пеще-ру, наполненную таинственным зеленым светом, где мишки укрывались от каких-то опасностей. Игра кончалась тем, что вся компания благополучно возвращалась в свою уютную квартирку и усаживалась вокруг столика в верхней комнате.
В восемь часов мы ужинали. Я очень любила наши ужины и вообще вечерние часы. Особе-нно любила субботний вечер, когда за осенними или зимними окнами чудно гудели колокола близлежащих церквей, которых в нашей округе было особенно много. В субботу перед ужином мама купала нас в ванной. Ванная комната наша была прежде прелестной. Вся беленькая, свет-лая, с большим окном и сверкающей, блестящей ванной. У стены стоял большой деревянный сундук для грязного белья, на котором мы раздевались. На пол возле ванны клали пробковый коврик. Мама мыла мне волосы яичным желтком, а потом купала в ванне. Когда мытье кончалось, она позволяла несколько минут пополоскаться в воде, поиграть резиновыми или целлулоидными игрушками, которые купались вместе со мной. А потом — ужин и гудящие колокола.
После ужина часто бывало очень интересно. Это время папа обычно проводил с нами. Большей частью, когда убирали ужин, мы располагались вокруг обеденного стола. Папа оставался на своем месте, спиной к двери в маленькую комнату.
Возле него на столе стояла фанерная коробка из-под гильз "Катык и К°", разделенная перегородочкой на две половины. В одной лежали гильзы, которые он сам набивал, в другой — табак и машинка для набивания гильз, надетая на металлическую палочку с деревянной ручкой. Как запомнились все его жесты, привычные для него и всех нас, одни и те же, милые, уютные, неповторимо-папины, ушедшие вместе с ним, но для меня незабываемые. Вот всегда по-одинаковому насыпает табак в машинку, защелкивает ее, надевает на нее гильзу и проталкивает в гильзу табак металлическим стержнем; вот зажигает спичку одной правой рукой, придерживая спичечную коробочку на столе той же рукой. Все это настолько знакомо и изучено, что кажется незыблемым, как жизнь, как земля.
Часто в эти часы мы читали вслух. И не только стихи, а, например, Гоголя, особенно "Ночь перед Рождеством", иногда вырезали и клеили вырезальные листы. Эти листы бывали в то время очень интересными. Домики разных народов, пароходы, замки или ветряные мельницы, все было одинаково интересным. Работа по вырезанию и склеиванию требовала точности, и тут папина педантичная аккуратность приходилась очень кстати.
Помню, как трудно мне, нетерпеливой и порывистой, было тщательно вырезать зубчики по краям частей изображений, аккуратно намазывать загибы клеем.
Универсальный клей "Синдетикон" в желтых с синим тюбиках, которые мы протыкали булавкой, клеил безукоризненно. При его помощи можно было склеивать чуть ли не стекло с железом. Мы покупали "Синдетикон" в "Надежде" и употребляли его постоянно, при всех своих поделках. Детское обостренное восприятие жизни рождало индивидуальные, личные отношения со всем окружающим, вплоть до отдельных вещей. Так было и с "Синдетиконом". У меня были с ним сложные отношения. Мои маленькие, торопливые и не совсем аккуратные пальчики постоянно были все в клею, и картинки пачкались ими. Если я клеила какие-нибудь части листа самостоятельно, то нередко эти части бывали замусоленными и неаккуратными. И все-таки я нежно любила "Синдетикон", как верного друга, сопровождавшего множество наших разнообразных затей и предприятий. Так вспоминается его специфический запах, булавка с налипшим на нее густым куском клея, коварные разрывы тюбика, когда "Синдетикон" начинал лезть с другого конца, пачкая все кругом (особенно часто, конечно, в моих руках).
Такие же особые, личные отношения были у нас и с разноцветным пластилином, из которого мы любили лепить, и с переводными картинками, и с карандашами, и с тетрадями для рисования, в которых белые листы великолепной ватмановской бумаги отделялись друг от друга разноцветными листиками папиросной бумаги — розовыми, голубыми, бледно-зелеными.
Когда я была совсем маленькой, в эти вечерние часы часто усаживалась к папе на колени, а он делал вид, что вынимает у меня из затылка пробку. С этой целью он даже носил в жилетном кармане маленькую пробочку, я этому наполовину верила и наполовину — нет. Верила, потому что все, что Исходило от папы, было незыблемым, а не верила, потому что была умна и потому что все окружающие смеялись. Иногда мы взбирались к папе на колени оба, и наши двадцать пальчиков начинали совершать прогулки по лесу — его волосам и по полю — лысине, пока на них не начинала лаять страшная собака из его рта конуры. Но все это было еще на старой квартире. На новой мы были велики для таких забав и занимались более взрослыми делами.
Иногда папа любил после ужина затеять с нами борьбу, с тем, чтобы положить одного из нас на обе лопатки. Со мной нелегко было справиться — я была очень ловкая и увертливая, так что выскользала из рук, как маленькая змейка. Помню, что и мальчишки, борясь со мной, далеко не всегда быстро одерживали победу. А была область, где им совсем не удавалось меня побе-дить: я умела влезать на прямой, лишенный ветвей ствол березы. У нас была одна такая береза в саду, и я хорошо помню, как я влезала на нее, а знакомые мальчики, и в первую очередь слабый и довольно трусливый Сережа, стояли внизу, задрав носы, и с завистью смотрели вверх на смелую и ловкую девчонку.
Вечерние часы неизменно наряду с удовольствием несли для меня и одно огорчение: меня отсылали первую спать, а Сережа, по уговору, шел вторым. Он должен был идти сразу же, как только я, совершив вечерний туалет, залезала под одеяло. Но он никогда не шел сразу, а минут 10–15 после того, как я водворялась в постели, оставался с папой в столовой. Годы подряд я мучилась этим. Мне казалось, что с моим уходом в столовой начинается самое интересное, я нервничала, звала, даже плакала. Наконец, являлся и он. Когда мы оба были готовы ко сну, то, стоя на коленях, молились, читали "Отче наш", "Царю небесный" и еще какие-то молитвы, которым нас научила мама. Затем приходил папа поцеловать нас на сон грядущий. Тут нередко он снова начинал со мной возню, щекотал меня, приговаривая, что идет в "Щекотинский переулок" и тому подобные глупости. Затем в детской тушился свет и закрывалась дверь в столовую, как я уже говорила, совсем, если были гости, и не до конца, если родители сидели за чайным столом одни.
Но на этом наш день еще не кончался. Вполголоса мы начинали вести разговоры. Иногда говорили по-английски, иногда по-русски. Чаще же всего я рассказывала сказки. Как я вспоминаю сейчас, мои "сказки" были довольно бездарные и, во всяком случае, однообразные. Больше всего мы оба любили, когда я рассказывала истории из жизни детей, таких же, как мы сами, которые получали на праздники разнообразные подарки. Я изощрялась в вьдумке этих подарков, и нам обоим казалось это очень интересным и веселым.
Иногда мы начинали говорить не дыша какую-нибудь фразу или стихотворение — кто большее число раз сумеет повторить его на протяжении одного дыхания. Чаще всего это были откуда-то нами взятые и привязавшиеся к нам слова: "Сули пала, кьяфа пала, всюду флаг турец-кий вьется, только Деспа в черной башне заперлась и не сдается". Мое дыхание оказывалось очень коротеньким, и я скоро сдавалась, Сережа же мог повторить четверостишие не дыша множество раз.
Как со всем, так и с пребыванием в постели, у меня складывались свои особые отношения и обычаи. Начиналось с того, что я всегда одинаково и по-своему складывала белье и платье на стуле, стоявшем у моей постели, ставила башмаки на уголок сундучка. Под одеялом у меня был свой мир, я часто (особенно по утрам, если просыпалась раньше Сережи) играла там в дома и пещеры, где жили люди — мои две руки. Помню, как однажды утром я долго так играла. Только людьми были не руки, а ключик от сундука и прозрачная длинная розовая конфетка в бумажке. Ключик был мужчиной, а конфетка девушкой, и отношения между ними были смутно-поэтич-ные, должно быть, навеянные первыми представлениями о любви.
По вечерам же я часто утыкалась в подушку, крепко прижимая пальцы к закрытым глазам. И в глазах начинали переливаться причудливые пестрые узоры, круги и золотые звезды. Ночных страхов у меня никаких не было. По ночам я обычно не просыпалась, а спала до утра как убитая. Лишь один раз за все детство я очень испугалась ночью. Я почему-то проснулась. И вдруг в полной темноте увидела белую фигуру, которая шла по комнате, приближалась к моей кровати и села на ее край. Фигуру я видела так явственно, что подумала, что это мама, и спросила: "Мама, это ты?", протянув руку вперед. Но рука моя попала в пустоту. Помню, что я так испугалась, что долго не могла заснуть и дрожала мелкой дрожью, но позвать маму не посмела, так как боялась разбудить папу. _____ _
Иногда, после того как гасили в детской свет, мама шла не в столовую, а садилась в спальной за круглым столом, накрытым синей кустарной скатертью с красными цветочками. Она либо шила что-нибудь для нас на машинке, либо писала. Под стук ее машинки очень уютно было засыпать. Теперь я понимаю, что эти редкие минуты были временем ее краткого отдыха и жизни "для себя".
Все существование нашей чудесной матери было отречением от своих интересов и своей личной жизни. Только одним она не жертвовала никогда своим душевным миром, неизменно богатым и благоуханным, но скрытым от чужих взоров. Мама с юных лет очень любила писать. Писала рассказы и повести, пьесы и сказки для нас. Сначала ее писания были очень наивными, но с годами у нее обнаружился известный литературный дар. Она умела найти оригинальную, интересную тему, умела построить фабулу и раскрыть психологию героев. Один ее рассказ под названием "Призывы" был напечатан в журнале "Русская мысль". Однако писательницей она не стала. Могучий литературный талант нашего отца, несомненно, подавил все ее порывы в этом направлении. Это частая судьба жен, стремящихся к творчеству в той же специальности, в которой работает неизмеримо более талантливый муж. Все же у мамы здесь было что-то свое, собственное, и бесконечно жаль ее бесплодно угасших творческих стремлений.
Когда я думаю об этом, у меня щемит сердце и на глаза наворачиваются слезы. Все богатство ее души, изящной, тонкой и нежной, уходило внутрь, в бездонные глубины, незримые для людей. Но мы ощущали его в теплоте ее мягких шершавых рук, в кротком характере, в любимом и привычном, как воздух, голосе, в неизменной неусыпной, умной заботе, окружавшей нас теплом, без которого невозможна была, казалось, самая жизнь. А теперь, на днях, 24 октября 1953 года, после того как мне минет 46 лет, исполнится 13 лет со дня ее смерти, с того дня, когда незыблемое начало жизни ушло вслед за папой в незримые пространства, в таинственную даль, не изведанную человеческим разумом. Неверно, что сиротами называют только детей, потеряв-ших родителей. Взрослые и даже старые люди, имевшие любящих и любимых родителей, ощущают после смерти их свое сиротство до самого конца жизни. Потому что никогда и ничем нельзя заменить незаменимое и единственное — любовь родителей с ее исключительностью и абсолютным, неповторимым бескорыстием и ни одно чувство, встреченное впоследствии в жизни, не может даже в отдаленной степени сравниться с нею или заменить ее.
Были у нас с Сережей и некоторые другие занятия. Чрезвычайно много интересного вносили в нашу жизнь верстак и столярные инструменты. Должно быть, в первую зиму нашей жизни в новой квартире, когда был куплен этот верстак, наши родители решили учить Сережу столярному мастерству. Для этого пригласили молодого человека по имени Иван Димитриевич, который приходил раз или два в неделю и давал уроки столярного мастерства Сереже и нашему закадычному другу — Грише Гинзбургу. Уроки происходили по вечерам в маленькой комнате, где стоял верстак. Мальчики работали успешно, каждый из них за время уроков сделал 2–3 настоящие вещи. Так, стоявшие у мишек в спальной добротная деревянная кровать и обитый материей диван сделаны были руками Сережи. Гриша сделал какую-то этажерку. Мне запреще-но было во время этих уроков входить в маленькую комнату, мешать. Но меня неудержимо тянуло туда любопытство, и я то и дело заглядывала в дверь, топталась на пороге комнаты и т. д. Иван Димитриевич очень любил меня, и я, чувствуя это, разводила с ним кокетство, а подчас и ломалась, говорила не дыша и делала другие подобные глупости.
Очень много столярничали мы и одни. Нам покупали листы фанеры, из которой мы постоянно выпиливали разные фигурки, иногда срисованные с книг, иногда сочиненные нами самими. Помню, что несколько раз мы делали игрушки из фанеры в подарок папе и маме к праздникам, раскрашивали их красками, приспосабливали на подставочки, чтобы они могли стоять. Так, однажды мы сделали фигурку пьющей лошадки на подставке, а к подставке прикрепили баночку для чернил. Вышла чернильница, которую мы преподнесли, кажется, на Рождество родителям.
Очень увлекались мы также игрой в пароходы, то есть увлекался, собственно, Сережа, а я уже вслед за ним. У него даже были серьезные книги, посвященные корабельному делу, со списками русских военных судов, которые он переписывал, учил наизусть. До сих пор помню: "Гангут", "Полтава", "Петропавловск"… У нас было три заводных парохода: большой красный с белым, явно пассажирский, который мы почему-то называли "броненосец", серая миноноска и маленький — тоже красный с белым — "Нормандский", купленный в магазине Нордмана в Силламягах в 1914 году, в последнее лето нашего пребывания там. Броненосец подарил нам на какой-то праздник дядя Коля. Это была прекрасная игрушка, сделанная очень тщательно. Все детали — мачты, палубы, шлюпки, рупоры, трубы и т. п. — были на своем месте. Все было красиво и крепко. Миноноску привезла из Петербурга в Силламяги Сереже на именины тем же летом тетя Аня. Она была особенно интересна тем, что ее пушки умели стрелять. Надо было только положить в них игрушечные пистоны, и пушки сами через несколько минут начинали палить. Все три парохода заводились ключами и быстро плавали. Мы очень любили играть с ними в ванной комнате, пуская их в ванне, наполненной водой. В качестве пассажиров и экипажей служили оловянные солдатики. В этой игре нередко принимал участие Гриша. Иногда мы целые часы проводили в ванной с пароходами до тех пор, пока наши пальцы не сморщивались от воды, а рукава не становились совершенно мокрыми. Тогда вмешивалась мама и прогоняла нас из ванной.
Огромную роль в нашей детской жизни играли разнообразные русские книги. У нас было много книг, нам постоянно покупали их, дарили на все праздники. Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других русских классиков, то, что было подходящим для детей, мы читали больше всего с папой. Многие книги читала нам мама вслух.
Большей частью это бывало перед вечером, после ухода мисс Седдонс и до ужина. Мы усаживались в маленькой комнате на диване, с двух сторон тесно прижимаясь к маме. Она читала нам разные книги: старинный детский роман "Швейцарский Робинзон", "Робинзона" Дефо, "Дети капитана Гранта" Жюля Верна, "Хижину дяди Тома" и другие, рано мы стали читать и про себя. Я читала "Елену Робинзон", "Маленькую принцессу". Читали "Лорда Фоунтлероя". Это были переводные книжки, главным образом с английского; нравились нам "Маленькие мужчины" и "Маленькие женщины" Луизы Олькотт, "Приемыш Черной Туанерры".
Сережа любил книги про зверей и природу, которые я, к своему стыду, не любила. Часто читали вслух Сетон-Томпсона — "Маленькие дикари" и др. Начиная с 1915 года и до револю-ции дядя Шура и дядя Коля выписывали нам превосходный детский журнал "Маяк", который доставлял нам огромное удовольствие. Самые лучшие рассказы там тоже были переводные, и тоже с английского. Некоторые нравились папе, и он из номера в номер читал их с нами вместе, например трогательную повесть "Полли — ясное солнышко". Авторов всех этих английских повестей я сейчас не помню. Читали часто разные сказки. Андерсена мы любили, а сказки братьев Гримм не любили и читали неохотно, хотя у нас было их целых два тома. Многие издания дарили нам в виде нарядных подарочных книг, которые были тогда очень распространены.
У нас был свой книжный шкаф, стоявший в спальне родителей.
Это был особый мир, чрезвычайно важный и любимый, занимавший огромное место в нашей детской жизни. Книги жили с нами неразлучно, переплетаясь с играми и фантазиями. Особенно важными становились они во время наших болезней — в эти годы мы не болели ничем серьезным, никакими детскими инфекционными болезнями.
Родители наши дрожали над нами, не разрешали нам входить в магазины и даже получать письма по почте и сумели уберечь нас от заразы.
Но мы все же ежегодно болели, обычно гриппом, как тогда называли, инфлуэнцией, или ангиной. Это бывало чаше всего в середине зимы.
Большей частью первый заболевал более хилый и подверженный простуде Сережа. А я почти неизменно заболевала вслед за ним, и мы лежали вместе. Эти болезни проходили для нас чрезвычайно весело. Первые один-два дня, пока держалась высокая температура, бывали еще немного кислыми. Хотя надо сказать, что я довольно любила жар и те горячечные состояния, которые приходили вместе с ним. Бывало, вечером, в полутьме, лежишь в жару в своей кроватке язык во рту кажется большим-большим, перед закрытыми глазами назойливо крутятся синие палочки и закорючки с чайных чашек и тарелок Лили — обычный мой бред; а вон сидит мама со своими утешающими руками, от которых исходят покой и ласка, терпеливыми и немного неуловимыми, как она сама.
Лечил нас всегда доктор Василий Яковлевич Гольд. Я помню каждую морщинку на его веселом, розовом лице, запах его духов, смешанный с запахом, который он приносил с собой с улицы. Это был тогда уже пожилой человек с бобриком седых волос и веселыми черными глазами. Он был подтянутый, элегантный и добрый, весь упругий, как на пружинках. Своим приходом он вносил веселье; прописывал вкусную микстуру-эпекакуану, пахнувшую анисом, и желтую мазь против насморка, с которой нам по вечерам вставляли в носы тампончики из ваты, именовавшиеся нами "бебешки".
Я помню Гольда в течение всех лет своего детства: в благополучные годы и в Гражданскую войну похудевшим и утратившим элегантность. Он был очень живым и общительным человеком и после осмотра своих маленьких пациентов неизменно затевал с папой разговоры на какие-ни-будь умные темы, иногда подолгу оставаясь в столовой. А зимой 1919 года он как-то рассказал, что ночью мыши выели дырку на месте жирного пятна на его пиджаке, висевшем на спинке стула. Гольд жил долго, еще 30-е годы он лечил маленькую дочку Павлы Лялю. К Машеньке мы его почему-то не звали.
Когда жар спадал, начиналось веселье и буйство в кроватях. Мою маленькую кроватку пододвигали к Сережиной кровати. Между ними ставили столик, на котором мы рисовали, играли в настольные игры, лепили, клеили, ели свои обеды и ужины. Все это делалось пополам с шалостями. Обычно за столом в столовой мы сидели очень чинно, боясь папу. Здесь же, за глазами взрослых, мы шалили с едой, выкидывая всякие штуки: толкли котлеты вместе с пюре так, что потом тошно было есть, делали болтушку из киселя с молоком, лакали молоко языком из блюдца по-кошачьи и т. п. Особенно много возились мы в это время с бумагой. Наши кроватки были сплошь засыпаны обрезками разноцветной бумаги, которые вместе с крошками постоянно проникали под одеяло, на простыню. Когда нам надоедало резать, клеить и рисовать, мы требовали чтения вслух. Нам читали и мама, и папа, и Лили, которая во время наших болезней ежедневно просиживала у нас по нескольку часов. Часто она рассказывала нам длинную сказку про дядю Андерсена и его приключения в царстве мышей, которую мы очень любили.
Гольденвейзеры
Особенно я помню во время наших болезней дедушку, маминого отца. Дедушка всегда приходил к нам через день утром, часов в двенадцать. Он буквально обожал нас, своих единственных внуков, и мы его тоже нежно любили. У него было странное отношение к болезням: он их попросту не признавал (хотя сам в течение многих лет был тяжело болен сердцем). Когда он еще в передней узнавал о том, что мы больны, он начитал кричать на маму: "Опять ты придумала эти болезни!" и по-настоящему сердился, так что мы даже с некоторой опаской ждали в эти дни его прихода.
Как сейчас слышу его медленные, тяжелые шаги по лестнице и по передней, вижу его фигуру, которая входит в широкие открытые двери столовой, полный, уютный, тоже со своим особым привычным и любимым запахом. Мы не можем дождаться того, чтобы он согрелся с мороза, усаживаем его на диван в маленькой комнате и оба сразу забираемся к нему на колени. Все знакомо до злейших подробностей и все-таки все интересно каждый раз рассматривать: лысину дедушки, его пушистые белые бакенбарды, белый жилет с узорами, цепочку от часов, украшенную брелками, зеленые выпуклые или белые перламутровые запонки на крахмальных манжетах.
Дедушки полный, колени его разъезжаются в стороны, и мы сидим каждый на своем колене, обняв его за шею. Он начинает рассказывать нам сказку про зайчика-куцепенодика, всегда одну и ту же, которую нам не надоедает без конца слушать. Дедушка каждый год возил нас на извозчике в центр, на Кузнецкий мост или в Столешников переулок, фотографировать. Чуть ли не все наши фотографии, кроме любительских, были затеяны им и сняты на его деньги.
Летом 1914 года дедушка, как всегда поехал в Наухейм на обычный свой курс лечения. Начало войны застало его за границей. Как старик он не был задержан, но ехать ему в Россию пришлось кружным путем через Швецию. Некоторое время от него не было известий и мама, так же как ее братья и Таня, очень волновалась. А через два года, тоже летом, он тяжело умирал от сердца. Дедушка жил у дяди Шуры в большой квартире на Пречистенке, где у него была своя комната. В ту весну мы никуда не поехали, так как мама не могла уехать от умирающего отца и каждый день ходила к нему на несколько часов. Мы тоже несколько раз навешали дедушку. Последний раз мы были у него в Сережины именины 5 июля, накануне его смерти. Он сидел в кресле в полном сознании. Встретил нас очень ласково и говорил с нами, поздравлял Сережу с именинами. Мы пробыли у него недолго.
С болезнью дедушки для меня связался уголок садика возле особняка в Мертвом переулке на углу Староконю-шенного, сплошь покрытый в тот год желтым ковром одуванчиков, мимо которого нам приходилось проходить каждый раз, когда мы шли на Пречистенку.
Мы были в саду возле гамака с папой, когда мама пришла от дяди Шуры, где только что умер ее отец. Мне было тогда восемь лет, но я очень хорошо поняла значение этого события и, сидя на гамаке, горько плакала.
Родители взяли нас на похороны дедушки. Не помню, были ли мы на панихиде дома. Но службу в церкви Успения на Могильцах помню очень хорошо. Тогда я в первый раз видела мертвого человека. Мне совсем не было страшно, только очень жалко. Я поцеловала холодную руку дедушки и все время смотрела ему в лицо. Меня очень поразило зрелище горя близких людей. Помню, как потрясло меня лицо дяди Шуры, стоявшего на коленях, а также слезы Параши, которая отошла к окну в церкви и рыдала, закрыв лицо руками.
На кладбище нас не взяли. Мы только прошли за гробом немного по улице, и кто-то увел нас домой. Помню, что мне ужасно жали башмаки, так что я еле шла. Как я узнала лет через десять после того от мамы, папа не хотел, чтобы мы попали на кладбище, потому что там была могилка нашего маленького брата Шушки, о котором нам не рассказывали.
Довольно часто приходили к нам мамина старшая сестра Таня, которую мы в детстве звали "тетя Адя", и жена дяди Шуры тетя Аня. Обе они иногда приходили по будням вечером и сидели с мамой в столовой.
Таню я помню с самых маленьких лет. Она всегда очень любила меня и часто ласкала. Помню, как еще совсем маленькая я сижу в детской на полу и через открытые во всех комнатах двери смотрю в столовую, где за обеденным столом сидят мама с тетей Адей. Мне кажется удивительным, то, что они ничего не делают, ни во что не играют, а только разговаривают. Я беру в руки какую-нибудь куклу или мишку сажаю перед собой и тоже начинаю "разговари-вать", подражая им. Говорю я без слов, а импровизированным языком, с интонациями, повышая и понижая голос. Тетя Адя была тогда уже немолодой женщиной, но еще хорошо сохранившей-ся. У нее была прямая, стройная фигура и красивые золотистые волосы, заложенные в виде косы вокруг головы. Помню еще, как она пела иногда, бывая у нас по праздникам. В молодости у нее был чудесный, редкой красоты голос, который к тому времени она уже почти потеряла. С ней часто приходил к нам ее молодой муж, который был моложе ее на 24 года. Она вышла за него замуж 42 лет, Когда ему было 18. Мы звали его Котом. Его имя было Константин Александрович Софиано, он был братом по отцу жены дяди Шуры — тети Ани.
Мы в детстве очень любили тетю Адю и также любили ее мужа, т. к. он был тогда еще совсем молодым человеком, и мы видели в нем чуть ли не товарища для себя, тормошили его, возились с ним и т. п. Он был тогда очень ласков с тетей Адей, называл ее "Татьяна". Но счастье оказалось недолговечным. В 1924 году они разошлись. Этому предшествовал период тяжелых отношений, когда он безобразно вел себя и был с ней груб. Только потом узнала я, какой, в сущности, грустной была жизнь нашей дорогой тети Ади. Она осталась после смерти матери, умершей в 1898 году, — двадцати девяти лет. При жизни матери обе сестры, старшая в семье — Таня и средняя — моя мама, вели совершенно затворническую жизнь. Их мать много лет подряд была больна. При этом у нее был тяжелый, деспотический характер, что не мешало ей, впрочем, быть обаятельным, тонко-умным и значительным человеком. Дети ее нежно любили, боялись волновать и делали все, что она хотела.
Когда мать умерла, сестры внезапно получили свободу. Каждая из них смогла по-своему устроить жизнь, распорядиться собственной судьбой. Они пошли разными путями.
Мама моя мечтала о полезной деятельности, поступила на педагогические курсы и, окончив их, стала учительницей в городской школе. После женитьбы братьев в 1903 году она поселилась в казенной комнате при Миусской городской школе, где и прожила до замужества — до весны 1904 года.
Таня же хотела совсем другого. Она стремилась к тому, чтобы наверстать потерянные годы молодости. Сначала, пока семья не распалась, она взяла в свои руки Домашнее хозяйство. Когда все стали разъезжаться и семейное гнездо разрушилось, она очень горевала. Братья сняли квартиры рядом, на одной площадке в доме так называемого Иерусалимского подворья на Пречистенском бульваре. Дедушка жил у дяди Шуры, а Таня поселилась с братом Колей. Она еще при матери после окончания гимназии начала давать уроки греческого языка и латыни в богатых купеческих домах. Так продолжалось и теперь, причем она, по тогдашнему времени, неплохо зарабатывала. Однако хорошего из ее жизни ничего не получилось. Долго она была дружна с интересным, вполне достойным ее человеком — музыкантом Алчевским, которого горячо любила. Но роман этот ни к чему не привел. Алчевский женился на другой женщине. Живя у дяди Коли, Таня постоянно была окружена мужской молодежью, совсем не подходящей ей по возрасту. Дядя Коля был преподавателем в лицее. У него ряд лет жили два его ученика — братья персы Гидаяд и Инаяд; постоянно приходил будущий Танин муж — Котя и племянник жены дяди Коли Фаня, тогда студент Сельскохозяйственной академии. Таня проводила с ними много времени и в конце концов переехала от брата на другую квартиру в Антипьевском переулке, где рядом с ней в комнате поселился Котя. Потом они сняли квартиру в Богословском переулке на Тверском бульваре, в которой прожили до конца своей совместной жизни.
В 1913 году летом они повенчались. Муж Тани поступил в бывшее техническое училище, и она его содержала все годы учения. Потом он воевал, и в германскую войну, и в гражданскую, и они много жили в разлуке. Все эти годы Таня самоотверженно работала, зарабатывала деньги, работала по хозяйству. С 1917 года она служила в каком-то учреждении. Когда муж ее бросил, она сказала маме: "Такое маленькое мое было счастье, и то я его лишилась".
В 1929 году, после смерти тети Ани, она переехала к дяде Шуре. Так хотелось ей в молодос-ти пожить для себя, найти личное счастье, а судьба заставила ее всю ее длинную жизнь, вплоть до глубокой старости, жить только для других.
Котя кончил свою жизнь очень грустно. После разрыва с Таней он женился на своей дальней родственнице по имени Мария. Она оказалась очень хорошей женщиной. Она привела его к Тане и заставила снова уважать ее и встречаться с нею. Сама она до сих пор бывает у Тани вместе с родившейся у них дочкой Наташей, теперь уже выросшей. Котя был арестован в 1937 году и скоро умер в тюрьме еще совсем не старым человеком.
Ясно и четко помню работницу дяди Шуры, прожившую у них в доме 60 лет, Елену Андреевну. Ее история интересна. Когда у Гольденвейзеров умирала мать, они остались без кухарки, так как та была больна тяжелым гриппом (от нее и заразилась бабушка, у которой грипп перешел в воспаление легких) и лежала в больнице. В один из этих тяжелых дней моя мама, проходя по улице, услышала голос женщины, предлагавшей свои услуги в качестве домашней работницы. Мама оглянулась и увидела молодую женщину, сидящую на тумбе. Ни минуты не задумываясь, т. к. в тот момент ей все было безразлично, она привела незнакомую женщину в дом. Ей предоставили полную свободу действий на кухне. В первый же день она подала им поварски приготовленный обед. Это и была Елена, Она не видела их мать живой, т. е. не входила к ней в комнату, а видела только умершей в гробу.
Потом они вспомнили, что уже встречали Елену прежде. В одно из лет на даче рядом с ними в саду гуляла красавица-кормилица с младенцем на руках; они ее запомнили, а потом из разговоров выяснилось, что это была Елена, Елена никогда не была замужем. У нее был многолетний роман с женатым человеком — извозчиком Андреичем, имевшим в деревне семью. От него у Елены было двое детей, которых она сдала в воспитательный дом, и они там пропали. Андреич много лет подряд приходил к Елене, сидел у нее на кухне. Потом он стал хворать и уехал в деревню, где и умер. Я знаю, что она долго замалчивала эту свою связь, считая себя великой грешницей.
Елена жива до сих пор, но я помню ее такой, какой видала в детстве. Это была толстая, крупная женщина с красивым лицом цыганского типа. В молодости на этом лице было несколько украшавших его родинок, которые потом превратились в бородавки. При нас она часто приходила из кухни и, стоя у буфета, повязанная фартуком, подолгу разговаривала о всяких людях, случаях и т. д., беспрестанно вставляя слово "Господи". У нее была великолепная память, она помнила все и вся, но культура к ней никак не приставала, она осталась неграмотной и говорила попросту. При ней у дяди Шуры некоторое время работала горничная Дуняша, с которой жила и ее маленькая дочка Параша. С Дуняшей случилась какая-то внезапная болезнь, от которой она умерла. Параша осталась в доме у дяди Шуры, и Елена взяла ее под свое покро-вительство. До конца Парашиной жизни (она умерла в 1953 году, от рака) Елена относилась к ней как к родной дочери. В 1948 году дядя Шура устроил Елене юбилей, отпраздновал 50-летие ее пребывания в их доме. Был организован банкет, приглашены гости, Гриша, Спива-ки и т. д., пили шампанское — дядя Шура подарил ей 1000 рублей, я была в тот вечер чем-то нездорова и не могла прийти к ним, о чем очень жалела.
Не слишком удачной оказалась жизнь маминого старшего брата дяди Коли. Его мы видали только по праздникам в нашем доме. Не помню, чтобы нас водили к ним хоть один раз. Но все же мы знали его больше, чем дядю Шуру, и были с ним ближе, забирались к нему на колени, он с нами возился, шутил, рассказывал нам сказки, чего дядя Шура никогда не делал. Это был тогда уже пожилой, лысеющий человек с редкими седеющими волосами. У него было худое лицо со впалыми щеками и несколько обвислым носом. Его голубые навыкате глаза смотрели как-то странно, немного сбоку, потому что он от рождения был слеп на один глаз. В молодости это был красивый, остроумный и блестяще-одаренный юноша, обладавший феноменальной памятью. Но жизнь скрутила его и убила в нем все свои дары.
Сначала на него гнетом легли разные семейные тяготы. Главной тяжестью было то, что, когда ему было лет двадцать, отец, смолоду страстный картежник, будучи адвокатом, проиграл какие-то казенные деньги по случаю чего все имущество семьи было продано с молотка, ему, как старшему сыну, пришлось хлопотать по этому унизительному делу, после чего у него в душе осталась какая-то травма, вся жизнерадостность и блеск исчезли навсегда. К. тому же он рано начал тяжело болеть: у него образовалась язва желудка, которая донимала его в течение всей жизни. Окончив филологический факультет с золотой медалью, он не стал двигаться дальше по научной дороге. Нужда заставила его взять выгодное место педагога и воспитателя в лицее, где он прежде сам учился. Так он и застрял там до самой революции. Только под конец, чуть ли не в 1917 году, он решил бросить это дело и задумал сдать кандидатский экзамен по юридическому факультету. Экзамен был сдан им блестяще, но это оказалось впустую, так как после Октябрь-ской революции юридическая наука стала совсем другой и его знания не нашли для себя применения.
В голодные годы Гражданской войны, когда в Москве нельзя было ни за какие деньги достать ни куска белого хлеба, дядя Коля вынужден был уехать на юг, где было сытнее. Он уехал один и года полтора прожил в Мелитополе. Еще раньше, в 1915 году, он перенес тяжелейшую операцию по поводу своей язвы. Ему как будто после операции стало несколько легче, но все же он продолжал хворать желудком до конца. Умер он от сердца, от водянки в декабре 1924 года всего 53 лет от роду.
Последние годы жизни он служил на простой канцелярской работе в каком-то учреждении военной промышленности, там же, где работала Таня.
Дядю Колю мы любили и совсем не стеснялись, потому что он был ласков и добр с нами. Любили тоже его маленькую жену, тетю Надю, красивую, как куколка, до самой старости. Тетя Надя была человеком ангельской душевной чистоты, доброты и кротости. Дядя Коля влюбился в нее еще в ранней молодости, при жизни матери. Знакомство произошло через тетю Лидию, которая, кажется, была в Орле (или в Ливнах) учительницей в гимназии, принадлежавшей сестре тети Нади Анне Афанасьевне. Тетя Надя привязалась ко всей семье Гольденвейзеров, часто гостила у них, и все они ее очень полюбили, в том числе и бабушка. Но когда сын Коля сообщил матери о своем намерении жениться на Наде, та пришла в полное отчаяние. Она говорила, что ему нужна не такая жена, что Надя будет тянуть его к низу, а не толкать вперед и т. д. Дядя Коля, обожавший свою больную мать, отложил женитьбу. Бабушка довольно скоро после этого умерла. Но тетя Надя, также очень любившая ее, после ее смерти не хотела и слышать о свадьбе, говоря, что получится так, будто они ждали этой смерти.
Свадьба состоялась только через четыре года — в 1902 году. Мать не ошиблась. Устроив уютный уголок, тетя Надя словно запрятала туда мужа, окружив его паутиной семейного быта. Очевидно, он оказался слабовольным человеком и сам втянулся в повседневную жизнь с Инаядом и Гидаядом, уютным сидением за чайным столом, канарейками (которых он очень любил и всегда их имел несколько) и т. д.
В конце его жизни они пережили одну тяжелую историю. Дядя Коля очень любил Еленину Парашу, много возился с ней, пока она была девочкой, занимался с нею уроками. Из нее выросла красивая девушка, привязанная к нему, как дочь. А у него чувство к ней приняло другие формы. Кажется, он сам очень мучился от этого, так же, как и безответная, кроткая тетя Надя. Параша стала также одной из причин разрыва Кота с тетей Адей. Кот довольно долго был в нее влюблен, пока она не вышла замуж за красавца английского происхождения Павла Павловича Тикстона.
У тети Нади был удивительно прекрасный и грустный конец. Она пережила мужа больше чем на десять лет, и умерла в 1934 году от рака пищевода. Помню, что она пришла к дяде Шуре прямо из поликлиники с рентгена со снимком в руках, на котором своими словами был написан диагноз ее болезни. В течение этой страшной болезни, когда она совсем уже не могла глотать, от нее никто не слышал ни одной жалобы. Она вся светилась каким-то внутренним светом и думала только о том, чтобы не быть в тягость окружающим.
После смерти дяди Коли она продолжала жить все в той же квартире на Гоголевском бульваре с двумя старшими сестрами — Анной Афанасьевной и Софьей Афанасьевной. У обеих сестер были тяжелые характеры, и они постоянно ссорились между собой. А она сияла между ними как светлый алмаз. Так и до последних часов своей жизни она думала только о них и старалась их ничем не обременять. Судьба пощадила ее. Она относительно не слишком страдала, лежала только последние дней десять и умерла как бы от воспаления легких, очевидно, от метастазов в легкие.
Мой папа очень любил дядю Колю — своего товарища по университету. Помню, как он рыдал, узнав о его смерти (за два месяца до собственной кончины). Он очень жалел его, но совершенно не мог выносить атмосферы его дома. Бывал там крайне редко и чрезвычайно тяготился теми разговорами, которые приходилось слушать и вести у них за столом.
Рождество
Для меня воспоминания о родных главным образом связались с воспоминаниями о семейных праздниках, прежде всего о Рождестве, а затем о наших и маминых днях рождения и именинах, когда неизменно приходили к нам все родные.
Самым уютным из праздников было Рождество. Надо сказать, что все церковные праздники мы больше всего праздновали с мамой, а папа держался несколько в стороне. Мы так и знали, что папа — еврей, а мы и мама русские. Но в устройстве елки папа тоже всегда принимал участие. Рождество и подготовку к нему я помню с самых ранних лет. От этого времени вспоми-нается мне, как мы вместе с мамой делали серебряные и золотые картонажи из специальных покупных листов с тиснеными изображениями. Помню, что, когда мы были совсем маленькие, вешали чулок на ночь каждый вечер в течение всей рождественской недели и каждый раз нахо-дили в нем какой-нибудь пустяк. Это было тогда, когда мы еще отчасти верили в существование Деда Мороза. Зато позже, в новой квартире, Рождество стало самым интересным и веселым праздником, центром зимнего года.
Мы начинали готовиться к нему задолго, наверное, за Целый месяц. Это было очень весело. По вечерам, перед Ужином, а иногда и после него, мы располагались с мамой вокруг обеденного стола в столовой. Очень часто приходила и Поленька. Больше всего мы клеили цепи из золотой, серебряной, а иногда и цветной бумаги. Длинные полосы, которые разрезались на одинаковые кусочки, из них склеивались вставленные одно в другое колечки. У меня, конечно, кольца получались неодинаковой ширины, были измазаны "Синдетиконом" и прилипали к пальцам. Клеили коробочки, разные картонажи; сами сочиняли штучки из спичечных коробочек, золотили орехи.
Елку мы иногда ходили выбирать вместе с мамой; чаше же она покупала ее одна. Это бывало в Сочельник утром. После обеда елку вносили в столовую, и с той минуты нам уже не разрешалось входить туда.
Елка была самым интересным, таинственным, бесконечно уютным, казалась огромным счастьем. Без сомнения, это в значительной мере определялось красотой той легенды, которая была с ней связана. Может быть, некоторую роль играло и то, что елочные игрушки были тогда необыкновенно хороши, разнообразны и интересны. Во всяком случае, с того момента, как квартира наполнялась чудесным запахом елки, и до тех пор, пока елку, покрытую кусками оплывшего разноцветного стеарина и остатками золотых нитей, не выносили во двор, в душе цвело счастье и ни на минуту не прекращалось ощущение великого праздника. Помню, что даже ночью, во сне или в минуты просыпания ощущение присутствия елки-счастья все время продолжалось. Так, один раз, когда елка была в доме, в лунную морозную ночь я почему-то проснулась. На занавесках были причудливые лунные узоры. Мне казалось, что по воздуху тянутся тонкие серебряные нити, из которых воздвигается волшебно-прекрасная елка, я любовалась этим сказочным видением и так и заснула с ощущением такого полного счастья, какого не бывает в жизни взрослых людей.
Украшали елку папа, мама, Лили. Перед вечером приходили тетя Адя и еще кто-нибудь из родных, которые тоже принимали участие в работе по украшению. Мы сидели чаще всего на диване в маленькой комнате, в страшном напряжении и волнении. Скоро к нам присоединялись Поленька и Гриша. Из столовой доносились обрывки разговоров и звуки, сулившие несказанную радость.
Так продолжалось два-три часа. Все родные проходили из передней прямо в столовую и оставались там. Мы никого не видели. Иногда только на минуту заходили к нам тетя Адя или дедушка.
Наконец, двери открывались и мы входили в столовую. Первая минута была незабываемой. Столовая вся была праздничной, особенной, непривычной. Обеденный стол стоял в стороне. На его месте посереди комнаты стояла высокая, до потолка елка, сияющая огоньками разноцветных свечей. Все, что было на ней, было так интересно, что мы долгое время не видели ничего другого, только ходили вокруг и разглядывали украшения и игрушки. Основная масса игрушек оставалась из года в год одна и та же, и мы каждый раз узнавали в них своих старых знакомых. Понемногу же мама всегда подкупала новых, с которыми мы с восхищением знакомились. Несколько игрушек чудом уцелело в течение всей моей жизни. Уже взрослой я иногда брала в руки эти вещички, когда-то полные волшебной силы, а теперь словно остывшие, как погасшие угольки.
Под елкой стоял старый, заслуженный Дед Мороз в красной шубе с елкой в руках, на вер-шине которой, воткнутая в подсвечник, горела свечка. Куда-нибудь на край стола прикрепляли пестрый фонарик, медленно крутившийся от тепла зажженной внутри него свечки. На елки же было волшебство куколки, звери, ангелочки, коробочки, полные конфет, рыбки, блестящие шарики. Где-нибудь в стороне на столе лежали приготовленные для нас подарки: книжки, настольные игры, писчебумажные принадлежности, какие-нибудь игрушки, все, что принесли родные. Любуясь на елку, разглядывая подарки, я время от времени вспоминала о том, что это не все, что впереди меня ждет чулок, повешенный на ночь, и сердце замирало от предвкушения этого нового счастья. Мы очень любили бенгальские огни серенькие палочки, которые горели трескучим сухим огнем, разбрасывая вокруг себя множество искр; брали их за кончики и крутили большими кругами. Хлопали хлопушки, внутри которых находили сюрпризики — крошечных куколок, или зверюшек, или цветные бумажные шапки.
Взрослые сидели у стен, у стола, кружком. Часто, пока еще горела елка, дядя Коля подзывал нас к себе и начинал рассказывать сказку или просто болтать с нами: он любил нас, в особеннос-ти меня, поддразнивать. Потом мы гасили свечки. Сначала долго следили за ними, за тем, как они начинали оплывать, потом гаснуть, бросались поправлять, когда они кривились, поджигая ветви, а комната наполнялась чудесным смолянистым запахом. Наконец, угасла последняя свечка. Зажигалось электричество. Все усаживались за стол ужинать.
Помню себя сидящей рядом с дедушкой над тарелкой с заливной рыбой, которую я терпеть не могла и мучилась, когда ее подавали. Помню, что всегда в Сочельник на столе были пирожки с черносливом. Когда родные расходились, мы шли спать, таща за собой в детскую подарки. На спинки кроваток вешали по чулку. Каждый год старалась я проследить, когда мама придет класть в чулок подарки. И ни одного раза не удалось мне выдержать характер — не уснуть до этой минуты. Зато позже, глухою ночью, я иногда просыпалась и начинала в темноте ощупывать чулок. До сих пор ясно помню то ощущение, которое я испытывала при этом. Руки ощупывали раздувшийся чулок, какие-то углы, выступы и округлости. Казалось, что там заключены все сокровища мира, что-то такое интересное и чудесное, чего не бывает в настоящей жизни.
Утром я всегда испытывала известное чувство разочарования. Как ни хороши были подарки, они никак не могли соответствовать тому, что обещала рождественская таинственная праздничная ночь, неизведанные углы и выступы невидимого чулка. В это утро мы долго сидели на кроватях неодетые, разглядывая все то, что нашли в чулках и что вчера получили на елке и не успели вечером как следует разглядеть. Потом одевались и шли к елке. Теперь, при свете дня, можно было подробно разглядеть украшения, игрушки. Мы обследовали все коробочки и картонажи и извлекали из них конфетки. Обычно это было монпансье, помню, однажды такой формы, как овес, всех цветов. Мы поедали все эти конфетки, набивая ими себе рты. Елка притягивала к себе как магнит, мы от нее не отходили.
Почти с таким же нетерпением ждали мы своих дней рождения и именин. У меня и то и другое было осенью: именины — на Адриана и Наталью 26 августа, а рожденье — 30 сентября. У Сережи именины были на летнего Сергия — 5 июля, а рождение — 29 января. В эти дни мы особенно ждали подарков. Родители, у которых всегда было мало денег, дарили нам обычно недорогие и полезные вещи: книги, настольные игры, что-нибудь вроде перочинного ножика, красок и т. д. Зато Лили и дядя Шура всегда дарили нам дорогие и хорошие вещи, которых мы, естественно, очень ждали.
Так помню я эти праздники! С утра находишься в возбужденном, веселом и томительно-напряженном состоянии. За утренним чаем у прибора уже стоят подарки родителей. Иногда тащишь что-нибудь из подаренного с собой на прогулку, чтобы не расставаться и поскорее поделиться своей радостью с Поленькой. Если бывало мое рождение, то я чувствовала себя весь день особенной. Помню, как раз в такой день я, гуляя утром во дворе, все подбегала к дворнику Степану, крича: "Степан, я еще не родилась!" Я подразумевала, что еще не настал тот час, когда я родилась. По маминым рассказам я знала, что родилась в 4 часа пополудни.
Потом являлась Лили с подарками. Ее подарки были не только дорогими. Они продиктова-ны были ее особым знанием нашей жизни и наших вкусов; она дарила нам то, что могло быть особенно нужным и полезным. Так, я помню два ее подарка мне. Один раз она подарила мне большую картонную коробку, полную всяких писчебумажных принадлежностей — карандашей, красок, кисточек, бумаги. Была там крошечная красная, герметически закрывающаяся черниль-ница, которая потом жила у меня много лет и в которую я наливала только красные чернила. Она имела форму бочонка, и на металлической крышечке ее я нацарапала букву "Н", чтобы отличать верх.
Другой подарок Лили доставил мне особенное удовольствие. Это была большая коробка из-под конфет, обитая голубым шелком с розовыми цветочками. Внутри лежала куча разноцветных отрезов ситца и других тканей аршина по полтора. К ним приложена была коробочка с пуговка-ми всяких фасонов. Были там и нитки, и иголки. Целые годы шила я из этих материй для своих мишек.
А с пуговками связано у меня одно воспоминание о настоящем, большом детском горе. Среди других пуговиц там были мелкие черненькие с бриллиантиком-стеклышком в виде глазка посередине. Эти пуговки очень понравились маме. В это время она шила себе какую-то блузку и захотела их к ней пришить. Я с восторгом отдала их ей, заранее радуясь и гордясь тем, что мои пуговки будут у мамы на блузке. Портниха пришила пуговки. Однако, когда мама в первый раз надела эту блузку, папа заявил, что мама позволила себе непростительное кокетство, что эти пуговки ей не к лицу и она должна их отпороть. Как сейчас помню, я ложилась тогда спать. Мама подошла к моей кроватке в новой кофточке и с грустью рассказала мне о том, что папа велел ей отпороть пуговки. Вероятно, ее огорчение было совершенно мимолетным. У меня же сердце разрывалось от горя и острой, неутолимой жалости к маме. Однако не помню, чтобы даже тут промелькнула хотя бы самая малая мысль о возможности осудить папу.
По поводу этого случая я потом неоднократно вспоминала рассказ папы об его аналогичном переживании. У него было мрачное детство. Родители его плохо жили между собой. В доме царили тяжелые настроения. Мрачной была и жизнь их матери, которая не видела никаких радостей, не имела никаких развлечений. И вот один раз за много лет она получила приглашение от своего брата приехать на какой-то семейный праздник. Для этого надо было уехать из Киши-нева, где они жили, на 2–3 дня. Папин старший брат Бума, тогда подросток, вечером накануне ее отъезда заявил, что у него болит нога. Весь вечер обсуждали, ехать ей или не ехать. Бума на все вопросы жестоко отвечал "болит". Папа рассказывал, что у него душа надрывалась от жалости к матери и негодования на брата. Рассказывал, что это было одним из самых тяжелых переживаний в его жизни. А она так и не поехала на праздник. Может быть, если бы он знал, что сам заставит своего ребенка так же страдать, не стал бы поднимать разговора из-за пуговок…
Поленьку я помню с самого начала своего детства. До того, как Котляревские в 1912 году переехали в розовый дом на нашем дворе, ее иногда приводили к нам в гости. Сохранился трогательный рассказ о первом знакомстве ее и Сережи. Когда они увидали друг друга (им было года по 2–3), он сказал, ткнув ее пальцем: "Ты — беленькая!", а она ответила: "А ты черненький!" Потом я помню, что раз вечером, когда мы еще жили в розовом флигеле у ворот, Лили к нам пришла и рассказывала о том, что сегодня день рождения Поленьки, а она не радуется, а горько плачет потому, что "ей уже никогда больше не будет пять лет".
После переселения Котляревских в нижнюю квартиру розового дома мы уже не расстава-лись с Поленькой и делили с ней все свои интересы и всю детскую жизнь. Она была беленькая девочка с прямыми, подстриженными челкой волосами. Воспитывали ее очень попросту. Одевали всегда в белое, летом в платья из деревенского домотканного полотна, а зимой — из кустарной деревенской шерсти. Не помню ее ни разу в нарядном платье. Росла она вместе с двумя дочками своей няни, которые жили у них и учились на счет Котляревских. И никогда не ощущалось того оттенка, что они "кухаркины дочки", а она — "господская". В атмосфере, окружавшей ее, господствовал полнейший демократизм. И в именье летами она играла с деревенскими ребятишками как с равными. Надо сказать, что ее бабушка, Ольга Павловна Орлова, возмущалась на такие порядки. Так же, кажется, и мисс Седдонс, которая жаловалась на то, что Поленьку воспитывают не так, как нужно, и что она не имеет возможности свободно прививать ей настоящие манеры и хороший тон. Поленька была очень легкой, простой и милой, без всяких капризов, хорошим товарищем. Мы никогда с ней не ссорились. Помню только, что я всегда обижалась на нее, когда к ней приходила дочь приятеля ее папы Ира Новгородцева и она, увлеченная ею, вдруг на время охладевала ко мне и уходила играть с ней без меня. Интересы у нас были совершенно общие.
Мы трое — Сережа, Поленька и я — понимали друг Друга с полуслова. У нас был свой мир, поэтически-сказочнный, где мы сами были рыцарями, героями, разбойниками. Все наши игры происходили на английском языке. Больше всего времени мы проводили с Поленькой в саду. Однако и дома постоянно играли вместе. Иногда я одна, без Сережи, отправлялась к ней играть в куклы. Кукол у нее было множество — больше тридцати, всех размеров и видов. Кроме того, была дорогая кукольная мебель, посуда и т. д., чего у нас не было. Поэтому мне было интересно там играть, хотя к куклам я была вообще равнодушна и дома, одна или с Сережей, никогда почти в них не играла.
Пасха
Из церковных праздников я всегда особенно любила Пасху. То есть полюбила ее так лет с 7–8, когда стала кое-что знать об евангельской легенде и ходить в церковь. Воспоминания о Пасхе оставили у меня в душе особенно поэтический след. С Пасхой связано также мое детское увлечение религией — бывшее не слишком длительным, но очень сильным. Это было в 1915 году, когда мне весной было семь лет и я в первый раз говела. В церкви мы вообще бывали очень редко и, кроме вечернего чтения молитв, никакого религиозного воспитания нам не давалось. Но тут мама повела нас на Страстной неделе в церковь. В среду мы исповедовались и в четверг причащались. Эта неделя осталась дня меня одним из самых чистых, возвышенных воспоминаний всей моей жизни.
Ходили мы по Гагаринскому переулку в Большой Вла-сьевский переулок, где находился наш приход — церковь св. Власия. Это была маленькая, скромная церковка, которая стояла в глубине зеленого церковного дворика, окруженная старенькими, принадлежавшими ей домиками. От ворот к дверям церкви надо было идти по каменным плитам длинной дорожки.
В церкви служил тогда священник Константин Всех-святский. Этот человек никогда не узнал о том, какое значение он имел для маленькой черноглазой девочки с жесткой косичкой, которую он ласково исповедовал и причащал на Страстной неделе 1915 года А ведь это была по-настоящему первая любовь. Здесь были все признаки люб-ви _ и тоска, и сладкое томленье, и несбыточные мечты.
Отец Константин был тогда человеком лет под сорок, с красивым и благородным лицом. Он служил очень хорошо и задушевно, а его добрые глаза ласково смотрели из-за стекол очков в тонкой золотой оправе. Когда я была в церкви, то не спускала с него глаз, а если он вместе с дьяконом выходил из алтаря, я старалась украдкой дотронуться пальчиком до его ризы. Дома я все дни испытывала ощущение щемящей тоски, не находила себе места и не могла дождаться того часа, когда мы снова пойдем в церковь. Здесь была не только любовь к отцу Константину.
Эта любовь слилась воедино с религиозным чувством, с благоговением перед теми чудесными словами великопостных молитв, которые я слышала в церкви.
В те дни я лобзиком вырезала себе из фанеры маленькое распятие и повесила его в изголовье своей кровати (только руки у Христа вышли слишком короткими), а маму попросила подарить мне славянское (непременно славянское) Евангелие.
Как ясно я помню все, что окружало меня тогда в церкви и что казалось мне таким прекра-сным! Все внутреннее убранство, все иконы, подсвечники, свечи, волнующий запах ладана. Молодого дьякона с коротким, толстым носом (его потом, лет двадцать спустя, я неоднократно встречала в Гагаринском переулке в штатской одежде), старенького дьячка с ежиком седых волос на голове. Все это сплелось для меня тогда с ощущением весны. Земля была уже свободна от снега.
Когда мы гуляли во дворе, я возле нашего парадного хода, под водосточной трубой, нашла кучку мелких камешков, которые казались мне такими красивыми, что я уверяла всех, будто они принесены сюда откуда-то с моря. Я собрала эти камешки и положила их в розовую вату в маленькую белую картонную коробочку, с которой не расставалась. Я была влюблена в эти камешки так же, как в отца Константина и молитвы, и брала коробочку с собой в церковь. Помню, как один раз во время великопостной молитвы, произносимой священником, стоя на коленях, я нечаянно уронила коробочку. Камешки высыпались на пол, и мне пришлось их украдкой собирать. А когда много лет спустя, уже взрослой девочкой, я наткнулась на эту коробочку, то увидела, что эти камешки — не что иное, как невзрачные осколки кремня и простых московских булыжников.
При моем отношении к священнику Власьевской церкви можно себе представить, какое любопытство во мне возбуждал тот факт, что вскоре после Пасхи он пришел к нам и некоторое время просидел с мамой наверху в папиной библиотеке. Приходил он потом еще раз. Но сколько я ни умоляла маму раскрыть тайну его приходов, мама мне ничего не рассказала. Не могла же я сопоставить эти его посещения с тем, что за год до этого, тоже весной, мама с палой куда-то таинственно исчезали на полдня, а кем-то была прислана к нам корзина цветов. Тогда соверши-лась свадьба моих родителей. До этого времени мы были незаконными детьми, вписанными в паспорт девицы Гольденвейзер. Когда же Сережа стал подрастать и начали подумывать о возможности его поступления в гимназию, мама приняла лютеранство и обвенчалась с папой на квартире у немецкого пастора. Это совершилось в апреле 1914 года, в десятую годовщину их подлинной женитьбы. Мама рассказывала мне потом, что когда через год она стала ходить с нами в русскую церковь, ее взяла такая тоска из-за невозможности говеть вместе с нами, что она решила снова принять православие. По этому делу и приходил к нам отец Константин. Не могла же она всего этого мне тогда рассказать!..
Прогулки по Москве
Огромное место в нашей детской жизни занимали прогулки. Пока мы были маленькие, с нами всегда гуляла мама. Тогда мы часто ходили по переулкам. Когда же мы подросли, то стали гулять уже одни, и большей частью на нашем дворе и в саду. Помню, в ранние годы несколько прогулок по улицам. Должно быть, самое раннее воспоминание такое: всей семьей мы идем по Никольскому переулку в сторону дома. На углу Сивцева Вражка я вижу извозчика и начинаю просить папу и маму нанять его. Я плачу и говорю: "Не могу же я всю Москву пешком пройти!", а они вместе с Сережей смеются.
Помню, как однажды мама взяла меня на Вербный торг, который ежегодно бывал на Красной площади в Вербное воскресенье. Почему-то мы отправились втроем: мама, я и наша вторая фрейлейн, которой очень хотелось увидеть торг. Помню только то, что нас вез на Красную площадь старенький извозчик на белой лошади, который был совершенно пьян. Потом мы затесались в огромной толпе, сплошной стеной заполнявшей Красную площадь. Я ничего не видела, кроме булыжников мостовой и человеческих ног. И почему-то все время шло волнение из-за пьяного извозчика. А с Вербного торга, как всегда, дарили "морских жителей" — стеклян-ных чертиков, сидевших в стеклянной трубочке, наполненной какой-то цветной жидкостью. Когда эта трубочка согревалась в руке, чертик начинал прыгать вверх и вниз. Один такой "морской житель" много лет жил у нас на камине. Мы его очень любили и часто забавлялись им.
Пока мы жили во флигеле, мама постоянно водила нас гулять по окрестным переулкам. Мы любили ходить в Обухов переулок, где на одном из домов были скульптурные фигурки голень-ких мальчиков, один из которых, приподнявшись на цыпочки, заглядывал в окно. В этом же переулке на окне подвального этажа какого-то дома долгое время стоял большой игрушечный пароход, как магнит притягивавший к себе Сережу. Часто мы ходили по Гагаринскому переулку до Пречистенского бульвара. Нижняя часть этого переулка, примыкавшая к бульвару, казалась мне очень далекой от дома и почему-то слегка таинственной. А папа иногда водил нас на высокую сторону Пречистенского бульвара, и мы прохаживались с ним там вдоль по тротуару. Как и все, что освещалось личностью папы, эта сторона бульвара приобрела особые качества, стала в моих глазах особенно красивой и чем-то значительной. Это отношение к ней отчасти осталось у меня на всю жизнь.
Иногда мы ходили с мамой в Кремль, смотреть Царь-колокол и Царь-пушку. Нам очень нравились эти путешествия. Я хорошо помню свое впечатление от Царя-пушки и Царя-колокола. Но от самого Кремля помню главным образом ощущение широких просторов площадей. Помню тоже полосатые будки с часовыми. Однажды на такой прогулке, когда пала был с нами, я спросила его: "А как же часовой может всегда стоять в этой будке?" Папа ответил: "Так и стоит". Этот вопрос был очень характерен для меня. В другой раз, тоже на улице, я спросила папу, куда он бросит окурок, когда кончит курить папиросу. Он сказал, что зайдет в ближайший посудный магазин, купит себе пепельницу и положит в нее окурок.
В Кремле мама покупала нам просвирки в окошечке Чудова монастыря, за которым сидел продававший их монах. Это тоже было очень интересно.
Очень любили мы, и в раннем детстве, и позже, ходить к храму Христа Спасителя. Там были тогда красивые скверы и ступени, ведшие к Москва-реке. Иногда мы заходили в храм, всегда открытый. Внутри меня поражало огромное изображение Бога в куполе, а также гудящие звуки службы, всегда почти шедшей в одном из многочисленных приделов храма и разносивше-йся по всему зданию. А однажды на ступеньках храма Спасителя мы увидели двух мальчиков-китайчат, которые занимались тем, что щелкали насекомых у себя на зубах. Я пришла в ужас от этого зрелища; тогда я впервые узнала, что у людей на теле бывают паразиты.
Прогулки по Гагаринскому переулку дали нам одно знакомство. На углу Гагаринского и Никольского переулков находилась частная лечебница доктора Чегодаева. У этого доктора было двое детей — девочка Кира нашего возраста и маленький сынишка, которого возили в колясочке. Они гуляли с няней. Мама познакомилась с ними, и мы часто ходили по переулкам вместе и болтали с Кирой.
Ходили мы и на Арбат. Нас постоянно притягивал к себе писчебумажный и игрушечный магазин "Надежда".
Там мы покупали себе самые разнообразные сокровища — переснимательные картинки, картинки для наклеивания, краски и т. д. Пока мы были маленькими, наши родители, боясь инфекций, не разрешали нам входить в магазины. Тогда для нас покупала мама, а мы стояли возле дверей на тротуаре и ждали. Из всех магазинов нам разре-шали входить в молочный магазин Чичкина, который находился на углу Староконюшенного и Гагаринского переулков. Хорошо помню сияющую чистоту этого магазина, стены которого обложены были белыми и голубыми кафелями. Ходили мы иногда в магазин Скорохода на Арбате (помещавшийся тогда против Кривоарбатского переулка) покупать себе обувь.
Часто приходилось нам бывать в Серебряном переулке у зубного врача Александры Александровны Милови-довой. К ней меня водила мама чуть ли не с трех лет, и потом я ходила к ней в течение всей жизни до 30-х годов, когда она умерла от рака печени. В центре города нам приходилось бывать очень редко и только по делам — с дедушкой в фотографиях, в магазинах готового платья и т. д. Дважды были мы и в театре.
Первый раз я была в театре зимой, должно быть, 1915 года, на Театральной площади, где тогда в здании слева от Большого театра находилась опера Зимина. Мама взяла нас на оперу Глинки "Жизнь за царя". Сидели мы в бельэтаже. Опера мне очень понравилась. Особенно запомнила я ту сцену, где Ваня поет перед городскими воротами. Но хорошо помню и другие сцены — в избе с Антонидой, в лесу с Иваном Сусаниным. Помнится, что я, несмотря на свои восемь лет, хорошо почувствовала героизм и задушевность замечательной оперы. Несколько позже смотрели мы в Художественном театре "Синюю птицу". Этот спектакль произвел на меня сильнейшее впечатление. Его сказочность, поэтичность, прелесть замечательной постановки, все это охватило меня и унесло прочь от действительности в мир очаровательной мечты. С первой минуты, когда только открылся занавес и мы Увидели полутемную комнату и двух ребятишек в ночных Рубашках, прильнувших к зимнему окну, я подпала под обаяние волшебства этой сказки. Потом, когда в темноте начали оживать предметы и вся комната наполнилась звуками и движениями, это чувство усилилось. Поразила меня та сцена, где Тильтиль и Митиль попадают в страну неродившихся душ. Впечатление от "Синей птицы" оставалось долго живым. Но и "Ивана Сусанина" мы хорошо помнили. Как-то нам подарили картонный театр с декорациями и фигурками этой оперы; мы часто занимались им, вспоминая виденное в театре.
Раз или два в год, обыкновенно весной и осенью, ходили мы всей семьей в зоопарк. Папа затевал это путешествие и водил нас туда сам. Ходили мы, помнится, из дому пешком. В зоопар-ке у нас были излюбленные уголки и знакомые звери, которых мы всяческий раз встречали как своих друзей. Тогда разрешалось кормить животных. Мы покупали булки и давали некоторым. А был там один козел, наш старый приятель, который охотно уплетал набитые табаком гильзы. Хорошо помню, как мы ходили на квартиру к сторожихе, у которой выкармливались тигрята и львята, почему-то отнятые от своих матерей. Помню грязноватую, полутемную каморку и царственных котят в тряпье на кровати у сторожихи. У папы была палка, с которой он обычно ходил. Как всегда, он что-нибудь придумывал неожиданное и яркое, так и тут он придумал давать всем зверям грызть свою палку. Ее глодали волки, лисы, медведи и другие звери в зоопарке и собаки повсюду. Конец ее был весь изгрызенный, и папа любил показывать и рассказывать о том, что кто только не оставил на этой палке следов своих зубов. Такая палка, чиненная еще при его жизни, до сих пор лежит где-то за шкафом.
С зоопарком связано у меня два воспоминания, одно мрачное, а другое смешное. В одно из наших посещений мы увидели там на свободной площадке большую юрту самоедов (теперь — ненцы). В ней помещалась семья — отец, мать и дети. Их выставили для обозрения публики наряду со зверями. Я все сразу поняла и оценила как следует. Никогда не забуду злобных и мрачных лиц этих людей.
Другое, веселое воспоминание, вот какое. Мы с мамой (папы не помню) долго стояли возле большой клетки с мартышками. Вокруг толпилось много людей. Среди них находилась одна разодетая барыня, державшая в руках шелковый ридикюль, которые тогда были в моде. Дама эта стояла очень близко к решетке, и одна из мартышек, изловчившись, как-то сумела выхватить у нее из рук ридикюль.
Сделала она это с молниеносной быстротой и тут же взлетела на верхушку дерева, находив-шегося в клетке. Дама разбушевалась, набросилась на сторожа, но тот весьма спокойно ответил ей, что она сама виновата в том, что подошла слишком близко к клетке, а теперь он ничего не может поделать. Между тем мартышка, кривляясь и дразня публику, разбиралась в ридикюле. Медленно вытаскивала она один за другим все находившиеся в нем предметы и производила над ними различные манипуляции. При этом она знала назначение некоторых предметов, так как, например, пуховкой она попудрила себе нос. Затем она вытащила носовой платок, который долго и сосредоточенно разрывала на мелкие клочки. Нашла конфету в бумажке, развернула и съела. Потом стала рвать самый ридикюль. Ужимки ее были так уморительны, что вся публика, и мы в том числе, буквально умирали со смеху. Одна только владелица ридикюля бесилась. Но, кажется, симпатии всех присутствующих были не на ее стороне.
На террасе, выходившей в сад из квартиры Котлярев-ских, постоянно сидела мать Лили и Поленькиной мамы — чопорная и строгая старуха Ольга Павловна Орлова, которую мы побаивались. Урожденная Кривцова (по матери Раевская), невестка знаменитого Михаила Федоровича Орлова, бравшего Париж, она являлась живой носительницей традиций высшей русской аристократии XIX века. Умная и властная, презиравшая всех ниже ее стоявших людей, она не одобряла демократических вкусов своих дочерей. В частности, она терпеть не могла моего отца, считая его виновником многих, с ее точки зрения пагубных увлечений ее дочери Лили. Родным языком для Ольги Павловны служил французский. С террасы постоянно доносились до нас звуки изысканной французской речи. К Ольге Павловне приходили в гости разные аристократические старушки (хорошо помню низенькую, вросшую в землю старуху — графиню Татищеву), с которыми она подолгу сидела на террасе, ведя длинные французские беседы.
После революции, когда Котляревские переехали в нижнюю квартиру нашего дома, Ольга Павловна стала проводить многие часы на другой террасе, под окнами нашей квартиры. Под журчанье французской речи, доносившейся снизу в летние дни, прошли мои первые юные годы. Ольга Павловна умерла в 1926 году в глубокой старости, когда мне шел уже девятнадцатый год.
Настоящей душой сада, двора и дома — всего, что окружало нас тогда и что составляло значительную часть нашей детской жизни, была Лили замечательный, редкий человек, к которой мы относились как к одной из основ нашего существования. Она так просто и естест-венно отдавала богатство своей души окружающим ее людям, что и они принимали его просто и даже почти без благодарности, как что-то им по праву принадлежащее. А больше всего давала она нам, всей нашей семье, начиная с папы, которого она любила, я думаю, сильнее всех людей на земле, и кончая мной и Сережей. Она была нашим добрым гением в течение длинного ряда лет, с момента своей первой встречи с моим отцом в 1901 году и до тех пор, пока потеряла все, что имела, и состарилась. Но и тогда ее присутствие в нашей жизни неизменно давало нам радость и было для нас бесконечно дорогим.
Лили
Лили, Елизавета Николаевна Орлова, родилась в 1861 году и была старшим ребенком в высоко аристократической семье Орловых. Отец ее был сыном Михаила Федоровича Орлова, который был женат на одной из дочерей пушкинского Раевского — Екатерине. Мать была дочерью Павла Кривцова (брата декабриста Кривцова), в течение ряда лет бывшего руководите-лем колонии русских художников в Риме, и Репниной, сестра которой была дружна с Гоголем и Шевченко. Родители матери Лили умерли рано, и ее растила эта тетка Репнина, к которой Лили относилась как к родной бабушке. Ее архивы она впоследствии отдала моему пале, и он печатал их в "Русских Пропилеях". На основе этих архивов написана также папина книга о братьях Кривцовых. Кроме Лили, в семье был еще сын Михаил, умерший неженатым в 1906 году, и дочь Екатерина, которая получила в Париже образование врача и вышла замуж за профессора СА.Котляревского (мать Поленьки).
Орловы были очень богаты. Во время детства Лили они владели, кажется, тремя имениями: орловским имением (перешедшим к ним от их прямого предка Ломоносова) Рудицей, имением Отрадино в Саратовской губернии и еще одним, как будто называвшимся Рельевкой, но на моей памяти уже проданным. В детстве Лили получала типично аристократическое воспитание. Учили ее нескольким языкам (французский и английский она знала в совершенстве, по-немецки и итальянски хотя и слабее, но все же свободно говорила). Родилась она в Париже и в детские годы много жила за границей. Когда она стала барышней, ее начали вводить в светское общество и вывозить на балы. Однако ей сразу же это времяпрепровождение показалось настолько противным, что она решительно отказалась вести принятый для девушек ее круга образ жизни.
С ранней молодости ее мучили мысли о несправедливости ее обладания богатством и о необходимости отдавать его нуждающимся людям. Она не стала революционеркой, но начала все свои силы и время посвящать делам благотворительности. В этой своей деятельности она отличалась от других аристократок-благотворительниц тем, что обладала действительно демократическими взглядами, не ставила себя выше людей из народа и не боялась труда. Она развила большую организационную работу, прежде всего занявшись вывозом за город детей московской бедноты.
Первые в России летние колонии для детей были созданы ею; в течение целого ряда лет она снимала под Москвой (а потом и у Балтийского моря) дачи, куда вывозили ребятишек из самых нуждающихся семейств.
Интересно упомянуть о трагическом происшествии, случившемся во время существования первой такой колонии. Тогда утонули в реке сразу три девочки. Растерявшаяся воспитательница, которая ходила с детьми купаться, не сумела организовать их спасения. Для того чтобы новое дело летних колоний нашло себе поддержку у тогдашних властей и снискало доверие у народа, Лили пришлось предварительно немало поработать. После этой трагедии, казалось, все достигнутое должно разрушиться. Однако энергия и вера в необходимость и важность начатого заставили Лили продолжать борьбу. Ей удалось и на следующее лето заполучить детей в колонию, а в дальнейшем не было отбоя от людей, желающих послать туда своих ребят.
Кажется, в 1901 года она повезла детей в Финляндию на Балтийское море. Туда ездил погостить на некоторое время мой папа (в Куоккала). Он был в восхищении и от того, как поставлена колония, и особенно от ребят, с которыми не расставался ни на минуту. Он хорошо умел овладевать сердцами детей, и тут они от него не отлипали. Сколько раз потом слышала я его и Лили рассказы об его двух любимцах в этой колонии — Оле Соскиной и мальчике (забыла его имя). Перед папиным отъездом весь коллектив колонии сфотографировался на память. У нас хранится такая карточка — группа, в центре которой сидит папа с прильнувшими к нему с двух сторон мальчиком и девочкой. А уехав из колонии, он писал Лили о том, как беспрестанно мысленно возвращается в колонию к своим любимцам, снова идет с ними к морю, слышит сосновый запах, видит веселые ребячьи лица.
Кроме колоний, Лили затеяла еще одно замечательное дело — "Комиссию домашнего чтения". Целью этой комиссии, к участию в которой она привлекла целый ряд крупных ученых из разных областей знания, была помощь простым, неимущим людям, желающим получить образование и не имеющим возможности поступить в учебные заведения. Были составлены программы и списки литературы, которые рассылались в самые отдаленные уголки России. На предложения комиссии откликнулось множество людей из деревень и городов. Со всех концов России потекли целые потоки писем от людей, жаждущих знаний. Им высылались требуемые книги, программы, давались письменные консультации. Именно в этой комиссии Лили познако-милась с папой, который участвовал в работе исторической секции. Это произошло зимой 1901 года.
Сохранилось несколько их писем, относящихся к периоду первого знакомства. Сейчас эти письма, как и остальные, писанные за всю их жизнь, находятся у меня. Лили отдала их маме после папиной смерти. По этим первым письмам видно, что в начале их знакомства был какой-то момент не простых отношений, близких к влюбленности, в одном из папиных писем Лили даже вырезала несколько строк. Думаю, что это было в период одного из папиных разрывов с мамой, неоднократно повторявшихся на протяжении их многолетнего трудного романа. Такой оттенок отношений, по-видимому, был с папиной стороны совершенно мимолетным (если только он вообще был).
Со стороны же Лили на всю жизнь осталось редкое по глубине, чистоте и бескорыстию чувство. Ее наивная, почти детская душевная чистота проявлялась по отношению к папе с самых первых дней. Очень скоро после того, как они познакомились, папа попросил Лили помочь одной его знакомой девушке устроиться учительницей в городскую школу. Речь шла о моей маме. Лили сама пошла к ней. Она рассказывала мне, что при первом взгляде на маму была очарована ею и тут же все поняла. То, что мама была папиной невестой, не только не оттолкнуло Лили от нее, а, наоборот, заставило отнестись с особенным вниманием и лаской. Несколько позже, когда в отношениях папы и мамы наступили какие-то осложнения и они чуть не разошлись. Лили употребила все усилия на то, чтобы их вновь соединить. Она ходила от одного к Другому, носила их письма и т. д. А когда они поженились и уехали весной 1904 года в Петербург и оттуда к морю — в Гунгербург, Лили приехала к ним туда.
Мама рассказывала мне, что, когда к ним в Гунгербург пришло письмо от Лили с известием о том, что она приезжает, ей в первую минуту стало неприятно, что во время их свадебного путешествия приедет влюбленная в папу женщина. Однако это чувство исчезло в ту самую минуту, как Лили, приехав со станции, вошла к ним в комнату, и исчезло навсегда, на всю их дальнейшую длинную совместную жизнь. Лили полюбила маму как родную сестру, делила с нашими родителями все их горести и радости, вместе с ними воспитывала их детей, старалась помогать им материально в периоды самой острой нужды.
Как мне хочется запечатлеть в своих записках ее образ, сделать так, чтобы остался след от ее существования, доставлявшего окружавшим ее людям столько радости! Все те слова, которые я ищу дня этого, непременно окажутся недостаточными и неспособными передать настоящий аромат ее личности.
Внешне Лили была совсем некрасивой. Смолоду полная, к зрелому возрасту она стала очень толстой. У нее были маленькие глаза и мясистый нос; широкая мужская рука с квадратны-ми, как будто обрубленными пальцами. Она имела плохую привычку задирать заусенцы около ногтей, и потому ее пальцы постоянно были ободранными.
Одевалась Лили просто и деловито. Почти всегда носила костюмы и блузки со стоячими воротничками. Широкие юбки ее доходили до самого пола. С этими юбками у меня связано одно смешное воспоминание. Когда Лили отправлялась в дорогу, она надевала под платье нижнюю юбку с карманом, в который клала деньги. Если нужно было достать деньги, она, ничуть не смущаясь присутствием посторонних людей, подбирала кверху верхнюю юбку и лезла в этот карман. Папа каждый раз приходил в негодование от этого ее жеста, говоря ей, что она не может себе представить, какое дикое впечатление это должно производить на чужих мужчин. Она смеялась и продолжала делать по-своему.
Между прочим, этот факт был для нее весьма характерным. Она совершенно не интересовалась тем, что о ней могут подумать люди, и в своих поступках никогда не считалась с этим. Ей присуща была поистине детская непосредственность. Поэтому она часто делала то, что могло показаться неловким другим. Если ей нравилось личико ребенка, она могла бесцеременно и как будто совсем некстати заговорить с его родителями и вмешаться в их дела. Могла обратиться с какой-нибудь настоятельной просьбой к соседям в поезде или к прохожим на улице, если ей что-нибудь хотелось или было нужно. При этом ехавшие или шедшие с нею близкие люди испытывали неловкость, а ей даже в голову не приходило ничего подобного.
Помню один из таких случаев. Когда осенью 1923 года мы всей семьей, и с нами Лили, уезжали из Баденвейле-ра, провожавшие нас друзья поднесли маме, Лили и мне по букету роз. Мы с мамой положили свои букеты вместе с вещами. Лили же, потребовав у проводника какой-то сосуд, водрузила свой букет на столике. Огромный букет не только занял весь столик, но при первом же толчке поезда перевесил маленькую баночку из-под консервов и опрокинулся на колени сидевшего возле окна молодого немца в элегантном сером костюме. Вода вся вылилась ему на колени, что вызвало его крайнее, правда — внешне корректное, негодование. Нам всем было очень неловко; Лили же ничуть не смутилась и только стала нескладно помогать соседу вытирать брюки.
Самым привлекательным свойством Лили было умение полностью отдаваться радостным впечатлениям от жизни. Она наслаждалась больше всего природой, детьми, цветами, животны-ми, купаньем, но также наслаждаясь возвышенными разговорами умных людей у нас за столом. Все это она воспринимала с полной, ничем не омраченной непосредственностью, без всякой рефлексии или оглядки. Поэтому особенно приятно было доставлять ей радость, даже такую незначительную, как угощение чем-нибудь вкусным (она очень любила пробовать новые кушанья). Поэтому же с ней так хорошо было детям. Когда она чем-нибудь занималась вместе с детьми, ее отношение к тому, что делалось, было таким же самым, как у них; и детям от этого было с ней легко и просто.
Лили сохраняла это драгоценное качество до конца своей жизни. Старенькая и слабая, приезжая к нам на Николину Гору, она по-прежнему во всякую погоду ходила купаться и радовалась каждой встреченной зверушке. В общении с природой ей много помогало рисование.
В юности она некоторое время посещала классы Училища живописи, ваяния и зодчества и была полупрофессиональным художником — неплохо писала с натуры маслом и акварелью пейзажи и цветы.
Особенно любила Лили животных. Она к ним относилась как к равным себе, с величайшим уважением и без малейшей брезгливости. Могла целоваться с собаками и кошками, есть с ними вместе из одной посуды. В молодости у нее постоянно бывали любимые собаки, о которых она потом помнила и рассказывала всю жизнь. Когда мой папа женился, у него была собака сеттер-гордон Зорька. Лили с ней постоянно возилась. Папа сердился, когда она начинала целовать Зорьку, говорил о том, что от собак можно заразиться эхинококком. Лили продолжала свое и, лаская Зорьку, только приговаривала: "Эхинококк ты этакий!".
На моей памяти Лили тоже всегда имела около себя живые существа. Помню, как она устроила у себя в кабинете огромную клетку во все окно. В клетку посадили десятка полтора мелких певчих птичек. Там были щеглы, чижи, зяблики, малиновки и т. д. Только синиц пришлось посадить отдельно, потому что они нападали на других птиц. Мы постоянно подолгу стояли около этой клетки, глядя на птичек и слушая их щебетанье. Под конец жизни много лет у Лили жил кот Лапка, огромный, полосатый, некрасивый, на высоких лапах. Его она котенком привезла из Крыма в Москву. Он спал с ней вместе, сидел на столе возле ее тарелки, когда она ела, и едва ли сам не ел из этой же тарелки.
Квартира Лили была вся наполнена цветами. Ей недостаточно было того, что на каждом подоконнике стояло по нескольку горшков с цветами. Она устроила еще тепличку — миниатюр-ный зимний садик, где разводила разные редкие растения. Она там подолгу возилась в своем большом полосатом фартуке с железным совком в руках. От нее и мы постоянно получали цветы, и она учила нас тому, как за ними ухаживать.
Дружба с папой укрепила Лили в ее убеждениях. Он постоянно говорил ей о преступной природе богатства, о несправедливости жизни людей ее круга. Вероятно, не без его влияния она решила взять на воспитание группу девочек-сирот. Это произошло в 1902 году. Она обратилась в городские приюты с просьбой отобрать ей самых одиноких и бедных девочек. При выборе детей она руководствовалась только этим одним мотивом, совершенно игнорируя свои личные вкусы или симпатии. Так подобралось человек 12. Почти все эти девочки были круглые сироты. Помню сестер Настю и Маню Солдаткиных, Ольгу большую и Ольгу маленькую. Маню большую, Женю с уродливыми пальцами, Лелю Воронцову, Липу большую и Липу маленькую, Наташу, Любу. Это было основное ядро девочек, проживших у Лили до окончания гимназии. Кроме них, время от времени появлялись еще девочки, жившие недолго, почему-либо не прижившиеся. У некоторых были интересные истории.
Самая хорошенькая и симпатичная из девочек, брюнетка с тонким лицом Леля Воронцова, к тому же очень музыкальная, рано потеряла мать, но имела отца. Отец этот после смерти жены бросил своих четверых детей и пошел странствовать по святым местам. Лелю поместили в приют. Ее крошечную сестренку взяли на воспитание какие-то люди, и Леля ее навсегда потеряла из виду. А два брата стали воришками на Хитровом рынке. Один из них вскоре погиб от какой-то болезни. А другой подростком и все еще вором ходил навещать Лелю, когда она жила уже у Лили. Лили помогла ему бросить воровство и выбиться в люди. Он, кажется, жив до сих пор, имеет какую-то специальность и семью и всю жизнь близок с Лелей. Леля же окончила училище Гнесиных и стала музыкальным педагогом.
Я хорошо помню уклад жизни в квартире Лили, когда у нее жили девочки, на моей памяти уже почти взрослые гимназистки. Они жили в трех спальнях, одной большой, на первом этаже, и двух маленьких на втором, где была и спальня Лили. Внизу, кроме того, располагались три большие комнаты столовая, библиотека и кабинет Лили, все выходившие окнами в сад. А в библиотеке была дверь в сад, на террасу.
Папа упрекал Лили в том, что она сама занимает три лучшие, большие комнаты, в то время как у девочек кровати стоят близко одна возле другой. "Вы все же относитесь к Вашим девоч-кам, как к кухаркиным дочкам", говорил он при этом. Не знаю, насколько он был прав. Мне кажется, что девочкам жилось у Лили хорошо и отношения у них с ней были простые и естест-венные. Все они ее очень любили, а некоторые — Леля, Ольга маленькая, Настя, Женя, Липа большая — просто обожали и были с ней особенно близки.
Когда, в начале революции, стали выселять из домов их владельцев и лишать бывших бога-чей прав, девочки, некоторые из которых занимали к тому времени ответственные должности и были членами партии, подали бумагу в правительство; Лили больше не беспокоили, а впослед-ствии ей еще дали пенсию, которую она получала до конца жизни.
Хорошо помню я толстую, уютную кухарку Лили Аннушку, прожившую у нее много лет, и милую, черноглазую горничную Настю, с которой я дружила.
Помню, как однажды нас позвали вниз смотреть шарады в постановке девочек. Я запомнила только шараду-шутку "Стихотворение", где показан был капризный младенец, который "стих от варенья". Мне показалось это тогда ужасно смешным и остроумным.
Квартира Лили привлекала нас теми красивыми вещами, которыми она была полна. В комнатах стояла прекрасная старинная мебель, на стенах висели фамильные портреты в золотых рамах. Думается, что большинство вещей, в первую очередь мебель и фарфор, относились даже не к XIX, а еще к XVIII веку.
Лили была очень привязана к вещам — это было единственным свойством, связывавшим ее с ее сословием. Но она любила вещи не за их ценность, а за их принадлежность к семье, как память о прошлом и о дорогих ей людях. Она относилась к вещам, как к живым существам. Многие из них ей были дороги по тем памятным событиям, с которыми они были связаны, и она рассказывала нам об этих событиях целые истории. А для нас было истинным наслаждением рассматривать разные сокровища Лили.
Помню, как в одну из зим она болела воспалением легких и долго лежала в своей спальне. Мы несколько раз ходили ее туда навещать. Это была прелестная большая комната с балконом, оклеенная такими же обоями, как наша детская. Когда мы приходили, Лили позволяла нам залезать в один из ящиков ее туалетного комода, где лежали разные мелкие безделушки, и рассматривать их. Как хорошо я помню эти часы! Мы навещали больную Лили по вечерам. В комнате было полутемно, только на столике возле кровати горела лампа. Мы вытаскивали ящик и ставили его к Лили на постель. С упоением разглядывали мы вещицу за вещицей, а Лили наслаждалась нашей радостью и своими воспоминаниями, о которых с увлечением нам рассказывала. Чего только не содержал в себе этот узенький ящик! Какие-то мелкие фигурки из слоновой кости, дерева и металла, статуэтки зверей, крошечные чашечки, изящные коробочки всех сортов и размеров, карандаши, пуговицы. Наши маленькие пальчики перебирали все эти сокровища, хватали то одно, то другое. Потом мы начинали рассматривать разноцветные тряпочки, картинки, альбомы с рисунками Лили и Ольги Павловны, открытки. Мама буквально силком уводила нас домой ужинать или спать.
Лили вообще болела редко, у нее, как и у всех Орловых, был могучий организм. Но воспаление легких повторялось у нее несколько раз и она была подвержена сильным кашлям, которые обычно привязывались к ней зимой. К вопросам здоровья она относилась крайне легкомысленно, никогда не лечилась и не обращала внимания на свои недомогания. Также относились к этому ее мать и сестра. И им все сходило с рук, так как у них было действительно железное здоровье. Они нисколько не боялись ни заразы, ни простуды, ни желудочных заболе-ваний. По этому поводу можно рассказать о Лили два случая.
Один произошел еще до моего рождения, когда Сережа был грудной. Лили жила тогда на Садовой. Как-то летом или осенью 1906 года утром к маме пришли от нее с известием, что она серьезно заболела — у нее острое желудочное заболевание с высокой температурой и рвотой. Мама в течение дня не могла отойти от Сережи, а вечером, когда он заснул, пошла проведать Лили. Когда она вошла к ней в квартиру, то застала следующую картину: девочки сидят за ужином и едят окрошку и Лили сидит с ними и тоже ест окрошку. Мама пришла в ужас, а Лили смеялась, говоря, что у нее все прошло.
Другой случай был на моей памяти. Встав с постели после воспаления легких, в апреле-месяце, Лили вымыла голову и уселась на балконе на резком весеннем ветру сушить ее. И тут мама опять вмешалась, но снова встретила только смех.
Для нас, в детстве и потом, в течение всей остальной жизни, огромное значение имело то, что Лили была художницей. Она не только училась рисованию и сама хорошо работала как живописец, но смолоду, параллельно со своей широкой общественной деятельностью, активно участвовала в передовой художественной жизни России. Она была дружна с Серовым и другими художниками. У нее было много книг по искусству и репродукций; она всегда жила интересами искусства и постоянно, всегда и всюду, рисовала или писала красками. Это прошло через всю ее жизнь, до самой старости. Уже в 30-х годах, в последние годы жизни, она участвовала на одной из выставок женщин-художниц, устраивавшихся в Москве. Несколько раньше, в 20-е годы, она преподавала рисование в студии. Она и до конца жизни давала частные уроки детям. Через Лили получила я свое первое прикосновение к искусству. Она своими занятиями с нами и разговорами направляла наши мысли на искусство, на представление о прекрасном; это сливалось у нас, как и у нее самой, в одно целое с любовью к природе, к цветам, животным и птицам.
Душевная чистота и благородство Лили были причиной того, что она стоически перенесла потерю своего большого состояния в 1917 году. Я не помню с ее стороны ни одной жалобы, никакого озлобления. В первые годы советской власти она некоторое время служила в тогдашнем управлении по делам искусства, а потом до смерти давала уроки рисования и языков детям.
Когда начались уплотнения, ей пришлось переехать в одну комнату в нашу квартиру, в то время как Котлярев-ские переехали из розового дома в наш дом, в ее нижнюю квартиру. Последние 12–15 лет она прожила вместе со своей приятельницей Натальей Владимировной Корсаковой да еще с котом Лапкой.
Многие годы, уже после папиной смерти и смерти своей матери, она доживала свою жизнь, по-прежнему возясь с детьми, с животными и цветами. Почти каждый вечер проводила она у нас, с мамой и со мной, сидя за нашим чайным столом. Похудевшая и старая, но все с теми же милыми для нас чертами лица, манерой говорить и двигаться, она приходила и сидела, держа нашего серого кота на коленях. Обычно она приносила с собой какую-нибудь работу, большей частью чинку, и целыми часами терпеливо штопала чулки или клала заплатки на свои старенькие рубашки.
Умерла Лили летом 1940 года, незадолго до маминой смерти, от рака легкого, 79 лет от роду. Умирала она мучительно и долго, болела целых полгода. Помню, как горько и безутешно плакала на ее похоронах моя мама, сама обреченная, больная той же страшной болезнью. А в моей жизни образовалась еще одна брешь, которую, как и первую, никогда и ничем уже нельзя было заполнить.
В Одессе у дяди Бумы
Единственное лето, которое мы провели в разлуке с Лили, было лето 1913 года, когда мы по приглашению дяди Бумы прожили вместе с ними под Одессой на даче, на Большом Фонтане. Мне было тогда пять лет. Но я помню это лето во всех подробностях, со всей обстановкой жизни и всеми событиями.
Как всегда, так и в тот год, первым предвестником весны и дачной жизни для нас был тот день, когда мама вытаскивала из большого, стоявшего в передней, сундука наши летние платьица и костюмчики и примеривала их на нас, чтобы выяснить, что мы еще можем носить, а из чего уже выросли. Самый запах нафталина, которым пахли платья, всегда волновал меня; сердце радостно сжималось от мыслей о лете, о путешествии и удовольствиях дачной жизни.
Дачи Большого Фонтана где мы жили, были расположены вдоль сада или, вернее, парка, по обеим сторонам длинной, обсаженной деревьями и цветами дороги. Та дача, где жила семья дяди Бумы, была последней в одном конце сада, наша — предпоследней с другого конца. Чтобы дойти от нас до дачи дяди Бумы, надо было несколько минут (вероятно, это было около полукилометра) идти мимо 10–12 дач, выступавших справа и слева из-за деревьев. По краям дороги и вокруг участков тянулись газоны, усаженные цветами. Эти цветы и деревья были нам неизвестные, южные. Хорошо помню из цветов резеду и перуньи. Там же мы познакомились с прелестными "кручеными панычами" разноцветными вьюнками, нежными и изящными. Они особенно нравились папе. Он вместе с нами собрал в коробочку целый запас черненьких семян "крученых панычей", который мы привезли в Москву. Много лет потом росли они у нас в горшках и папа на них радовался.
Это было единственное время в моей жизни, когда я чувствовала себя с чужими людьми вполне свободно и уверенно. Постоянно одна уходила из дома и ходила по дачам. Меня знали все дачники и все очень любили затаскивать к себе, ласкали и забавлялись мною. В это лето я была особенно веселая и очень много шалила. Меня легко было подбить на любое, самое безрассудное предприятие, на любую шалость и глупость.
С одной моей шалостью того лета связано воспоминание о редчайшем в нашей семье случае обмана. Наш отец больше всего требовал от своих детей правдивости. Малейшее проявление нечестности вызывало с его стороны неудержимую вспышку гнева, которой мы ужасно боялись. Зачем мне понадобилось сделать то, что я тогда сделала, совершенно не знаю. Я взяла и открыла в саду водопроводный кран, из которого брали воду для поливки цветов. Натекла большая лужа, дорожка неподалеку от нашего дома стала совсем мокрой. Мою проделку видел брат Миша. Когда папа стал спрашивать нас о том, кто открыл кран, я заявила, что это не я. Миша выдал меня, и на мою голову обрушилась вся сила папиного гнева.
В связи с этим происшествием мне вспоминаются еще два аналогичных случая из моей детской жизни. Один из них относится к самым ранним годам, когда я была крошкой не более 2 с половиной лет. Дело происходило на даче, в Силламягах. Раз вечером мамы почему-то не было дома и папа поил нас на ночь молоком. Когда мама пришла, она спросила нас, пили ли мы уже молоко. Должно быть, мне хотелось еще молока, так как я, не смущаясь тем, что папа находился в соседней комнате и дверь была открыта, заявила, что мы молока еще не пили. Несмотря на мой чрезвычайно юный возраст, папа ужасно рассердился на меня за эту ложь; тогда впервые в мое сознание проникло яркое представление о честности, занявшее в нем прочное место на всю мою дальнейшую жизнь.
Второй случай произошел значительно позже, когда мне было уже лет 8–9. Папа часто просил нас разрезать новые книги. Один раз он дал мне разрезать толстый том Фукидида в издании Сабашникова. Был ли нож слишком тупым, а бумага толстой или же я небрежно разрезала, только помню, что края страниц получились у меня неровные, а местами совсем рваные. Почему-то я не остановилась, увидев свою неудачу, а продолжала резать до конца и испортила таким образом всю книжку. Когда дело было сделано, я ничего не сказала папе, закрыла книгу и положила ее на место. Папа скоро обнаружил мое преступление. Он так рассердился на меня, как, кажется, ни до, ни после этого не сердился. Его возмутила не столько моя неаккуратность, сколько тот факт, что я хотела скрыть то, что сделала. Помню, как он взял ножницы и целый вечер занимался тем, что обрезал края каждой страницы, выравнивая их. Он говорил при этом, что испытывает такое чувство, точно режет свое тело. Мои же ощущения были непередаваемы. Это было настоящее, неподдельное отчаяние, состояние полного ужаса перед собственной преступностью.
Одна из моих проделок того лета особенно ярко запечатлелась в моей памяти. Кроме своего городского приема больных детей, дядя Бума в определенные дни и часы вел прием и на даче. Как-то вечером, когда у него Шел такой прием, я решила его разыграть. Переодевшись в маль-чишечий наряд и подпихнув под Сережин картуз свою непокорную шевелюру, я отправилась к нему в качестве пациента. Он тотчас же сообразил, в чем дело, принял меня и довольно долго вел со мной серьезный разговор; а я ушла от него чрезвычайно гордая и уверенная в том, что он по-настоящему меня "не узнал".
Старший сын дяди Бумы Саша, подросток-гимназист, обращался с нами уже так, как взрослые обращаются с детьми. Помню, что мы любили тормошить его и он часто возился с нами. У него были жесткие, рыжеватые, торчащие кверху волосы. Как-то, когда он шел по дорожке сада, мы подкрались сзади и ухитрились положить ему на голову порядочный камень. Он продолжал невозмутимо идти вперед, а потом заявил нам, что волосы его удержали камень, даже не прогнувшись, и он не почувствовал его тяжести. Мы поверили этому. Потом в Москве я рассказывала о том, какие чудесные волосы у моего двоюродного брата.
Саша рассказывал нам про гимназические нравы, про то, как они доводят свою немку, про сложную систему шпаргалок. Про немку они распевали песенку: "Их бине дубина, полено, бревно, что Берта — скотина, все знают давно". А шпаргалки прикрепляли на резинках изнутри к манжетам и незаметно вытягивали, отвечая урок. Если учитель видел у руках у ученика бумажку и спрашивал, что это такое, ученик показывал пустые руки, так как шпаргалка на резинке убегала в рукав.
Все эти рассказы меня чрезвычайно занимали. Саша был в том периоде, когда мальчики все знают и не признают никаких авторитетов. На этой почве у него бывали частые стычки с отцом, а когда вмешивался мой папа, то Саша начинал азартно спорить, беспрестанно повторяя: "Дядя, ты не знаешь".
Бедный Саша, его жизнь оказалась такой короткой. Осенью 1917 года, едва дожив до своих двадцати лет, он скончался от брюшного тифа.
В это лето наши родители на одни сутки поехали в Кишинев, свой родной город, для того, чтобы вспомнить детство и снова увидеть знакомые места. Мама до этого времени уже тридцать лет не была в Кишиневе, из которого она уехала в возрасте десяти лет в 1883 году.
Папа же кончил в Кишиневе гимназию и потом в течение ряда лет ездил туда на каникулы. Они уехали из Одессы вечером, утром были в Кишиневе, провели в нем весь день и без ночевки следующим вечером выехали в Одессу. Эти две ночи с нами ночевала наша бабушка.
Мама часто потом вспоминала этот день, проведенный в Кишиневе, как один из самых сча-стливых дней в ее жизни. Должно быть, они оба сумели почувствовать себя там беззаботными, свободными и как будто снова влюбленными. В Кишиневе тогда было много роз, папа покупал их, и мама весь день ходила с букетом роз в руках. Они обошли все те дома, где оба жили в детстве. Кажется, даже входили в некоторые из них. В одном была молочная. Папе захотелось пройти путь от дома, в котором он жил в гимназические годы, до гимназии, однако он не сумел сразу найти дорогу, хотя некогда проделывал ее ежедневно в течение многих лет подряд. Его уверенно провела по этому пути мама, никогда не ходившая этой дорогой и уехавшая из Кишинева ребенком. Этот случай был для папы очень характерен. Он отличался тем, что совершенно не умел ориентироваться и чувствовать направление; в то время как мама обладала этим качеством в высокой степени. Я полностью унаследовала этот недостаток у папы; всю свою жизнь я отличаюсь тем, что могу заблудиться за любым углом незнакомой улицы и за первой сосной в лесу. Когда моей Машеньке было лет 5–6, я без страха уходила с ней гулять в лес, зная, что она всегда меня выведет на нужную дорогу. Без нее же я не решалась углубиться в лес и на 20 шагов.
Первая мировая
В 1914 году мы в последний раз ездили в Силламяги. И вот однажды утром к нам на террасу как сумасшедший вбежал Петрушевский с газетой в руках. На первой странице было напечатано известие о начале войны с Германией. Среди дачников распространилась тревога. Кроме общего волнения, вызванного объявлением войны, возникло беспокойство по поводу близости немецкой границы и необходимости быстрого отъезда из Силламяг. Я хорошо помню то гнетущее и, одновременно, возбуждающее ощущение, которое охватило тогда всех, и взрослых, и детей. Жизнь сразу точно оборвалась или перевернулась. Ее обычное течение остановилось. К нам на дачу ежеминутно прибегали знакомые У всех в руках были газеты. Передавались различные слухи, делались всяческие предположения. В течение некоторого времени, вероятно двух-трех дней, наши родители, вместе с другими, были охвачены мучительным колебанием по поводу того, следует ли сразу ехать или можно еще остаться. В даче у нас все время было много народу. Велись громкие разговоры. Наконец, решили ехать. Не помню того, как мы собирались, как укладывали вещи. Зато ярко запомнились мне три дня, проведенные в Петербурге.
Железная дорога, поезда и вокзалы уже были охвачены военной лихорадкой. Станции были запружены новобранцами (как их тогда называли). Помню, что не смотря на свои шесть лет, я великолепно понимала все, что происходило, и пребывала в недетски серьезном, напряженном настроении. Навсегда запали мне в душу раздирающие сцены прощания на вокзалах. Я видела на петербургском вокзале, как молодой высокий мужчина обнимал рыдающую жену и ребенка, как этого ребенка потом силой оторвали от отца. Эта картина поразила меня до глубины души и запомнилась на всю жизнь как первая увиденная мною сцена человеческого горя.
В Петербурге мы остановились в гостинице "Версаль". Очевидно, сразу выехать в Москву было нельзя. Кроме того, оказалось невозможным вести с собой весь наш довольно солидный багаж. Мама перепаковала наши корзины, отобрав все самое нужное и оставив остальное на квартире у сестры А.Н.Чеботаревской. Хорошо помню ночь в гостинице. В тесном номере я спала на одной постели с мамой. С вечера мама почувствовала себя плохо, у нее было что-то вроде сердечного припадка. Она долго не могла заснуть. И я не спала вместе с ней. Время от времени я потихоньку спрашивала: "Мама, ты очухалась?" Мама рассказывала потом, что, несмотря на плохое самочувствие и тяжелое настроение, вызванное страшными событиями, она не могла без улыбки слышать этот детский вопрос и ей понемногу становилось лучше.
Следующий день остался в моей памяти весь, длинный и утомительный. Родители наши ушли из гостиницы по делам, связанным с отъездом в Москву. Мы остались одни. Я сидела на открытом окне и смотрела вниз на площадь. Там находилась станция небольшого паровичка и происходила посадка уезжавших на фронт новобранцев. Весь день я наблюдала это зрелище и снова видела тяжелые картины расставания близких людей, которые сопровождались женским плачем и воплями. Когда вечером пришли папа с мамой, я ни о чем не могла говорить с ними, кроме как о том, что я видела днем, и все искала слов, чтобы выразить свои чувства и передать всю силу потрясших меня впечатлений.
Посадка на поезд была очень трудной. Смутно припоминается мне, что это происходило ночью, что перед этим мы с вечера долго сидели в зале ожидания, и мама уложила меня и Сережу спать на жестких диванах.
Лили уехала из Петербурга за день до нас. Но когда мы в Москве на извозчике въезжали в наш двор, с нами неожиданно столкнулся другой извозчик, на котором торжественно восседала Лили. Произошло это потому, что поезда, вышедшие из Петербурга в разные дни, прибыли в Москву в одно и то же время. Нам показалось это тогда очень забавным, и мы, т. е. дети, много смеялись из-за этого случая. Вряд ли взрослых могло тогда насмешить такое положение вещей.
Война 1914 года сравнительно слабо отразилась на укладе жизни московской интеллиген-ции. Только настроения стали иными и разговоры получили новое направление. Целыми вечерами, собираясь вместе, философы и писатели толковали о судьбах России и причинах мировых катаклизмов. Вероятно, эти разговоры были очень далеки от реальной жизни, во всяком случае от того, что переживали люди на фронте.
По этому поводу мама рассказала нам тогда следующий случаи. У Л.И.Шестова был старший незаконный сын, который воевал на фронте. Приехавши ненадолго в отпуск, он однажды вечером пошел вместе с отцом на очередную его встречу с друзьями (кажется, это было в доме Вяч. Иванова). Целый вечер юноша молча слушал отвлеченные суждения о войне. Вероятно, внутри у него накипал протест, т. к. в конце концов он не выдержал и, вскочив, заявил, что после того, что он видел на самой войне, при воспоминании о страданиях, которые там переживают люди, он не в состоянии слушать такие разговоры, которые звучат как издеватель-ство над этими страданиями со стороны людей, подобного не переживавших. Произнеся эти слова, он вышел из комнаты и хлопнул дверью. Вскоре после этого он снова уехал на фронт и был там убит.
Наша детская жизнь продолжала идти своим чередом. Но мы постоянно помнили о войне и интересовались ею. Я с волнением смотрела на помещаемые в газетах списки убитых и раненых офицеров, слушала разговоры взрослых о боях, победах и поражениях.
На улицах мы часто покупали разные значки, жетончики, колосья и искусственные цветы, которые продавались в пользу раненых воинов или в пользу беженцев. У папы собралась целая коллекция таких значков, которую он хранил потом в течение многих лет. Помню, что мама просила нас в то время на улице не говорить между собой по-английски. Она говорила нам, что простые люди могут подумать, что мы немцы, а это было бы неприятно, так как озлобление против немцев было тогда в русском народе очень сильно.
Наиболее реальное представление о том, что происходит на фронте, создалось у нас тогда, когда мы в первый раз увидели дядю Буму в военной форме. По возрасту и по состоянию здоровья он хотя и был мобилизован, но на фронт не попал, а получил назначение в госпиталь в Рязани. Оттуда он несколько раз приезжал к нам в Москву, и папа ездил к нему туда раз или два. Рассказы дяди Бумы о раненых солдатах, о тех операциях, которые ему приходилось делать, я слушала с ужасом и волнением. Дядя Бума дал нам свинцовую пулю, расплющенную о кость солдата. Он извлек ее из ноги человека во время операции. Эта пуля тоже многие годы хранилась у папы на письменном столе в деревянном стаканчике для перьев.
В доме Котляревских я видела, как готовятся посылки на фронт. Собирали корпию, вязали теплые шлемы, носки и перчатки, приготовляли табак, мыло и т. д.
Один раз, когда я пришла к Поленьке, в их большой зале все столы были уставлены этими предметами. Я с интересом рассматривала их. Мое внимание привлекли куски желтого мыла, я подумала, что это сыр, и спросила у Поленьки, так ли это и можно ли мне его попробовать. Она сказала, что да, это сыр и что попробовать можно. Уж и плевалась я потом!
Мы тоже хотели что-нибудь послать на фронт и выпиливали из фанеры фигурки, которые вкладывали в такие посылки вместе с полезными вещами.
Однажды мне пришлось своими глазами увидеть раненного на войне человека, это был брат Веры Константиновны Ивановой, жены Вяч. Иванова, Сергей Шварсалон. Он как-то пришел к нам вместе с ней, хромой, с палкой в руках и у нас в саду рассказывал о своей ране, о пережитых им ужасных страданиях. Никогда не забуду того потрясающего впечатления, которое осталось у меня от его слов, от рассказа о том, как ему через сквозную рану на ноге протаскивали тампон, пропитанный йодом.
В другой раз, тоже у нас в саду, папина старинная, еще кишиневская знакомая, Дувинская рассказывала о том, как ее 15-летний сын убежал на фронт. Первый раз его удалось задержать, и после того мать спрятала его галоши. Но он стащил кухаркины галоши и все-таки убежал.
В имении Орловых Отрадино
Летом 1915 года в Силламяги ехать было уже невозможно. Дачи под Москвой наши родители почему-то не брали. Тогда Екатерина Николаевна Котляревская предложила маме вместе с детьми приехать погостить к ним в Саратовскую губернию, в имение Отрадино. Мама сначала поколебалась, а потом приняла приглашение. Колебание ее было вызвано тем, что в Отрадино папа поехать с нами не мог из-за неприязненного к нему отношения Ольги Павловны Орловой. Мы же были в восторге от перспективы провести время вместе с Поленькой. Когда вопрос о нашей поездке окончательно решился, лето было уже в разгаре. Помнится, что для жизни в От-радино нам оставалось не более полутора-двух месяцев.
Отъезда нашего с Павелецкого вокзала и дороги я совсем не помню. Ехать надо было до станции Вертуновка, а оттуда какое-то количество верст на лошадях. Зато ярко запомнился момент нашего приезда в Отрадино.
Мы приехали поздно, должно быть, уже в темноте, когда для нас наступило время ложиться спать. Нам отведен был для жизни так называемый красный флигель, стоявший поодаль от главного дома. Я помню тот момент, когда меня укладывали спать. Должно быть, я очень устала, так как капризничала, плакала и никак не могла успокоиться. Предлогом моих слез было то, что меня укладывали спать на чужой подушке, так как моя подушка, которую я нежно любила и без которой не могла заснуть, находилась в еще не пребывшем багаже. Около меня была мама, которая старалась меня успокоить. Тут же присутствовала мисс Седдонс, строго и вместе с тем ласково взывавшая к моему благоразумию.
Красный флигель был хороший изолированный домик с несколькими комнатами и большой террасой. Мы расположились в нем удобно — мама с нами двумя и с молодой кухаркой-щеголихой Надей, которую мы привезли из Москвы.
От нашего флигеля надо было пройти по длинной дорожке, чтобы попасть к большому дому. Перед домом располагался просторный двор с круглым цветником посередине. Внутренний вид этого двухэтажного, типичного помещичьего дома я помню довольно смутно.
С большим удовольствием ездила я и на линейке, и в коляске; запах кожи и лошадиного пота, звук цокающих копыт и хлюпанья лошадиной селезенки, все это имело для меня неизъяснимую прелесть. На линейке нам приходилось ездить ежедневно, если была хорошая погода, на Хопер, где был прекрасный речной пляж. С коляской связано и одно мое неприятное воспоминание. Как-то мы с Сережей гуляли с мамой в поле. Вдруг на дороге показалась коляска. Я увидела в ней Ольгу Павловну и мисс Седдонс и с детской непосредственностью бросилась к ним навстречу приветствовать их. Мама почувствовала, что это лишнее, и пыталась меня остановить. Но я, привыкшая к человеческой ласке, и сама преисполненная симпатии к людям, не послушалась мамы и весело подбежала к коляске. Мама была права. Мой порыв был встречен с ледяным равнодушием со стороны Ольги Павловны, которая сделала мне какое-то резкое замечание. А мисс Седдонс смущенно молчала. Я отскочила от коляски как ошпаренная. Это было мое первое соприкосновение с человеческим равнодушием, больно потрясшее меня. Смутно ощутила я и причину смущенного молчания всегда приветливой ко мне мисс Седдонс, в данный момент находившейся в положении зависимого человека, приживалки у чопорной своенравной барыни. Как в воду опущенная вернулась я к маме, которой еще более, чем мне, был неприятен и даже оскорбителен этот инцидент.
В имении жизнь шла своим чередом. Орловский дом был полная чаша. Горы ягод, фруктов, чудные молочные продукты — все это не сходило со стола. При этом хозяев всех этих благ немилосердно обкрадывала многочисленная челядь. Заправилой в этом отношении был наглый и хитрый лакей Матвей. Мама рассказывала потом, как неподалеку от нашего красного флигеля каждый день на рассвете под руководством Матвея нагружались возы фруктами, овощами, птицей, молочными продуктами и отправлялись на базар в соседнее торговое село Макарова В результате этих ежедневных занятий Матвей настолько разбогател, что впоследствии открыл в Макарове не то лавку, не то трактир.
За порядком в Отрадине следить было некому, так как Ольга Павловна (которую местные крестьяне метко прозвали Орлиха) была стара и ни во что не входила, а ее наивные, бесконечно добрые и непрактичные дочери не способны были ни в ком заподозрить дурное и всем доверяли.
Когда-то хозяином Отрадина был сын Ольги Павловны — Михаил Николаевич Орлов, который постоянно жил там. От Лили я слышала много рассказов о Михаиле Николаевиче, которого она нежно любила. Кое-что о нем рассказывала мне и мама. По-видимому, это был очень незаурядный, умный и привлекательный человек. Смолоду он был блестящим, остроум-ным и веселым. Лили постоянно вспоминала разные случаи, свидетельствующие об этом. Он окончил юридический факультет, но, как большинство юношей его круга, специальности никакой не имел, а был просто образованным, умным человеком, интересным собеседником, хорошо играл на рояли. Личная жизнь его сложилась несчастливо. Мама рассказывала мне, что он был очень сильно и безнадежно влюблен в подругу Лили Кита Уварову. Когда из этой любви ничего не получилось, он вступил в армию и уехал на Кавказ. Там он начал пить и после возвращения домой уже не смог отделаться от этой привычки. Живя потом остальную жизнь в Отрадине, он время от времени страдал запоем. При нем постоянно находился врач. Жизнь Михаила Николаевича кончилась очень грустно. В 1906 году, когда ему было 40 лет, он заболел брюшным тифом. Тиф прошел, и он стал поправляться; когда он начал вставать, то не смог удержаться и тайком от доктора напился. От этого болезнь вернулась назад, и уже ничего нельзя было сделать. Он скончался.
В 1902 году, когда папа был еще не женат, он один раз ездил вместе с Лили в Отрадино и познакомился с Михаилом Николаевичем, который ему очень понравился. Это было ранней весной, в апреле. Поездку эту папа вспоминал с восхищением. Его пленили весна, чудесное место и сам хозяин. Памятью об этих днях остались стихи, написанные папой по этому поводу, и прелестное чучело дятла, старенькое, потрепанное, до сих пор висящее на стене нашей комнаты.
Этого дятла Михаил Николаевич, прекрасный стрелок, убил тогда при папе, а потом прислал в подарок сделанное из дятла чучело.
Живя в Отрадине в 1915 году, веселыми, беззаботными ребятишками, мы ничего этого не знали. О Михаиле Николаевиче Орлове при нас тогда никто не говорил. Почти позабыли мы и о войне. О ней напоминало нам только присутствие группы пленных австрийцев, которые жили в то лето в Отрадине и что-то работали. Я хорошо помню их грустные фигуры в серых шинелях, этих австрийцев часто можно было видеть возле красного флигеля, так как с ними разводила дружбу наша кокетливая Надя. Я же посматривала на них с интересом и состраданием.
Второй и последний раз в своей жизни пришлось мне побывать в старом русском имении на следующий, 1916 год, когда мне было восемь лет. После смерти нашего дедушки в середине июля этого года Лили собралась ехать в свое северное имение Рудицу (около Ораниенбаума) и пригласила нас всей семьей приехать к ней туда. В Рудице Лили бывала редко и теперь ехала туда по делам, так как они решили продать это имение, ценное своим замечательным мачтовым сосновым лесом.
Рудица — это одно из самых удивительных незабываемых мест, в которых мне когда-либо пришлось побывать Имение Ломоносова, перешедшее впоследствии к его потомкам Орловым, оно хранило в ненарушенном состоянии облик русской дворянской культуры XVIII века в ее лучших, наиболее высоких проявлениях.
Уже сам прекрасный большой дом (внешний его облик я не помню) с его уютными комнатами и большой библиотекой был чем-то вроде своеобразного музея. Повсюду стояли бюсты, статуи и фарфор, висели старые картины.
Особенно хороша была библиотека. Это была огромная, вытянутая комната с большим камином посереди стены, против окон. Перед камином стоял небольшой диванчик-кресло с глубоким сиденьем и мягкими валиками. Посередине находился стол, заваленный книгами. Об одном из кресел, стоявших около стола, Лили рассказала нам, что это — реликвия, дорогая их семье. Сидя в этом кресле, Гоголь однажды читал отрывки из "Мертвых душ" ее бабушке Репниной, с которой он был дружен. По стенам библиотеки тянулись полки, уставленные книгами XVIII и начала XIX веков. Среди них было множество уникальных изданий.
Папа не мог оторваться от этих книг и восхищался всей обстановкой, постоянно призывая и нас к тому же. Помню, что мы прекрасно сознавали прелесть и значительность того, что нас окружало, добавляя к тому, что нам говорил папа, свои детские чувства. Так, нам многое в доме казалось таинственным. Помню, например, что мы останавливались около одной из статуй и прислушивались, ясно слыша, что в ней что-то стучит.
Лили нам показывала картины, гравюры и прелестные лепки с античных гемм и монет, которые в количестве многих сотен хранились в низких, плоских ящиках в шкафах той же библиотеки.
Пребывание в Рудице портило нам крайне нервное состояние, в которое почему-то впал Сережа. У него начались какие-то дикие страхи, он боялся туч, облаков, коров. Почти совсем отказывался ходить гулять. Эти страхи продолжались и в Москве. После того, как он один раз увидел, что на улице ломовой извозчик бьет лошадь, он наотрез отказался выходить за ворота и долгое время если и выходил, то шел по улице не иначе, как с закрытыми глазами. Его состояние было особенно мучительно для мамы.
Я же в то лето много гуляла. Вокруг дома было очень красиво. Запущенный старый сад, бездействующие оранжереи, в которых некогда вызревали персики, а особенно великолепный, несколько мрачный северный лес — все это очень мне нравилось. В лес мы ходили за черникой и за более крупной, похожей на чернику ягодой — голубикой. Помню, что один раз мама меня отпустила за черникой одну с горничной Лили Настей и еще какими-то женщинами. Когда мы уходили, мама сказала мне, чтобы я не ела в лесу много ягод. Я спросила: "Сколько же можно мне съесть?" Мама ответила: "Ну, штук двадцать". Собирая ягоды, я клала некоторые, самые крупные, в рот, педантически считая их, и когда счет дошел до двадцати, перестала есть. Когда мы вернулись домой, я похвасталась маме своим точным послушанием, думая получить одобрение, а она подняла меня на смех и сказала, что незачем было столь пунктуально исполнять ее необдуманный приказ.
По вечерам мы часто сидели в чудесной библиотеке на мягких креслах и разглядывали старые книги, гравюры и геммы. Лили в это время была с нами и показывала нам все эти чудеса. Днем она часто бывала занята разными делами, подготовляя продажу Рудицы. Все ценные веши должны были быть отправлены в Москву. Она поделила их на две части: меньшую, посланную багажом, и большую — малой скоростью. Потом, уже зимой, мы узнали, что все, посланное малой скоростью — мебель, картины, книги, слепки с гемм, не дошло до Москвы, а пропало в дороге. Ведь это было военное время. А саму Рудицу с ее мачтовым лесом Лили продала тогда за миллион, этих денег она, конечно, не успела получить. Дом же дотла сгорел в дни Октябрьской революции.
Февральская революция
После лета в Рудице зимой была Февральская революция.
Все события этой напряженной зимы самым близким образом вторгались в нашу детскую жизнь. Папа с такой страстной надеждой и волнением переживал происходящее, что заражал своими чувствами всех окружающих его людей. А с нами он постоянно говорил обо всем и объяснял смысл политических событий.
Но были у нас, конечно, и свои детские взгляды на все. Так, я совершенно по-своему воспринимала ниспровержение Николая II. Мне давно очень нравился наследник Алексей. Я всегда жадно слушала рассказы о нем, о его красоте, об его болезни, о приставленном к нему дядьке-казаке, о том, как Распутин инсценировал спасение его жизни. Все это меня чрезвычайно занимало.
Когда Николай II отрекся от престола в пользу сына, я была в восторге и совершенно влюбилась в наследника. Помню, что на новом календаре на 1917 год была цветная обложка с его портретом. Я сохранила эту картинку и носилась с ней, то и дело любуясь на портрет. С величайшим интересом я следила за всеми событиями, связанными с ниспровержением Николая II, но особенно интересуясь тем, что касалось его детей, например рассказом о том, что во время этих событий они были больны корью и т. п.
Хорошо помню, что в это время самое ощущение жизни стало иным, что весь воздух был пропитан ожиданием нового, стал особым, праздничным. Для нас было праздником то, что новое значение приобрел красный цвет; идя гулять, мы с восторгом повязывали себе на рукава красные тряпки.
В то время в Москве выходило много газет разных политических направлений. Папа покупал по десятку газет в день, беспрестанно бегая за ними на улицу. Весь его обычный режим нарушился, он то и дело сбегал со своего верха вниз к нам, так как не был в состоянии усидеть там один. В большом возбуждении пребывали и все его друзья. Каждый день кто-нибудь приходил, споры звучали еще громче прежнего.
Вплотную, т. е. зрительно, я столкнулась тогда с революционными событиями дважды. Один раз, когда мы с папой вдвоем шли по одному из Арбатских переулков, мы увидели следующую сцену. Группа казаков грубо втаскивала на грузовик арестованного царского генерала. Кругом собирался народ. Мы тоже невольно замедлили шаг. В другой раз мы с Сережей долго стояли на набережной Москвы-реки около храма Спасителя и смотрели, как стаскивают с пьедестала памятник Александру III. Огромный бронзовый истукан туго поддавался усилиям десятка мужчин, старавшихся скинуть его вниз.
Судак
В целом же наша жизнь шла прежним чередом. Доживались последние месяцы этой жизни. В конце зимы мы с Сережей заболели тяжелой формой коклюша. Особенно тяжело болела я. Меня буквально разрывал удушающий кашель, каждый приступ которого кончался рвотой. Гольд посоветовал маме на лето повести нас на юг. Нас давно звали в Крым наши друзья Жуковские, у которых в Судаке была своя дача. В тот год они ранней весной уехали туда и взялись подготовить наш приезд.
Мама решилась повезти нас в Судак на все лето, и мы уже в апреле выехали из Москвы. Это первое путешествие по революционной России запомнилось мне на всю жизнь.
Мы ехали в мягком двухместном купе 1-го класса. Уже с самого начала все вагоны были переполнены, главным образом солдатами, возвращавшимися с фронта. Не только все коридоры были забиты людьми и вещами, но и на крышах вагонов ехали люди. Так что над головами все время слышались шаги и движение. Мы ехали без папы, втроем с мамой.
Папа, как обычно, оставался в Москве по своим делам и должен был приехать позднее. Лили тоже собиралась выехать из Москвы через несколько дней. Как только поезд отошел от московского вокзала, мама заперла наше купе и так мы ехали запертые до самой Феодосии. При нашем купе имелся умывальник, который давал нам возможность находиться в купе безвыход-но. Только мама раза два выходила из поезда за кипятком. В это время поезд начал маневриро-вать, и его перевели на другие пути. Мы были в ужасе; нам казалось, что мама потеряется, не найдет поезда, что поезд уйдет без нее. Особенно нервничал Сережа.
Мама очень жалела замученных солдат и офицеров, которые ехали в коридоре нашего вагона и которым, из-за тесноты, негде было даже присесть. Она пустила одного молодого офицера к нам в купе, и они с ним по очереди спали на нижнем диване, в то время как мы с Сережей лежали на верхнем. Помню, что я ужасно кашляла дорогой, беспрестанно просыпаясь ночью.
Как мы вылезли из поезда в Феодосии, как нанимали коляску, чтобы ехать в Судак, я не помню. Но поездку эту по горной, беспрестанно вертящейся крымской дороге я запомнила хорошо.
Ехать пришлось несколько часов в удобной коляске, на паре лошадей. Нас очень занимал новый для нас гористый пейзаж и частые повороты дороги, при которых каждый раз неожиданно открывался новый вид.
Однако путешествие наше сильно омрачилось одним неприятным обстоятельством. Вскоре после того, как мы сели в коляску, Сережа начал жаловаться на плохое самочувствие. Мама пощупала его лоб и обнаружила, что у него сильный жар. На место он приехал уже совсем больным, так что мама с трудом вытащила его из коляски.
Жуковские приготовили для нас две комнаты во втором этаже хорошего каменного дома, принадлежавшего интеллигентной даме, их приятельнице — Вере Степановне Гриневич.
Мы приехали в Судак совсем вечером, когда уже стемнело, так что мама успела только, слегка разобрав вещи, уложить нас в постели. Она мне рассказывала потом, какую мучительную ночь она тогда провела. Сережа горел как в огне, стонал и метался. Она не отходила от него и не раздевалась до утра. И только умиротворяюще действовала на нее волшебно-прекрасная южная ночь. Наша комната имела балкон, выходивший прямо на море. Между кипарисами над морем сияла полная луна. Мама несколько раз в течение ночи выходила на балкон и, несмотря на свое крайнее утомление и беспокойство, упивалась окружающей ее красотой.
На следующий день хозяйка нашего дома указала маме хорошего врача-женщину по фамилии Дельбари. Дельбари осмотрела Сережу и нашла у него глубокий бронхит, развившийся как осложнение коклюша.
Первую неделю нашей жизни в Судаке, пока не приехал папа, а у Сережи держалась высокая температура, я была в значительной степени предоставлена самой себе. К морю одну меня мама не пускала, и я большую часть времени проводила возле дома, на небольшом пустыре, в те весенние дни сплошь покрытом цветущими красными маками. С этого пустыря хорошо было видно море и горы (которые я видела впервые), и я подолгу сидела так, прямо на земле, среди маков.
Дальше я уходить боялась. Чуть ли не в первый же день нашей жизни в Судаке меня напу-гали соседские ребятишки — сыновья жившей рядом в домике простой женщины, уборщицы или прачки. Это были совсем маленькие дети, пяти и трех лет. Но каким-то образом они сумели меня сильно испугать. Звали их почему-то Лапка и Пуйка, хотя настоящие их имена были Сережа и Шура. Старший — Лапка, худенький, болезненный мальчуган, выскакивал из своего дома и с криком бросался на меня, загораживая мне дорогу. От него не отставал хорошенький черноглазый карапуз Пуйка. Я, большая, девятилетняя девочка, не умела справиться с малышами и защитить себя и в страхе убегала от них.
Позже я подружилась с этими ребятами и играла с ними. Они оказались хорошими, веселы-ми мальчишками. Особенно мил и забавен был маленький Пуйка. А следующей зимой мы узнали через Жуковских, что Лапка скончался от какой-то инфекционной болезни. У меня много лет хранилась красивая розовая ракушка, подаренная мне Пуйкой.
Хозяйство наше быстро наладилось. Жизнь в Судаке была тогда еще не нарушенной, благоустроенной и удобной. Мама стала брать обеды у женщины по имени Мария Васильевна Пипопуло, которая жила тем, что отпускала домашние обеды отдыхающим. Её соперницей и конкуренткой в этом деле была женщина по имени Мария Ивановна Попандопуло. Мы много смеялись по этому поводу.
Через неделю или дней через десять после нашего приезда в Судак приехал и папа. К этому времени Сереже стало лучше, у него начала падать температура, и он повеселел. Мы с огромным нетерпением ждали папиного приезда. Помню, что в тот день, когда его ждали, мы буквально не находили себе места Задолго до того часа, когда он мог приехать, я водрузилась на подоконник и не спускала глаз с дороги, на которой должна была показаться коляска. А Сережа, лежа в постели, каждую минуту спрашивал меня, не вижу ли я коляску. Я сидела на окне очень долго и наконец, потеряв терпение, предложила Сереже сыграть в дурачки. Как только мы начали игру, приехал папа. Так мы и пропустили момент его приезда.
После этого Сережа еще недели две продолжал лежать. Но мне стало уже значительно весе-лее. Папа почти все время был со мной. Мы по целым часам просиживали с ним среди маков, которыми он очень любовался, и на пляже около моря. Я сразу обнаружила, что судакский пляж наполнен замечательными сокровищами — чудесными разноцветными камешками — и начала с азартом собирать эти камешки. Меня особенно привлекали мел-камешки и миниатюрные ракушки разных фасонов.
Я подбирала их один к одному, преимущественно выбирая самые крошечные. Выходило очень красиво. Для своей коллекции я сшила мешочек из белой тряпки. Так в этом мешочке мое сокровище было привезено в Москву. Папа забрал мешочек к себе и долго хранил его в ящике своего письменного стола.
Через два-три дня после папиного приезда в Судак приехала и Лили, которая поселилась в нашем доме, в комнате рядом с нами. После этого наша жизнь стала уже совсем интересной. Сережа быстро поправлялся, и, наконец, Дельбари разрешила ему вставать.
Как сейчас помню, что тот день, в который она велела ему подняться с постели, приходился на понедельник. Как только она ушла от нас, папа заявил, что понедельник — несчастливый день, и он не разрешил Сереже встать до вторника. Сережа пришел в отчаяние, плакал и умолял позволить ему встать, но папа был неумолим, и Сереже пришлось пролежать лишние сутки.
Когда все вошло в свою колею и мы начали нормально жить, у нас нашлись товарищи для игр. Скоро составилась целая компания мальчишек, и при ней одна девочка в моем лице. В эту компанию, кроме нас двоих, входили: сын агронома А.И.Угримова Шушу Угримов, которого мы знали еще в Москве, сын В.С.Гриневич Толя и мальчик, с которым мы познакомились в Судаке на пляже, Ваня Биск. Больше всего времени мы проводили у моря.
Я впервые тогда увидела курортную публику и глазела на нее во все глаза. Помню, что особенно поражала мое воображение одна толстая барыня, которая каждый день ложилась на одном и том же месте, на границе мужского и женского пляжей, голая, в черных чулках и под зеленым зонтиком.
В стороне от моря в Судаке расположены были пологие складчатые холмы, почти голые, на которых росли только полынь, каперсы и какие-то южные колючки. Мы с Сережей иногда уходили туда вдвоем играть. Еще в Москве мы увлеклись игрой в индейцев. В годы нашего детства почти все дети с восхищением читали книги Купера, Майн Рида и других авторов, писавших о жизни североамериканских индейцев, и потом играли в индейцев.
Мы тоже, после того как прочитали эти романтические истории, постоянно изображали из себя краснокожих; сшили себе цветные туфли-мокасины, сделали головные уборы, разукрашен-ные перьями. Помню хорошо, как зимними вечерами в Москве мы вдруг решали играть в индейцев. Первым делом добывались пробки, которыми мы, предварительно обуглив их на горящей свече, разрисовывали себе физиономии. Затем надевались воинственные головные уборы, мокасины, какие-нибудь подходящие штаны и куртки, в руки брались луки и стрелы, и начинался дикий гвалт и беснование по всей квартире. Случалось, что в таком виде мы выскакивали к гостям в столовую.
Отправляясь в Крым, мы взяли с собой индейские костюмы. Удалившись от всех детей, вдвоем, мы бегали по склонам холмов в своих экзотических одеяниях, стреляли из луков, пользуясь свободой и открытым пространством. От этих минут в моем воспоминании осталось ощущение сухого знойного воздуха и запахов полыни и каперсов. Запах полыни мне очень нравился, а запах каперсов — нет; я недоумевала, как можно есть плоды растения, пахнущего так неприятно.
Самое интересное время настало для нас осенью, когда поспели виноград, грецкие орехи и миндаль.
У нашей хозяйки, Веры Степановны Гриневич, был небольшой виноградник поодаль от дома, а возле дома росли ореховые и миндальные деревья. Она позволяла нам ходить на вино-градник во время сбора винограда, участвовать в этом сборе и рвать для себя приглянувшиеся нам кисти. Это было ужасно интересно и совершенно ново для нас.
Меня пленял жаркий, пронизанной солнечным светом виноградник с прозрачными тяжелыми гроздями, висевшими среди крупных вырезанных листьев. Особенно нравились мне те кисти винограда, которые успели перезреть и сморщиться на солнце. Я выискивала их и рвала, т. к. они казались мне самыми вкусными.
Немало удовольствия доставил нам также миндаль. Его было у нашей хозяйки так много, что она давала нам его в неограниченном количестве. Мы ели его вволю, пока были в Судаке, и привезли целый запас в Москву, так что нам хватило потом на всю зиму. Я узнала тогда впер-вые, как растет миндаль, увидела, что он одет в двойную оболочку, сперва пушистую зеленую шкурку, а затем — в твердую деревянную, пористую скорлупку. Мы ели миндаль целыми пригоршнями, а скорлупки собирали, так как они шли у нас на разные поделки.
Уже по приезде в Москву мы ухитрялись распиливать их вдоль, превращая в миниатюрные лодочки, вторые раскрашивали в разноцветные цвета акварельными красками. Грецких орехов тоже было много, и их внешний вид в зеленой шкурке был для нас тоже новым.
Наши родители жили в Судаке в тесном общении с Жуковскими, с которыми они дружили и в Москве. Жуковский был состоятельный человек и потому мог жить без постоянного литера-турного заработка. Он интересовался философией, был близок с Бердяевым, Эрном, Франком, Вячеславом Ивановым и сам изредка писал статьи на философские темы.
Мои родители особенно любили его жену — Аделаиду Казимировну Герцык, поэтессу и чудесной души женщину. Аделаида Казимировна была некрасива, но обладала таким челове-ческим и женским обаянием, что при близком знакомстве с ней ее внешность начинала казаться прекрасной. В молодости ей пришлось пережить большую личную трагедию, в результате которой с ней случилось несчастье — она внезапно потеряла слух. Мама рассказывала мне эту грустную историю.
Молоденькой девушкой она полюбила семейного человека. Он тоже горячо любил ее. Они встречались украдкой, и встречи эти были очень грустны. И вот однажды они решили, что проживут вместе несколько дней, раз в жизни будут счастливы.
Обстоятельства их жизни сложились так, что это стало возможным. Местом встречи был назначен какой-то курорт в Германии. Они съехались там и поселились в гостинице, решив прожить вместе недели две. Ни один человек в мире не знал об этом свидании. Друг Аделаиды Казимировны приехал не совсем здоровым — у него в прямой кишке был фурункул. По приезде ему скоро стало хуже, и через несколько дней он скончался от заражения крови.
Аделаида Казимировна оказалась одна в чужом месте, не имея ни одной знакомой души; ей пришлось сообщить жене умершего о случившемся. Она рассказывала маме о том, как на утро после смерти друга она подошла к открытому на улицу окну и вдруг заметила, что не слышит городского шума. Глухота оказалась неизлечимой. Впоследствии Аделаида Казимировна примирилась со своим недостатком и даже говорила, что глухота имеет хорошие стороны, т. к. оберегает внутренний душевный мир от вторжения лишних, мешающих звуков и слов.
Дмитрий Евгеньевич Жуковский был довольно тяжелый, мрачноватый человек, далеко не обладавший тем внутренним светом, которым светилась его жена. У них было двое детей — мальчиков: Далик (Даниил) и Ника (Никита). Во время нашего пребывания в Судаке это были малыши 5 и 2 лет, Ника тогда не умел еще говорить.
Дальнейшая история семьи Жуковских была такова. Не помню, тогда ли они остались в Судаке или вторично поехали туда из Москвы; во всяком случае годы Гражданской войны они провели в Крыму. Там же в начале 20-х годов умерла от уремии Аделаида Казимировна, оставив двух сыновей-подростков сиротами. С ними жила ее незамужняя сестра Евгения Казимировна, на которую легли заботы о неприспособленном к жизни Дмитрии Евгеньевиче и о мальчиках. Нужда заставила Жуковского вспомнить свое естественно-научное образование (он окончил естественный факультет Московского университета) и поступить на должность лаборанта при какой-то больнице. Зарабатывал он гроши, и они очень бедствовали. Дачи давно уже не было, жили они в Симферополе. В 30-х годах Жуковские появились в Москве. Несколько раз к нам приходил Далик восторженный, романтически-настроенный юноша, мнивший себя поэтом. Романтизм не довел его до добра, за какую-то болтовню он был арестован и пропал без вести в ссылке. Ника в это время учился на медицинском факультете в Москве и жил у родных.
Дмитрий Евгеньевич из-за сосланного сына не имел права жительства в Москве и жил в каком-то городке за пределами Московской области, продолжая работать в качестве лаборанта. Он часто наезжал в Москву и всегда приходил к нам. Это был больной, жалкий, совершенно разбитый человек. Он был нищенски одет, лицо его покрывали глубокие старческие морщины, а глаза выражали неутолимую, застарелую печаль. Визиты к нам доставляли ему видимое удовольствие; мама встречала его очень ласково, а ко мне он питал какую-то особенную нежность.
Последний раз я видела Жуковского зимой 1940–1941 года, уже после маминой смерти. Ника в это время кончил университет и получил место врача где-то в деревне. Дмитрий Евгень-евич раза два-три приходил ко мне без мамы и один раз ночевал. Хорошо помню эту ночь. Я не спала и слышала за дверью старческое кряхтенье и тяжелые вздохи больного, замученного жизнью человека. Раза два он вставал и ходил. Меня тревожили эти грустные звуки и я не могла спать. А по возвращении из эвакуации в 1944 году я от кого-то узнала, что Жуковский еще в начале войны умер у сына в деревне.
Жизнь в Судаке подходила к концу. На этот раз лето у нас было очень длинное, так как уехали мы из Москвы в апреле, а вернулись туда уже в октябре, недели за две до Октябрьской революции.
Вторая половина лета была для моих родителей особенно тревожной. Назревали огромные политические события, и мы постоянно присутствовали при взволнованных разговорах взрослых. Мы прекрасно знали все, что было доступно нашему пониманию, о Временном правительстве, о Керенском, Антанте. Папа нам все объяснял, серьезно и внимательно отвечая на наши вопросы. К осени начались разговоры о подорожании продуктов, о наступающих продовольственных трудностях.
Папа уехал в Москву один, недели за две-три до нас. Я хорошо помню утро его отъезда. Мы сидели за завтраком у стола, вокруг самовара. Тут произошел один забавный инцидент, ярко характеризующий папу.
Как-то, за год или два до этого, зимой мама сшила себе темно-розовую шелковую кофточку. Когда кофточка была готова, она вечером ее надела. К нам пришел Цявловский. Вероятно, мама в новой кофточке выглядела очень красивой. Папа, который был невероятно ревнив, некоторое время молча поглядывал на нее, а потом, вдруг обратившись к Цявловскому, сказал: "Мстислав Александрович, посмотрите на мою жену, как она вырядилась, и не стыдно ли ей". Это было очень жестоко с его стороны; и мама, и Цявловский не знали, куда девать свои глаза. С тех пор мама кофточку больше ни разу не надевала.
В Судаке нам прислуживала девочка лет 15-ти — Анюта. Маме хотелось подарить ей что-нибудь в благодарность, и она отдала ей злосчастную блузку. В это утро блузка была на Анюте, и она вошла в ней к нам в комнату, когда мы завтракали. Папа сейчас же заметил это и, когда Анюта вышла, выразил свое недовольство: "Зачем ты отдала единственную вещь, которая тебе шла?" заявил он маме.
Недавно, перечитывая старые письма, я наткнулась на те два-три письма, которые папа успел написать нам в Судак после своего приезда в Москву, до нашего возвращения.
В эти волнующие, напряженные дни московская интеллигенция переживала жестокий кризис. Многие писатели и философы, прежде произносившие либеральные фразы, теперь испугались надвигавшихся событий и круто повернулись вправо. В том радостно-возбужденном состоянии ожидания чего-то великого, в котором находился папа, он казался почти одиноким. Некоторые из его знакомых отшатнулись от него, называя "большевиком". Резкий разрыв на этой почве произошел у него в те дни с одним из самых близких ему людей Бердяевым, который отнесся к возможности пролетарской революции непримиримо отрицательно.
В письмах к маме папа подробно описал свою бурную ссору с Бердяевым, навсегда отдалившую их друг от друга. В этих же письмах он писал о том, что в Москве исчезают из магазинов продовольственные и промышленные товары, что он "лихо запасает" все, что может. Помнится, он писал о нитках и о масле, а маму просил закупить в Крыму сколько можно сахара.
Октябрьская революция
Дней через десять после нашего возвращения в Москву произошла Октябрьская революция. Мне она запомнилась следующим образом.
В течение недели, днем и ночью, ни на минуту не умолкая, в Москве грохотали пушки, строчили пулеметы и трещали винтовки.
Канонада раздавалась совсем близко. Один раз, когда я находилась в ванной комнате, мимо окна ванной вихрем пролетел артиллерийский снаряд, который угодил в угол шестиэтажного дома в Денежном переулке, видного из наших окон. Огромная, глубокая дыра зияла потом на этом доме в течение многих лет. В столовой мама заставила толстой доской балконную дверь, так как с той стороны боялись шальных пуль.
Еды у нас в доме не было никакой, а выйти со двора было опасно. Да, вероятно, и магазины тогда не работали. Мы всей семьей ходили обедать и ужинать в нижнюю квартиру к Лили. Она имела обыкновение каждую осень заготавливать в подвале овощи на всю зиму в расчете на обширную семью своих девочек. Подвал этот помещался под дворницкой. Оттуда прислуги приносили овощи и готовили овощные обеды. Это выручило нас. Не представляю себе того, как питались другие московские интеллигенты.
Путешествия в нижнюю квартиру и трапезы за большим столом вместе с девочками, конеч-но, очень занимали нас, детей. Вообще все эти дни мы пребывали в постоянном возбуждении, в ликующем, приподнятом настроении.
Никто не знал толком, что происходит в городе, волновались за близких, родных. Наконец, выстрелы смолкли. Папа побежал по знакомым узнавать о результатах восстания, о том, живы ли все. Помню два рассказа о близких людях. Дядя Шура жил тогда на Пречистенке в большом доме наискосок против Мертвого переулка, на шестом этаже. Напротив их дома помещалось юнкерское училище, в котором засели юнкера. На чердаке того дома, где жил дядя Шура, были установлены пулеметы, из которых велся обстрел юнкерского училища Ответные выстрелы по чердаку чудом миновали окна верхних квартир, в том числе и квартиры дяди Шуры.
Возле дома от выстрелов загорелся газовый фонарь, который, как факел, неугасимо пылал дни и ночи, грозя ужасающим взрывом. Дядя Шура со своими домочадцами за это время успел натерпеться страха.
А на Никитском бульваре сгорел тот дом, где помещалось книгоиздательство Сабашникова. Никто из семьи Сабашниковых не пострадал, т. к. они жили в другом месте, но погибло все иму-щество издательства. В том числе сгорела одна папина рукопись; помнится, это была рукопись книги "Мечта и мысль Тургенева". Папе пришлось ее потом восстанавливать по сохранившимся заготовкам. Второго экземпляра рукописи у него не было, т. к. в то время пишущие машинки еще не имели широкого применения и рукописи обычно переписывались от руки. Папе чаще всего переписывала тетя Надя, у которой был каллиграфический почерк.
Поздней осенью 1917 года из Одессы, где жили папины родные, пришла горестная весть. В течение одной недели в семье дяди Бумы произошло два страшных несчастья. Сначала скончал-ся от брюшного тифа его старший сын Саша, которому только что исполнилось 20 лет, а потом, очевидно от горя, умерла наша маленькая бабушка — папина мать.
Саша заразился тифом в казармах, где он проходил военное обучение. Заболело, кажется, шесть человек, но умер только он один. Болел он дома. У него был могучий организм, а такие люди часто хуже переносят инфекционные болезни, чем более слабые. Мама рассказывала мне потом, что, кажется, дядя Бума недостаточно осторожно лечил его, не препятствуя ему вставать с постели. У него получилось кишечное кровотечение, которого он не перенес, оно оказалось роковым.
После похорон своего старшего, любимого, внука бабушка себя плохо почувствовала, ослабела и через несколько дней скончалась. Дядя Бума, знавший о безумной любви своего брата к матери, побоялся ему прямо написать о несчастье и послал письмо на имя Лили, которой пришлось передать его нашим родителям.
Никогда не забуду той минуты, когда мама повела нас к папе наверх после того, как он получил известие. Папа сидел на своем обычном месте у письменного стола. Когда мы подошли к нему, он зарыдал и обнял нас. Вид плачущего папы совершенно потряс меня. О Саше папа тоже очень грустил. Незадолго перед этим, в начале лета 1917 года, когда мы были в Судаке, Саша приезжал в Москву и приходил к папе. Папе он очень понравился. В письме к дяде Буме, ответном на известие о несчастье, папа описывал свое впечатление от Саши. Он писал о том, как вышел во двор проводить уходившего Сашу и смотрел ему вслед, а он шел такой прекрасный, молодой, ничего еще не видевший в жизни.
Зимой 1917–1918 годов уклад и обстановка нашей жизни еще сохраняли в какой-то мере свой прежний вид. Отопление в доме функционировало, мы по-прежнему занимали всю квартиру. Наверное, были сильные продовольственные трудности, но нарастание этих трудностей я сейчас не могу восстановить в своей памяти. Помню, что зима для нас в нашей детской жизни проходила приблизительно так, как всегда, что мы продолжали учиться с мамой и Гриша продолжал приходить к нам по воскресеньям. Но все же в этой жизни произошел огромный внутренний перелом, который должен был рано или поздно повернуть ее совсем по-другому.
Годы 1918-1920-е не отложились в моих воспоминаниях в четком хронологическом порядке. Вероятно, это произошло из-за того, что летами 1918-го и 1919-го годов мы никуда не ездили.
Нарушилась идиллия тесно замкнутого круга нашего детского существования. Не говоря уже о том, что в него ворвались огромные мировые события, требовавшие своего осмысления, мы впервые узнали о том, что жизнь — это серьезная, трудная, а подчас и страшная штука, что она не исчерпывается миром поэтических и уютных детских впечатлений, но содержит в себе голод, холод и всякие лишения, содержит несчастья и горе людей. В эти годы мне впервые пришлось узнать цену товарищества, ощутить себя частью коллектива, независимого от привычной для меня моей семьи, стоящего совершенно вне ее существования, которое прежде казалось мне чем-то единственно реальным и важным. Все это было ново и романтично. Полную новизну жизни я почувствовала уже тогда, когда, выйдя на двор после окончания стрельбы в октябре 1917 года, я вместе с Сережей и Поленькой собирала во дворе гильзы от пуль, а через несколько дней нашла у забора печатную листовку с надписью: "Тушите свет, за нами следят!"
В те дни к нам случайно попало письмо, чрезвычайно характерное для той эпохи и произведшее на меня потрясающее впечатление. Я храню его всю жизнь. Вот его текст, так и не дошедший до адресата, — написано оно коряво, явно крестьянской рукой, хотя и почти без ошибок: "Егорушка1 Прости, что не пишу подробно о себе, (нет времени, да и нечего. Умираем мы с голоду. Хлеб, что я привезла 8 п, съели. Люша уехала уж 3 м. и до сих пор нет. Поели свеклу, тыкву, картошек не было, съели (лошадь, овец и теперь умирать. Получила я паек 25 ф. Мешали пополам с дубовыми листьями еще дня на 2 хватит. Николай умер у нас 13 ноября по стар. стилю. Невестка 2 недели уж не поднимается, тятька тоже хворает, хоть и ходит. Осталась я одна с 3-мя ребятами. Люша навряд ли приедет, замерзнет в вагоне. 2 месяца только едет. Федор Ар. умер и 4 детей. Няня с Катей и Настей в приюте. Сама она все больна. Ты пишешь приехать к Вам? Как, да и кому ехать, если можно было бы тятьку туда проводить, может он там прожил бы как-нибудь, а тут умрет. Положение наше ужасное — смерть ждет, а умирать неохота. Страшно неохота. Миша не знаем, как живет, да и жив ли? Съездить не на чем. Писем не пишет. Паша в Самаре в детск. доме, говорит жить можно. Ну и все. Пиши нам, может, кто сохранится".
Летом 1918 года мы оставались в Москве. Чудесно разросшийся и еще больше запущенный сад был нашим единственным прибежищем. В нем мы проводили целые дни. Поленьки не было в городе. Екатерина Николаевна, боясь наступления голодной зимы, взяла себе место врача где-то близ Москвы, в деревне (не помню, по какой дороге) и уехала туда с Поленькой и Леночкой, с тем, чтобы остаться там на зиму. Я ездила к ним один раз дня на два.
Должно быть, тем же летом 1916 года я поступила в скауты. Знакомство с этой детской организацией произошло у нас, если не ошибаюсь, через Шушу Угримо-ва, с которым после Судака мы остались в дружбе. Сережа и я попали в разные отряды из-за различия в возрасте. Я была принята в отряд для маленьких девочек, который носил наименование "Пчелок". Малень-кие мальчики назывались "Волчата". "Пчелки" и "Волчата" были еще не полноценными скаутами, а как бы приготовишками.
Сережа же был принят в скауты и попал в патруль "Рысей". На скаутские сборы мне приходилось ходить куда-то на Малую Никитскую. Сначала меня водила мама, а потом я стала ходить одна. Это были первые самостоятельные выходы из дома; впервые я ходила одна по московским улицам и Сережа ходил в другое место на Раушскую набережную.
От этих посещений я помню очень многое. Самым новым для меня было пребывание в компании чужих детей, незнакомых для моих родителей. Я впервые встретила девочек, пришедших из какого-то иного мира, иначе думающих, иначе говорящих, чем я привыкла.
Собирались мы на большом длинном дворе, помнится, что в комнаты почти не входили. Во всяком случае, я не запомнила никакого помещения. Не очень хорошо помню и наших занятий. Знаю, что большое место в них занимало изучение первой помощи, главным образом искусства накладывания перевязок. Кроме того, мы учили азбуку Морзе и проходили науку маршировки. Последнее мне очень нравилось. Меня увлекала ритмичность коллективных движений; мне казалось очень приятным ощущать себя частью совместного, четкого и красивого строя.
Больше всего меня занимало в скаутской жизни то, что я имела возможность делать дома. Мне очень нравилась скаутская форма, необходимость носить на шее синий галстук. Нравились скаутские заповеди. На одном кончике галстука скаут должен был каждое утро завязывать узелок. Назначением этого узелка было напоминание о том, что скаут ежедневно обязан был сделать доброе дело Раздеваясь на ночь, скаут обдумывал свой добрый поступок и развязывал узелок. Я очень старалась, чтобы ни один день не проходил у меня без доброго дела. Помню, что иногда, возвращаясь со сборов домой, я предлагала какой-нибудь старушке на улице помочь нести корзинку с провизией и была очень довольна, когда мне не отказывали в этом. У нас были какие-то скаутские книжки, где описывалась биография всемирного вождя скаутов, жившего в Америке, — Баден-Пауля. Я это с интересом читала. Очень нравился мне также скаутский значок — бурбонская лилия.
На сборах я прислушивалась к непривычной для меня болтовне девочек. С интересом посматривала на более взрослых скаутов, одетых в защитного цвета куртки с карманами и широкополые шляпы. У меня не было такой шляпы. Девочки показали мне одного некрасивого, рыжеватого, веснушчатого мальчика лет 13 и сказали, что это Лева Т., сын известного Т. Это тоже меня очень заинтересовало. Помню, что одна маленькая девочка при мне вытащила из кармана яблоко, стала его есть, а кожу выплевывать. Девочки спросили ее о том, зачем она выплевывает кожу, а она ответила, что делает это потому, что мама не велит ей есть яблоки с кожей. Меня очень поразил такой оригинальный способ выполнения маминых приказаний. Мне показалось, что это равняется обману, и моя непримиримая честность была очень возмущена.
На Малую Никитскую я ходила недолго. Вскоре мама узнала, что в одном из домов, выходивших в тот двор, где происходили сборы, кто-то заболел дизентерией, и не позволила мне больше ходить туда. Помнится, я не очень огорчилась этим.
Однако скаутские дела мои не кончились. Осенью я снова стала посещать сборы. На этот раз мне пришлось ходить в другое место — в Савинов переулок, расположенный за Плющихой, в районе Девичьего поля. Эти новые сборы носили другой характер. Тут я уже была не "пчел-кой", а полноправным скаутом.
Собирались мы в холодные осенние вечера, в пустой, заброшенной квартире, в подвальном этаже. Приходилось проходить несколько темных комнат, без мебели, с порванными, грязными обоями.
Мы, человек 6–8 девочек, рассаживались перед камином, в котором жгли старую бумагу. Во всем этом был налет романтики и поэзии, которую я очень остро ощущала. Было и немного жутковато чувствовать за спиной анфиладу холодных заброшенных комнат, в окна которых смотрел неприветливый вечер, и в то же время уютно сидеть возле ярко пылавшего камина. Я впервые научилась тогда смотреть в огонь и ощущать его таинственную, притягательную силу. При этом я отлично сознавала то, что стены комнаты, где мы сидели, обступала не только осенняя ночь, но и огромные, во многом жуткие, события крушения старого мира.
Мне ужасно нравились те песни, которые пели девочки, сидя у камина. Это были песни о походах, кострах, о знаменитой картошке. Пели революционные песни, особенно помню песню "Молот". Все это для меня было совершенно новым, а песни звали куда-то вдаль, в неизведан-ные, никогда не испытанные походы с ночевками в лесу, с кострами, палатками и печеной картошкой.
Как описать эти незабываемые две зимы 1918–1919 и 1919–1920 годов? Как передать то неповторимое, волнующее, романтическое, что было заключено в этом времени и что до нас доходило преломленным через сознание нашего отца? Как описать Москву этих лет — пустынную, молчаливую, без трамваев и почти без магазинов, с очередями у хлебных лавок, с людьми, везущими на саночках свой пайки, с мешочниками и с рынками, на которых пожилые дамы в старомодных шляпах и узких ботинках на пуговках продавали кусочки кружев, рамочки и склеенные фарфоровые вазочки? Как рассказать о холоде промерзших квартир, о щемящем чувстве голода по вечерам, о железных печурках, о мышах, шны-ряюших под обеденным столом во время вечернего чая?
Почти через четверть века после этого, в 1943 году, когда мы находились в Самарканде, художник Фальк рассказал мне о том, как в 1919–1920 годах он однажды вместе с моим отцом присутствовал на каком-то заседании. Говорилось о задачах русской литературы тех дней. Профессора-литературоведы и писатели произносили пышные, пустые речи. А потом взял слово пала. Он сказал только одну фразу. Он сказал, что для того, чтобы воплотить в литературе величие происходящих событий, нужно найти слова, равные по своей значительности словам Библии… Именно так переживал он все то, что совершалось тогда перед его глазами. Именно так заставлял и нас оценивать это. Я хорошо помню, что тяготы жизни, с которыми нам пришлось тогда впервые встретиться, воспринимались нами не просто в своей обыденной неприкрашенно-сти а окруженными романтическим ореолом и своеобразным величием. Детская склонность к реальному восприятию действительности толкала к тому же, усиливая действие папиного влияния и дополняя его слова причудливостью и красочностью мировосприятия.
В 1919 году в нашем доме перестало функционировать центральное отопление. Папа больше не мог жить в своих верхних комнатах. В детской и в столовой поставили по небольшой железной печурке, которые тогда называли "буржуйками". Уже позже, на будущий год, их заменили печками, сложенными из кирпича, которые значительно лучше железных держали тепло. Так как в детской не было дымохода, узкая железная труба была проведена сквозь стену в маленькую комнату, между которой и столовой в капитальной стене проходил основной дымоход Дома. Через столовую также тянулась труба, попадавшая в тот же дымоход с другой стороны. Как все это изменило наши красивые, чистые комнаты! Как изменилась и вся наша жизнь! Одно осталось неизменным: высокое горение духа нашего замечательного отца, которое стало еще ярче, еще интенсивнее.
Все тяготы жизни легли на плечи мамы. Кроткая и неизменно терпеливая, она из сил выбивалась, стараясь нас накормить и одеть. Питались мы ужасно. Сначала бывало пшено, которое ели по три раза в день, до одурения. Затем пшено исчезло, и о нем стали вспоминать с вожделением.
Хлеб, который выдавали по карточкам, был ужасен. Помню, что порой он представлял собой липкую черную массу, в которой попадались соломинки. Вместо кофе пили жареный овес. Кофейную гущу не выбрасывали; мама пекла из нее пудинг на патоке, густо унизанный колючи-ми усиками от овса. Из кожуры от мороженой картошки делали лепешки, которые пекли сверху на железной печурке. Они частично оставались сырыми, а частично подгорали. Я хорошо помню вид печурки, на которой лежат дымящиеся лепешки. Возле печки сидит папа и следит за лепеш-ками. Вечер. Папа произносит: "Как хорошо думать, что скоро можно лечь спать и наступит утро, когда будет завтрак". Чаю не было, пили морковный. Сахару тоже почти никогда не быва-ло, вместо него употребляли сахарин, который придавал чаю отвратительный металлический привкус.
Когда получали по карточкам сахар, накалывали его микроскопическими кусочками. Если люди шли в гости, они брали с собой из дома свой сахар. Помню, что папа в таких случаях клал в жилетный карман маленькую металлическую коробочку с кусочками сахара. Когда вдруг, неожиданно, выдавали по карточкам что-нибудь интересное, для нас, детей, наступал праздник. Хотя, должно быть, это было не по карточкам, а в академическом пайке. Академический паек начали выдавать зимой 1919–1920 года. Тогда нам стало немного легче. Его выдавали сразу чуть ли не на целый месяц. За ним обычно отправлялась мама, взяв с собой саночки. В таких случаях она пропадала на целый день, т. к. приходилось подолгу выстаивать в очереди. В пайке давали большое количество мяса. Помню, что мама ходила на Смоленский рынок продавать часть этого мяса.
Раза два папе доставалась какая-то доля посылки "Ара", которую присылали американские благотворители русским ученым. Мне запомнилась только одна вещь, бывшая в этой посылке: большой, в руку толщиной, брусок шоколада без сахара, должно быть, предназначенного для варки. Шоколад этот трудно было есть, т. к. он был очень горький. Мы скоблили брусок ножом и, когда бывал сахар, смешивали шоколадные стружки с сахаром и так ели. Тогда получалось вкусно.
Хорошо запомнилось мне открытие детской столовой, куда нам были выданы специальные талоны. То есть, собственно, запомнился первый день этой столовой. В этот день детям дали по куску вареного судака с соленым огурцом. Это было так неправдоподобно вкусно, так удивите-льно хорошо, что оставило след на всю жизнь. Со следующего дня в столовой стали выдавать по тарелке какой-то мутной баланды, в которой плавали кусочки свиной щетины.
Зимой 1918–1919 годов, когда еще не было академического пайка и когда мы буквально пропадали от голода, мама стала ходить за продуктами к Дувинской. Имя Дувинской я уже упоминала. Это была старинная папина знакомая из Кишинева. Он знал ее в дни своей молодости хорошенькой, тоненькой девушкой. Кажется, он даже за ней немного ухаживал в одно лето. Теперь она была толстой, веселой и шумливой еврейкой, говорливой и безгранично доброй. Жила она в начале Плющихи. Официальным делом Дувинской было кустарное произво-дство косметики — пудры, мыла, духов и т. д. Неофициально она занималась спекуляцией продуктами. Звали ее Фредерика Арнольдовна. Дувинская водила знакомство с целым рядом мешочников, привозивших продукты из деревни в Москву. Она ходила на Брянский вокзал, где встречала поезда и сходивших с них мешочников, приводила к себе. Благодаря своей доброте и открытому характеру, она прекрасно умела ладить с мужиками, усаживала их в кухне пить чай, и они чувствовали себя у нее в квартире как Дома. Я очень любила ходить к Дувинской и постоянно Увязывалась за мамой, когда она отправлялась туда.
Шли мы обычно под вечер. Пройдя Смоленскую площадь, которая с обоих сторон от Арба-та представляла собой огромный, шумный и беспорядочный рынок, мы вступали на Плющиху, где, кажется, во втором дворе от Смоленского, по левой стороне улицы, жила Дувинская.
В ее грязноватых комнатах всегда было много народу и звучали громкие, резкие голоса. Матери помогала младшая дочь, красавица Эмма. У Дувинской было четверо детей. Старший сын погиб незадолго перед тем где-то в Сибири во время начавшейся Гражданской войны. Старшая дочь была замужем за персом и жила в Персии. О младшем сыне постоянно что-то рассказывалось. Он то появлялся у матери, то за что-то сидел в тюрьме. Я его никогда не видела и дальнейшей судьбы его не знаю. Эмма впоследствии также вышла замуж за перса и некоторое время пробыла в Персии. Потом, кажется уже после смерти матери, она вернулась на родину и вышла замуж за какого-то врача. Как-то в 30-х годах, когда я ходила в Institut de beaute сводить веснушки, я встретила ее там в качестве служащей этого учреждения. Видимо, она не забыла материнской специальности. Она была все так же красива, хотя и сильно пополнела.
Мама покупала у Дувинской пшено, сахар, деревенский печеный хлеб. Все это извлекалось из глубины мужицких мешков. Помню, что хлеб, купленный у мешочников, мама потом держала над огнем, чтобы как-нибудь гарантировать его чистоту.
Дувинская меня ласкала, угощала чем-нибудь вкусным из своих запасов. Мне нравился ее веселый, шумный дом, вся эта необычная обстановка, забавляли темпераментные, громкие разговоры самой хозяйки. Помню, раз со мной там произошел случай, который сначала испугал, а потом рассмешил меня. Когда я вошла в столовую Дувинской, мне вдруг диким прыжком бросилась на грудь кошка и повисла, вцепившись всеми четырьмя лапами в мое платье. Эту кошку я видела до этого множество раз, и она всегда вела себя совершенно спокойно. Я закричала; Дувинская подоспела ко мне на помощь и не без труда отцепила кошку от моего платья.
Когда все успокоилось, она рассказала мне, что кошка перед этим каким-то образом ухит-рилась нализаться валерианки и опьянела. В состоянии опьянения она пришла в такой раж, что начала бросаться из стороны в сторону. Тут я ей и подвернулась. Долго я не могла оправиться от испуга, а потом стала вместе со всеми смеяться.
От Дувинской мы с мамой возвращались нагруженные мешочками. Я помогала маме нести. Помню каждый шаг этого пути: серые железные ворота и калитку дома Дувинской, уложенный каменными плитами тротуар на Плюшихе, шумный, беспорядочный Смоленский рынок-толкучку, через который мне всегда было интересно проходить. Я с любопытством разглядывала разношерстную толпу: оборванцев в элегантных отрепьях, деревенских баб-торговок, интелли-гентных женщин, продававших предметы домашней обстановки или одежду.
Мама тоже иногда ходила продавать туда что-нибудь. Помню, например, что она таким путем продала несколько наших детских книг, тех, что были понаряднее изданы: так называе-мые подарочные издания, которые нам дарили обычно наши дядья или дедушка. Некоторые из этих книг мне жалко до сих пор.
Быт наш в эти годы был очень труден. Особенно тяжело приходилось зимой. Сносную температуру удавалось кое-как поддерживать только в комнатах. В коридоре и в кухне стоял ледяной холод. Железные печурки топили коротенькими, мелко нарубленными дровишками, которые папа обычно колол в кухне.
Обуви не было. Изредка "домком", как тогда называли первую общественную организацию — будущее домоуправление, получал ордера на обувь, которые разыгрывались между жильца-ми. Помню, что я один раз выиграла ордер на галоши.
Москва тогда почему-то была наводнена мышами. Это было удивительным явлением. Мышей развелось такое множество, что они буквально наполняли все квартиры и совершенно перестали бояться людей. По вечерам они нахально шныряли по полу, задевая ноги сидящих за столом и перебегая по ногам. Ни я, ни Сережа мышей нисколько не боялись. Наоборот, они забавляли нас. Мы знали их норки и заводили с ними знакомства. Однажды я долго сидела на полу в столовой возле одной такой норки, выманивая мышь. Я положила себе на руку кусочек сала таким образом, чтобы мышка, выйдя из норы, должна была пройти на моей ладони. Помнится, мне пришлось просидеть довольно долго. Наконец, мышка вышла, пробежала по моей руке, схватила сало и убежала назад в норку.
Другой раз, когда мы с Сережей были простужены и лежали в постелях, мы решили поймать мышей. Взяв каждый по валенку, мы положили в них что-то съестное и стали ждать. Когда мыши вбежали в валенки, мы зажали руками голенища и мыши оказались пойманными. Но мы их не собирались уничтожать. Это была просто игра: мы их тут же выпустили.
Одна моя встреча с мышью оказалась пренеприятной. Как-то вечерам, лежа в постели, я съела сухарь. Когда мама погасила свет и я уже начала засыпать, я вдруг почувствовала у себя под одеялом движение, и по моим ногам что-то пробежало. Это была мышь, которая забралась в мою постель, почуяв крошки. Ощущение было ужасным. Помню свой отчаянный испуг. Я долго не могла потом прийти в себя, дрожала мелкой дрожью и не спала полночи.
Папа был удивительно хорош в эти тяжелые годы. На его долю впервые в жизни пало много хозяйственных дел. В обледенелой кухне он колол поленья на мелкие дровишки, подходящие для железных печек, постоянно сам топил эти печки. Но никогда, кажется, прежде не горели таким огнем его глаза, никогда с такой силой в нем не кипело творчество, как в это время. Он со свойственной ему страстью отзывался на все происходящие события, отзывался каждым своим нервом. В эти годы к нам приходило меньше людей, чем прежде, но все же были такие, которые приходили постоянно, почти изо дня в день.
Некоторые близкие папины друзья уехали из Москвы. Так, Кистяковский уехал на родину, в Киев (где вскоре умер от тяжелой болезни печени). С Бердяевым папа больше не встречался. Я помню частые приходы молодого тогда поэта В.Ф.Ходасевича, также молодого прозаика-беллет-риста — Вл. Лидина. Приходили по-прежнему Андрей Белый, Вяч. Иванов и А.Н.Чеботаревская.
Появились в нашем доме некоторые новые лица — философ Лундберг, большой, грузный мужчина — публицист Иван Васильевич Жилкин и его жена. Впервые появился приехавший с фронта Яков Захарович Черняк, тогда молодой поэт 20 лет. Он приехал к нам в своей фронтовой одежде, грязный, небритый, усталый. Кто направил его к папе — не знаю. Вероятно, у него было к нему от кого-нибудь рекомендательное письмо. Папе он очень понравился своим ярким талантом, юношеским подъемом, обаянием. Тогда и началась многолетняя дружба наша с ним, а впоследствии — и с его семьей.
Все эти люди приходили худые, плохо одетые, в валенках; сидели в холодной столовой, через которую тянулась под потолком узкая железная труба от печурки; пили морковный чай с сахарином и вели страстные, возвышенные разговоры о величии происходящих событий, о значительности того, что переживает русский народ. С горячей верой ждали чего-то нового, рвались вперед к лучшему будущему.
Душой этих разговоров был мой отец, слова которого в эти годы звучали почти пророчес-кой мудростью. В течение 1918–1919 годов раза два или три он читал публичные лекции. Точно не могу сейчас определить их содержания. Где-то в недрах архива у нас хранятся афиши этих лекций. Одно могу сказать, что это были лекции на философские темы общего порядка. Раз или два папа ездил читать лекции в другие города. Однажды он уехал для этого в Киев. В тот день, когда его ждали назад в Москву, мы с мамой пошли на Брянский вокзал его встретить. Никогда не забуду этой встречи. Мы стояли на перроне и издали увидали киевский поезд, входивший в вокзал. Зрелище оказалось поистине удивительным. На крыше каждого вагона плечо к плечу сплошной стеной стояли люди, приготовившиеся к спуску. Так и шел этот поезд — с толпами людей на крышах вагонов.
Для характеристики широты взглядов моего отца интересно рассказать случай, связанный с одной из его публичных лекций. Происходило дело, должно быть, в Политехническом музее. Почему-то мама не была на этой лекции. Придя домой, папа с увлечением рассказывал ей о том, что там произошло. Он был так воодушевлен и так радостно рассказывал, что я как сейчас помню его слова. Это лекция, как и все папины выступления, имела большой успех у публики. Но некоторая часть аудитории, не скрывая, высказывала свое несогласие с ее положениями. Наиболее темпераментно в этом смысле держались два молодых человека, обратившие на себя папино внимание. Они вели себя вызывающе: сидя на столе и болтая ногами, выкрикивали саркастические реплики по адресу лектора.
Папа характеризовал их восторженно. "Ты понимаешь, — говорил он маме, — их юношеский задор был восхитителен, они очаровали меня своим остроумием, свежестью своих дерзких, молодых мыслей. Интересно знать, многие ли из тогдашних добропорядочных москов-ских профессоров способны были таким образом расценивать выступления представителей новой революционной молодежи, публично высмеивавших их собственные взгляды! Теми молодыми людьми, которые вызвали восторг моего отца, были Маяковский и Шкловский.
Зима 1918–1919 годов была для нас, как и для всей московской интеллигенции, особенно тяжелой. Мы форменным образом голодали. У меня все руки были в нарывах. Этой зимой я впервые в жизни остригла свои буйные волосы. Причины для этого никакой не было. Я сделала это совсем не потому, что было трудно их мыть, холодно и т. д., хотя все эти причины существо-вали. Просто мне пришла в голову такая фантазия, и я стала умолять маму об этом. Папа меня поддерживал, а мама никак не хотела дать своего согласия. Кончилось тем, что совместными усилиями нам удалось ее уговорить, и она сама, горько плача, отрезала мою жесткую, рыжева-тую косичку, которую потом и спрятала на память.
Хорошего ничего из этой стрижки не получилось. Короткие мои волосы никак не хотели приглаживаться и торчали во все стороны перпендикулярно к голове. Помню, как дразнил меня этим желчный, саркастический Ходасевич. Он вошел раз в нашу детскую, где я лежала в кровати, больная инфлюэнцией. Посмотрев на мою шевелюру, он сказал: "Твои волосы так и будут расти во все стороны, пока не заполнят всю комнату и не достигнут потолка". Меня очень задело это замечание.
В ту зиму нам совершенно нечего было надеть. Носили какие-то рваные валенки и старые детские шубки, из которых давно выросли. Однажды мама получила ордер на бумазею и купила для меня материал красно-коричневой расцветки кружочками.
Папа, который всегда ревниво вмешивался в наши туалетные дела, раскритиковал мамин выбор и назвал бумазею "очковая змея". Однако ничего не оставалось делать, и мне было сшито платье из "очковой змеи". Платье вышло гораздо лучше, чем можно было ожидать. Папа посмотрел и сказал свое обычное: "Носи на здоровье". Как я любила эти его слова: после того, как он их произносил, новая вещь становилась дорогой и приобретала какую-то особую значимость. А платье "очковую змею" я очень полюбила, оно было теплым и пушистым, подходящим для тогдашних холодов.
Весной 1919 года отец моего приятеля Шушу Угримова, агроном, организовал для мальчи-ков нечто вроде летней сельскохозяйственной колонии, куда наши родители отпустили Сережу. Колония эта находилась на станции Лианозово Савеловской железной дороги в имении Липовка. Туда попали, кроме Сережи и Шушу, еще два мальчика из скаутского отряда — Коля Стефано-вич и Даня Арманд, с которыми Сережа еще раньше успел очень подружиться. Один раз я с мамой ездила в Липовку навещать Сережу.
Поездка эта мне как-то мало запомнилась. Помню только, что в тот же день приезжала навестить своего сына мать Коли Стефановича, крупная, полная дама. Худенький, нежный Коля буквально вцепился в свою мать, прижимался к ней, умолял не уезжать. Меня очень взволновало это выражение чувств мальчика к маме. Сережа ничего подобного не выражал; он совсем не пришел в восторг от нашего приезда: уже тогда начали сказываться первые признаки его отчуждения от семьи.
Пребывание Сережи в Липовке оказалось недолгим и кончилось очень плачевно. Как-то в разгар лета с ним случилось большое несчастье. Обедали мальчики на террасе; 33 едой они сами ходили с тарелками на кухню. Тарелки были металлические. Однажды Сережа нес на своей тарелке горячий кулеш. Тарелка раскалилась и жгла пальцы. Он хотел переменить руку, сделал неловкое движение, и кулеш опрокинулся ему на правую руку, облепив тыльную сторону кисти и все пальцы. Ожог получился отчаянный. Сережу привезли домой, и проболел он после этого несколько месяцев, чуть ли не до середины следующей зимы. Из-за трудных условий жизни и плохого питания его организм плохо справлялся с ожогом, получилось осложнение — воспале-ние лимфатических желез. Долго держалась высокая температура. А кожа руки сохраняла красный цвет потом в течение едва ли не целого года.
В 1918–1919 годах на смену детскому увлечению религией пришли более сознательные духовные искания. Они также были по-детски наивны, но имели уже несколько иной характер. Началось с того, что я стала искать минут одиночества, позволявших сосредоточиться на возвышенных размышлениях.
Однажды я долго сидела у Лили в теплице — в ее маленьком "зимнем садике", где было таинственное золотистое зеленое освещение и благоухали растения. Я взяла с собой тетрадку и, сидя там, записала что-то отчаянно возвышенное, чего, конечно, сейчас уже не помню. Помню только, что я дала папе прочесть эти строки и он раскритиковал их, найдя чересчур по-взрос-лому литературными; сказал, что у меня нет "своих слов" и для сравнения показал собранные Л.Н.Толстым сочинения крестьянских детей.
Лидия Мариановна Арманд
Зимой 1919–1920 годов к моим родителям время от времени стала приходить мать Дани Арманда — Лидия Мариановна Арманд. Случилось так, что это знакомство перевернуло всю мою жизнь.
Даня был очаровательный мальчик. По характеру веселый, ясный, спокойный, блестяще одаренный ко всему, среди ребят он неизменно оказывался душой общества. Внешность его была чрезвычайно привлекательна. Высокий, стройный и крепкий, с копной темных локонов над высоким лбом и с бархатными карими глазами, опушенными густыми ресницами, он напоминал собой героя из какого-нибудь английского романа. Хотя он рос единственным сыном в интелли-гентной семье, в нем не ощущалось ни малейшего эгоизма или избалованности; он был прекрас-ным товарищем. Мальчики его очень любили.
Отцом Дани был весьма образованный и порядочный, но крайне скучный человек, Лев Эмильевич Арманд, по специальности историк. Он потом много лет к нам ходил и всегда угне-тал нас своей вялостью. Лидия Мариановна с ним разошлась. Когда мы с ней познакомились, он был женат на другой — красивой, молодой, чахоточной женщине грузинского происхождения Тамаре Аркадьевне, от которой имел трехлетнюю дочь Ирочку. Кажется, Лидия Мариановна, расставшись с Львом Эмильевичем, сама устроила этот брак. Со своим бывшим мужем и его женой она осталась в большой дружбе.
Лидия Мариановна принадлежала к еврейской петербургской семье врача Тумповского. Ее отца — Мариана Давидовича Тумповского — я хорошо помню. О нем мне еще придется писать. Это был типичный представитель лучшей части русской интеллигенции конца XIX — начала XX веков, передовых взглядов петербургский врач. Жены его на моей памяти уже не было в живых. В семье было четыре дочери. Лидия Мариановна была самой старшей, за ней шла Елена, затем Ольга и наконец — красавица Маргарита, поэтесса.
Две старшие дочери в молодые годы много сил отдали революционной деятельности; обе были эсерки. Елена Мариановна, к тому же, была замужем за одним из крупнейших русских эсеров по фамилии Гельфгот. Ее судьба оказалась типичной судьбой русской женщины-революционерки. Ей приходилось в царское время жить по подложному паспорту, вечно иметь дело с тюрьмами, мыкаться по ссылкам. Она жива до сих пор. Живет на покое у сына, где-то под Алма-Атой. Изредка присылает мне трогательные письма, из которых видно, что она осталась тем же чудесным, светлым и чистой души человеком, которым была всегда.
Ольга Мариановна, в отличие от сестер, не обладала духовностью, будучи просто добропо-рядочной женой своего мужа и хозяйкой. В начале революции она с мужем уехала за границу и больше не возвращалась. Я случайно познакомилась с ними летом 1923 года в Баденвейлере. Раза два мы сталкивались с ней и с ее мужем в парке. Я каким-то образом узнала о том, кто это, и говорила с ней об ее сестрах. Встреча эта оказалась для меня малоинтересной и потому плохо запомнилась.
Совсем другим человеком была младшая сестра — Маргарита, или, как ее звали в семье, Мага. Значительно моложе своих сестер, она была красивее всех. У нее был изящный, удлинен-ный овал лица, обрамленный гладкими, низко спадающими по сторонам прямого пробора темными волосами. Большие, печальные карие глаза, классически правильный, римский нос, тонкие губы и идеальной формы подбородок дополняли прекрасные черты ее лица. При этом она обладала высокой, стройной фигурой. Однако при всем том она была почти лишена женско-го обаяния. В ней соединялась приподнятая романтичность с какой-то нелепостью. И эта-то нелепость в значительной степени разрушала очарование ее незаурядной внешности.
Мага всегда витала в облаках. Неприспособленная к жизни до крайности, она, вероятно, не сумела бы даже сварить себе картошки. В то же время жизнь совсем на баловала ее. У нее не было ни гроша за душой, а ее плохие, такие же нескладные, как и она сама, стихи ни в какой мере не могли служить доходной статьей. Она всегда ходила в не вполне чистых истрепанных платьях, на которых лежала печать жалких потуг на элегантность, ее ногти постоянно были неопрятными, а прекрасные волосы казались давно не мытыми.
Жизнь Маги сложилась очень несчастливо. В ранней молодости у нее был роман с поэтом Гумилевым (кажется, даже связь с ним). Когда в начале 20-х годов Гумилев был расстрелян, она, узнав об этом, прибежала к моей маме и в порыве отчаяния безумно рыдала у нее на груди. Ряд лет Мага зарабатывала переводами, кое-как перебиваясь с хлеба на воду. Потом она вышла замуж и вместе с мужем попала в ссылку. У нее родились две девочки, из которых младшую, Леночку, она похоронила уже довольно большой. Старшая, Марианна, выросла в чрезвычайно трудных условиях.
Судьбы ее я не знаю. Сама Мага в конце концов не выдержала всех испытаний, ниспослан-ных ей судьбой, и в середине 30-х годов умерла еще сравнительно молодой, так больше и не вернувшись в Москву.
Лидия Мариановна, в течение ряда лет бывшая для меня одним из самых близких и бесконечно любимых людей, была чрезвычайно интересным, значительным человеком. В ней все казалось необычным, начиная с внешности. Небольшого роста, худенькая, с маленькими руками и ногами, она обладала удивительным, почти иконописным лицом. У нее были огромные темные глаза, напоминавшие глаза византийских ликов. Тонкий, узкий нос и такие же губы, маленький, острый подбородок. Черные гладкие волосы, так же как у Маги, низко спускались на уши по сторонам лица. Как и Мага, она жила единым духом и была очень мало приспособлена к хозяйственным женским делам, но она была неизмеримо более значительным человеком, очень умным, глубоким, волевым и сильным. В то время, когда Лидия Мариановна познакомилась с моими родителями, она уже оставила политическую деятельность и увлеклась довольно распро-страненным тогда мистическим религиозным учением — теософией. Я знала ее как убежденную теософку. Однако присущие нередко приверженцам теософии фанатизм в соединении с какой-то известной внутренней жесткостью совершенно отсутствовали у Лидии Мариановны, которая обладала очень горячей сердечной и искренней душой, открытой для всех близких ей по духу людей.
Зимой 1919–1920 годов Лидия Мариановна была увлечена педагогическими замыслами. Она лелеяла мечту об организации детской школы на лоне природы, такой Школы, в которой все основано было бы на законе любви и взаимного уважения, из стен которой могли бы выходить люди высокой души. Своими замыслами она делилась с моими родителями. Папа, по-видимому, поддерживал идею подобной колонии и давал Лидии Мари-ановне советы. При этих разговорах я не присутствовала и потому подробнее рассказать о них не могу.
Устройство такой сельскохозяйственной детской колонии, о которой мечтала Лидия Мариановна, облегчалось тем, что в то время подобного рода школ возникало множество. Некоторые из них носили толстовский характер.
Сначала Лидия Мариановна собиралась взять в свою колонию одну группу мальчиков и девочек, по возрасту близких к возрасту ее Дани, т. е. 14–15 лет. Она пригласила в их число нашего Сережу, и родители согласились его отпустить. Местом для колонии была выбрана станция Пушкино по Ярославской железной дороге. Лидия Мариановна выхлопотала получение небольшого помещичьего дома (имение Ильино) в 4 км от Пушкина. Открытие колонии было намечено на весну 1920 года. Сережа был в восхищении от того, что он уйдет из семьи и начнет жить самостоятельной жизнью. А я грустила, что в колонии не предполагалось младшей группы, и потому я не могла туда попасть. Однако перед самым открытием колонии дело изменилось. Подобралось несколько детей 12 лет, то есть как раз моего возраста, которых Лидии Мариановне захотелось взять. Она решила организовать вторую, младшую, группу и предложила мне поехать тоже. Я пришла в неописуемый восторг от этого предложения. Сережу же совсем не обрадовало такое решение, т. к. мое присутствие в колонии частично разрушало его мечты о полной эмансипации от семьи.
Родители наши приняли решение отпустить нас в колонию по следующим соображениям: они думали, что мы там будем жить бодрой, молодой жизнью, гораздо более нормальной и психически полноценной, чем мрачная, исполненная будничных забот московская жизнь.
Им казалось, что там, в товарищеском коллективе, среди природы, мы получим то, чего они не в состоянии нам дать. Эти их предположения полностью оправдались. Два с половиной года, проведенных мною в колонии, оказались едва ли не самым светлым и значительным в духовном отношении периодом всей моей жизни*.
* В настоящем издании текст воспоминаний Н.М.Гершензон-Чегодаевой несколько сокращен за счет подробнейшего описания будней этой колонии и рассказа о последующей жизни колонистов. — Изд.
Организация колонии
Сейчас, пожилым человеком, уже многое повидавшим, я могу трезво оценить то, что было хорошего в этой колонии.
Лидия Мариановна затеяла создать обетованный уголок, такое место, где дети смогли бы получить высокодуховную основу на всю свою последующую жизнь. Для того чтобы успешно осуществить свою мечту, она обдуманно подобрала только таких детей, а также таких педагогов, которые, по ее представлению, могли служить подходящим материалом. Этого принципа она придерживалась в течение всех 4 с половиной лет существования колонии. В тех случаях, когда кто-либо из заново попадавших туда ребят, равно как и взрослых, своим духовным обликом вносил диссонанс в общую направленность колонии, Лидия Мариановна умела незаметно удалить его.
Теперь я думаю, что такой педагогический метод с точки зрения общепринятых позиций таил в себе немало спорно-отрицательного. Колония превращалась в замкнутый, оторванный от мира островок, а воспитание детей принимало тепличный характер.
Однако именно благодаря избранному Лидией Мариа-новной методу, и только благодаря ему, ей удалось сделать то, что она сделала: создать обетованный уголок, который жившие в нем дети любили больше своего родного Дома, пребывание в котором для большинства из них осталось самым светлым воспоминанием на всю их жизнь.
Так относились к колонии не только дети. Я помню несколько случаев, когда взрослые люди, приглашенные Лидией Мариановной посетить колонию, раз приехав туда, были не в состоянии покинуть ее стены и оставались в ней жить, в меру своих сил и возможностей находя для себя какую-нибудь работу. Без дела никто не оставался; Лидия Мариановна всякого умела использовать с пользой Для него и для общего дела. Я никогда больше не встречала такого коллектива, каким была колония.
Это был коллектив, в котором не оказывалось места Для взаимной вражды, зависти или недоброжелательства.
Чем труднее или грязнее была работа, тем более находилось желающих для ее исполнения. Чем больше было лишений, тем большее число членов колонии готовы были отказаться от своего куска в пользу других. Такой стиль поведения как-то естественно и просто стал господст-вующим и обычным в колонии, не доставляя никому ни малейшего труда. Если же кто хотел жить иначе (а это — иногда бывало), происходило то, о чем я уже выше говорила. Лишь в отдельных случаях Лидия Мариановна бралась за перевоспитание кого-либо. Когда она ставила перед собой такую задачу, большей частью ей прекрасно удавалось это сделать.
Она была очень сильным человеком и умела привязывать к себе детей, которые относились к ней с бесконечным доверием и любили ее, как вторую мать. Легкие же шероховатости в характере и отдельные неприятные черты у своих воспитанников Лидии Мариановне удавалось исправлять походя и как будто совсем незаметно. В действительности же ей все это, несомнен-но, стоило многих бессонных ночей. Она всю свою душу вкладывала в колонию и обдумывала каждого из детей, находя к нему свой особый, индивидуальный подход.
Своего сына она никак не выделяла. Особое его положение в колонии определялось только тем, что ему неизменно поручались самые трудные, ответственные работы, что его силы щадились меньше, чем силы всех остальных детей.
На плечи Дани Лидия Мариановна возлагала тяжелую ответственность за выполнение труднейших сельскохозяйственных заданий; в холод, дождь и т. д. посылался куда нужно всегда в первую очередь он. Он работал больше и дольше всех. Как себя Лидия Мариановна ни в какой мере не выделяла в смысле жизненных условий, так и своему сыну она никогда не делала ни одной поблажки.
Сама она не имела даже отдельной комнаты. Временами жила вместе с девочками, а иногда отделяла себе шкафами или ширмой уголок где-нибудь в коридоре.
Общее достояние колонии, хранившееся в кладовой, никогда не запиралось. Не было случая, чтобы кто-нибудь из ребят стащил оттуда что-нибудь из запасов продовольствия или одежды. И это в то время, когда временами мы по вечерам плакали от голода.
Лучшим показателем высокой этики, царствовавшей в колонии, может служить следующий случай. Весной 1924 года возник вопрос о закрытии колонии. Советская власть начала тогда постепенно закрывать толстовские и другие близкие к ним по духу колонии, считая, что педагогические основы подобных школ приносят вред.
В нашу колонию приехала комиссия МОНО (Московский отдел народного образования), которой поручено было обследовать колонию с тем, чтобы вынести решение об ее ликвидации. Приехавшим людям отведена была небольшая комната, отделенная перегородкой от одной из комнат, где жили мальчики. Весь день члены комиссии изучали жизнь колонии. Держались они предвзято враждебно и очень официально, так что произвели на всех чрезвычайно неприятное впечатление.
Вечером они собрались в своей комнате, чтобы решить судьбу колонии. Не успели они начать разговор, как в их дверь кто-то постучал. Вошел один из мальчиков. Попросив прощения за свое вторжение, он сказал: "Я хотел предупредить вас о том, что в нашей комнате слышно все, что вы говорите; так что лучше говорите потише".
Члены комиссии на следующий день сами рассказали об этом Лидии Мариановне, приба-вив, что поступок мальчика настолько их поразил, что они решили отстаивать перед МОНО дальнейшее существование колонии. Им, очевидно, удалось зто сделать, т. к. после этого колония просуществовала еще несколько месяцев и закрыта была только осенью 1924 года.
К чести Лидии Мариановны, надо сказать, что при таком умонастроении ребят в колонии (особенно в первые три года ее существования) не ощущалось оттенка ханжеских или сектантских настроений. Даже своей теософии Лидия Мариановна никому не навязывала, хотя и давала читать теософские книги тем, кто этого хотел. В последний же год, когда я уже там не жила, вероятно, в связи с тем, что ребята стали почти взрослыми, воздействие теософских взгля-дов Лидии Мариановны как будто ощущалось несколько сильнее. Одно только соблюдалось с самого начала: колония придерживалась вегетарианства. При получении продуктов мяса и рыбы не брали, а просили заменить их чем-нибудь другим. Я прониклась вегетарианскими идеями вполне. Попав в колонию 12 лет, я потом оставалась вегетарианкой вплоть до 19 лет, когда в связи с болезнью врачи посоветовали мне начать есть мясо.
Одним из самых светлых, прекрасных эпизодов моей жизни было знакомство с Всеволодом Блаватским, одним из сотрудников колонии. Это был неповторимый, единственный в своем роде человек, ему было тогда 24 года.
Рожденный в интеллигентной семье в Керчи, он в годы империалистической войны потерял связь с родными. Судя по тому, что он бережно хранил семейные фотографии и благоговейно показывал их друзьям, он любил родителей, братьев и сестер, но почему-то им никогда не — писал, так что они, по-видимому, считали его пропавшим без вести на войне.
Внешне Всеволод был чрезвычайно привлекателен. Среднего роста, прекрасно сложенный, с красивым, правильным лицом, окаймленным небольшой рыжеватой бородкой, с изящными аристократическими руками, его лучистые глаза умно и ласково смотрели сквозь стекла очков в металлической оправе. Духовный облик Всеволода определялся двумя сторонами его сущности.
От природы это был человек глубочайшей нежности, доброты и душевной тонкости. Присущие ему застенчивость и духовное целомудрие заставляли его стыдливо скрывать эти свойства, чаще всего за маской шутливого юмора. Другим определяющим качеством облика Всеволода был выработанный им собственный взгляд на жизнь — особая философия, которой он неукоснительно следовал в своем поведении и укладе существования. Не будучи толстовцем или приверженцем определенного нравственного учения, Всеволод положил в основу своей жизни отрицание какой-либо собственности, причем не только материальной, но и духовной, — как элемента, связывающего внутреннюю свободу человека. (Вероятно, это и было причиной его отказа от семейных связей.)
Сам он не имел никакого имущества, даже смены одежды. Часто ходил одетым почти в лохмотья, на штанах его были дыры, которые он называл "вентиляция". В колонии он был незаменимым человеком. Естественно и просто он взял на себя самую трудную, грязную и тяжелую работу, постоянно заботясь о том, чтобы освободить от нее кого-либо из старших мальчиков и переложить ее на собственные плечи. Относился он к ребятам с величайшей нежностью и заботой, которую умел проявлять как-то незаметно и всегда вовремя, так что она воспринималась как нечто само собой разумеющееся и не требующее благодарности.
В колонии царил бодрый товарищеский дух. В ее стенах постоянно раздавались песни, устраивались шумные праздники, разнообразные затеи, постановки, почти каждый вечер, а иногда и днем, в минуты отдыха, организовывались танцы. Не смолкала музыка. Было несколько завзятых музыкантов, которые хорошо ли, худо ли брались за исполнение пьес любого жанра. Особенно ценились исполнители танцев. Лидия Мариановна всячески поощряла наши затеи (иногда даже шалости) и очень любила, когда ребята веселились.
В колонии установился один обычай; когда приезжал гость, его заставляли непременно что-нибудь рассказать. Вечером, после ужина, когда дежурные кончали мыть посуду, вся колония собиралась где-нибудь в одном месте. Летом это чаше всего происходило на воздухе, на террасе или на лужайке под деревом, зимой — в зале или в той комнате, где лежал какой-нибудь болящий (что часто случалось). Гостю предоставлялось право рассказывать все, что он хочет: из собственной биографии, из области науки, сказку, легенду, любой вымысел. Было бы только интересно. А когда он кончал, начиналось хоровое пение. Иногда любители танцев потом бежали в залу танцевать. Во время рассказов и пения сидели группами, тесно прижавшись друг к другу или обнявшись. Если это происходило в комнате, то рассаживались по кроватям, столам, на полу. Сидели затаив дыхание, старались не проронить ни одного слова из повествования рассказчика. В это время мы чувствовали себя одной тесно сплоченной семьей бесконечно близких и дорогих друг другу людей. Это ощущение еще усиливалось благодаря тому, что в окрестных лесах и на дорогах грабили, что за стенами колонии расстилалась огромная, потрясе-нная грандиозными событиями революции и охваченная пожаром Гражданской войны страна. Нас связывал и общий труд, и голод, и дрожащий свет вонючих коптилок, и ледяной холод наших коридоров и зал, и жар пылающих печурок в наших комнатах. Чувство дружбы и нерушимой связи друг с другом было таким дорогим и сладким, что его нельзя было сравнить ни с чем, прежде испытанным.
Больше никогда в жизни мне не пришлось переживать ничего подобного. И за это я бесконечно благодарна Лидии Мариановне.
С момента закрытия колонии прошло 32 года. Когда ее закрыли, мне было 16 лет, а сейчас мне 49. Но пережитое в ее стенах до сих пор светит мне негасимым светом. Оттого, что были эти 2 с половиной года, мне и теперь легче жить, и я знаю, что так будет до конца моих дней. Но я также знаю, что это неповторимо; и не только потому, что я была молода тогда и что такие люди, как Лидия Мариановна, встречаются очень редко.
Это неповторимо прежде всего потому, что такое явление, как наша колония, могло сложиться только в те годы, что для этого нужна была ушедшая в невозвратное прошлое романтика 1920 года, нужны были коптилки, мороженая картошка, повседневный тяжелый физический труд, а главное — то приподнятое, идеалистическое и абсолютно бескорыстное состояние духа, которым была тогда охвачена вся лучшая часть русских людей и на которое, естественно, особенно отзывчивыми оказывались детские души.
На природе
В моей памяти ярко запечатлелись самые первые дни существования колонии. Для меня все было ново — и жизнь в коллективе, и жизнь в природе. Я никогда не видела до этого подмосков-ной природы, т. к. нас всегда летом возили к морю. А тут попала в дивное по красоте подмосков-ное место в период первоначальной весны. И образ нашей жизни был такой, что с первого дня мы оказались погруженными в природу и вся наша жизнь шла в неразрывной и неустанной тесной с ней связи.
В самый первый день мне вместе с другими ребятами довелось несколько часов провести в весеннем лесу. Нас послали в лес искать пропавшую у Ильиных ярочку. Я до тех пор не знала, что овечка называется "ярочка", и это было удивительно, как удивителен был наполненный весенним сырым ароматом теплый лес с прогалинами талого снега в тенистых местах.
Мы долго бродили между деревьями, по дорожкам, тропинкам и лесным полянкам, никакой ярочки нам не встретилось, но прогулка эта запомнилась на всю жизнь.
Тесно пришлось соприкоснуться с первых дней жизни в колонии и с теплой, прогретой горячим солнцем землей, которую я знала гораздо лучше, так как постоянно возилась в ней в нашем московском саду. Первой нашей работой было вскапывание земли под огород возле самого дома. Делали мы это лопатами, поднимая целину. Помню, что занятие это было поручено главным образом младшим ребятам и девочкам. За работой мы много болтали. Кто-то знал пальцевой разговор глухонемых и показал остальным. Это было очень интересно и всем показалось увлекательным. Часто отрываясь от работы, мы разговаривали на пальцах.
Другим нашим увлечением были ходули. Каждый из нас смастерил себе ходули, прибив к двум палкам по чурке для того, чтобы ставить ноги. В свободное от работ время мы без устали упражнялись в хождении на ходулях, пытались даже на них танцевать примитивные танцы вроде венгерки. Беспрестанно падали, ушибались, но это не охлаждало наш пыл.
Не знаю, как были настроены старшие ребята, на которых лежала главная ответственность за сельскохозяйственные работы, но мы, маленькие, чувствовали себя по-детски беззаботно; хотя работать всем приходилось всерьез. Многие моменты из этой работы запомнились очень ярко и значительно не только как физическое напряжение, труд, но и как нечто заключавшее в себе большое Духовное богатство. Думаю, что это зависело от двух причин: от общей нравственной атмосферы, царившей в нашей колонии, и от того, что работать приходилось в окружении природы чудесной красоты.
Помню особенно работу в огороде; не только копанье земли, но и устройство грядок, их прополку, которую часто выполняли младшие девочки. Я впервые познакомилась с огородными растениями: свеклой, морковью, брюквой, горохом. В одно лето мы имели участок с просом, который тоже приходилось полоть. Конечно, много сил уходило на покос.
Уже в первое лето я научилась ходить босиком, и постепенно подошвы ног у всех нас так загрубели, что мы свободно бегали босыми не только по лесу, но и по скошенному лугу.
Впечатления от природы я воспринимала тогда с большой остротой и ничем не затуманен-ным интересом. Для меня они были первоначальными: впервые я ощущала босыми ногами землю — горячую в жаркие летние дни, сырую и холодную осенью, ледяную в часы утренних осенних заморозков. Впервые вдыхала пьянящий аромат свежего сена, впервые слышала кукованье кукушки, которое доносилось из леса за прудом.
Из работ, тесно связанных с впечатлениями природы, особенно радостно вспоминаются две — вязание березовых веников в лесу и копание картошки поздней осенью. Веники вязались для корма лошадям и корове. Это делалось так: группа ребят, назначенных на эту работу, после завтрака отправлялась в глубину леса. Старшие мальчики валили одну-две большие березы, после чего младшие ребята влезали на поваленный ствол и, срезая ветви, связывали их в веники.
Лета 1920-го и 1921 годов стояли очень жаркие. В тени леса жара так не чувствовалась, но весь лес был пронизан солнцем, и пятна света играли на листьях упавшей березы. Отломанные ветви издавали тонкий аромат. Мы сидели как бы в лучезарной, светло-зеленой беседке, наполненной солнечным светом и нежным, свежим запахом березы.
Совсем другие впечатления сопутствовали копанию картошки. Воздух был жесткий, холодный. Сырая земля комьями липла к нашим грубым ботинкам, а иногда и к босым ногам. Над головами нависало затянутое осенними облаками белое или свинцово-серое небо. Где-нибудь на краю картофельного поля, у дороги, горел большой костер, в котором ребята пекли картошку.
Особенно запомнился мне один вечер, когда мы, стремясь закончить работу, очень поздно задержались в поле. Это у нас называлось "умирать за советскую власть" (работать, пока все не будет кончено, независимо от времени). Поле горбом поднималось, соприкасаясь с низко навис-шим над землей небом. На вершине этого горба стояла рыжая лошадь. Ее фигура контрастно обрисовывалась на фоне темно-лиловой грозовой тучи. Это было так красиво в своей величавой суровости, что осталось в моих глазах на всю жизнь. Должно быть, уже тогда во мне предчувст-вовался будущий искусствовед.
Младшим ребятам, особенно девочкам, часто приходилось работать по хозяйству: дежурить по дому, по кухне, шить что-нибудь на ребят. Помню я, как были получены разные материи: голубой и розовый ситец в цветочках, серая бумазея, и мы шили из них сарафаны, платья и блузки, а также рубашки для мальчиков.
Старшие ребята работали по-взрослому. Они пахали и бороновали землю, косили траву, валили деревья на разные поделки и на дрова. По очереди им приходилось таскать воду и месить тесто для ржаного хлеба, который мы пекли сами. Как сейчас вижу фигуру кого-либо из старших мальчиков, шагающую по длинной дорожке вдоль пруда, от колодца к кухонному крыльцу. Воды требовалось так много, что эта работа занимала у "дежурного по воде" несколько часов — все время от завтрака до обеда.
На долю больших мальчиков приходились и все заботы о нашем сельском хозяйстве. Ни у кого не было опыта, учились на ходу. В первое время было особенно трудно, т. к. колония не имела ни лошади, на сельскохозяйственных орудий, и работа производилась самыми примитивными методами.
Уже в начале первого лета удалось приобрести лошадь. За ней поехала в Москву Лидия Мариановна сама и, Получив ее где полагалось, отправилась с ней из Москвы пешком в Пушкино (около 30 километров). Вся колония в возбуждении ожидала прибытия лошади. Перед вечером большая группа ребят отправилась на шоссе встречать Лидию Мариановну. Помнится, мы перешли шоссе и пройдя кусок дороги по направлению к Новой деревне, уселись у обочины дороги.
Ждать пришлось долго. Наконец, показалась фигура Лидии Мариановны с рыжей лошадью на поводке. Дорога из Москвы заняла у нее весь день. Лидии Мариановне, естественно, впервые в жизни пришлось иметь дело с лошадью, а эта была молодая, норовистая и упрямая. Временами она останавливалась и отказывалась идти дальше, а маленькая, худенькая женщина своими слабыми руками подолгу не могла сдвинуть ее с места. Пока Рыжик не привык и не повзрослел на нашей работе, мальчикам и Всеволоду пришлось с ним немало помучиться.
Один случай носил трагикомический характер. Как-то одного нашего мальчика Шуру послали в поле бороновать землю. Он так долго не возвращался домой, что мальчики пошли его проведать. Перед их глазами предстала следующая картина: посреди поля на бороне стоит Рыжик, а Шура ходит вокруг бороны и беспомощно дергает его за повод. К делу воспитания Рыжика пришлось привлечь Ростислава Сергеевича Ильина, с помощью которого дрессировка пошла быстро, и вскоре колония получила прекрасную рабочую лошадь, ставшую всеобщим любимцем и другом на все время существования колонии. Впоследствии появилась и вторая лошадь, с которой не было уже никаких сложностей.
Не вполне складно получилось и с первой нашей коровой. Если не ошибаюсь, корову мы завели только на второе лето существования колонии. Попалось нам крайне неудачное создание. Маленькая, не многим больше крупного теленка, она почти не давала молока и в то же время отличалась непокладистым характером. Девочки по очереди дежурили "по корове". Выпадало это и на мою долю.
Помнится мне одно раннее утро. Я подоила корову (она давала не более 1–2 стаканов молока в раз), а потом выгнала ее на луг. А она вырвалась от меня и удрала; покружив немного, прибежала к открытому сеновалу, где у нас под навесом лежало сено; ей удалось с разбегу забраться на самый верх высокой кучи сена, и я никаким способом не могла заставить ее спуститься вниз; пришлось бежать за подмогой.
Так мы промучились с этой коровой несколько месяцев. В конце концов Ильины, бывшие хозяева коровы, предложили нам забрать ее к себе; мы согласились, поставив им условие, чтобы они ее не резали. И тогда нам было это обещано. Не прошло и нескольких дней после того, что корова к ним переселилась, как мы узнали, что голова нашей коровы красуется на заборе у Ильиных. При тех вегетарианских воззрениях, которые царствовали в колонии, такой оборот дела произвел на всех нас очень тягостное впечатление. Впоследствии колония получила другую корову, оправдавшую свое назначение; тогда больные и слабые смогли получать понемногу молока.
Было в колонии много и других работ, иногда очень грязных и тяжелых. Делали яму с компостом на корм скоту на зиму. Вывозили удобрения на поля. Самой грязной работой был вывоз "золота", т. е. содержимого нашей уборной, которое использовали как ценное удобрение. Была сконструирована специальная бочка, в которую черпаком наливали "золото", а потом, когда объезжали поле, по мере надобности приподнимали заслонку так, что удобрение равномерно выливалось на взрыхленную землю. Те, кто выполнял эту работу, надевали на себя халаты, сшитые из мешков. Но запах был настолько силен, что нижняя одежда также им пропитывалась, и когда работники эти приходили к обеду или ужину, с ними рядом сидеть было не слишком приятно. Чаще всего очисткой уборной и перевозкой "золота" на поля занимался Всеволод и кто-нибудь из мальчиков ему помогал. Когда в колонии поселился Олег (о котором расскажу ниже), он также постоянно выполнял эту грязную работу.
С первых дней существования колонии сложился уклад нашей жизни. Нам казалось, что это сделалось самой собой, а, без сомнения, Лидия Мариановна обдумывала каждый наш шаг.
Рано утром, часов в 7, а летом, может быть, и раньше, все комнаты обходил дежурный сотрудник и будил Ребят.
День начинался с "чтения", которое происходило в большом зале. Лидия Мариановна выжидала, пока все туда соберутся, и входила с книжкой в руках. Медленными шагами она проходила через зал к приготовленному для нее креслу. "Чтение" заключалось в том, что она прочитывала вслух короткий абзац какого-нибудь философского сочинения, афоризм или маленький рассказ, который заключенной в нем мыслью, по ее мнению, способен был определить собой духовное направление наступающего дня.
Часто она заимствовала текст из "Круга чтения" Толстого; иногда из индийских философов и т. п. Когда она замолкала, сидевший у пианино очередной музыкант играл небольшой музыка-льный отрывок подходящего настроения: прелюдию Шопена или что-либо другое в таком же духе. Пока в колонии жила Лида Кершнер, чаще всего играла она; позже — Олег или кто-нибудь другой. В первое время на "чтение" собирались все жители колонии, и дети, и взрослые, и Лидия Мариановна не начинала читать, пока кто-нибудь отсутствовал. Впоследствии приходили только желающие.
Потом шли завтракать. В летнюю пору столы, составленные в один длинный ряд, стояли на террасе, зимой — в зале. Во главе стола садилась Лидия Мариановна и, пока она не разрешала словами "кушайте на здоровье", никто не начинал есть. Когда вставали от стола, говорили "Спасибо всем". Сервировка была самая примитивная: жестяные миски, такие же кружки, оловянные ложки. Дежурный сотрудник разливал еду, а двое дежурных ребят разносили ее по столам. Хлеб, заранее нарезанный на ломти, обносили на противне.
За едой обсуждались задачи сегодняшнего дня и распределялись обязанности между ребятами. Прямо после завтрака все расходились по работам, которые продолжались до обеда. Перед обедом, так же как и перед ужином, мальчики и девочки по очереди бежали на пруд купаться.
Купанье занимало в нашей жизни очень большое место. Купались с увлечением, в воде выкидывали разные штуки. Пруд был глубокий. В одном месте он имел более мелкий залив, в котором первое время купались младшие девочки. Но гораздо чаще пользовались купальней. Кто не умел плавать или не отличался особой смелостью, оставался внутри купальни, где было деревянное дно, другие выплывали на свободное пространство пруда. Мальчики часто плавали на остров, до которого было порядочное расстояние, так что я, которая научилась плавать в первую же неделю купанья, не решалась это делать.
По субботам, когда менялось белье, мы иногда купались одетыми вместе, мальчики и девочки, устраивая различные состязания. Одно из них состояло в том, чтобы раздеться в воде на таком глубоком месте, где нельзя стоять. Тут со мной произошел комический случай. Во время одного такого раздевания с меня соскользнули штанишки, и я их потеряла в воде. Через день или два во время нашего обеда в столовую вошли девицы Ильины. Одна из них на палке несла белые, обшитые кружевцами девчоночьи штанишки. Они сказали, что выловили их в пруду; на вопрос о том, кому они принадлежат, все девочки закричали, что это штаны Наташи Гершензон, а мне, по малолетству, стало очень стыдно.
С прудом была связана одна наша шалость. У нас имелась лодка, которая сильно протекала. Как-то, когда Лидия Мариановна была в Москве, компания мальчиков и девочек, умеющих плавать, уселась в лодку и выплыла на середину пруда. Там лодку стали раскачивать, и она начала быстро наполняться водой.
В эту минуту мы заметили преподавательницу математики Варвару Петровну, которая с полотенцем на плече шла от дома к купальне. Когда она увидела происходящее, она стала махать нам полотенцем и кричать, чтобы мы поскорее гребли к берегу. Но мы не послушались ее, лодка наполнилась водой и пошла ко дну, а мы поплыли в разные стороны, кто куда. Варвара Петровна очень сильно рассердилась на нас и ни с кем из участников шалости до вечера не разговаривала. Вечером ждали Лидию Мариановну. Нам захотелось, чтобы она узнала о случившемся от нас самих, и потому мы отправились ее встречать. Хором, перебивая друг друга, рассказали мы ей о своей шалости. Лидия Мариановна выслушала нас и сказала. "Как жаль, что вышла из детского возраста. Я бы с удовольствием присоединилась к вам". Этот ответ был очень для нее характерен.
В те годы я еще сохраняла позже мною совсем утраченную смелость и бесстрашие, я прыгала с крыши купальни в воду.
Особенно мне запомнились купания жаркими летними ночами. На той же лодке мы выплывали на середину пруда и купались в лунной дорожке в теплой, почти горячей воде. Это было восхитительно — одновременно немного жутко и поэтично.
Во вторую половину дня снова работали до ужина. Учебных занятий в первое лето почти не было, да и дальше они носили недостаточно упорядоченный характер. Варвара Петровна Иевлева занималась с нами математикой. Должно быть, уже в первый год стал время от времени приезжать Сергей Викторович Покровский, который проводил интересные уроки по зоологии.
Очень рано начали увлекаться эсперанто. Многие занимались музыкой. В первые месяцы существования колонии часто приезжала Наталья Эмильевна Арманд, одна из Даниных теток, которая была музыкантшей и занималась с желающими играть на фортепиано. Но это было недолго. Уже в начале лета 1920 года в колонии появилась пианистка Марина Станиславовна Бурдано-ва, с приездом которой музыкальное образование ребят попало в надежные руки.
Музыка была одним из увлечений многих. Играли по очереди по частям, каждый в отведен-ное ему время, отрываясь даже от работ. Когда я вспоминаю начальные месяцы жизни колонии, передо мной возникают несмолкающие звуки музыки, доносящиеся из зала: очень часто это были упражнения — каноны, с которых в то время обычно начиналось обучение игре на рояли. Эти звуки слились в моих воспоминаниях с ощущением палящего зноя, жужжаньем мух и комаров, отдаленным запахом гари, доносившимся за много верст от горевших летом 1920 года вокруг Москвы лесов.
Комаров было множество, и они очень нам докучали. По вечерам, перед сном, мы нередко жгли в своих комнатах можжевеловые ветки, чтобы их выкурить. Но это помогало мало. И теперь, слушая звон комара в ночной темноте, вспоминаются мне вечера колонии, когда я, лежа на своем тонком матрасике, сквозь который на мое детское тело давили положенные на металлическую раму кровати круглые жердочки, слушала этот звон и натягивала на голову одеяло, чтобы спастись от докучливых укусов и заснуть.
В это время, помнится, сердце мое иногда сжималось от смутной, безотчетной тоски. Это не была тоска по дому — с самого начала я полюбила колонию больше своего родного дома. Тоска эта бывала по-юному светлой, но она приобретала другой оттенок в черные вечера поздней осени или зимы, когда с лесной дороги доносились звуки гармоники и визгливого деревенского пения. Сначала слышные издали, эти звуки постепенно приближались и становились громкими, пока деревенская молодежь проходила мимо нашего дома, а потом вновь удалялись и затихали.
В этом пении, вероятно, мне слышалось многовековое горе и удаль русского народа и тревога гибнущей в то время старой России. Я не могла этого понимать, но инстинктивно ощущала какой-то глубокий, эпохальный смысл в доносившемся до меня ночном пении, и мне становилось одиноко и жутко. Я и сейчас без волнения не могу вспоминать об этом деревенском пении на разрозненных, покрытых осенней грязью или снегом ночных дорогах потрясенной страшными событиями революции, бескрайной, разоренной страны.
Деревня по своему облику тогда еще была нетронутой, сохранявшей вековой уклад и веко-вую мудрость. В первое время сношений с крестьянами у нас было немного, близко от Ильина не располагалась ни одна деревня. Лесная дорога вела в село Левково, куда мы изредка ходили в церковь.
Припоминается мне один случай, связанный с крестьянами. Работая на жаре, наши мальчи-ки часто скидывали с себя рубашки и оставались в одних штанах. Эта вольность возмущала деревенский "домострой". Однажды к Лидии Мариановне явилась деревенская делегация с покорной просьбой не нарушать принятых в деревне приличий. Хотя просьба эта изложена была очень вежливо, Лидия Мариановна не дала крестьянам обещания изменить наши обычаи, а, напротив, деликатно сказала им, что у них свои точки зрения, а у нас свои, и мы не будем от них отказываться.
В нашем светлом, летнем доме жизнь наладилась как-то сразу. Девочки заняли две большие комнаты на втором этаже. В одной из них поселились старшие, в другой — младшие, и я среди них. Наша комната имела дверь на большой балкон с колоннами, расположенный над нижней террасой. По другую сторону коридора на втором этаже было несколько маленьких комнат, где жильцы менялись. Внизу тоже было несколько жилых комнат, в которых, кроме больших мальчиков, жили сотрудники. Рядом с залом находилась красивая большая квадратная комната, где сделали библиотеку.
Меблировка комнат была более чем проста. Мебель нам выдали при организации колонии самую казенную. Такими же были одеяла, подушки, обувь и некоторые предметы одежды. Но комнаты наши, так же как и наши костюмы, совсем не выглядели однообразно или уныло. Светлые деревянные стены мы украшали еловыми ветвями и картинками хорошего вкуса и возвышенного содержания.
Из полученных материй шились разнообразные одеяния. Помню, как несколько девочек сшили себе нечто вроде античных тог; некоторые шили из серой бумазеи сарафаны и к ним делали белые вышитые разноцветными нитками блузки. На столах и подоконниках повсюду стояли букеты цветов или ярких листьев, если была осень.
Сложнее было с питанием. Самые первые месяцы дело обстояло неплохо. Мы ели лучше, чем в своих семьях в Москве во время голодных 1919-1920-х годов. Особенно помнятся мне большие круги голландского сыра, казавшегося нам изысканным лакомством. Но это продолжа-лось недолго, и уже с осени 1920-го и до конца существования колонии мы, особенно в зимние месяцы, попросту голодали. Для нас часто в диковинку было получить на второе к обеду или к ужину столько вареной в мундире картошки, чтобы с нею можно было съесть ту порцию постного масла, налитую в столовую ложку, которая отпускалась каждому.
Как сейчас вижу себя за ужином сидящей на скамейке перед непокрытым скатертью деревянным, фанерным столом. В жестяной миске передо мной лежат несколько мелких, размером с лесной орех картошек в мундире, а в ложке, положенной на стол и ручкой опертой и край миски, налито постное масло. Я положила в него немного соли и макаю туда картофелины. Намоченные в масле, они кажутся мне удивительно вкусными; но как скоро они исчезают!
А в столовой холодно и полутемно. Горит одна керосиновая лампа-молния. Но мне нисколько не грустно и не плохо. Напротив. Голодные ужины и обеды не вносили тоски в нашу жизнь или разногласий в нашу среду. Рядом со мной, на той же лавке и напротив, сидят милые, веселые, дорогие ребята, и мелкая (а подчас и мороженая, вонючая) картошка еще ближе связывает нас в одну семью. Сближает нас и холод, и тусклый, керосиновый свет. Окончив ужин, мы соберемся где-нибудь в теплом углу у печки и будем петь наши любимые песни. И с нами Лидия Мариановна, в присутствии которой не бывает плохо и страшно, которая все может и оградит нас от всего дурного. Навсегда вкус картошки, варенной в мундире, обмокнутой в подсолнечное масло, остался для меня одним из самых любимых, и я пользуюсь каждым случаем, чтобы, отодвинув от себя самые лучшие блюда, взять в рот такую картофелину.
Летами мы варили супы из снырки — съедобного, но не слишком вкусного полевого расте-ния с мясистыми стеблями. Мне часто приходилось вместе с другими девочками отправляться на сборы снырки на опушку леса и на полянки. Когда наладилось наше сельское хозяйство и мы стали сеять овес, за столом появился овсяный кисель. Чай был суррогатный, кофе — тоже; иногда варили компот из жестких сухих груш.
Хорош был только ржаной хлеб. Его умели выпекать, и он всегда был свежий и вкусный. Если бы только ломти его были побольше! Особенно недоставало еды большим мальчикам, которые быстро росли и тяжело работали физически. За обедом и ужином подчас устраивались сборы "в пользу голодающих", когда младшие ребята, в первую очередь девочки, отделяли часть своих порций для старших ребят.
Летом, кроме снырки, большим подспорьем нам служили грибы. Мне никогда больше не приходилось видеть такого количества грибов в лесу, как во время моей жизни в колонии. По северной дороге подмосковные места сыроваты; из-за того, что около нас близко не было деревень, все дары леса оставались нетронутыми. Хождение за грибами включалось в число обязательных работ, и мне приходилось в нем принимать участие.
Мы брали в руки ведра, которые мгновенно наполнялись. Собирали одни только белые, попадавшиеся буквально на каждом шагу. Крупных шлюпяков мы не срывали — брали мелкие, срезая ножами корни около самых шляпок. Супы с грибами очень украшали наш стол.
Не меньше в лесу было и ягод — земляники и особенно черники, которых также никто, кроме нас, не собирал. Помню, что земля на острове и в лесу около пруда сплошь была покрыта кустами черники. В июле она превращалась в сплошной ковер ягод, так что собирать их можно было сидя, не сдвигаясь с места.
Полагавшиеся нам, как и другим детским колониям, продукты, а также мануфактуру, обувь и готовое платье мы получали где-то возле станции Пушкино. Какими бы скромными ни оказывались привезенные дары государства, мы всегда встречали их с радостью и любопытством.
Наши гости
Необычайно хороши, прямо-таки лучезарны в своем ярком, ничем не запятнанном веселье были происходившие по разным случаям праздники, которые очень скоро приобрели свои традиции. Мне запомнился один такой праздник летом 1920 года, когда справлялось рождение Лидии Мариановны.
Для нас он начался на заре — часа в 4 утра. Маленькие девочки в теплые летние ночи спали обычно на балконе на полу на положенных в один ряд матрасах. С вечера мы задумали план, которым руководила Лида Кершнер.
Как только рассвело, Лида явилась из соседней комнаты, где жила со старшими девочками, и разбудила нас. Я живо помню чувство, с которым вставала со своего матрасика: и спать мне хотелось, и радость праздничного дня охватила мою душу, и утренний холод разбирал. Мы быстро оделись, взяли большой белый эмалированный кувшин и каждая по кружечке и, тихонько пробравшись по коридору и лестнице, вышли из дома и отправились в лес, где на хорошо знакомых нам местах росла не тронутая никем земляника.
Ягод было так много, что нам понадобилось не больше часа, чтобы наполнить огромный кувшин. Домой мы успели вернуться вовремя. Через несколько минут после того, как мы юркнули под свои одеяла, Лидия Мариа-новна пришла нас будить.
В этот день по кухне дежурила Лида. Поэтому именинный пирог (для которого предназна-чались ягоды) удалось испечь втайне, и он оказался для всех остальных ребят и для героя дня — Лидии Мариановны — сюрпризом, который вызвал всеобщий восторг, сопровождавшийся радостными криками и визгом.
Этот летний день с начала и до конца запечатлелся в моей памяти. Праздничный обед бы накрыт на столах, которые расставили под деревьями на лужайке. Перед обедом, как обычно, ребята собрались купаться. Купанье это ознаменовалось одним веселым событием, которое надолго запечатлелось в летописи жизни колонии.
С утра в колонию приехали разные гости. Среди них была старинная приятельница Лидии Мариановны — Олимпиада Ивановна Зеленина (жена известного врача — профессора сердеч-ника Зеленина, который был с ней в разводе и имел уже в то время другую семью). Как и Лидия Мариановна, Олимпиада Ивановна была теософка. С ней приехал ее сын Женя. Это был круп-ный высоки мальчик в очках, который к своим 16 годам успел вырасти до размеров взрослого мужчины. Веселый, простой, чуть-чуть в чем-то нелепый, от с первой же минуты своего появления завоевал всеобщую симпатию.
У наших мальчиков на пруду имелся плот, который °ни сами смастерили и с которым много возились. Во время купания они предложили Жене Зеленину покататься на плоту. Он взгромоз-дился на него одетым, вероятно, сделав это недостаточно ловко. Этот плот не выдержал тяжести большого неуклюжего парня и погрузился в воду. На Жене надета была тонкая суконная тужурка и такие же брюки-галифе полувоенного типа. Весь его костюм промок до нитки.
Мы все, вместе с гостями, сидели на лужайке за празднично накрытыми столами, когда из-за холмика, скрывавшего от наших глаз пруд, появилась процессия мальчиков, ведших мокрого Женю. Все они громко смеялись, наперебой рассказывая нам о том, что случилось на пруду. Сам Женя смеялся громче всех (привычка подтрунивать над самим собой и смеяться над собственны-ми слабостями и неудачами, которая обнаружилась в тот день, до старости осталась одним из характерных и очень привлекательных свойств Жени Зеленина).
Мальчики удалились в дом, чтобы переодеть Женю, и там пропали. Их долго ждали с обедом, наконец, они появились. Их явление было встречено громким взрывом долго не смолкавшего веселья. Оказалось, что во всей колонии не нашлось одежды, по размерам подходившей Жене. После тщетных поисков и неудачных примерок Женя стащил с себя тужурку и натянул ее вместо брюк, просунув ноги в рукава, а вместо куртки накинул на плечи халат Лидии Мариановны. В таком виде он и пришел к столу. Ему пришлось щеголять в этом наряде довольно долгое время и после обеда, так как его толстые брюки не могли скоро просохнуть. После этого праздника Женя остался в колонии и сразу вошел в коллектив, заняв в нем свое прочное место.
В колонию на протяжении всех лет ее существования приезжало много интересных людей. Некоторые из них были постоянными, верными ее друзьями и воспринимались нами и как полноправные члены колонии.
Самым верным и самым желанно-любимым другом с первых дней стала Анна Соломоновна Шлепянова — чудесный, яркий и оригинальный человек, оставивший в моей душе неизглади-мый след и чувство величайшего уважения, любви и признательности. Анна Соломоновна также была старинным другом Лидии Мариановны По-видимому, ее убеждения не совпадали с теми, которые были свойственны Лидии Мариановне, так как она была принципиальной атеисткой, рационально и трезво смотревшей на жизнь Но думаю, что разница во взглядах ничуть не мешала их дружбе, чему залогом служило золотое сердце Анны Соломоновны, свойственная ей безграничная любовь к людям и доброта, составлявшая самую суть ее натуры.
Анна Соломоновна была на несколько лет старше Лидии Мариановны и, мне кажется, относилась к ней как старший друг, с неизменной заботой и нежностью Впрочем, оттенок заботливой нежности вообще определял отношение Анны Соломоновны к людям. Этому способствовала и ее профессия детского врача. Когда Анна Соломоновна впервые появилась в колонии, ей, вероятно, не было еще 50 лет. Но нам она казалась старой. Действительно, она была старообразна. Довольно крупная женщина с сильными руками и ногами, с большой, покрытой постоянно растрепанными, выбивавшимися из высокой прически седыми волосами, она имела характерное некрасивое скуластое лицо. Но огромные черные, полные огня глаза, которые буквально метали искры, делали это лицо прекрасным.
Анна Соломоновна обладала неукротимым темпераментом. Всегда бодрая, веселая, она всем своим существом утверждала жизнь, которую принимала с ее трудностями и горестями радостно и открыто, заражая этим чувством окружающих. Стоило ей появиться среди людей, как жизнь начинала вихрем кружиться вокруг нее, сиять и искриться, не оставляя никого равнодушным. Анна Соломоновна совершенно не думала о том, какое впечатление она производит на людей. Она действовала решительно, согласовывая свои поступки исключительно с теми импульсами, которые возникали у нее в данный Момент. По большей части эти импульсы определялись настоятельной душевной потребностью сделать что-нибудь хорошее для людей, и тут Анна Соломоновна не считалась ни с какими преградами, условностями или препятствиями: дна попросту их не замечала Помню один случай, очень в этом смысле для нее характерный.
Как-то летом группа ребят ездила по приглашению в детскую колонию, которая находилась на станции Химки. Ехать пришлось через Москву, переходить с вокзала на вокзал, а в Химках идти несколько километров от станции. Случилось так, что назад младшие девочки отправились под предводительством Анны Соломоновны. Было очень жарко, и по дороге от той колонии на станцию мы очень устали, проголодались и захотели пить. Анна Соломоновна решительным шагом направилась к двери первого попавшегося дома в поселке, через который лежал наш путь, постучала и, войдя, заявила хозяйке, что девочки устали, их надо накормить и напоить. Помнится, мы чувствовали себя очень неловко, тем более что хозяйка не выразила особенного гостеприимства по нашему адресу, но Анна Соломоновна не обратила на это никакого внимания, а требование ее прозвучало так решительно, что на столе мгновенно появились еда и питье.
Рассказывали, что однажды Анна Соломоновна отправилась на аэродром и потребовала, чтобы ее взяли на самолет, т. к. она не может без этого обойтись. Тон ее и в этом случае был таков, что летчики ни на минуту не усомнились в неоспоримом ее праве на полет (что тогда было в диковинку) и выполнили эту беспрецедентную просьбу. Так же она поступала, если хотела попасть в театр на какой-нибудь спектакль или повести туда своих друзей.
Одним из самых привлекательных качеств Анны Соломоновны была ее исключительная музыкальность. Не имея законченной профессиональной подготовки (хотя музыке она все же училась), она играла по нотам или по слуху все, что угодно, и прекрасно импровизировала на фортепиано. Если требовался аккомпанемент к песне, то стоило кому-нибудь спеть ей несколько первых нот мелодии, как у нее аккомпанимент был готов, к тому же уснащенный разными украшениями. Для нас Анна Соломоновна играла безотказно, целыми часами, все, что мы просили — любые танцы, сопровождения к пению и т. д.
Приезжала в колонию сказительница русских сказок, известный знаток русского фольклора Ольга Эрастовна Озаровская. Ее первому появлению сопутствовали забавные обстоятельства. Среди жаркого летнего дня почему-то я одна оказалась в лесу за прудом, возле самой воды. Вдруг я увидела, что из-за деревьев вышла пожилая женщина, просто одетая, которая показалась мне деревенской бабой. Она заговорила со мной, и мы с ней довольно долго беседовали. Я не помню теперь содержания нашего разговора. Но он кончился тем, что я радушно позвала ее зайти к нам в дом отдохнуть и поесть. Она согласилась, и я повела ее в колонию. Каково же было мое удивление, когда Лидия Мариановна, увидев приведенную мною "бабу", радостно бросилась ей навстречу, приветствуя в ней своего друга и замечательную артистку. Как в этот приезд, так и в свои последующие посещения колонии Ольга Эрастовна Озаровская много читала нам сказок и былин, делая это с большим мастерством.
Довольно рано стали наезжать в колонию толстовцы. О них у меня сохранились гораздо менее приятные воспоминания. Да и все ребята, а быть может и сама Лидия Мариановна, относились к их приездам довольно сдержанно. Чаще всех приезжали Сережа Булыгин и Сережа Попов (хотя оба были не первой молодости, почему-то их все так называли).
Из всех приезжавших толстовцев лучшее впечатление производил Сережа Булыгин. Импонировала его незаурядная внешность. Он был очень красив, чертами лица напоминая классический образ Христа. В его поведении мало ощутимо было очень часто присущее толстовцам тех лет ханжество; он больше молчал и только пел вместе с нами разные толстовские гимны (должна признаться, что я втайне им любовалась, исподтишка поглядывая на его прекрасное лицо).
Другое дело — Сережа Попов. Этот человек остался в моей памяти как один из самых неприятных представителей человеческого рода, когда-либо мною встреченных. Внешне невзрачный, небольшого роста, босой, одетый в нарочито простую холщовую одежду, он являл собой типичный пример двуличия: поверхностной елейности в сочетании с внутренним эгоизмом и корыстолюбием.
Позже, должно быть уже весной 1922 года, в колонию раза два приезжал известный толстовец П.Бирюков с женой. Их приезд также носил неприятный характер. У жены Бирюкова имелась старенькая сестра Анна Николаевна. Она была очень слабенькой и от старости почти уже впавшей в детство. Видно, супруги Бирюковы желали от нее избавиться. Они привезли ее с собой и оставили в колонии, сказав, что она может быть нам полезна, т. к. хорошо знает несколько языков.
Анна Николаевна действительно знала языки, но преподавать их не могла из-за своего состояния. Правда, некоторые ребята, изучавшие эсперанто, ухитрялись извлекать из нее какие-то знания. Это было кроткое, беззащитное существо; у нас ей, наверное, жилось лучше, чем у тяготившихся ею родственников. В колонии же она и скончалась. Ребята похоронили ее в лесу. Сохранилась фотография группы колонистов около ее могилы. Это была единственная смерть, которая произошла в стенах колонии за все годы ее существования. Меня тогда уже там не было.
Полноправными членами колонии считали мы все с первых дней родных Лидии Марианов-ны: ее сестер — Елену Мариановну и Магу и отца — Мариана Давидовича. В течение всех лет Мага постоянно подолгу, иногда по нескольку месяцев кряду, живала в колонии, и мы все ее очень любили. В сельскохозяйственных работах она не участвовала, но разделяла с постоянны-ми сотрудниками их дежурства. Своими литературными и художественными интересами она делилась с ребятами, и ее душевная возвышенность вносила определенную ноту в общий настрой нашей жизни.
Красивый, статный, полный старик Мариан Давыдо-вич поселился в колонии на втором году, не помню, в каком месяце, и прожил в ней до ее закрытия, исполняя функции врача. Как видно, он в свое время был прекрасным врачом-терапевтом. К нам же Мариан Давыдович попал совсем стареньким. У него тряслись руки, память его и внимание уже были сильно ослаблены. Однако прежний значительный медицинский опыт сказывался, и во многих случаях он был очень полезен колонии.
Елена Мариановна переживала в 1920–1921 годах трудное время. Ее муж был арестован вместе с другими главарями эсеровской партии. Маленькие дети — дочка 1 года и 2 месяцев и 8-летний — сын связывали ей руки. Среди лета 1921 года она привезла маленькую Наташу с няней Анютой в колонию и оставила их у нас.
Они поселились в небольшой узкой комнате позади зала. Изящная, тоненькая Наташа с темными волосиками, челочкой, спускавшейся на лоб, в то время была очаровательным сущес-твом. Очень развитая, она уже тогда неплохо говорила и забавляла всех своими сентенциями; помню, однажды, обращаясь ко мне, она заявила: "Наташа, ты не маленькая, большая ты, не кусай карандаш". У нее был голубой байковый комбинезончик, в котором она постоянно ходила и сама себя называла "мальчик-василек". Мы все, особенно девочки, с ней много возились. О своих родителях она говорила: "Папа в Бутылке (Бутырках), а мама в мешке (Москве)".
Сынок Елены Мариановны Миша появился в колонии, когда арестовали его мать (она потом вскоре была выпущена). Поздней осенью (или даже зимой) ночью он пришел в колонию один пешком из Москвы и остался у нас жить, по мере своих сил и возможностей включившись в деятельность нашего коллектива. Это был худенький, маленький мальчик с тонкими чертами бледного личика, тоже умненький и не по возрасту развитой.
Во время одного из праздничных дней лета 1920 года среди гостей я увидела красивую даму с девочкой моих лет. Марина Станиславовна Бурданова имела очень привлекательную внешность. У нее было прелестное лицо восточного типа с правильными чертами, которые часто освещались ласковой улыбкой. Голову ее венцом обвивала темная с проседью тонкая коса. Она прекрасно держалась, гордо неся свою статную фигуру. При разговоре слегка грассировала — милая особенность, которая передалась некоторым из ее детей. Марина Станиславовна была профессиональным музыкантом — преподавательницей игры на фортепиано и пения. Когда мы ее узнали, она была вторично замужем за художником Григори-ем Григорьевичем Бурдановым. С первым своим мужем пианистом Владимиром Полем — она уже лет 15 как разошлась. Поль уехал за границу — во Францию (где до конца жизни), оставив ее с двумя маленькими детьми — мальчиком Олегом и девочкой Тамарой. От второго брака Марина Станиславовна имела трех дочек — Марину — тогда 12 лет, Светлану — 10 лет и маленькую семилетнюю Злату. Вся семья была исключительно артистична, а дети — один красивее другого.
Вскоре после первого приезда Марины Станиславовны приехал ее сын Олег, 20-летний юноша. Олег остался в колонии и жил очень долго и работал в качестве сотрудника, с первого дня став коренным, незаменимым и горячо любимым членом нашего коллектива.
Олег оставил в моей памяти неизгладимый след как один из самых значительных и обаяте-льных людей, встреченных мною на жизненном пути. К тому же ему суждено было сыграть большую роль в моей личной жизни. В нем все было замечательно, начиная с внешности. Он был очень высок и чем-то напоминал Петра Великого, хотя и не обладал присущей тому грубоватостью и физической мощью. Олег был скорее слабого сложения; известное сходство с Петром отмечалось в чертах его лица — больших, широко расставленных глазах, коротком прямом мясистом носе над укороченной верхней губой, а также в прическе; лицо его обрамляли густые темные локоны, закрывавшие затылок и достигавшие плечей.
Олег не только сам по себе был выдающимся человеком, но в нем выразились лучшие свойства русской молодежи тех времен — страстные поиски истины и смысла жизни. К тому времени, как я его узнала, он уже пережил полосу атеизма и увлечения марксистскими взглядами и полон был религиозных исканий.
Природа наградила его разнообразными талантами. От матери унаследовав музыкальность (он умел играть на рояли как по нотам, так и что угодно по слуху), Олег хорошо рисовал; он великолепно знал математику, после отъезда из колонии Варвары Петровны на него были возложены обязанности преподавателя этого предмета. К двадцати годам он хорошо успел изучить философию всех времен и знал языки. В его отношении к благам цивилизации и к плотским наслаждениям сквозили толстовские нотки. В своей личной жизни он был полнейшим пуританином. Это сближало его с Всеволодом: как и тот, он носил простую одежду и брал на себя самый тяжелый, грязный труд. Но он значительно большее внимание уделял умственной жизни и личному самосовершенствованию, не отказываясь от научных знаний и книжного образования. Как мне кажется, его мировоззрение было менее цельным, нежели мировоззрение Всеволода; ему приходилось постоянно внутренне бороться с самим собой, головным путем подавляя в себе такие черты, как страсть к науке и премудрости и чувственное принятие радостей земного существования. Обладая настоятельной потребностью в уединении и возможности созерцательной работы, летом 1921 года Олег построил для себя невдалеке от колонии, позади большого дома землянку. Землянка эта имела две комнатки с объединявшей их печью. Своим обликом и обстановкой эти комнаты напоминали монашеские кельи (жизнь в землянке с Олегом разделял Владислав Стасевич, молодой человек лет 18, недолго проживший в колонии — славный малый, но по своему внутреннему облику совершенно нам чужой).
Дочери Марины Станиславовны от первого брака — Тамаре Поль — в 1920 году было лет 18. По возрасту она не подходила даже к нашим старшим девочкам и в колонии не жила постоянно, а только часто приезжала и временами подолгу гостила. Живая, красивая, похожая на мать — с хорошей фигурой и темными косами, она, как и Марина Станиславовна, сделала своей профессией музыку и пение. В то время она уже хорошо играла на рояли. Ее приезды нас всегда радовали и вносили оживление в жизнь колонии.
Три девочки Бурдановы были очаровательны — каждая в своем роде. Помню в тот жаркий, сверкающий летний день, когда к нам впервые приехала Марина Станиславовна, я сразу обратила внимание на прелестное личико приехавшей с ней Марины. Из всех сестер она больше других имела сходство с Олегом: такое же круглое лицо, короткий мясистый нос, укороченная верхняя губа. Эта короткая губка, при разговоре поминутно приоткрывавшая крупные, широко расставленные зубы, вместе с грассирующей (как и у Олега) манерой говорить, составляла особую прелесть Марины. Все существо этой девочки излучало обаяние. Движения ее были грациозны, голосок при смехе и пении звучал как серебряный колокольчик. Ласковая, как кошечка, она была умна и способна. Как и остальных членов семьи, ее отличала музыкальность. Она не только пела, но и сама сочиняла песенки и по слуху играла на рояли. Но больше она любила рисовать. Впоследствии рисование стало ее профессией. Когда Марина подросла и превратилась в девушку, обаяние ее еще возросло и она пользовалась большим успехом у мальчиков. Уже после колонии в нее был серьезно влюблен наш Сережа. Когда мать привезла ее в колонию, она была еще сущим ребенком. Вероятно, ей казалось страшно остаться одной среди чужих людей, потому что в этот день она не отходила ни на шаг от своей мамы, прижималась к ней и временами принималась плакать. Однако эти настроения потом быстро развеялись: Марина легко и просто вошла в нашу товарищескую семью и с первого дня сделалась всеобщей любимицей. Ее младшие сестренки Светлана и Злата — бывали в колонии изредка, только гостями, на 1–2 дня приезжая со своей матерью.
Смуглая Светлана, хорошенькая, с черными как смоль короткими волосами, напоминала цыганочку. Злата была светлее, больше похожа на Марину. Сама Марина Станиславовна приезжала в колонию систематически, каждый раз оставаясь на несколько дней. Она давала всем желающим уроки музыки, занималась с нами хоровым пением. Помню, как девочки однажды разучили с ней целую музыкальную постановку вроде небольшой оперы, в которой в качестве действующих лиц выступали цветы: роза, резеда, чертополох и т. д. (кажется, Арен-ского). Часто приезжал и муж Марины Станиславовны — Григорий Григорьевич Бурданов, который от раза к разу занимался с ребятами рисованием. Это был симпатичный пожилой человек с красивым худым лицом, испещренным глубокими морщинами; он был молчалив и, как мне кажется, довольно бесцветен. Во всяком случае главой семьи являлась яркая, темпераментная Марина Станиславовна, которая обладала вполне определенными принципами и взглядами на жизнь. Интересно, между прочим, отметить, что своих трех младших девочек он не крестила и всех детей от рождения растила вегетарианцами.
Напишу теперь немного о себе самой в годы своей жизни в колонии. Оставаясь совершен-ным ребенком, в то же время, как мне кажется, я сразу по прибытии в новую обстановку во многом начала меняться. Окружавшая меня атмосфера способствовала тому, что перевес взяли и значительно усилились те духовные искания, которые свойственны были мне, начиная с 8-летнего возраста. Все возвышенное, чистое и благородное, чем пронизана была жизнь колонис-тов благодаря Лидии Мариа-новне и ее высоконравственным друзьям и помощникам, находило в моей душе самый горячий отклик. Мало того, я тянулась к этому навстречу и по-своему, как умела, внутри себя дополняла полученное извне.
Мне было даже мало того духовного напряжения, которое окружало меня в новой жизни. Помню, как мне хотелось сделать так, чтобы все были "совсем хорошими". Об этом маленькие девочки говорили между собой, потому что и у других были такие же настроения. Однажды мы даже затеяли общее собрание на эту тему. Не знаю, поняли ли остальные колонисты наш высокий порыв, выраженный совсем по-детски в горячих выступлениях, в которых мы призыва-ли всех быть "совсем-совсем друзьями" и "совсем-совсем хорошими".
Уже в первое лето я брала у Лидии Мариановны книжки индийских философов и с увлечением их читала. Наряду с этим большое место в моем духовном развитии занимали чисто импульсивные чувства и впечатления как от природы, так и от жизни. Некоторые из них остались в моей памяти, и я храню их в ней, как хранят лучшие Драгоценные минуты, ниспосланные человеку судьбой.
Яркое воспоминание оставили во мне поездки в Москву Ездили мы к родителям часто, не реже чем раз в месяц, а иногда и чаще. Летом обычно ходили пешком на станцию, большей частью компанией по нескольку человек. Это были единственные дни, когда нам приходилось обуваться, и я помню то ощущение духоты, которое в первый момент испытывали ноги, отвыкшие от обуви.
Особенно запомнился мне отъезд из колонии в зимнее время. В полной темноте зимнего утра, в холодной комнате, я торопливо одевалась, стоя на своей кровати. Мое тело пронизывал озноб, и я дрожала мелкой дрожью как от холода, так и от беспричинного радостного волнения. Потихоньку спускалась в кухню, куда сходились и другие отъезжавшие из колонии в этот день ребята и взрослые. При свете коптилки мы торопливо съедали какую-нибудь оставшуюся от ужина холодную кашу и выходили на двор в темную зимнюю ночь.
У крыльца уже стоял Рыжик, запряженный в розвальни, чтобы везти нас на станцию. Тесной кучкой усаживались мы в розвальни на лежавшее в них сено, натягивали себе на ноги какие-нибудь старенькие одеяла и прижимались друг к другу, чтобы было теплее. Иногда возница держал в руках зажженный фонарь, который освещал дорогу. Полулежа в низких санях, головою совсем близко к заснеженной дороге, я смотрела, как снежинки танцуют в лучах света.
К станции подъезжали уже в предрассветное время, когда на фоне лунного неба серыми силуэтами вырисовывались станционные постройки. Поезда шли холодные, мрачные, полупус-тые. Мы со своими заспинными мешками забивались куда-нибудь в одно отделение. В 1920–1921 годах в Москве не было никакого городского транспорта. От Ярославского вокзала до нашего дома ходьбы было больше часу. Шли по Орликову переулку, Мясницкой, через Театральную площадь, по Воздвиженке, по Арбату.
Наши родители тоже нередко наезжали в колонию. Особенно часто приезжала мама, которую очень любила Лидия Мариановна и с которой ребята чувствовали себя легко и просто. Приезжали они и вместе; папа восхищался духовной атмосферой колонии и дорожил тем, что мы живем здоровой, молодой жизнью в природе.
Один из их приездов мне как-то особенно запомнился. После обеда я ушла с подушкой в лес отдыхать. На мне надета была полосатая голубая кофточка и юбка цвета хаки от моего скаутского костюма. Я была в 12 лет так мала и тщедушна, что носила кофточку, которая была сшита для Сережи, когда ему было лет 5. В это время приехали наши родители. Маме сказали, что я в лесу, она пошла меня искать и вскоре увидела голубое пятнышко в траве. Я тотчас проснулась и, узнав, что мама приехала с папой и он находится возле пруда, вскочила и стремглав бросилась бежать. Увидев папу около купальни, я побежала еще быстрее. Не вполне еще очнувшись от сна и не рассчитав движения, я споткнулась на дорожке о корень и сильнейшим образом разбила одну из своих босых ног возле большого пальца. Папу почему-то очень тронул этот мой порыв, и он схватил меня в объятия и крепко прижал к себе.
С другим приездом наших родителей в колонию связано тяжелое воспоминание. Летом 1923 года Лидия Мариановна пригласила их приехать к нам погостить на месяц. Они приняли приглашение. Их поселили в библиотеке В самом начале их пребывания я глупейшим образом поссорилась с папой. Причины для ссоры, собственно, не было никакой, и я сама не знаю, как это вышло. Помнится, как-то в кухне я облокотилась о русскую печку. Папа сделал мне замечание, сказав, что там нечисто и я могу запачкать рукав. Я огрызнулась, что-то резко ответила, и папа рассердился.
После этого мы с папой не разговаривали в течение почти всего времени, которое они прожили в колонии. До сих пор не понимаю, как я, без памяти любившая и уважавшая своего отца, выдержала так долго характер. Для меня это были очень мучительные дни; без сомнения, и для папы тоже. Наконец, я не смогла больше терпеть такого положения. Как-то, уже незадолго до их отъезда, я вошла к ним в библиотеку и молча, в слезах бросилась папе на шею. Он тоже обнял меня и только спросил: "Скажи, ты сама решила прийти мириться или кто-нибудь тебя послал?".
Спокойное течение нашего светлого существования было резко нарушено осенью 1920 года. Еще раньше в колонии были случаи серьезных заболеваний. Так, в середине лета болели дизентерией Женя Зеленин и Леня Шрайдер. А в сентябре свалилась Лидия Мариановна. Сначала не ждали ничего серьезного. Помню, ее положили в библиотеке и при ней неотлучно находилась Белла Кон-никова, которая одна за ней и ухаживала. День ото дня Лидии Марианов-не становилось хуже, наконец определился брюшной тиф в тяжелейшей форме. Было решено отвезти ее в Москву в больницу. В пасмурный осенний день ждали приезда санитарной машины. Кому-нибудь следовало встретить ее на шоссе, чтобы показать поворот в аллею, ведущую к Ильину. Послали меня. Я вскоре увидела закрытую машину — фургон с красным крестом — и, остановив ее, сама села на откидную подножку сзади. Несмотря на подавленное настроение, помню, что мне было по-детски интересно впервые в жизни проехаться на машине. Лидию Мариановну увезли.
Через несколько дней тифом заболела и Белла, которую положили в пушкинскую больницу. Белла болела не так тяжело, а Лидия Мариановна долго находилась между жизнью и смертью, более месяца не приходя в сознание.
Колония осиротела. Потянулись унылые дни. За старшую осталась Варвара Петровна, которая хотя и добросовестно исполняла свои обязанности, ни в чем не могла заменить Лидию Мариановну. А надвигались новые трудности. В холодные дни октября у меня вдруг сильнейшим образом заболело горло. Мне сразу стало так плохо, что, когда Варвара Петровна распорядилась отделить меня от других девочек в маленькую комнату по другую сторону коридора, я не смогла сама идти и меня отнесли на матраце. Боль в горле была нестерпимая. Я с ужасом ждала каждое утро Варвару Петровну, которая приходила] смазывать мне горло йодом с глицерином. Единственное, что слегка облегчало мои страдания, было питье. Около меня на табуретке ставили стакан воды, и я по ночам пила маленькими глоточками ледяную в холоде комнаты воду. Один раз, случайно толкнув в темноте табуретку, я опрокинула стакан и осталась без воды. Всю остальную ночь я горько проплакала, т. к. мне нечем было хоть на минуту заглушить боль. Около меня была в те дни одна Лида Кершнер, которая ухаживала за мной нежно, как старшая родная сестра. Варвара Петровна, у которой, очевидно, глаза были врозь от обилия разнообразных забот, не сомневалась в том, что я болею ангиной, не приглашала ко мне врача. Мама в колонию не приезжала, потому что целые дни проводила у постели своей сестры Тани, которая тоже болела в то время брюшным тифом. Так прошло около двух недель.
На счастье, в один из этих дней поехал в Москву Алеша. Он зашел к моим родителям и рассказал им о моей болезни. Очевидно, милый мальчик сделал это так внимательно и точно, что мама по его рассказу сумела поставить диагноз, решив, что у меня дифтерит. Не теряя ни минуты, она достала в Москве противодифтерийную сыворотку и отправилась в Пушкино.
Сойдя с поезда, она прямо прошла в пушкинскую больницу и, описав картину моего заболевания, попросила женшину-врача из этой больницы, неоднократно до того посещавшую колонию, пойти вместе с ней. Та согласилась, но от ее посещения оказалось мало пользы.
К этому времени горло мое успело очиститься, и дифтерит перешел в бронхит, т. е. получилось то, что называется дифтеритным крупом. Мама сразу это поняла и умоляла врача сделать мне прививку. Но эта дура уперлась, сказав, что никакого крупа нет, а я больна воспалением легких. С тем она и ушла из колонии. Однако мама не растерялась.
На следующее утро она попросила запрячь лошадь, чтобы вести меня на станцию. Нас сопровождала Лида. Как хорошо помню я это грустное путешествие! Стояла поздняя осень. Воздух был холодный и жесткий, небо молочно-белое, затянутое облаками.
Я лежала пластом на спине, когда нам встречались крестьяне, некоторые из них крестились на меня, думая, что везут покойника. Меня это не пугало, а забавляло, и я нарочно двигала рукой, чтобы разрушить иллюзию.
В поезде я чувствовала себя отчаянно плохо, а еще хуже на вокзале, где нас встречали папа и Яков Захарович Черняк (я не знаю, каким образом мама дала им знать о нашем приезде). В первый момент папа не понял, что мне плохо, и обиделся на то, что я не обратила на него особого внимания. А я была в полубессознательном состоянии.
Проболела я два месяца. Наш постоянный врач Гольд оказался в отсутствии. Мама пригла-сила другого прекрасного детского врача, товарища Гольда Лунца, который уже в день нашего приезда сделал мне прививку. Первые дни в Москве были ужасными. Грудь мою раздирала нестерпимая боль. Мама рассказывала потом, что я громко кричала по ночам от боли, кричала, что я умираю. Сама я этого не помню, очевидно, сознание мое было затуманено. Меня бил болезненный кашель.
Лунц сказал маме, что каждую минуту я могу начать задыхаться, и тогда меня экстренно надо будет везти в больницу, чтобы делать операцию трахеотомии, при которой вставляется в горло металлическая трубочка для дыхания. Заранее отвезти меня в больницу мама не решалась, так как в те годы разрухи московские больницы были в ужасающем состоянии. Но в столовой лежали приготовленные все нужные для этого вещи: моя теплая одежда и т. д.
Когда мне немного полегчало, у меня начались неприятные осложнения. Не говоря уже о том, что я совсем была лишена голоса, так что говорить могла только шепотом, дифтерит осложнился параличами. Получился паралич какого-то клапана в носоглотке, из-за чего жидкость при питье проникала в нос, а также — паралич глазных нервов. Вдаль я еще кое-как видела, а вблизи все предметы сливались в неопределенные пятна. Врач боялся возможного паралича сердца, и потому мне было приказано лежать на спине совершенно неподвижно.
Дни мои проходили очень тоскливо. Почти все время я лежала одна. Мама большую часть дня занята была хозяйственными делами, которые в те времена были очень сложны, т. к. приходилось колоть дрова, топить печи, стирать, разными путями добывать продукты и т. д.
Папа по нескольку раз в день заходил ко мне, но каждый раз ненадолго, потому что много работал за своим письменным столом, между прочим, и для заработка. В дни моей болезни вышла из печати его книга "Мечта и мысль Тургенева". Он радостно принес мне ее показать, но я смогла лишь увидеть в его руках какое-то белое пятно.
Иногда заходил ко мне Яков Захарович. Заразы он не боялся и время от времени понемногу читал мне вслух. Для моего развлечения мама дала мне морские камешки, собранные в Судаке и на Балтийском море. Она клала поперек моей кровати доску, на которой я раскладывала из этих камешков узоры. Другим моим развлечением служило упражнение в перевертывании слов. Этому научил меня Леня Шрайдер. От нечего делать я старалась в уме произносить разные слова с конца и за время болезни успела хорошо овладеть этим искусством. Привычка к перевертыванию слов осталась с тех пор у меня на всю жизнь. И сейчас постоянно у меня в голове вертится какое-нибудь слово, прочитанное с конца.
Наконец настал день, когда мне было позволено встать. Когда я получила свободу движе-ний, оставаясь одна в комнате, тайком брала мамины очки, которые давали мне возможность видеть, и понемногу читала, не сознавая того, какой вред это приносит моим глазам…
Силы мои быстро восстанавливались, зрение тоже. И голос вернулся, хоть и на всю жизнь сохранил глуховатый тембр.
Вероятно, около середины декабря я вернулась в колонию. Случилось так, что в это самое время выписалась из больницы Лидия Мариановна, и мы отправились из Москвы вдвоем. Нам наняли извозчика, так как после своих тяжелых болезней мы не могли еще идти на вокзал пешком. В моей памяти запечатлелось это путешествие на УЗКИХ извозчичьих саночках через всю Москву. Помню, как ехали мы по пустынным московским улицам 1920 года, через центр, по Мясницкой, как мы сидели обнявшись, тесно прижавшись друг к другу, и как по установившейся во время болезни привычке я мысленно перевертывала слова, прочитанные на вывесках.
В конце зимы 1921 года, еще до Рождества тяжко заболел брюшным тифом наш Сережа. Помню, как я заглядывала в ту комнату, где он лежал и с ужасом слушала его бред. Об его болезни дали знать нашим родителям.
Они достали санитарную машину, и мама с Женей Зелениным, которого она попросила ей помочь, приехали за Сережей.
Во время Сережиного тифа я в Москву не ездила. Впоследствии мама мне рассказывала, какие тревожные, томительные вечера проводили они с папой вдвоем, сидя в столовой и слушая из соседней комнаты Сережин бред Только много лет спустя, уже когда мамы давно не было на свете, я поняла, как тяжело достались ей годы нашего пребывания в колонии, когда она без всякой помощи выносила на своих плечах все заботы и тревоги во время наших болезней. Кроме меня и Сережи, в это время тяжело болел и папа. В летние месяцы он перенес тяжелую дизенте-рию, и на протяжении этих лет у него развился туберкулез легких, от которого ему так и не суждено было оправиться.
Находясь в колонии, я тоже была не слишком здорова. От истощения у меня, как и у многих других ребят, постоянно возникали нарывы. Сперва они были на пальцах рук, а потом пошли по спине Помню, как однажды Ма-риан Давыдович своими дрожащими руками вскрывал мне на спине фурункул, а я при этом горько плакала.
Между тем в жизни колонии назревали большие перемены. К осени 1921 года Лидия Мариановна и другие взрослые члены нашего коллектива окончательно убедились в том, что ильинский дом, несмотря на все принятые меры, непригоден для зимнего житья. Кроме того, что в нем было холодно, то и дело в каком-либо его| конце возникали небольшие пожары. За время нашей жизни в Ильине это случалось более тридцати раз, так приходилось все время напряжен-но следить за печами осматривать стены и дымоходы, так как ежечасно можно было ждать большой беды.
Переезд в Тальгрен
Всю первую половину зимы 1921–1922 годов Лидия Мариановна хлопотала о получении нового дома для колонии.
Несколько раз она вместе с другими сотрудниками или старшими ребятами ездила смотреть предлагавшиеся колонии свободные помещения, но все они оказывались неподходящими. Нако-нец, дом был найден. Колонии предложили переехать в бывшее имени Тальгрен, расположенное дальше по тому же Ярославскому шоссе, в 9 километрах от станции Пушкино и 5 километрах от Ильина.
В Тальгрене был прекрасный каменный дом прочной постройки, по прихоти прежнего владельца стилизованный под облик средневекового замка. При нем был двухэтажный флигель. Когда наши старшие впервые посетили этот дом, они застали его в довольно плачевном состоя-нии. Очевидно, он перед тем долго пустовал, и окрестные жители использовали его в качестве отхожего места. В большинстве комнат полы были покрыты толстым слоем нечистот, в то время крепко замерзших. На стенах клочьями висели грязные, загаженные обои.
Ремонт помещения решили не откладывать до весны и сразу приступили к работе.
Каждое утро ребята гурьбой отправлялись по шоссе из Ильина в Тальгрен. Целый день там шла тяжелейшая работа. Вечером возвращались домой. Дом в Тальгрене стоял холодный, обледенелый Только в одной небольшой комнате внизу топилась железная печурка. Туда время от времени все бегали греться. На печурке нагревали в ведрах воду. Горячей водой обливали стены и, стоя на лесенках и табуретках, ножами соскабливали обои. Кипятком поливали на замерзшие нечистоты и лопатами очищали полы. Когда все стены были очищены от обоев, началась их побелка.
Условия, в которых нам приходилось все это делать, были крайне трудные, особенно из-за холода в помещении. Недоедание также давало о себе знать. Нелегко было и ежедневно прохо-дить по 10 километров пешком. Тем более что все время стояли сильные морозы, а одеты мы были не слишком тепло В один из дней я сильно отморозила себе руки, так что прибежала в Тальгрен в слезах и ребята оттирали мне пальцы снегом. Но несмотря на значительные трудно-сти, работали мы очень весело. Такая страда продолжалась, вероятно, около месяца. Наконец, основной ремонт дома был закончен, и начали перевозку имущества колонии. Постепенно, частями, переселялись и сами колонисты.
Случилось так, что вскоре после этих событий я поехала в Москву к родителям. Сидя у папы на коленях, я рассказывала о нашем переезде, о последней ночи, проведенной в Ильине. Очевидно, мои слова были пронизаны большим волнением, которое потрясло папу, потому что внезапно он с рыданием крепко сжал меня в объятиях и стал судорожно покрывать мое лицо поцелуями. Позже я поняла его чувство: он думал о том, какие недетские впечатления, порож-денные смятенной жизнью страны, довелось пережить его юной четырнадцатилетней девочке.
Конец зимы и начало весны 1922 года, т. е. время нашего первоначального устройства в Тальгрене и налаживания жизни колонии на новом месте, как-то ускользнули из моей памяти. Я помню Тальгрен уже в полном своем расцвете и колонию вполне акклиматизировавшейся в измененных условиях существования.
Среди друзей колонии, наезжавших в гости, а временами и подолгу живших у нас, также обнаружились новые лица. В Тальгрене стали чаще появляться теософские единомышленники Лидии Мариановны. Двое из них весной и летом 1922 года жили в колонии почти безвыездно. Это были молодые люди: типично русский блондинистый Юра Бобылев и еврей Юлий Юльевич Лурье, как мы его тогда называли, Юлик. Они оба принадлежали к, группе теософской молоде-жи, объединившей под именем "Оруженосцев", в качестве образа духовного идеала использова-вшей символ чаши Грааля.
Для простого, веселого парня Юры Бобылева, самозабвенно увлеченного театром, теософия явно была чем-то наносным, что не затрагивало глубокой сущности его довольно бесхитростной натуры. Ребятам было с ним в село. Он понемногу беспорядочно занимался с нами театральны-ми выдумками, ни одна из которых не доводилась им до завершения; участвовал в некоторых сельскохозяйственных работах, ходил с ребятами на прогулки. Помню, как однажды я с ним вдвоем отправилась с ведрами в лес за грибами. То и дело наклоняясь за росшими на каждом шагу боровичками, мы весело и бездумно вели какую-то философскую беседу.
Совсем другим обликом отличался Юлик. Небольшого роста, коренастый и смуглый, с черными вьющимися волосами, он имел красивое лицо, на котором выделялись бархатистые карие глаза с длинными ресницами и густыми темными бровями. Юлик был безусловно одарен-ным человеком; образованный, обладавший знаниями в самых разных областях, он имел велико-лепную память, которая позволяла ему часто по вечерам рассказывать нам разнообразные исто-рии (помню, как мы увлеченно слушали сказки Гофмана, которые он рассказывал мастерски). Не знаю, действительно ли ему присуща была человеческая значительность, но держался он так, как будто ему свойственны были некоторые качества, недоступные другим людям. Говорили, что он умеет читать мысли окружающих и способен видеть ауру, т. е. духовное излучение, по убежде-нию теософов, присущее каждому человеку. Мы, маленькие девочки, верили этому и видели в Юлике необыкновенное существо. На многих из нас, в том числе и на меня, он оказывал прямо-таки магнетическое воздействие, что явно льстило его самолюбию. Мужская часть нашего коллектива, а также более взрослые девочки, и в частности Фрося, не ощущали в Юлике ничего особенного и к нашим воззрениям на него относились, кажется, довольно скептически. Лидия Мариановна с ним очень дружила. Несмотря на разницу в возрасте (Юлику тогда было 24 года), их дружба, как мне позже говорила Фрося, по-видимому, была слегка окрашена в романтические тона.
Став взрослой, я поняла, что методы воздействия на психику девочек, которыми пользовал-ся Юлик, носили довольно дешевый характер и, быть может, заключали в себе известный элемент чувственности: ведя с нами задушевные беседы, неизменно поглаживал ручку, обнимал за талию и т. п. Однако мы сами были настолько далеки от мыслей, направленных в сторону чувственных эмоций, что даже если испытывали их в какой-либо степени, не могли отдавать себе в этом отчета.
Нам казалось, что ничто земное не может касаться такого возвышенного человека, каким в нашем воображении перед нами выступал Юлик. И мы поочередно бегали к нему исповедовать-ся. Это было жутко и одновременно притягательно. В назначенный час пойдешь к заветной двери и с замирающим сердцем постучишь. Войдешь, а там сидит твоя предшественница — Марина, только что закончившая волнующий разговор. Ее прелестное лицо порозовело, на глазах блестят слезинки. Она убегает, наступает моя очередь. О чем я сообщала Юлику, в какие детские душевные тайны его посвящала — решительно не помню; вероятно, это было что-нибудь наивное, голубое и в то же время отчаянно возвышенное.
Как-то летом наше свидание состоялось не в комнате, а на свежем воздухе. Мы долго ходили под руку взад и вперед по дороге, таинственно освещенной лунным светом, а когда, вернувшись потом домой, я легла в свою постель, сердце мое замирало от невыразимо-сладостного чувства; и хотя позже, в Москве, былой кумир потерял в моих глазах свое обаяние, я навсегда осталась благодарна этому человеку за то, что он во дни первоначальной юности заставил звучать в моей душе самые лучшие, самые тонкие струны.
Почти каждый человек, обращаясь в воспоминаниях к своей молодости, с особенно радостным чувством мысленно останавливается на каких-нибудь летних месяцах или днях.
Одним из таких заветных воспоминаний остались для меня лета 1922 и 1923 годов. Лето 1922 года было последним периодом моей жизни в колонии. Его я прожила так ярко, светло и весело, как никогда не жила прежде.
Вероятно, это во многом зависело от того, что оно пришлось на самое начало моей юности, когда, подходя к своим пятнадцати годам, я уже перестала быть ребенком, а постепенно стала превращаться в девушку, сознание которой было во власти радужных мечтаний и напряженного ожидания несбыточного на Земле счастья.
Все, что включало в себя это лето, сохранилось вечно живым в моей памяти — не только события, люди, но и звуки, запахи. Так, одним из символов моей юности для меня остался запах душистой ночной фиалки, которой особенно много росло в Тальгрене. С тех пор всю жизнь, когда в моих руках оказывается пучок этих лесных цветов раннего лета и я подношу его к свое-му лицу, в моей груди на мгновение возникает чувство безотчетной радости — как отголосок прежнего, молодого счастья.
В Тальгрене при том, что содержание и уклад жизни колонии остались прежними, сложился в некоторых отношениях новый быт, который определялся новым помещением, новой природой, новыми соседями.
В существование ребят большое новшество внесли своеобразные особенности дома. Вечерами сходились в зале; во время бесед или хорового пения рассаживались на ступеньках лестницы. Любители уединения располагались на темных хорах. В холодные вечера, особенно когда лето начинало склоняться к осени, сидели, обнявшись, или лежали на полу перед горящим камином. Юношескому воображению импонировало то, что дом напоминал средневековый замок. Элемент таинственности вносили круглая башня с винтовой лестницей — обширный чердак с балконами. Очень любили мы большую кухню, помещавшуюся в подвальном этаже.
Особую прелесть нашли ребята в том, что получили возможность мыться в бане; это была крошечная, типично деревенская банька с деревянным полом и лавками. Ее топили каждую неделю; в отведенные для них часы девочки и мальчики поочередно веселой гурьбой бежали в баню и радостно, с криками и шалостями, окруженные клубами пара, плескались в горячей воде.
Жилое помещение колонии расширилось благодаря флигелю. Там обычно жили гости, но временами поселялся кто-нибудь из сотрудников или ребят, искавших тишины.
Иначе проходили работы на новой земле; иначе сложились отношения с водой. Лишившись старого друга — чудесного ильинского пруда, мы обрели нового — в лице поэтической речки, купанье в которой оказалось по-своему не менее привлекательным.
В Тальгрене ближе пришлось соприкасаться с деревенскими жителями. Мне особенно запомнились дружеские отношения, установившиеся у колонистов с девушками, работавшими на разработке торфа на расположенных поблизости торфяных болотах. Мы называли их тор-фушками, большинство из этих девушек были приезжие, главным образом из Рязанской губернии.
Они часто приходили к нам в дом — одетые по-праздничному в пестрые деревенские одеяния — поплясать и попеть частушки в большом зале. Одна или две девушки, особенно голосистые, выходили в центр круга и начинали плясать и на высочайших нотах визгливо петь частушки. Они знали их такое множество, что могли петь безостановочно сколько угодно времени, ни разу не повторяясь. Нам очень нравилось их слушать.
Позже, когда меня уже не было в колонии, старшие ребята организовали во флигеле маленькую школку для детишек ближайших деревень, не имевших собственной школы.
Сельское хозяйство колонии в Тальгрене приняло более организованный и упорядоченный характер. Подросшие ребята обладали уже известным опытом и навыками. Колония имела несколько сельскохозяйственных машин; у нас были две хорошие рабочие лошади и корова. Был сторож — всеобщий любимец и баловень — рыжая дворняжка Кубарь. С этим Кубарем связано у меня одно из тех трогательных воспоминаний о животных, которые за долгую жизнь хранит память почти каждого человека.
Как-то среди лета Кубарь пропал и отсутствовал дня три; вся колония о нем горевала. Когда мы уже начали терять надежду вновь с ним увидеться, кто-то из соседей рассказал нам, что он сидит не очень далеко на шоссе на перекрестке двух дорог около умирающей, попавшей под колесо собаки и лижет ее раны. Скоро после этого Кубарь объявился; очевидно, собака издохла, а он, выполнив долг милосердия, вернулся домой.
Светлому, радужному настроению этого лета, так ярко мне запомнившемуся, не помешали мои болезни. Уже в июне, после какого-то довольно безрассудного купания, я заболела экссуда-тивным плевритом и слегла на целый месяц. Приехала из Москвы мама и осталась на все время моей болезни.
Лежа в постели, я нисколько не скучала. Мне все время было очень весело. Физические страдания меня беспокоили мало (хотя бок болел довольно сильно и я лежала в компрессе), температура была не слишком высокой. Я была окружена такой любовью и таким вниманием со стороны ребят и взрослых, какие редко достаются людям в удел.
Все сборища и занятия проводились в нашей комнате; тем более, что на другой кровати лежала Фрося, здоровье которой к этому времени изрядно расклеилось (она страдала какими-то неопределенными болями в животе, которые впоследствии оказались неврологическими и сохранились у нее на всю жизнь). Около моей постели стояли букеты полевых и лесных цветов. В это время как раз цвела ночная фиалка и наша комната по вечерам наполнялась томительно-сладостным ее ароматом. Из открытого балкона вливался душистый воздух.
Лечил меня Мариан Давидович; опытная в болезнях и в уходе за больными, мама не только выполняла его предписания, но и сама знала, что нужно делать. Ухаживала она и за Фросей, с которой ее связывала нежная дружба.
Когда кончилась моя болезнь и мама уехала, я очень недолго оставалась здоровой и вскоре слегла со вторым, на этот раз сухим плевритом в другом боку. Маму опять вызвали. Эгоистичес-кая в своем юношеском радостном настроении, я совсем не задумывалась о том, как трудно было ей в это лето. Она оставила папу больным, так как за последний год его туберкулезный процесс сильно прогрессировал. Во время маминого пребывания в колонии папа жил под Москвой в Вишняках на даче у своей молодой ученицы Веры Степановны Нечаевой. Ему было там тоскливо и не очень удобно и мама мучилась этим. Не совсем здоров был и Сережа, который в это лето температурил; по-видимому, его легкие тоже были не в порядке. Хотя в колонии маму очень любили и относились к ней с большой лаской, ей было неловко так долго пользоваться гостеприимством колонии и питанием. Об ее настроениях я в то время ничего не подозревала, а Узнала через десятки лет, прочтя ее записочки к папе и записи в ее дневнике. Кроме внешних трудностей и забот, она была полна глубоких внутренних исканий и дум. В ее дневнике расска-зано о том, как в летние дни 1922 года в колонии, выбрав свободные полчаса, она убегала в див-ный по красоте лес недалеко от Тальгрена и там одна среди природы мучительно, с отчаянием в душе "искала Христа".
Но я в свои 14 лет ничего этого не знала и, хотя нежно любила свою мать, увлеченная жизнью в колонии, меньше всего задумывалась о ее внутренних состояниях, а все ее заботы обо мне принимала по-детски бездумно, как должное.
Прощание с колонией
Примерно через месяц после моего второго плеврита мы с Сережей уехали из колонии. Наши родители решили на несколько месяцев поехать с нами за границу, чтобы подлечить здоровье папы и нас двоих. А мама, хотя ничем не была больна, после перенесенных ею тягот выглядела хуже нас и, быть может, больше всех нуждалась в поправке.
Накануне нашего отъезда устроен был прощальный вечер. В чем он состоял, я не помню. Запомнилась духовная атмосфера этого вечера. Колония прощалась с "бедными маленькими Гершензонятами" (как нас часто ласково называли) и провожала в дальний путь. Любовь, ласка, нежная забота, выражение которых мы оба всегда видели, со стороны старших руководителей и наших товарищей, в этот вечер словно вышли наружу и сгустились до такой интенсивности, что ощущались почти физически. Я была так растрогана, что у меня то и дело на глаза наворачива-лись слезы.
Помню, что ребята, по обыкновению, сидели на ступеньках лестницы, ведшей на хоры зала. Я сидела на хорах, на ступеньках перед дверью в коридор второго этажа. Был момент, когда рядом со мной сидел Юлик, держа меня под руку. Подошел Олег, поговорил о чем-то; постоял возле нас молча. Я заметила, что ему неприятно было видеть Юлика рядом со мной. И мою душу вновь пронзило внезапное чувство духовной связи с этим человеком — Олегом. Оно стало одним из тех чувств, которые я увезла с собой, покидая колонию и которые берегла как высшую драгоценность во все время своего отсутствия из России.
Родители наши решили поехать лечиться в Германию, которую папа хорошо знал. Вероят-но, здесь имело значение и то, что в то время существовало международное издательство "Эпоха", отделения которого находились в Москве и в Берлине. С этим издательством папа имел деловые сношения; оно издавало некоторые его работы. Директор "Эпохи" — Белицкий был папин хороший знакомый. Находясь в Германии, папа мог опираться на связь с издатель-ством, а также получать от него материальную поддержку.
В начале 1920-х годов разрешение на выезд за границу давалось сравнительно легко, хотя, все же для этого надо было пройти определенную процедуру. Ко времени нашего приезда из колонии папа успел преодолеть все необходимые формальности.
Надеялись выехать в конце августа. Однако судьба распорядилась иначе. После нескольких дней нашего прибытия домой мы с Сережей оба заболели. У меня обнаружился брюшной тиф, у Сережи, который болел легче, нашли паратиф. Можно представить огорчение и досаду наших родителей. Пропали все мамины хлопоты. Дело нужно было начинать сначала. А мама снова принялась терпеливо и ласково нас выхаживать.
Мне кажется, что развитая, много думавшая 15-летняя девочка, какою я была тогда, должна была внимательнее относиться к тем страшным трудностям, которые у нее на глазах, и в значи-тельной мере ради нее, приходилось нести ее матери. Я же опять болела легко и весело. Тиф у меня был нетяжелый, продолжался он не 6 недель, а 4, как обычно это бывает в детском возра-сте. Лечил нас милый, издавна привычный Гольд. Я лежала почему-то в столовой, а Сережа — в маленькой комнате. Почти ежедневно к нам заходили ребята из колонии — все, кто бывал в Москве.
В середине или, скорее, в конце сентября болезни наши закончились и папа ускоренным темпом возобновил хлопоты о выезде за границу. Когда они снова были завершены, наша поездка едва не сорвалась. По правилам тех лет рукописи, вывозившиеся за границу, проверя-лись в каких-то высших инстанциях, где после проверки запаковывали и запечатывали сургуч-ными печатями. Так было сделано и с теми рукописями, которые папа вез с собой для работы и для сдачи в издательство. Не помню уже теперь, для каких целей, Мага попросила папу отвезти в Германию тетрадку ее стихов; очевидно, она надеялась их там издать. Папа согласился, и эта тетрадка прошла проверку вместе с его рукописями и была запечатана в одном с ними пакете.
Дня за два до нашего отъезда ночью на парадном вдруг раздался резкий звонок. К нам пришли с одним из тех обысков, которые стали повседневным явлением московской жизни тех дней. Помню какого-то молодого начальника, с которым пришли два солдата и понятые из нашего домоуправления. Рылись в книгах и домашних вещах.
В разговоре выяснилось, что интересуются Магой и нашими с ней отношениями. Папа не стал скрывать того, что в запечатанном пакете среди других рукописей есть Магины стихи. Начальник заявил, что пакет нужно вскрыть. Папа со всей откровенностью объяснил ему положение вещей, сказав, что если печати будут сломаны и снова придется сдавать рукописи на проверку, истечет срок заграничных виз и потребуются все хлопоты о поездке начинать сначала. Начальник выслушал папины доводы и ответил, что сам решить этого вопроса не может, а должен получить санкцию своего начальства. В то время у нас в квартире еще не было телефона, и мы проводили его вниз к Лили — к телефону.
Нам показалось, что он отсутствовал очень долго. Мы сидели в страшном напряжении, ожидая решения своей участи. На папу жаль было смотреть — он был совсем бледный. Наконец, начальник вернулся с заявлением, что пакет разрешили не трогать. У нас точно камень с души свалился. Чужие люди ушли, мы остались одни в нашей перерытой, взбудораженной ночным обыском квартире. Больше препятствий к отъезду не было.
Последние дни и часы прошли как в лихорадке. Все наши вещи снесли в две папины комнаты наверху и там заперли. В столовую должен был на время нашего отъезда переселиться из комнаты за кухней Яков Захарович Черняк, незадолго перед тем женившийся. В маленькой комнате предложили пожить Юре Бобылеву, который нуждался в жилье. Но эти переселения произошли уже после нашего отъезда. Мы оставили нижние комнаты оголенными, пустыми.
В моей памяти ярко запечатлелись некоторые моменты тех дней, которые протекли между нашим с Сережей выздоровлением и отъездом. Маме пришлось подумать о том, чтобы как-нибудь одеть нас в дорогу, так как мы были совершенно раздеты. Мне она купила готовые вещи: синюю шерстяную юбку, заложенную простроченными складками, и к ней шерстяную же синюю блузку. А Сереже заказали брюки и тужурку у портного. И мне почему-то очень запомнилось это посещение. Помню большую комнату в подвальном этаже, заставленную вещами и засоренную обрезками тканей. Помню жену портного и нескольких ребят, а также его самого, сидящего с подогнутыми ногами на большом стуле, — по обычаю портных старого времени. Я впервые попала в такую обстановку и увидела быт ремесленного семейства, который произвел на меня очень сильное впечатление.
Навсегда осталась в моей памяти также прощальная прогулка по Москве вечером накануне отъезда. Папа пошел со мной и Сережей нашим любимым с детства маршрутом — по Гагарин-скому переулку, вокруг храма Христа Спасителя, по расположенным около него над рекой скверам. Мы шли медленно и говорили о Москве, которую покидали. Были в размягченном, лирическом настроении.
Я тогда впервые почувствовала, как я люблю родные места, и столь свойственное мне впоследствии чувство ностальгии впервые овладело моей душой. О Москве говорил нам и папа. Как всегда то, что было предметом его I слов, приобретало особенно весомый, значительный смысл. Мы говорили о московских мостовых, переулках, Домах, о московском, единственном для нас воздухе. Может быть, содержание нашего разговора во время этой вечерней прогулки было и не совсем таким, как я его сейчас описываю, но так оно мне запомнилось Первое в жизни прощание с Москвой… Первый отъезд в неизведанную даль…
Дорога в Берлин
С ранней юности, почти с детства, у меня возникла потребность к закреплению прожитых мгновений. В колонии я писала дневник, но позже его уничтожила, рассердившись на папу, который сказал мне, что прочел мои записи. Всю жизнь потом я жалела об этих погибших страничках. Когда мы поехали за границу, я вскоре почувствовала неповторимую особенность этих дней и, еще находясь в Германии, начала подробно записывать все происшедшее со мной за время отъезда из колонии. Эта наивная детская запись, местами немного смешная, но полная свежести чувства и точная по фактам, осталась незаконченной Но то, что записано, позволяет мне теперь легко восстановить в памяти ход событий.
День отъезда и самый отъезд так описаны в моей детской записи:
"Этот день несся каким-то вихрем. Я бегала к дяде Шуре за деньгами, потом сидели в томительном ожидании, пока вернется папа с билетами. Наконец позвали извозчика, все ехали на трамвае, только я с папой на извозчике. Ехали по каким-то частям города, в которых я нико-гда раньше не бывала. Я все старалась лучше запомнить дома, мимо которых мы проезжали, потому что думала, что не скоро еще попаду в Москву назад".
Ехали мы на Рижский вокзал, который тогда носил название Виндавского. Путь этот занял не менее часа, и мы всю дорогу с папой разговаривали. О чем говорили, теперь я не помню. Но знаю, что, охваченная волнением и грустью расставания с Москвой, я старалась очень выразить эти свои чувства словами. Позже папа говорил, что ему было радостно слушать меня, потому что я, как он выразился, расстегнула одну пуговку и приоткрыла перед ним щелочку в свой внутренний мир. Очевидно, у него было чувство, что он знакомится с повзрослевшей дочкой, с которой впервые так близко соприкоснулся после долгой разлуки во время ее жизни в колонии.
Дальше записано так: "На Виндавском вокзале было много народу Все наши уже ожидали нас там. Я не помню грусти прощанья, потому что сперва мы все бегали, искали одну даму, которая должна была уехать тем же поездом, но не найдя ее, почти тотчас же были разделены толпой с провожавшими нас Лили, Верой Степановной Нечаевой, дядей Колей и Яковом Захаровичем". (Помнится, эта дама была теософка, к которой у нас было какое-то поручение.)
Впоследствии Лили рассказала мне, что ей надолго запомнилось мое лицо, каким она видела его через стекло вагонного окна — напряженно-взволнованное и грустное. А у меня на всю жизнь запечатлелась в памяти первая ночь в вагоне.
Ехали мы комфортабельно — в мягком вагоне 2-го класса, одни своей семьей в четырех-местном купе. Мы с Сережей лежали на верхних полках, а папа с мамой — внизу. Папа всю ночь отчаянно кашлял Я не спала и мучительно переживала его кашель. Мне страстно хотелось остановить его, чем-нибудь смягчить, смазать папино намученное горло В то же время под стук колес подгонялось слово "навсегда, навсегда".
Я писала дальше так: "Ехали мы до Риги один день и две ночи Удобнее ехать было трудно. В вагоне был проводник, который очень заботился о всех пассажирах. Он приносил горячую воду и все делал, что только его просили. Познакомились со всеми пассажирами. Рядом с нами в купе ехала какая-то компания французов из Парижа. Они делали шум в вагоне, свистели не переставая все хором".
"Познакомились с неким "мрачным философом", как назвал его папа, и еще с другими ехавшими в Германию людьми". Среди них мне запомнился молоденький немецкий журналист, с которым папа беседовал; я впервые тогда услышала папину великолепную немецкую речь.
"Утром нас разбудил крик проводника: "Через час — Рига". В Риге пересадка. Скорее все поднялись, начали торопиться, укладывать вещи. Подъезжали к Риге. Было раннее утро и потому еще холодно. Мы взяли носильщика и перешли с одного вокзала на другой. На этом втором нам нужно было ожидать до вечернего поезда. Вошли в буфет. Это был большой зал с прилавком с одной стороны и столиками с другой. На прилавке стояли всякие запыленные закуски, вырезанные в виде звездочек и цветочков. Мы решили пойти и осмотреть город, потому что у нас было очень много времени до вечернего поезда. Город Рига мне показался весь как игрушечный. Улицы были чистенькие, дома хорошенькие и на русские не похожи. Всюду бегали трамвайчики, совсем такие, как у детей бывают игрушечные конки. Я в первый раз была в ино-странном городе, и мне казалось чудным, что все вывески и названия не по-русски написаны".
В этих наивных строках очень верно отразились мои тогдашние впечатления. Новое ворвалось в мою жизнь с неудержимой силой. Во всем, что предстало в это холодное осеннее утро перед моими по-детски широко открытыми глазами, не было ничего похожего на то, что я видела и знала раньше. Действительность повернулась новой гранью и засверкала небывалыми красками.
В моей записи рассказано, как мы долго шли по улицам Риги, отыскивая по имевшемуся у папы адресу какого-то человека, к которому у него было рекомендательное письмо. Ярко светило холодное октябрьское солнце. Наконец, мы нашли нужный дом. Не помню, чтобы этот господин встретил папу очень приветливо. Кажется, он принял его довольно сдержанно, хотя и любезно, и дал какие-то нужные указания. Между прочим, папа попросил его назвать нам ресторан, где мы могли бы позавтракать. Тот посоветовал пойти в ресторан "Франкфурт-на-Мейн".
Мы не сразу отыскали этот ресторан, а долго кружили по улицам и только когда потеряли надежду найти его и решили зайти в первый попавшийся, тогда наткнулись на "Франкфурт-на-Мейн". Оказалось, что господин дал нам неумный совет. Мы попали в роскошное, фешенебель-ное место, где за самый скромный завтрак, оставивший нас полуголодными, нам пришлось очень дорого заплатить. Утренние похождения, которые заняли довольно много времени, очень нас утомили. Сережа с папой на извозчике поехали искать банк, где нужно было менять деньги, а я с мамой вернулась на вокзал.
Дальнейшие строки записи привожу без изменений:
"Я помню, что мне так хотелось спать, что я заснула, положивши голову на круглый деревянный стол, через который проходила деревянная же колонна. Мы обедали на вокзале и потом уже больше никуда не ходили, а ожидали поезда в буфете. Скучно было сидеть все эти часы. Волей-неволей рассматривали всех присутствующих…
Не меньшее любопытство возбуждали во мне одетые в черные фраки ресторанные лакеи, которых я, одержимая демократическими чувствами, жалела, так как мне казалось, что им очень трудно бегать безостановочно, лавируя между столиками, с подносами, уставленными тарелками, бутылками и стаканами. Эти мои чувства еще усилились, когда папа пересказал нам содержание своего разговора с одним пожилым лакеем, с которым он заговорил по-немецки. Этот человек с приятным, усталым лицом пожаловался папе на свою тяжелую жизнь, на трудность лакейской работы, недостаточность заработка при большой семье. Поразило мне воображение и то, что во время этого разговора к старому официанту подошел один из его товарищей и дернул его за рукав, как бы говоря: довольно, мол, тебе. К вечеру на вокзале один за другим начали появляться ехавшие с нами из Москвы люди — наши попутчики до Берлина".
Посадка на поезд в Риге оказалась очень трудной, т. к. вокзал был запружен какими-то переселенцами из России в Америку. Помнится, носильщик посадил нас в вагон до начала общей посадки и до того, как поезд был подан к перрону; для этого он провел нас на какой-то отдаленный запасной путь. Получилось так, что нам не Удалось поместиться всем в одном купе; мы с мамой очутились вместе, а папа — отдельно от нас. Вагон не имел лежачих спальных мест, на мягких диванах сидело по три человека. Когда поезд подали к перрону, в наше купе сели две нарядные молодые дамы, которые привлекли мое особое внимание своим предосудительным с моей тогдашней точки зрения поведением. Сначала они громко и очень кокетливо переговари-вались через окно с провожавшими их людьми, а когда поезд пошел, долго мешали нам спать своей болтовней, возней с завивкой волос, шуршанием бумаги от шоколада, которым они беспрестанно лакомились.
Дорога до Берлина неоднократно прерывалась проверкой документов и осмотрами багажа, которые, впрочем, производились очень поверхностно. К Берлину мы подъезжали рано утром, часов около восьми; поезд шел уже по самому городу — от одного берлинского вокзала к другому. Постепенно наши спутники прощались и сходили. Наконец пришел и наш черед. Верная своему темпераменту, я первая соскочила со ступенек вагона и ступила на перрон.
Знакомство с Германией
Обстановка заграничного вокзала меня ошеломила. На перроне было много народу, громко звучала немецкая речь, тогда мне совершенно незнакомая. По платформе катились тележки с газетами, журналами и открытками, повсюду пестрели яркие рекламы.
В то время как я стояла в ожидании, пока сойдут мои родители и Сережа и будет вынесен наш багаж, ко мне подошел худенький молодой человек небольшого роста, который спросил меня по-русски: "Скажите, ваша фамилия не Гершензон?" Это оказался сотрудник издательства "Эпоха" Меерович, которого послали нас встречать. Он провел нас в буфет, а сам, вместе с папой, пошел нанимать автомобиль или извозчика. Нам пришлось ждать довольно долго, мы успели даже что-то выпить.
Меня не оставляло чувство ошеломленности, благодаря которому все, что представало перед моими глазами, воспринималось с поразительной остротой. Я даже запомнила людей, сидевших рядом с нами в почти пустом в эти утренние часы помещении вокзального буфета: молодую мать с двумя маленькими мальчиками, которые бойко болтали по-немецки.
Папа с Мееровичем пришли, наконец, за нами. Мы разместились в большом экипаже и поехали по улицам Берлина. Ехать пришлось далеко. Я во все глаза смотре-43 на широкие и очень чистые улицы, на непривычное для меня оживленное городское движение. Хорошо помню, как мы проезжали мимо Тиргартена, и я любовалась на красивые деревья и многочис-ленные статуи.
Экипаж наш остановился на сравнительно тихой улице, где для нас снята была меблиро-ванная комната. Дверь открывала полная пожилая женщина, о которой я написала в своих записках, что именно такими "себе всегда представляла квартирных хозяек в Берлине".
Комната оказалась неприятной — темной, не слишком чистой, украшенной тяжелыми пыльными драпировками, меблированной старой мебелью. Нам с Сережей пришлось спать на очень неудобных кушетках с испорченными, выпиравшими наружу пружинами. Хотя в течение двух-трех дней, проведенных в Берлине, нам мало приходилось бывать дома, мы были рады покинуть свое неуютное временное пристанище.
Неприятное первое впечатление, которое произвела на нас эта квартира, в дальнейшем еще возросло, так как уже в первый вечер нашего пребывания в Берлине мама догадалась, что в задних комнатах скрывается нечто вроде игорного притона. В прихожей около входной двери на стуле сидел старичок, который по вечерам впускал в квартиру каких-то людей, бесшумно проскальзывающих в глубину квартиры. Приходили они по одиночке, тайком, вероятно, потому, что в Германии тогда были запрещены азартные игры. Разговорившись с хозяйкой, мама спросила ее: кто эти люди и зачем они приходят, и та не стала таиться, а откровенно созналась, что содержит рулетку, прибавив в свое оправдание: "Ведь жить чем-нибудь надо?" Не знаю, почему Меерович так небрежно отнесся к порученному ему делу нашего устройства в Берлине, поместив нас в такое неприятное место. В краткий период нашего пребывания в Берлине, мы Успели все же кое-где побывать, посетили великолепный Берлинский аквариум. С особым чувством повел нас папа в хорошо ему знакомую по его юным годам (когда он две зимы проучился в Берлинском политехникуме) картинную галерею. Но я оказалась недостаточно подготовленной для восприятия произведений старых мастеров. Довольно равнодушно смотрела я на любимые папины картины (особенно Рембрандта), которые он с восторгом нам показывал. Почему-то мне хорошо запомнилась только одна вещь — "Св. Себастьян" Рубенса (чему я порадовалась через сорок с лишним лет, когда узнала, что это — одна из лучших картин Рубенса; она погибла при капитуляции Германии в конце Второй мировой войны).
В то время когда мы попали в Германию, т. е. осенью 1922 года, значительная часть русской эмиграции находилась в Берлине. Можно было часто услышать на улицах русскую речь; в городе имелись русские магазины, рестораны (помню, мы проходили мимо русского ресторана "Медведь"). Большинство писателей и профессоров, высланных летом 1922 года из России, жили в Берлине. В течение тех 2–3 дней, которые мы провели тогда в Берлине, папа почти никого не успел повидать. Вероятно, он виделся с работниками берлинского отделения издательства "Эпоха", а также из знакомых встретился с сестрой находившегося в Париже Льва Исааковича Шестова и ее мужем философом Ловуцким.
Берлинские дни вспоминаются как странный, причудливый калейдоскоп впечатлений, порожденных пребыванием в совершенно новых условиях жизни. Мы все время куда-то бежали, спешили, обедали каждый день в другом ресторане. Особенно запомнилось мне последнее утро. В этот день папа куда-то ушел по своим делам, а мы с мамой втроем отправились покупать Сереже шерстяной свитер. Мама предварительно посоветовалась с нашей квартирной хозяйкой, которая порекомендовала магазин в конце нашей улицы. Мы вышли из дома и пошли в указан-ном направлении. "Конец нашей улицы" оказался так далеко, что нам пришлось идти до него более часа. Усталые и злые, мы, пройдя километра четыре, обнаружили нужный магазин, и фуфайка была куплена.
За дни, проведенные в Берлине, папа и мы с Сережей успели показаться профессору-специалисту по легочным заболеваниям, и нам было рекомендовано поехать лечить легкие в Шварцвальд. Кто-то из русских, думаю, что это были Ловуцкие, посоветовал курорт Баденвей-лер, расположенный недалеко от города Фрейбурга в Бренау в Шварцвальде. Так и было решено.
На вокзал мы поехали в автомобиле вместе в Ловуцким, который тем же поездом отправ-лялся в Базель. По железной дороге нам предстояло ехать до маленького шварцвальдского городка Мюльгейма, откуда ходил трамвай в Баденвейлер. Дорога до Мюльгейма оказалась долгой (точно не помню, сколько часов), так как поезд шел в объезд из-за того, что Рурская область была оккупирована французами.
В пути я все время смотрела в окно. Меня поразила тщательность обработки земли, своим видом напоминавшей шахматную доску; удивлялась я также частоте остановок и тому, что беспрестанно встречались большие города. Проезжали Галле, Карлсруэ, Гейдельберг и многие другие. Места в вагоне были сидячие. Против нас на диване сидел Ловуцкий, с которым папа всю дорогу разговаривал. Я прислушивалась к их беседе, содержание которой отчасти помню. Меня заинтересовал их разговор о модном в те годе фрейдизме — предмете увлечения жены Ловуцкого.
Я не помню, как мы вышли из поезда в Мюльгейме и пересели в трамвай, идущий в Баден-вейлер. Помню только, что было раннее, туманное утро. Зато первая поездка в этом трамвае осталась для меня незабвенной. Путь пролегал по долине, расположенной под горой, поросшей лесом и виноградниками. Пришлось проезжать через два селения — Нидервейлер и Обервейлер. Это были большие Деревни, растянувшиеся вдоль узкой, бурливой реки. В каждой из них домики швейцарского типа с высокими кровлями группировались вокруг церковной колоколь-ни. Шумели колоса водяных мельниц. Мне казалось, что я вижу волшебный сон, в котором передо мной оживают знакомые с детства сказки Андерсена или братьев Гримм. Кондуктор, громко выкликавший названия остановок, тоже казался сказочным. Когда трамвайчик останав-ливался, его мотор громко стучал. Сколько раз потом, проезжая этим путем, прислушивалась к этому стуку!
Баденвейлер
Приехав в Баденвейлер, мы где-то оставили свои вещи и все вместе отправились искать пансион, в котором можно было снять комнаты. Курорт был пустой, т. к. летний сезон давно кончился, а зимний еще не начинался. Многие пансионы и отели стояли закрытыми, другие почему-либо оказывались для нас неподходящими, — вероятно, главным образом, из-за дороговизны.
Помнится, ходили мы очень долго, так что продрогли и устали. Зашли в ресторан позавт-ракать. После завтрака мама с Сережей остались в ресторане отдохнуть, а мы с папой вдвоем продолжали поиски. На этот раз нам посчастливилось; мы быстро нашли хорошие комнаты в пансионе "Эккерлин", туда были вскоре перенесены наши вещи. Я подробно описала в своих записках первые часы нашего пребывания в Баденвейлере и наше новое жилище.
"Это был большой, каменный, желтый дом, построенный как коробка. Перед ним не было ни садика, ни двора, была только небольшая желтая площадка, на которой росли в ряд четыре больших, подстриженных в кружок каштана. Мы позвонили. Открыла нам девушка лет восемнадцати, которая была необыкновенно хороша собой. Она показала нам три светлые, расположенные подряд комнаты, которые были очень уютны и хорошо обставлены. И цена и все условия оказались для нас подходящими. Мы решили здесь и остаться.
Первый день нашей жизни в Баденвейлере был неприветлив и пасмурен. Мы занимались распаковкой наших вещей и гулять не ходили. К ужину сошли в общую столовую. Это была уютная, довольно большая комната, оклеенная приятными серыми обоями. В ней стояли столи-ки, покрытые белыми скатертями. Народу почти не было. Сидели в уголке две старушки в трауре, потом две дамы с маленькой девочкой и еще один молодой человек, как мы узнали после, скрипач".
Пансион Эккерлин, в котором мы поселились в Баденвейлере и где нам довелось прожить зиму 1922–1923 годов, оказался чрезвычайно приятным местом. Мы заняли три комнаты на втором этаже, в конце коридора, расположенные анфиладой. Две крайние комнаты были квадратные — большие, каждая на две кровати, а средняя, с одной кроватью и с дверью на небольшой балкон, была маленькая и узкая. Из окна первой комнаты открывался вид на ближайшую к Баденвейлеру деревню Обервейлер и расположенную за ней гору, своей формой напоминавшую спину огромного лежащего кита.
Чистота и благоустроенность этих обставленных красивой мебелью комнат являла собой резкий контраст тем условиям существования, в которых мы жили последние годы в России. Особенно сильно это ощущала мама. Коридор второго этажа (в пансионе был и третий этаж) оканчивался лестницей, покрытой ковровой дорожкой, по которой мы дважды в день спускались в столовую к табльдоту.
Завтрак нам приносили в комнаты. Каждое утро, часов 8–9, к нам в дверь стучалась хоро-шенькая, милая горничная фрейлейн Эмма с подносом в руках, на котором стояли кофейник, молочник, тарелка с круглыми, свежими, очень вкусными булочками, кружочки масла с отпечатанными на них цветочками и вазочка с повидлом.
С обедами и ужинами выходило не совсем просто из-за нашего с Сережей вегетарианства. Супы подавались всегда протертые, и мы верили, что они немясные (вероятно, мама понимала, что это далеко не всегда было так), а на второе нам двоим неизменно подавали яичницу-глазунью.
В первом этаже пансиона Эккерлин с отдельным входом с улицы находились особые апартаменты, которые занимало титулованное лицо, какой-то таинственный больной принц, которого никто из жильцов дома никогда не видел. Знали только состоявшую при нем женщину, по-видимому, исполнявшую должность сиделки, а также — принадлежавшую ему кошку, которую встречали во время ее ежедневных прогулок. Эта кошка привлекала мое внимание тем, что не откликалась на привычное для русских кошек "кис-кис", а поворачивала голову лишь тогда, когда к ней адресовались: "Пусси, пусси".
Беденвейлер нельзя было назвать городком; это был небольшой поселок курортного типа, в котором основное количество зданий представляли собой отели и пансионы. Месту этому присуще было необыкновенное обаяние. Поселок располагался в прелестной, живописной долине, окруженной горами. С одной стороны эта долина простиралась вплоть до Мюльгейма, и в ней располагались упомянутые мною деревни Обервейлер и Нидер-вейлер. С другой стороны за гранью поселка тянулись обширные фруктовые насаждения по сторонам белых, как полотно, дорог. В садах разбросаны были отдельные виллы, в которых, по большей части, сдавались курортникам комнаты.
Сам Баденвейлер располагался вокруг небольшой горы, увенчанной романтическими развалинами средневековой крепости — излюбленном месте прогулок отдыхающих. Гора эта возвышалась в центре довольно обширного парка, из которого на ее вершину поднималась дорога. Подножье крепостной горы окружала главная прогулочная аллея парка; она начиналась площадкой, где помещался курзал с террасой для оркестра и скамейками для слушателей музыки. Огибая гору, аллея с одной своей стороны примыкала к скату горы, с другой стороны была обсажена каштанами, между которыми открывался чудесный вид с виноградниками на первом плане и широкой перспективой Рейнской долины, уводившей взгляд вдаль вплоть до видневшейся на горизонте горной гряды.
Сам парк был прелестен. Мне кажется, что больше никогда я не видела такого красивого парка, который в то же время отличался удивительной приветливостью и уютом. В нем росли только южные деревья и кустарники, большая часть которых была мне совсем незнакома. Особенно меня поразили магнолии с толстыми, как бы восковыми листьями, рододендроны и остролистник, на котором зимой появились красные ягодки.
В парке воздух был душистый и влажный. Зимой в Ба-денвейлере почти все время было тепло, часто — туманно, а воздух был мягкий и влажный.
Прожив в Баденвейлере 2–3 месяца, мы уже знали в лицо большинство мелких лавочников, ремесленников, владельцев кофеен, почтальонов и т. д. И нас все знали, так что встречали на улицах и в магазинах как старых знакомых. Некоторых людей я хорошо помню.
Недалеко от нашего пансиона на тихой улице находилась лавка, принадлежавшая старику. Там можно было купить все, что угодно, но все товары были застарелые, лежалые; папа заходил в нее покупать папиросы. Как хозяин лавки сводил концы с концами — трудно сказать; мы были едва ли не единственными его покупателями. Папа часто беседовал с этим стариком, имевшим очень колоритную внешность. У него была крупная голова, обросшая седыми локонами и такой же бородой. Старик был одинок и грустен. Он рассказывал, что на войне убиты оба его сына и он остался совсем одиноким. Его лавка, пустынная и запыленная, казалась такой же заброшен-ной и одинокой, как ее хозяин.
Помню другой магазин на бойком месте, где торговали два похожих друг на друга молодых брата, веселых и элегантных, владевших французским и английским языками.
Мы дружили с владельцами единственной в Баденвейлере кондитерской. Это были пожилой отец и две дочери — девушки не первой молодости. Когда мы заходили в их магазин, они всегда приветливо с нами беседовали. Эта кондитерская своей патриархальностью чем-то напоминала франкфуртскую кондитерскую, описанную Тургеневым в романе "Вешние воды". Все печенья делались домашним способом самими хозяйками. В двухэтажном домике магазин занимал нижний этаж, а наверху, куда вела уютная лестничка, помещалась квартира отца с дочерьми.
На площади против отеля "Ромербада" в одном из домов жил зубной врач Марион.
Мне часто приходилось бывать у него, т. к. у меня были очень плохие зубы. Помнится, он мне поставил одну за другой двенадцать металлических пломб и сделал это навечно, так что они продержались десятки лет — до тех пор, пока вообще существовали эти зубы.
Из местных знакомств наиболее тесным и милым оказалась приглашенная вскоре нашими родителями для занятий со мной и Сережей немецким языком фрау Трей. Очень быстро сложился уклад нашей жизни на новом месте. Обычно после завтрака мы готовили свой немецкий урок, а потом шли всей семьей гулять. Бродили по дорожкам прелестного парка и по главной улице Баденвейлера. Дальше заходили редко, т. к. погода стояла сырая и нередко туманная. Домой возвращались часов в двенадцать. В половине первого обедали, после чего папа и мы с Сережей отдыхали. Папа нередко лежал на кушетке возле открытой двери балкончика. В четыре часа нам приносили в наши комнаты чай, после чего приходила на один час фрау Трей. Ужин полагался в 7 часов, но обычно запаздывал. Между ужином и сном чаще всего мы играли в карты, обычно в короли.
Папа выписывал для нас русские книги из Берлина. Кое-какие книги мы привезли с собой. Помнится, мы с Сережей долгое время читали роман Теккерея "Ньюкомы", изданный в четырех томах. Первые три тома показались мне скучными, зато четвертый так увлек, что трудно было оторваться. В Баденвейлере я впервые прочла "Войну и мир", которую присылали из Берлина том за томом. Окончив очередную часть, я не могла дождаться получения следующей книжки; перерывы в чтении романа казались мне несносными.
В числе немногих обитателей нашего пансиона были две русские дамы из Ревеля, с которыми мы познакомились. Как-то они явились к ужину особенно нарядными и возбужденно-веселыми. Они рассказали нам, что были в ресторане отеля "Ромербад", где подают отличный кофе с пирожными, играет музыка и по вечерам танцуют. Нас заинтересовал их рассказ, и в ближайшее воскресенье мы под вечер туда отправились. Отель "Ромербад" показался мне чрезвычайно роскошным. Вероятно, так оно и было, т. к. обитали в нем преимущественно американские богачи и титулованные особы из разных стран. Посещение ресторана "Ромербад" стало единственным развлечением, нарушавшим монотонность установившегося уклада нашего существования. Ресторан этот представлял собой большой двусветный зал с куполом и с хорами, где были два ряда галерей, завешанные желтым занавесом.
Интерьер его был отделан очень пышно и, вероятно, безвкусно. Посетители сидели за накрытыми столиками с желтыми скатертями. Посередине зала оставалось порядочное место для танцев. По сторонам были уютные ниши. В одной из ниш у двери стояло пианино.
Как и во все время нашей заграничной поездки, я особое внимание обращала на людей, которые занимались обслуживанием посетителей ресторанов, постояльцев гостиниц, пассажиров поездов и т. д., испытывая к ним повышенную симпатию и сочувствие.
В ресторане "Ромербад" такими людьми оказались лакей и музыканты. Последние вызвали мой особенный интерес. Дело было не только в том, что эти два человека — скрипач и пианист — выполняли очень тяжелую работу, играя почти без перерывов по несколько часов подряд, а также и в том, что они были блестящими мастерами своего дела. Тогда недавно вошли в моду фокстроты, танго и вальс-бостон. Мелодии были красивые, то грустно-лирические, то бравурные. Худенький пианист с тонким лицом и скрипач, обладавший бет-ховенской головой с львиной гривой (оба одетые в черные фраки), играли артистически. Особенно привлекал внимание своим темпераментом и разнообразием движений скрипач.
Танцующая публика производила совсем другое впечатление. Я глазела на нее с неприкрытым любопытством, т. к. первый раз в жизни видела представителей богатейших слоев европейского общества с присущей им чванливо-горделивой осанкой. Поражала меня роскошь одеяний — мужских сюртуков и смокингов и женских вечерних туалетов, украшенных мехами и усыпанных драгоценностями.
Особенно удивительными казались разряженные, все в бриллиантах танцующие старухи. Поражала и господствовавшая в те годы манера танцевать, при которой под любую музыку пары еле передвигали ноги, а тела танцующих оставались застывшими, словно проглотившими аршин. Некоторые персонажи запечатлелись в моей памяти. Помню одного мужчину не первой молодости, лицо которого монгольского типа напоминало маску мертвеца. Он был неизменным посетителем ресторана и одним из самых ревностных танцоров. Запомнила я также молодую высокую блондинку с ненормально выпуклыми глазами — очевидно, больную базедовой болезнью. О ней рассказывали как о невесте с миллионным наследством. Запомнилась мне и другая миллионерша — старуха американка, на сморщенной шее и подагрических руках которой сверкали десятки драгоценных камней.
Крепкий ароматный кофе, к которому нам подавали по большому куску сливочного или шоколадного торта, казался нам чуть ли не пищей богов. Особенно наслаждалась мама, т. к. недоступные в течение ряда лет кофе и пирожные всю жизнь были ее любимыми лакомствами.
Главным нашим развлечением, вернее, главной радостью, а для нас с Сережей и чуть ли не смыслом жизни являлись письма из России. Получали мы их много и часто, но нам все казалось мало.
Ежедневно утром, после завтрака, мы начинали напряженно ждать почтальона и не уходили гулять до тех пор, пока он не проходил.
Когда мы слышали его тяжелые, размеренные шаги в коридоре второго этажа, где находи-лись наши комнаты, у нас сердце замирало от волнения: постучит ли он в нашу дверь? И если в дверь раздавалось несколько громких ударов, мы вскакивали со своих мест и бросались ему навстречу.
Чаще всего писала нам Лили. Приходили письма от дяди Бумы, от маминых родных. Но мы со страстью ждали писем из колонии. Очень часто почтальон извлекал из своей сумки толстый конверт, набитый сложенными в квадратики маленькими записочками от ребят и взрослых колонистов. Записочки были написаны на плохой, грубой, почти оберточной бумаге, бледными чернилами или карандашами. Но как они были нам дороги! По скольку раз мы их перечитывали!
Мы с Сережей очень сильно тосковали о России, а о колонии особенно. Что касается меня, то я была исполнена самых патриотических чувств. Немцы в массе мне не нравились, казались толстокожими, туповатыми и сентиментальными. Помню, как с юношеской ригористичностью я говорила, что в последнем русском человеке — даже преступнике — больше содержится божеского начала, чем в любом, самом лучшем немце.
Мама наслаждалась физическим отдыхом и относительным душевным покоем. Зато папа, по-видимому, сильно тосковал и тяготился вынужденным творческим бездельем. Не помню, чтобы он говорил об этом при нас (может быть, только наедине с мамой). Я узнала о его душев-ном состоянии тех дней почти через 40 лет, когда получила оттиск от одного американского русского журнала, в котором были опубликованы папины письма к В.Ф.Ходасевичу. 5–6 писем было послано из Баденвейлера. Привожу несколько выдержек из этих писем.
"…Наконец собрался написать Вам. Собираюсь с самого приезда, да все недосуг: то звонок к обеду — и табльдот в целый час с мертвыми антрактами, то лежать надо, в пальто, с открытым окном и т. д.; передохнуть некогда; разве только газету за день почитаешь. Не шутя говорю: очень скучно, а свободного часа нет. Я уж так и отдался: лечиться так лечиться. Показывался я медицине и в Берлине, и здесь: говорят, процесс в легком и большое истощение, следовательно, много есть, быть на воздухе, лежать и ничего не трудиться. Мы здесь, кажется, уже немного поправились. Пансион изрядный, кормят хорошо, и сравнительно недорого" (12 ноября 1922 года).
"За месяц я так преуспел, что у меня в голове ни одной путной мысли не было и нет. А чувство России у меня вот какое: как сел кто, спасшись от кораблекрушения, уже согревшись и насытившись, сидит в безопасности и слышит вдали грозный шум все еще бурного далекого моря, — так я помню Москву и думаю о тех, кто и теперь еще там, на море. Есть ли у Вас это чувство? У меня собственно два чувства: одно касается беспримерно-великого дела наших дней, — я не о нем здесь говорю; другое — личное, которым я и болен. Когда растение растет, может быть каждому волокну больно вытягиваться; так и мы теперь. Я чудовищно-много вырос в эти годы; теперь пересадил себя с открытого воздуха в комнату, чтобы некоторое время отдохнуть от роста; и вот, действительно, глупею" (26 ноября 1922 года).
"Я не писал Вам столько времени, потому что не знал, где Вы, не думал, что Вы все еще в Сарове. Потом у нас дочка была больна, мокрым плевритом; пролежала месяц. Это все еще русское наследство. И я никак не поправлюсь; в легких не лучше, тот же кашель, та же слабость. Доктор говорит, что мне нужно год прожить в тепле и бездействии, а я едва растяну свои деньги до апреля, в апреле надо возвращаться. Разумеется, ничего не пишу, только читаю… Напишите о себе, как живете, чем заняты… Я очень соскучился о людях, охотно съездил бы на неделю в Берлин. Здесь вторую неделю лежит снег и холодно, сегодня начало таять. Еще раз спасибо Вам за радость Ваших грустных стихов. Они, правда, очень грустны" (27 января 1923 года).
"Я так отрезан здесь от всего литературного, что с трудом верится, что когда-то писал, печатал. Может, оттого и не пишется. Но это ничего, даже полезно; я теперь на весь мир идей и систем смотрю, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Мне врач решительно не советует ехать по крайней мере раньше теплого времени, так что мы отложили отъезд до половины мая" (21 марта 1923 года).
Я помню папу как человека нетерпеливого и довольно мнительного относительно собствен-ного здоровья. Но к туберкулезу своему, мне кажется, он относился сравнительно спокойно; впрочем, в Баденвейлере, где нам повседневно доводилось встречаться с тяжелыми чахоточны-ми больными, естественно, у него возникали поводы к неприятным ассоциациям. В особенности вспоминается мне один случай.
Некоторое время в нашем пансионе жил тяжело больной туберкулезом немецкий еврей лет 45, Якобсон. Папа с ним познакомился довольно близко, заходил к нему в комнату и много раз с ним беседовал. Потом этот человек из нашего пансиона куда-то переселился, кажется, — в туберкулезный санаторий. Вероятно, это произошло в связи с резким ухудшением его болезни. Раза два папа навещал его на новом месте и, возвращаясь от него, рассказывал о тяжелом состоянии больного.
Вскоре Якобсон скончался. Видно было, что папу потрясло это событие и что эту историю он пережил не только как трагический эпизод ухода из жизни знакомого человека, но и приме-нительно к самому себе, одержимому тем же недугом, от которого умер Якобсон.
С февраля начиная в Баденвейлере ощутимы стали веяния весны. Первыми расцвели крокусы вдоль теплых ручьев, протекавших в парке. Парк оживал; запевали птицы, набухали почки, а потом и бутоны на чудесных южных деревьях и кустарниках. Меня особенно поражали рододендроны и магнолии с их толстыми глянцевитыми листьями и бело-розовыми, словно восковыми цветами; потом зацвели каштаны, олеандры, глицинии, обвивавшие стены домов и вилл.
У нас было решение в апреле уехать из Баденвейлера в Берлин, чтобы оттуда возвратиться в Россию. Но перед этим папе захотелось показать нам красоты Швейцарии. Мы совершили чудесную незабываемую экскурсию на Боденское озеро, частично расположенное на территории Германии. Эту поездку я подробно описала в своих тогдашних записках.
Сборы и отъезд из Баденвейлера, так же, как и дорогу в Берлин, я не запомнила.
Берлинские встречи
В Берлине мы на этот раз остановились в хорошем пансионе. Папины письма к Ходасевичу напомнили мне о том, что папа просил его подыскать нам в Берлине помещение.
Ходасевич приготовил для нас две комнаты в том же пансионе, где сам в то время жил. Пансион этот помещался на 4-м или 5-м этаже большого дома на Викториа-Луизе-плац, круглой площади, от которой в две стороны прямыми стрелками отходила Моту-штрассе, Мы заняли в этом пансионе две небольшие смежные комнаты; вход в них был с площадки лестницы, отдель-но от всего пансиона, в который вела дверь, помещавшаяся на площадке напротив двери в наше помещение. Таким образом у нас получалась как бы отдельная квартирка.
Пансион этот был очень приятен; он носил совсем другой характер, чем пансион Эккерлин в Баденвейлере. Публика в нем жила не курортная, а деловая, находившаяся в Берлине в связи с различными обстоятельствами своего существования. Во время табльдотов, которые происходи-ли в общей столовой, по-семейному сходилось за одним длинным столом человек 20–25 разных национальностей. Помню даже какую-то пару: старую даму и мужчину португальцев из Бразилии. Были там и русские.
В.Ф.Ходасевич жил с молоденькой женой, как и он, поэтессой — Ниной Берберовой (с первой своей женой, театральной художницей, он разошелся; она осталась в России). За стеной нашей комнаты помещалась семья, глава которой, не старый еще человек, был тяжело болен почками. Он очень страдал, до нас часто доносились его стоны.
Мы приехали в Берлин с тем, чтобы, показавшись врачам, ехать дальше в Россию. Однако все сложилось совсем не так, как мы предполагали. Очередность событий я теперь уже не помню. Помню только, что врачи категорически запретили папе ехать в Россию, найдя, что за время его полугодового пребывания в Баденвейлере в его болезни не произошло улучшения. Русские берлинцы уговаривали папу вообще остаться за границей, как и они, перейдя в эмигра-цию. Родители наши не знали, что им предпринять, пребывали в смятенном состоянии. К тому же у папы деньги были на исходе, и приходилось изыскивать пути к их добыче, что, по-видимому, доставалось ему нелегко.
В таком томительно неопределенном положении мы прожили в Берлине целый месяц. Каждый день возникали разговоры: "Ехать? Не ехать? Возвращаться ли вообще в Россию?" Мы с Сережей страстно хотели ехать домой, не мысля себе возможности остаться навечно за границей.
Папа с мамой душою также хотели этого, но, по-видимому, тревожились разными деловы-ми соображениями, связанными с состоянием папиного и нашего здоровья, с трудностями и неустройством жизни в России.
Однажды папа обратился ко мне со словами:
— Скажи, ехать нам или не ехать. Только скажи, не думая, реши это не головой, а "животом".
Этот вопрос, характерный для папы, очень смутил меня. Я совсем растерялась и не знала, что сказать. Я не могла отделить своего душевного чувства от тех жизненно важных сообра-жений, которые служили повседневной темой обсуждения всех членов нашей семьи. "Живот"-то мой знал, чего хотел, а головой я мучилась мыслями о папиной болезни и обо всем остальном, что смущало родителей. Так из моего ответа ничего не вышло.
Берлин, несмотря на свою импозантность, мне не нравился, из-за присущей ему холодности и однообразия.
Мне казалось скучным, что большинство улиц похожи одна на другую, что все они — прямые и обстроены одинаковыми серыми пятиэтажными домами. Но все же огромный город, шумный, с разноязычной толпой, двигавшейся по тротуарам, со множеством несущихся машин и пролеток, давал богатую пищу юношескому воображению. Особое мое внимание привлекали многочисленные рестораны и кафе, из которых сквозь раскрытые окна и двери на улицу вырыва-лись громкие звуки входившей тогда в моду джазовой музыки, а также то и дело попадавшиеся повсюду фигурки русских эмигрантов. Русская речь слышалась беспрестанно — на улицах, в магазинах, ресторанах, трамваях, автобусах.
Как-то, когда мы проходили мимо русского ресторана, одна из дам, сидевших за столиком на открытой террасе, поглядев на меня, громко сказала: "Какая хорошенькая девочка". Она, конечно, не думала, что я русская и пойму ее, и потому так громко выразила свое мнение, к которому я, конечно, не осталась вполне равнодушной.
Один раз всей семьей мы зашли в русский ресторан поужинать. Во время ужина мы заметили что в углу одиноко сидит молодой человек. Он был пьян как стелька и спал, уронив голову на заставленный бутылками и стаканами стол. Помнится, официанты разбудили его и, волоком протащив через зал, вытолкали за дверь. Эта сцена поразила меня; в облике этого пьяного, опустившегося человека, выброшенного не только за дверь ресторана, но и за пределы своей родной страны, мне мыслилась большая человеческая трагедия, которую я всячески расцвечивала своим юношеским воображением.
Мне кажется, что у моих родителей в этот раз из-за сложности наших обстоятельств не было настроения осматривать достопримечательности Берлина. Помнится, мы посетили тогда только берлинский зоопарк, славившийся как один из лучших зоопарков мира.
В Берлине у нас было много встреч с разными людьми, особенно, конечно, с русскими писателями. Наиболее тесные отношения установились с Ходасевичем, с которым мы общались ежедневно, живя под одной крышей. Я хорошо знала Ходасевича еще в Москве, т. к. он часто бывал у папы, но теперь воспринимала его иначе, т. к. глядела на людей уже почти взрослыми глазами.
Он был нервен, желчен и зол, но очень талантлив и умен. Для его характеристики как человека интересно вспомнить хотя бы то, как он проявлял себя во время игры в шахматы с Сережей. Если Сереже, мальчику 17 лет, случалось у него выиграть, Ходасевич по-настоящему злился и, выражая свою досаду, старался найти слова, которые могли уколоть самолюбие счастливого партнера и снизить значение его выигрыша. Ходасевич часто и охотно читал по папиной просьбе вслух свои прекрасные стихи, которые мы все слушали с величайшим удовольствием. Иногда читала свои стихи и его молоденькая жена, поэтесса Нина Берберова, хорошенькая женщина с большими светлыми глазами (впоследствии, когда мы были уже в России, до нас дошли слухи, что Ходасевич и с ней разошелся).
Как-то вечером мы всей семьей отправились на собрание русских берлинских писателей. Не помню сейчас, кто именно там присутствовал и о чем шла речь. Запомнилось только то, что велась какая-то дискуссия и речи произносились очень горячие, страстные. Внимание мое приковала к себе фигура Ильи Эренбурга, выступавшего с особым остроумием и пафосом. Он показался мне немолодым и несколько чудаковатым, каким-то испитым и потрепанным.
Часто встречались мы с матерью нашего друга, товарища детских игр Кики Давыдова, Натальей Михайловной Давыдовой. Эту замечательную женщину, очень любимую моими родителями, постигла страшная судьба, о которой мы узнали из ее рассказов во время наших берлинских встреч. Октябрьская революция застала Наталью Михайловну в Киеве, куда она уехала вдвоем со своим младшим любимым сыном Кикой, очевидно, спасаясь от большевиков.
В Киеве они пережили то время, когда там многократно сменялась политическая власть. После воцарения красных Наталья Михайловна и Кика были арестованы. В тюрьме им довелось испытать страшные истязания. В один из тех раз, когда ее вели на допрос, она увидела Кику сидящим на подоконнике окна на площадке внутренней лестницы тюрьмы. Он был страшно худ, бледен и казался тяжело больньм. Через некоторое время ей сообщили, что ее сын скончался от тифа. Она получила разрешение посмотреть сквозь оконное стекло на мертвого Кику, гроб которого для этого поднесли на несколько минут к окну.
После освобождения из тюрьмы Н.М.Давыдовой удалось уехать за границу. В Берлине она жила одна Я как-то была у нее вместе с мамой и хорошо запомнила ее комнату, где повсюду — на стенах, этажерках, столах — висели и стоял портреты так хорошо мне знакомого красавца Кики с кудрявой головой и чудесными глазами. Наталья Михайловна описала события своей жизни в записках, которые ко времени нашего приезда в Берлин были изданы отдельной книжкой. Эту книжку она дала моим родителям для прочтения; мне тоже хотелось ее прочитать, но папа с мамой не дали мне ее, сказав, что Все описанное там настолько страшно, что они находят 3711 зарисовки не подходящими для чтения подростка.
Старшие сыновья Н.М.Давыдовой, Денис и Василий, 0 которыми мать была очень далека, также находились 33 границей (отец их, вероятно, к этому времени уже умер; впрочем, точно этого я не помню). Об этих двух своих сыновьях Наталья Михайловна говорила с горькой иронией. По ее рассказам, старший, Денис, жил в Париже, где владел шляпной мастерской. Второй, Василий, находился в Берлине. Он вел легкомысленную, рассеянную жизнь, кутил, играл на скачках и т. п.
Василия Давыдова я хорошо помню, т. к. он раза два навешал нас в нашем берлинском пансионе. Это был молодой человек лет 26 с мягкими, добродушными чертами лица. Он производил впечатление славного, неглупого малого, прекрасно сознававшего никчемность собственного существования, но весело и беспечно смотревшего на жизнь. Помню, что папе понравился Василий Давыдов, и он охотно с ним беседовал. А существование несчастной Натальи Михайловны кончилось трагически. Вскоре после нашего возвращения в Россию до нас дошло известие, что она покончила жизнь самоубийством.
В Берлине нас нашел также сын Б.А.Кистяковского Игорь, как его звали в детстве, Горик. Случилось так, что после смерти отца его мать Мария Вильямовна с двумя младшими сыновья-ми осталась в Киеве, а ему, старшему (кажется, в связи с призывным возрастом), устроили оть-. езд за границу, где он оказался один. Это был худой, стройный молодой человек с тонким, интеллигентным лицом. Мне он очень понравился; помню, что, когда он пришел к нам вторич-но, я находилась в задней комнате. Услышав его голос, я не сразу вышла к нему, а сперва долго стояла перед зеркалом, поправляя волосы и то застегивая, то расстегивая воротник своей блузки и мучаясь тем, что выгляжу, как мне казалось, недостаточно интересной. Игорь Кистяковский являл собой редкий контраст с Василием Давыдовым, отличаясь явной значительностью и во всяком случае — глубокой серьезностью. Тогда еще было неясно, что из него получится, а через много лет я прочла в какой-то статье упоминание о живущем в Париже известном юристе, профессоре И.Кистяковском.
Постоянными были также наши встречи с Андреем Белым, который незадолго до нас приехал в Берлин и жил в том же пансионе, где и мы. Когда, уезжая за границу, он в Москве зашел к нам проститься, он сказал моей маме: "Еду узнать, почему меня жена забыла". Белый был женат на Асе Тургеневой. Они оба были антропософами и перед Первой мировой войной вместе участвовали в постройке антропософского храма под руководством главы европейских антропософов доктора Штей-нера в Дорнаке, в Швейцарии. Когда началась война, Белый, как военнообязанный, вернулся в Россию; жена с ним не поехала и, по слухам, дошедшим до ее мужа, нашла себе за границей нового друга.
Появление Андрея Белого в Берлине ознаменовалось удивительным событием. Выйдя с поезда на привокзальную площадь, он встретил… свою жену. И это — в огромном, многомил-лионном городе! Оказалось, что она действительно его бросила и сошлась с поэтом Кусиковым — совершенным ничтожеством. Когда Белый удостоверился в том, что его несчастье соверши-лось, им овладело отчаяние, которое разрешилось самым причудливым образом. Он принялся ходить по берлинским злачным местам, глуша себя не столько вином, сколько танцами. Люди, которые видели Белого танцующим, рассказывали, что это была унизительная картина, на которую больно было смотреть. Он танцевал самозабвенно, но плохо, не так, как было принято в то время, представляя собой мишень для насмешек присутствующих при этом зрелище немцев.
Русские друзья, в первую очередь Ходасевич и папа, употребляли все усилия, чтобы вытащить Белого из этого омута, который его затягивал все больше. Но им это не удавалось. Белый упрямо продолжал пропадать в берлинских кабаках. Очевидно, до московских антропософов дошли слухи о положении Белого за границей, и они решили его спасти. В Берлин была откомандирована некая Клавдия Николаевна Васильева, которой поручалось вызволить Белого и привезти его в Москву.
Однажды за табльдотом в нашем пансионе появилась женщина лет сорока с характерными для антропософок "ангельскими" глазами. Она сумела блестяще выполнить свою миссию. Андрей Белый не только покорно вскоре после ее приезда в Берлин последовал за ней в Россию, но настолько подпал под ее влияние, что стал ее мужем и благополучно прожил с ней вплоть до смерти своей в 1933 году.
Одно из самых ярких впечатлений, относящихся ко времени нашего пребывания в Берлине весной 1923 года, связано с посещением спектаклей Вахтанговского театра, приехавшего тогда на гастроли в Германию. Театр Вахтангова, незадолго перед тем похоронивший своего гениаль-ного основателя, находился в поре расцвета. Актеры были молоды, заветы Вахтангова сохраняли всю свою благоуханную свежесть. Мы пошли на "Принцессу Турандот". Этот спектакль был поистине гениален во всем — в режиссерском решении, художественном оформлении, актерс-кой игре, музыке. Весь он искрился и сиял, безоговорочно покоряя зрителей. Актеры играли радостно, свежо, темпераментно. "Маски" изощрялись в остроумных шутках, посвященных злободневности берлинского существования театра. В дополнение ко всему, мы наслаждались звуками русской речи, а я, со своей стороны, была совершенно покорена обаянием Завадского- Калафа, изящного красавца с тонкой, гибкой фигурой, приобретавшей особую элегантность благодаря великолепно сидевшему на ней черному фраку. Как сейчас вижу также небольшую, тоненькую фигурку Труфальдино — в то время совсем еще юного Рубена Симонова. Потом мы пошли на "Чудо Св. Антония" — тоже очень интересный спектакль, более значительный по глубине созданных актерами образов. Как актер Завадский был еще интереснее в образе Св. Антония (думаю, что это была лучшая его роль за всю жизнь); но, глядя на него, игравшего согбенного старца, я втайне вздыхала о пленительно изящном Калафе.
Случилось так, что нам довелось встретиться с вахтанговскими актерами за одним чайным столом. Вышло это следующим образом.
Один из берлинских богачей (фамилия его ускользнула из моей памяти), культурный и образованный человек, страстный поклонник и знаток русской литературы и русского языка, устраивал в своем особняке вечер в честь находившихся в Берлине русских писателей. В числе приглашенных оказался и мой отец; приняв приглашение, папа попросил разрешения прийти на вечер со всей семьей. Хозяин радушно отозвался на эту просьбу и в назначенный вечер мы отправились.
Впервые увиденная мною обстановка богатого дома меня совершенно ошеломила. Когда мы вступили в вестибюль и поднялись по нарядной лестнице, перед нами открылась анфилада парадных комнат, роскошно убранных и залитых светом. Мягкие ковры, изящная мебель, роскошные люстры, зеркала, картины ничего подобного я еще не видела; тем более что все это носило не музейный характер, как в Рудице, а служило обстановкой повседневного существования живших в этом доме людей. Гостей раздевали и провожали наверх лакеи во фраках и нарядно одетые горничные.
Мы уселись в одной из гостиных вместе с тщедушным, худеньким А.М.Ремизовым и его величавой, толстой женой Серафимой Павловной. Ремизов, связанный с папой многолетней дружбой, был одним из тех русских писателей, с которыми мы встречались в Берлине. За границей он держался чудаком (налет наигранной "юродивости" был вообще ему свойственен), так что в берлинской писательской среде о нем ходили анекдоты…
Когда мы расселись вместе с Ремизовым на мягких креслах в узорной гостиной, Серафима Павловна подсела ко мне, стала всячески меня ласкать, бесконечно повторяя мое имя "Наташа, Наташа", сопровождая его вздохами и едва не плача. Ее поведение смущало меня и возбуждало недоумение. После мама рассказала мне историю семейной трагедии Ремизовых, послужившую причиной повышенного внимания этой женщины к моей особе. Когда Ремизовы поженились, у них родилась дочь, которую назвали Натальей. Они были молоды, хотели жить свободно, ребенок их связывал, и они решили отослать Девочку в имение, где жили бабушка и тетка — сестра матери. Там и выросла Наташа, без отца и матери. Когда Девочке было лет 15–16, бабушка умерла, и родители захотели взять дочь к себе. Но Наташа наотрез отказалась оставить тетю и переехать к ним, сказав, что, коль скоро они не захотели ее растить, она их не признает за Родителей, а матерью считает воспитавшую ее тетку, с Которой и будет жить. Наказанные за свой эгоизм, Ремизовы так и остались без дочери и, уехав из России, Потеряли ее навсегда. Вот почему Серафима Павловна, встретив в моем лице приглянувшуюся ей девочку-подростка, носившую дорогое для них имя Наташа, так расчувствовалась.
Когда все гости были в сборе, нас позвали в большой зал, где стоял длинный великолепно сервированный стол. Я не могу восстановить в памяти состав расположившегося вокруг стола общества. Помню только, что было человек 30–40, все русские (немцев, не понимавших русс-кого языка, присутствовало не более 2–3), так что разговор шел по-русски. Часто звучало имя Льва Исааковича Шестова, с которым хозяин дома был очень дружен. Шестова ждали к этому вечеру из Парижа, где он в то время жил, но что-то помешало ему приехать. (Это было большим разочарованием для папы, который в годы революции особенно сблизился с Л.И.Шестовым и считал его своим самым близким другом.)
Я дивилась на сервировку, на то, как лакеи обносят кушаньями гостей, а те сами берут себе на тарелки сколько хотят, смущалась, когда очередь доходила до меня и мне самой приходилось это делать; слегка обижалась на то, что лакеи, разносившие вина, очевидно, по указанию хозяев обходили меня и Сережу.
В разгар ужина, вероятно часов в 10, а может быть и позже, раздался сначала звонок, а потом звуки оживленных голосов. В зал вошла большая группа актеров Вахтанговского театра, приехавших после окончания спектакля. Они ворвались как свежий ветер, нарушив царствовав-шую за столом атмосферу "хорошего тона". Стало непринужденно и весело; все оживились, начали пересаживаться, раздвигать стулья, освобождая место для новых гостей. Мне повезло. Рядом со мной посадили Завадского; возле него села Мансурова, которая в моем воображении олицетворяла прелесть образа принцессы Турандот.
Я смотрела на них широко открытыми глазами. В первый раз довелось мне видеть актеров вне театра, так близко, рядом со мной. Они казались мне необыкновенными существами, не такими, как другие люди. Это чувство еще возрастало из-за того, что держали они себя действи-тельно не так, как остальные гости, сидевшие за столом. Свобода и даже фривольность их обращения одновременно и поражали, и пленяли меня. Они обнимали друг друга, чуть ли не целовались. Мансурова, сидя рядом с Завадским, положила голову ему на плечо. Потом по просьбе присутствующих они спели очаровательные песенки из "Турандот", чем доставили всем огромное удовольствие. Что касается меня, то я не только была в полном восторге, но сохранила воспоминание об этой встрече как об одном из самых прекрасных мгновений моей молодости.
Вечер окончился очень поздно, так что мы не могли воспользоваться городским транспор-том, и нам пришлось долго идти по весеннему ночному Берлину пешком. Было часа 4 утра и уже почти светло. Берлинские улицы, которые мы привыкли видеть шумными и оживленными, поражали своей завороженной тишиною. Особое наше внимание привлекли (невозможные в условиях московской жизни) кувшинчики с деньгами на крышках, предназначенными для молочниц, которые стояли на многих крылечках и ступеньках парадных ходов.
Между тем шли дни за днями, время проходило впустую, надо было принять какое-нибудь решение. По совету врачей склонились к тому, чтобы снова поехать на юг Германии, в теплый климат, и там постараться устроить папу в санаторий. Поехали в том же направлении, откуда приехали. Во Фрейбурге жил в то время высланный из Москвы профессор, папин добрый знакомый, философ Федор Августович Степун со своей женой. Папа с ним списался, и мы поехали. Степуны сняли для нас комнаты в пансионе, где мы на несколько дней остановились.
От этого краткого пребывания во Фрейбурге у меня осталось двойственное воспоминание. С одной стороны, это были беспокойные дни, полные волнений и хлопот, из которых в конце концов ничего не вышло. С другой, мы наслаждались всем, что нас окружало, и не могли оставаться равнодушными к неповторимому обаянию того места, где находились. Именно в это время Фрейбург открылся для нас во всей своей прелести.
Облик этого старинного города с одним из самых старых в Европе университетов, со знаменитым готическим собором и множеством средневековых и ренессансных построек еще выигрывает от чудесного местоположения. Расположенный в долине, он окружен горами, которые виднеются в конце едва ли не каждой улицы. Повсюду (растут каштаны и другие южные деревья. Стояла весна. Дома утопали в цветах — олеандрах, гиацинтах, вьющихся розах, вдоль тротуаров бежали теплые ручейки, заключенные в асфальтовые желобки.
Готический собор меня поразил. Я не могла себе представить, что архитектура способна в такой степени воздействовать на сознание человека, подчинять себе его чувства. Потрясла меня вся обстановка собора: притягивающий к себе взоры стрельчатый свод, таинственная игра света на тонких пучках колонок, окна, составленные из цветных стекол. Душевный трепет вызывало зрелище коленопреклоненных одиноких людей, молившихся в разных уголках огромного помещения собора, и одетых во все черное женщин, просунувших головы под занавески исповедальных кабинок.
Как-то, гуляя по городу, мы подошли к зданию университета. Папа сказал, что ему хочется на несколько минут зайти внутрь. Мы вошли в вестибюль университета. На стене против входа висело расписание лекций. Папа простоял перед ним довольно долго и внимательно прочитал. Он был взволнован, видимо, возвращаясь мыслями ко дням своей юности, когда в течение одного семестра ему довелось слушать лекции в Гейдельбергском университете. Как всегда, его чувство сообщилось и нам. Он сумел придать этому моменту торжественность, как бы приобщая нас на несколько секунд к великому таинству многовековой мировой науки.
Университет накладывал печать на городскую жизнь Фрейбурга. Улицы были полны студенческой молодежи; то и дело встречались молодые люди в разноцветных шапочках студенческих корпораций — чаще всего голубых или красных. Нередко можно было увидеть молодое лицо с рассеченной свежим шрамом щекой — следы дуэли.
Родители наши искали для папы пристанища возле Фрейбурга. Один день мы посвятили поездке, вместе со Слепунами, в пригородное курортное место, где находился какой-то санаторий. Но место это нам не понравилось, санаторий же оказался слишком дорогим. А дни проходили, деньги уплывали. Не зная, что предпринять, мы решили съездить в Баденвейлер, где у нас были знакомые люди, с которыми можно было посоветоваться. Поехали мама и я, вдвоем.
Время наше было ограничено, так как мы должны были к вечеру возвратиться во Фрейбург. Поэтому, приехав в Баденвейлер, мы с мамой разошлись. Мама отправилась узнавать относите-льно санатория, а мне поручила зайти в пансион Эккерлин, справиться, есть ли там свободные комнаты, где мы могли бы вновь поселиться.
Мое посещение семьи Эккерлин вышло очень забавным. Дело в том, что как сама фрау Эккерлин, так и ее дочери думали, что я не знаю ни слова по-немецки. Между тем, прозанима-вшись полгода с фрау Трей, которая была опытным педагогом, я научилась не только читать, но и бегло говорить по-немецки и лишь из-за присущей мне застенчивости не решалась обнаружи-вать свои знания перед окружающими людьми. Но тут мне ничего не оставалось делать; пришлось заговорить по-немецки. Я хорошо помню, с каким трепетом входила в знакомый дом. Налево от входа в первом этаже находилась гостиная фрау Эккерлин. Я постучалась в дверь этой комнаты. Там оказалась в сборе вся семья: фрау Эккерлин, ее дочери — Алиса и Марта, а также наш друг херр Ланге. Переступив с отчаянной решимостью порог гостиной, я сразу заговорила по-немецки, к великому удивлению всех присутствующих. Начались всякие восклицания, объяснения, объятия и т. п. Я была встречена как родная. Однако свободных комнат в пансионе не оказалось, т. к. наступил уже летний сезон и в Баденвейлере было очень много приезжих. Эккерлины рекомендовали нам обратиться в пансион Дайнингер, который находился на одной из боковых улиц по другую сторону от главной улицы поселка, ближе к горам. Из маминых хлопот о санатории для папы тоже ничего не вышло.
Кончилось тем, что мы снова поселились все вместе в любимом своем Баденвейлере, на этот раз — в пансионе Дайнингер, решив остаться в Германии до осени.
Выше я писала, что два лета — 1922 и 1923 годов — оставили в моей памяти неизгладимый след как одни из самых радостных, полноценно прожитых этапов моего существования.
Лето 1923 года, проведенное в Баденвейлере, не было особенно богато событиями или интересными встречами с людьми. Вероятно, как и в последнее лето в колонии, дело заключа-лось во внутреннем состоянии моей души, радостно направленной к миру и принимавшей этот мир в свои объятия.
Когда я мысленно возвращаюсь к летним месяцам 1923 года, в моей памяти прежде всего в качестве главной внутренней ценности, освещавшей собой все остальные, возникают установив-шиеся новые отношения с моим отцом, которого я и до тех пор любила и уважала больше всех людей на земле, но с которым теперь начался у меня настоящий роман.
В нашем раннем детстве папиным любимцем был Сережа; так продолжалось до самого нашего отъезда в колонию. Я всегда была у него на втором плане, это нисколько меня не обижало, потому что папин авторитет казался мне чем-то настолько непререкаемым, что я сама привыкла оценивать себя номером вторым в нашей детской жизни. Тем более что Сережа был в детские годы очень красив и все на него любовались, а моя внешность, судя по карточкам и по маминым рассказам, хотя и обладала собственными достоинствами, но все же я не могла в этом смысле тягаться со своим братом. Дядя Бума и особенно Лили разделяли папино пристрастие; мама и дедушка любили нас одинаково, а другие мамины родные, в первую очередь Таня и тетя Аня, питали особую нежность ко мне.
Когда в годы нашего пребывания в колонии, а особенно после отъезда за границу, Сережа начал отдаляться от семьи, папа все более стал сближаться со мной. Страстный в своих душев-ных порывах, не умевший ничего делать наполовину, он так горячо привязался ко мне, что его чувство буквально граничило с влюбленностью. С этих пор и до конца его жизни он проводил со мной все свое свободное время; ревновал меня к моим друзьям. Мы постоянно гуляли вдвоем; он поверял мне свои заветные мысли, ждал от меня того же и обижался, если я недостаточно, по его мнению, горячо отзывалась на его нежные порывы.
Летом 1923 года отдаление Сережи от семьи стало все более ощутимым. Он реже принимал участие в наших общих прогулках, предпочитая уходить куда-нибудь один. Начал замыкаться в себе, таить свои чувства. Это тоже содействовало усилению любви нашего отца ко мне.
Второе, что особенно вспоминается от лета 1923 года, — дивная природа Баденвейлера, которая в летнее время приобрела поистине роскошный характер. Думая об этом лете, я прежде всего мысленно вижу жаркое, густо-синее небо и на его фоне сочную темно-зеленую листву каштанов. Этим впечатлением начиналось каждое мое утро. В пансионе Дайнингер мы жили в нижнем этаже. Окна нашей с Сережей комнаты (нас всегда поселяли вместе, т. к. из-за папиного туберкулеза его не соединяли с детьми) выходили в небольшой находившийся перед домом садик. Открыв утром глаза, еще лежа в постели, я выглядывала в раскрытое окно и видела темную зелень каштанов и в просветах между листьями куски синего безоблачного неба. Такого оттенка неба я не встречала нигде больше, ни в Средней Азии (где небо бледно-голубое, как бы несколько пыльное), ни в Италии.
Другим особенно запомнившимся впечатлением были цветы. В начале лета пармские фиалки, темно-лиловые, обладавшие дивным, несравненным ароматом. Такие фиалки я видела только в раннем детстве в саду Лили и в Баденвейлере, где они повсюду росли в диком состоя-нии. Травянистые склоны вдоль дорог в некоторых местах были сплошь покрыты этими чудес-ными цветами, так что получался как бы лиловый ковер. Мы собирали их целыми охапками.
Пансион Дайнингер
Пансион Дайнингер, в котором мы прожили летние месяцы 1923 года, был проще пансиона Эккерлин. И сами хозяева были проще, и весь уклад жизни, и пища.
Хозяин одновременно выполнял работу и повара. В будние дни он имел типичный облик повара. Полный человек средних лет, с характерной физиономией "пивного немца", он ходил попросту одетым и носил на голове белый поварской колпак. Зато в праздничные дни с ним происходила форменная метаморфоза. Херр Дайнингер облачался в белоснежное белье, черный сюртук и цилиндр. Он принадлежал к числу "отцов города", участвовал в городском управле-нии. Состоял также членом местной певческой капеллы, которая время от времени давала в курзале концерты; несколько раз мы посещали эти концерты и всякий раз удивлялись тому, как простой повар в случае надобности умел принимать величавую осанку и всем своим обликом выражал чувство собственного достоинства. Для России тех лет подобные превращения были новшеством.
Хозяйка пансиона также была совсем простой женщиной. Она делала по дому тяжелую черную работу наряду со своими служанками. У супружеской четы Дайнингер было четверо детей — 3 сына и одна дочка. Двух старших мальчиков мы не знали, их не было в Баденвей-лере, они где-то учились. Дома жили двое младших детей — семилетний Отто и пятилетняя Маргарет.
Маленькие редко бывают несимпатичными, но Отто был именно таков. Своим обликом он больше всего напоминал описанного Марком Твеном в романе "Том Сойер" Сила Сойера. Это был во всех отношениях "примерный" мальчик, послушный, тихий, чистенький; но в то же время — фискал и ябедник. У него было хитрое лицо с мелкими лисьими чертами; он никогда не шалил, ничем не интересовался и начисто был лишен воображения.
Маргарет являла собой полнейший контраст своему брату. Некрасивая, с большим ртом, круглым курносым носиком, с прямыми, светлыми волосами, беспорядочными космами падавшими на лицо, она была живая, как обезьянка, шаловлива и весела, словно солнечный лучик. Выдумкам ее не было конца. Невозможно было предвидеть, какую штуку этот бесенок выкинет в каждый следующий миг. Жильцы пансиона Дайнингер любили прелестную девочку и забавлялись ею. Но, кажется, больше всех возились с ней мы — всей семьей, начиная с папы и кончая мной и Сережей. Каждое утро Маргарет выходила в садик чистенькая, причесанная, с бантом в волосах, в свежем, накрахмаленном белом платьице. Но уже через час-полтора ее туалет приходил в полный беспорядок. Банта не было и в помине, платье было смято, а в сезон черешен измазано соком от ягод. Лицо и руки грязные, коленки исцарапаны. Маргарет очень дружила с моим отцом.
Однажды она на много часов исчезла из дома, мать стала волноваться и повсюду искать свою девочку. В этот день папа куда-то надолго уходил; оказалось, что Маргарет увязалась за ним, и они прогуляли вместе полдня. В другой раз она увидала, что мы с Сережей отправляемся на прогулку, и пошла за нами. Мы намеревались идти далеко в лес на гору Блауэн и потому не могли взять ее с собой. Но она крепко уцепилась за мою руку и упорно шла вперед. Тогда я придумала дипломатический ход и начала рассказывать сказку про Ганса и Гретхен, которые пошли одни в лес и попали в избушку к бабе Яге, которая их съела. Маргарет сначала с интересом слушала; но когда я сказала ей, что Гретхен и есть Маргарет, маленькая ручка дрогнула в моей руке, а потом выскользнула из нее, девочка повернулась и решительно побежала назад к дому.
Летом мы, естественно, гораздо больше гуляли, чем зимой, нередко совершая довольно далекие прогулки. Много раз поднимались по крутой дорожке из парка к развалинам крепости. Тут было трудно влезать, но зато какой чудесный вид открывался с высоты крепостной горы на Баденвейлер и его окрестности! Сами развалины тоже были очень живописны и интересны, так что служили излюбленным местом прогулок всех более или менее здоровых отдыхающих.
Ходили мы по красивой дороге, уводившей за грани поселка, пролегавшей между зеленых лугов с посаженными на них фруктовыми деревьями. В том месте, где от этой дороги отходила в сторону другая дорожка, на перекрестке стояла небольшая католическая церковка; по Празднич-ным дням в ней совершались богослужения, рассчитанные на удовлетворение духовных потреб-ностей католической части населения Баденвейлера.
Несколько раз воскресными утрами мы заходили в эту капеллу во время служения мессы, которая совершалась очень красиво и торжественно, гораздо более празднично, чем в протеста-нтской церкви. Мне особенно нравились участвовавшие в богослужении мальчики, облаченные в голубые и белые пелерины.
Как-то вечером мы с Сережей отправились на спектакль приехавшей в Баденвейлер на гастроли оперетты. Представление происходило на летней сцене под открытым небом. Ничего более глупого мне не доводилось видеть. Оперетта была из русской жизни, являя собой пример "развесистой клюквы" в самом нелепом ее варианте. Все, начиная с русскоподобных имен, кончая убранством сцены, производило поистине дурацкое впечатление. Героя звали "Ипполит Миркович Башмачкин", героиня, правда, носила нормальное имя Вера, но ее три сестры имено-вались "Аннушка", "Ханнушка" и "Петрушка". Стены комнат украшены были дугами, со сцены не сходил самовар, то и дело звучало слово "козак". Представление насыщено было образцами характерного немецкого остроумия. Одну из подобных сцен, вызвавшую самый искренний смех у сидевших в зале немцев, я запомнила. Ипполит Миркович подносит букеты цветов трем девицам. Два букета у него в руках, а третий прикреплен сзади к фалдам фрака. Отдав первые два букета девицам, он отцепляет последний букет от своего зада и преподносит его третьей красавице со словами: "А вот вам цветы от самого сердца".
По юности лет мы не обладали необходимой дозой чувства юмора и всерьез возмущались и негодовали там, где скорее нужно было смеяться, потому недосидели спектакля и ушли в середине.
Проявившееся в этой оперетте чудовищное неведение русской жизни не было случайнос-тью для Германии тех лет. В этом нам довелось вскоре еще раз убедиться. Как-то в праздничный день на улицах Баденвейлера и в парке появились пришедшие с гор фигуры деревенских женщин в национальных костюмах. На некоторых из них были надеты странные головные уборы, представлявшие собой облегающие головы черные шапочки, по обеим сторонам которых располагались как бы перевернутые кверху дном черные блюдца со свисающими вниз длинными кистями. Характерный говор женщин, мало похожий на цивилизованный немецкий язык, был нам совершенно непонятен. Однако папа, знавший немец-кий язык в совершенстве, сумел разговориться с двумя молодыми крестьянками. Поняв, что они имеют дело с иностранцем, они спросили папу об его национальности. Услыхав, что он русский, они сначала не поверили, а потом схватились за бока, стали безудержно хохотать. Очевидно, представления о русском человеке в их сознании никак не вязалось с обликом стоявшего перед ними господина, ничем не отличавшегося от людей других цивилизованных национальностей.
Новых близких знакомств летом мы не заводили. Но были отдельные занятные наблюдения, а порой возникало общение с некоторыми людьми. В нашем пансионе мой интерес, участие и жалость возбудила грустная русская девочка лет 11–12, приехавшая вдвоем со своей матерью. Ее мать также мало уделяла внимание дочке, всецело занимаясь собственной особой. Ее забота о девочке проявлялась только в том, что за утренним завтраком она клала в ее чашку кофе кусок сливочного масла, после чего та пила этот кофе, давясь и глотая слезы; а также в том, что ежед-невно на голове у дочки появлялся огромный бант, каждый раз другого цвета, соответственно цвету мамашиного платья. Девочка целые дни слонялась одна по парку — грустная и подавлен-ная. Один раз ее мать разговорилась с моей мамой и рассказала ей пошлую, мелодраматическую историю из собственной биографии, в которой фигурировало самоубийство ее мужа на пороге ее комнаты и т. п. происшествия.
Более приятное знакомство состоялось у меня с двумя юными англичанками лет 16–17, приехавшими в Ба-Денвейлер в сопровождении воспитательниц — двух чопорных старых дам, которые держали их в крайней строгости, соблюдая все условности английского аристократи-ческого этикета. Бедные девушки не смели ни на минуту отлучиться от своих гувернанток, ни с кем заговорить без их разрешения; по воскресеньям запрещено было вообще чем-либо заниматься. Их звали Терша и Молли. Обе были очень милы, Молли красивее, а Терша изящнее. Но у Терши от рождения недоставало кисти одной руки; из рукава торчал протез с отверстиями, в которые вставлялись ложка, вилка, нож или какие-нибудь другие предметы, с помощью которых девушка выполняла необходимые действия. По-видимому, она легко переносила свое уродство, обладая жизнерадостным, живым характером. Молли была молчаливее и спокойнее. Я часто с ними болтала. Однако свойственная им специфическая, непривычная для меня манера произношения и быстрота речи мешали мне их легко понимать, и потому мы чаще говорили между собой по-немецки. Немецким языком все трое владели одинаково, иначе говоря, весьма средне.
Из числа новых знакомств или встреч, происшедших в летние месяцы, отмечу следующие. По состоянию нашего, особенно папиного, здоровья, нам пришлось завести новые врачебные связи. Врач, с которым мы имели теперь дело, был глава баденвейлеровской корпорации врачей доктор Шверер, пожилой и важный, носивший звание "Херра Гехеймрата", соответствовавшее, как я понимаю, прежнему русскому "тайному советнику". Может быть, он был хорошим врачом, но как человек отличался крайней антипатичностью — надутый, как индюк, строгий, недобрый в обращении со своими пациентами. Помню, как Шверер высмеивал нас, если в дождливую погоду мы появлялись на улице в галошах, подчеркивая этим отсталость русских людей, не умевших владеть привычками цивилизованного мира. В то же время сам он был женат на русской женщине, урожденной Живаго, а в свое время лечил в Баденвейлере Чехова; это звуки его шагов, под которыми хрустел гравий, слышала Книппер-Чехова, когда через полчаса после смерти Антона Павловича присутствовавший при его кончине врач покидал гостиницу.
Как и во время нашей жизни в пансионе Эккерлин, я постоянно наблюдала за жившими с нами под одной крышей людьми, внутреннее их оценивала, расцвечивая своим воображением поступки и поведение всех тех, кто попадал в сферу моего внимания. Нравилось мне подмечать специфические черточки, характерные для немецкого мещанства, принимавшего самые разнообразные обличья.
Запомнился мне один характерный эпизод. Как-то в воскресенье хозяева пансиона решили побаловать своих жильцов лакомым национальным немецким блюдом — супом из бычачих хвостов. Мы с Сережей как вегетарианцы его не ели, а папа с мамой, попробовав, отставили тарелки Это была какая-то отвратительная кровянисто-красная жидкость, подправленная пивом, которая вызывала тошноту одним своим видом. Однако большинство находившихся в столовой немцев были в восторге от этого блюда и ели его с жадностью, по две и по три тарелки. А некоторые, особенно дамы, пришли в полный экстаз Никогда не забуду выражения лица одной немолодой, обычно весьма тихой особы, которая всплескивала руками и восторженно закатыва-ла глаза.
Эпитет "небесный", отнесенный к супу из бычачих хвостов, мог прозвучать только в немецких устах; именно так мы и оценили тогда эту сцену.
Помню я себя в это лето. Слова Тютчева "О, этот юг, о, эта Ницца! О, как ваш блеск меня тревожит. " в той своей части, которая характеризует окружавшую поэта обстановку, ближе всего соответствовала впечатлениям, воспринимавшимся мною в то время. Только блеск юга меня не тревожил и крылья мои не были поломаны, а, напротив, исполненные юношеской силы, словно приподнимали меня над землей.
Помнится мне, как всей семьей мы пошли на главную улицу Баденвейлера, в модный магазин покупать мне летнее платье, т. к. у меня ничего не было надеть в жаркие дни Сначала нам всем приглянулось синее платье из какой-то легкой ткани, вероятно из маркизета. Но хозяйка магазина, как и все другие владельцы баденвейлерских лавок, хорошо нам знакомая, предложила купить другое платье, представлявшее собой национальный шварцвальд-ский костюм Оно было сшито из ярко-зеленой материи, вроде ситца, расцвеченной букетами красных цветов. Лиф плотно облегал фигуру, к нему была по талии пришита широкая юбка в сборку, прямоугольный вырез вокруг шеи украшали тонкая черная бархатная ленточка и белое кружев-цо. Мне всегда шли яркие цвета, и когда я померила это платье, все нашли, что именно его и надо купить. С этого дня оно стало моим любимым нарядом, я почти из него не вылезала, и потом, уже в Москве, в течение нескольких лет продолжала носить его с величайшим удовольст-вием. Волосы мои все еще оставались короткими; чтобы обуздать их непокорность, я обвязывала голову черной бархатной лентой, под которую заправляла торчавшие во все стороны жесткие пряди. Получалась довольно красивая прическа.
Все меня радовало тогда; жизнь казалась лучезарной. Но были в это лето и действительно радостные события. Самым значительным из них оказался приезд в Баденвейлер Лили.
Вышло так, что она смогла прожить в Германии всего шесть недель. Причиной этого была неопределенность нашего положения во время весеннего пребывания в Берлине. Она думала приехать гораздо раньше, но сообщение о том, что мы в апреле собираемся в Россию, принудило ее отменить поездку. Когда же ей стало известно, что мы вернулись в Баденвейлер, где остаемся до осени, она спешно возобновила хлопоты о выезде за границу и в середине июня приехала в Германию.
Трудно передать то чувство ликования, которое охватило нас, когда мы получили телеграм-му о приезде Лили в Баденвейлер. За несколько дней мы начали готовиться к ее приему. На втором этаже пансиона Дайнингер оказалась свободная комната, которую наши родители сняли для нее. Зная ее особую любовь к цветам, накануне знаменательного дня мы с мамой отправи-лись в садоводство за розами. Это была огромная цветочная плантация, где кусты роз рядами росли на грядках. Обходя ряд за рядом, мы указывали на те цветы, которые нам нравились, а хозяин садоводства, следовавший за нами с садовыми ножницами в руках, срезал отмеченные нами розы. Составился огромный букет, который с вечера наполнил приготовленную для Лили комнату дивным ароматом.
Мы с Сережей решили встретить Лили в Мюльхейме {и в день ее приезда отправились туда с утра.
Помню, с каким нетерпением ждали мы прибытия берлинского поезда, как бросились навстречу бесконечно родной, знакомой в каждой мелочи фигуре Лили, когда она, полная и неловкая, обвешанная сумками и мешочками, спустилась с подножки вагона на перрон. Она не сразу увидела нас и стояла, озабоченно озираясь кругом сквозь стекла пенсне, очевидно, соображая, куда направить свои шаги, чтобы найти остановку баденвейлеровского трамвая. Мы подбежали к ней сзади и со спины обхватили ее руками. Общей нашей радости не было границ. Мы визжали от восторга, а у Лили глаза были полны слез.
Полтора месяца, проведенные ею с нами в Баденвей-лере, были, как она много раз сама говорила впоследствии, последними счастливыми беззаботными днями ее жизни. Приехав к самым любимым, близким людям в сверкающую красоту юга, Лили со свойственным ей умением по-детски, без оглядки отдаваться радостным впечатлениям действительности пере живала окружающее как праздник.
Она наслаждалась всем: больше всего, конечно, близостью с нами, но и красотой природы, цветами, чистотой комнаты, вкусной едой. Никогда не забуду выражения ее лица в первую минуту, когда она вошла в приготовленную для нее комнату, увидела огромный букет роз на столе, ощутила их аромат. После всего пережитого в Москве в течение целого ряда лет, полных тревог и всяческих лишений, приезд в Баденвейлер и та обстановка, в которую она здесь попала, воспринимались ею как волшебный сон.
Лили сообщила о своем приезде в Германию старому Другу их семьи некогда выполняв-шей роль гувернантки при Екатерине Николаевне мадам Морф, как они ее звали, в то время жившей в Цюрихе у своего сына священника. Вскоре мадам Морф приехала в Баденвейлер и прожила у Лили в одной с ней комнате дней десять. Это была маленькая, востроносенькая сухонькая старушка лет 76 или около того, подтянутая, аккуратная и чрезвычайно приятная своим умом, тактом и безукоризненной воспитанностью. У нее все было размеренно, в опреде-ленное время она вставала, после обеда каждый день ложилась и спала ровно 15 минут, а потом поднималась бодрая, свежая и деятельная.
Мы много гуляли все вместе, показывали Лили все самые прекрасные, любимые наши места, переживая вместе с ней ее радость и глядя на знакомую нам красоту новыми — ее глазами.
Как-то в один из воскресных дней в самый разгар роскошного шварцвальдского лета к нам приехали из Фрейбурга гости: философ Степун с женой и сын московского пианиста профессора Д.С.Шора, молодой человек 26 лет — Евсей Давыдович Шор, как его звали по-домашнему, Юша. Они приехали в Баденвейлер утром и провели у нас весь день до вечера. Для меня этот жаркий воскресный день оказался одним из памятных дней моей жизни. Почти все время мы провели, гуляя по окрестностям Баденвейлера среди лугов и плодовых деревьев по белым дорогам с прекрасными виллами по сторонам. С нами неотлучно была Лили, а Сережа, по своему обыкновению тех дней, ушел куда-то один.
Степуны и папа с мамой вместе с Лили медленно шли сзади, ведя какие-то отвлеченные беседы, а я с молодым Шором, отделившись от них, удрали вперед в луга и долго бродили вдвоем по мягкой траве между деревьями. На траве под ногами лежало множество перезрелых черешен, упавших с ветвей, и мы их поднимали и ели. Говорили о разных московских впечатле-ниях, почему-то о йоговской системе дыхания, о которой оба слыхали. Понимали друг друга с полуслова и очень хорошо чувствовали себя вдвоем. Это было чем-то вроде однодневного романа, светлого, беззаботного, без всякой грусти и жизненной тяжести.
Больше я этого Шора никогда не видала. Знаю только, что ко времени нашей встречи он уже был женат и успел развестись с женой, что в Германии чему-то учился (кажется, филосо-фии), а позже, когда его отец из Москвы переселился в Израиль, он туда поехал и остался в Израиле, где живет и сейчас.
Около середины августа мы покинули Баденвейлер, с тем чтобы на этот раз окончательно, пробыв недолго в Берлине, уехать в Россию. За день-два от отъезда я обошла всех наших баденвейлеровских знакомых, забежала во все магазины и лавочки проститься. Особенно нежно простились со мной владельцы кондитерской — старый отец и две дочери, одна из которых насыпала в пакет конфет из всех банок и преподнесла мне на прощание.
В Берлине мы пробыли десять дней, которые целиком были заполнены хлопотами, связан-ными с отъездом. Папу и нас с Сережей смотрела какая-то медицинская знаменитость. Нас обоих нашли в хорошем состоянии, а папу, хотя и отдохнувшим, в отношении туберкулеза легких мало поправившимся. Но это не изменило наших планов. Оставаться за границей мы больше не могли: не было ни желания, ни денег. Надо было возвращаться домой.
В Берлине мы своей семьей сначала попали в какой-то маленький пансион, где нам было неудобно и не слишком приятно. Снятые нами две комнаты находились на разных этажах. Когда приходилось спускаться со второго этажа вниз, у подножия лестницы обычно стоял огромный хозяйский бульдог с оскаленными зубами, который зловеще рычал. Я его панически боялась. К счастью, мы прожили в этом пансионе не более двух-трех дней, после чего переехали в тот же пансион на Викториа-Луизе-плац, где жили весной, Лили остановилась у какой-то своей дальней родственницы.
На этот раз мы занимали в пансионе другое помещение — одну большую комнату с балкон-чиком, выходившим на площадь. В жаркие вечера я выходила на этот балкон и слушала музыку, гремевшую над площадью, разносившуюся из открытых окон и дверей двух находившихся на Викториа-Луизе-плац кафе, и любовалась на залитую огнями, убегающую в две стороны Мотц-штрассе.
Возвращение в Россию
Возвращались мы в Россию морем, на пароходе, шедшем из Штеттина в Ленинград по Балтийскому морю. В Штеттин приехали ранним утром. Город показался нам грязным, хмурым и некрасивым. И ресторан, в который мы зашли позавтракать, был неприветлив. В зале шла утренняя уборка, стулья, повернутые вверх ножками, стояли на столах. Заспанные лакеи неохотно сняли для нас несколько стульев и расставили их вокруг одного столика.
Пароход под названием "Прейсен" отходил из Штеттина перед вечером. Мы долго сидели на пристани в ожидании посадки.
Наше внимание привлекло одно семейство, как мы вскоре узнали, услышав их разговоры, — русское. Тучный немолодой мужчина и пожилая дама сидели на огромной куче вещей. Возле них бегала веселая, живая девочка лет десяти. Когда мы присмотрелись к багажу, то поняли, что так упаковать свои вещи могли только наши соотечественники. У них было бесчисленное множество корзинок, баульчиков, кулечков, картонок; а на вершине этой груды торжественно возвышался самовар.
Мы разговорились с этими людьми. Толстый мужчина оказался высококультурным челове-ком, адвокатом из Киева. Это был брат хорошо нам знакомой вдовы Богдана Александровича Кистяковского — Марии Вильямовны Кистяковской. Фамилия его была Бернштейн. Семья эта прожила в Германии довольно долго. Но ни муж, ни жена не научились говорить по-немецки. Переводчицей им служила бойкая, развитая не по годам дочка, которая не в пример своим родителям за время пребывания в Германии овладела языком и болтала по-немецки совершенно свободно.
Наконец, началась посадка. Пароход был большой и довольно комфортабельный. Мы распределились по трем каютам. Я с мамой оказалась в двухместной каюте, Сережа с папой в другой каюте, а Лили отдельно, с какой-то дамой. С вечера, пока пароход долго плыл по узкому протоку или каналу, мы чувствовали себя превосходно, очень вкусно поужинали в ресторане и легли спать в самом лучшем настроении. Но среди ночи я проснулась и услышала, что в коридоре за дверью нашей каюты с кем-то плохо. Говорят, морская болезнь заразительна. Это мы почувствовали на себе. Маме и мне сразу стало нехорошо.
Вторую половину ночи мы с ней промучились. Так продолжалось и весь следующий день. Особенно гадко чувствовала себя мама. Ее беспрестанно рвало, и она лежала пластом, буквально не поднимая головы. Я еле двигалась; Сережа с Лили ходили мрачные и ничего не ели, а папа был бодр, весел, подтрунивал над нами и с аппетитом завтракал, обедал и ужинал в полупустом ресторане (стоимость питания на пароходе была включена в цену билета, что, без сомнения, составляло немалый доход пароходной компании).
Погода стояла солнечная; в нашу каюту постучался какой-то из старших чинов экипажа и предложил нам подняться на палубу, сказав, что на свежем воздухе мы почувствуем себя лучше. Мама не в состоянии была пошевелиться, а я с помощью любезного моряка поднялась по крутой лесенке наверх и легла на один из стоявших на палубе шезлонгов.
Боясь попасть в неприятное положение, я лежала, зажмурив глаза, чтобы не видеть прыгаю-щих вверх и вниз по обеим сторонам бортов парохода горизонтов, один вид которых вызывал неудержимую тошноту. Так прошел этот томительный день.
На рассвете следующего дня мы подходили к Ревелю. Не помню сейчас почему, родители беспокоились о нашем багаже, находившемся в багажном отделении. В Ревеле сходило очень много пассажиров и должны были выгружать большое количество багажа. Папе с мамой хоте-лось при этом присутствовать, чтобы не получилось какой-либо ошибки с вещами. Поэтому мы встали, как только "Прейсен" остановился на рейде (в ревельский порт он не вошел). Должно быть, было часов 5 утра.
Небо, еще бледное, уже начало загораться золотыми отблесками лучей восходящего солнца. Полоса берега с панорамой города со множеством золотых церковных куполов была удивитель-но живописна. Проследив за разгрузкой вещей, мы не вернулись в свои каюты досыпать, а остались на палубе, плененные открывшейся перед нами красотой.
Пароход простоял на ревельском рейде весь день. Так как у нас не было эстонских виз, в город мы сойти не могли и просидели много часов на палубе, отдыхая от морской болезни и наблюдая за погрузкой товаров. "Прей-сен" был товарно-пассажирским судном, и на него грузили разные товары с помощью огромных лебедок. Подымали огромные ящики, в которых заключены были легковые машины. Очень забавно было смотреть, как высоко в воздух вздергивали коров. Лямки подхватывали их под живот, тело изгибалось, а по сторонам висели их ноги, издали казавшиеся удивительно тонкими и жалкими.
День тянулся очень долго. Невольно мы разглядывали пассажиров. Всеобщее внимание привлекала к себе молодая, одетая по сверхкрайней моде красивая женщина, которая держалась с вызывающей развязностью светской львицы; занимала она единственную на пароходе каюту-люкс, но большую часть времени проводила на палубе, собирая вокруг себя обширное общество. Бернштейн, с которым папа на пароходе продолжал знакомство, сообщил нам, что эта молодая особа — шпионка международного масштаба. Это известие чрезвычайно заняло мое воображе-ние.
Третий день нашего путешествия был немногим легче первого, только боковая качка сменилась килевой. Небо было пасмурно, а море свинцово-серым с довольно большими волнами. Мы снова чувствовали себя плохо и почти все время лежали в каюте. Плохо было и горничной, обслуживавшей нас; это был ее первый морской рейс, и она оказалась подверженной морской болезни; но лежать, естественно, не имела возможности и ходила и работала с совер-шенно зеленым лицом. Мы всячески выражали ей свое участие, понимая, как трудно было ей в таком состоянии выполнять возложенные на нее обязанности.
Наконец, "Прейсен" вошел в ленинградский порт. Довольно длинная процедура ожидала нас в таможне. Нашу семью отпустили быстро, лишь поверхностно осмотрев багаж. Но Лили, вероятно, по случаю полноты ее фигуры, увели в какую-то комнату, где таможенная служащая предложила ей раздеться, чтобы удостовериться, что она под платьем не везет каких-либо контрабандных товаров.
Когда мы вышли из здания таможни на расположенную перед нами площадь, меня ошеломило возникшее перед моими глазами зрелище. Площадь была запружена десятками извозчичьих пролеток. Сами извозчики, все как один, стояли на своих пролетках спинами к лошадям и громко зазывали седоков. Площадь гудела как улей, хриплые и звонкие, высокие и низкие мужские голоса сливались в нестройный хор, производивший довольно дикое впечатле-ние. После аккуратной, размеренной и подтянутой жизни Германии, к которой мы привыкли за 10 месяцев пребывания в этой стране, то, что мы увидели, делая первые шаги по ленинградской земле, показалось чистейшей "Азией". Это ощущение не ослабело и после того, как один из наших чемоданов вылетел из пролетки на колдобине в торцовой мостовой на одной из улиц, по которым нас повез нанятый извозчик.
В Ленинграде мы пробыли не более двух дней. Остановились у родственницы редактора "Эпохи" Белицкого, которая была не то его сестрой, не то вдовой (сейчас не помню). В моей памяти сохранилась большая, темноватая, мрачная комната и пожилая женщина, еще не до конца пережившая свое горе, о котором она многословно и подробно рассказывала, беспрестан-но упоминая имя студента Канегиссера, убившего Урицкого.
Момент приезда в Москву и самое первое время устройства нашей жизни на старом месте странным образом мне почти на запомнилось. Я даже не совсем точно помню, как расположи-лись мы в квартире. Ко времени нашего возвращения Черняки из столовой переселились в комнату за кухней (перегородка между двумя комнатками Для прислуг была снята еще до нашего отъезда). Вера Степановна Нечаева осталась жить в спальне. Если не ошибаюсь, зиму 1923–1924 годов в папиной библиотеке наверху прожила Лили, а папа пользовался только кабинетом. Мы с мамой заняли три комнаты внизу столовую, где спала мама, маленькую комнату, предоставленную мне, и детскую, в которой поместился Сережа.
Переселение Лили в нашу квартиру вызвано было тем, что Котляревские заняли ее квартиру в первом этаже, Переехав в нее из розового дома, заселенного новыми Жильцами. Посторонним людям были отданы и комнаты второго этажа, прилегавшие к бывшей квартире Лили в нашем доме. Таким образом, мы сразу встретились с новым бытом: в доме, на дворе и в саду то и дело попадались незнакомые люди. Существовало и домоуправление — с председа-телем, секретарем и т. д. Сад и двор были по-прежнему прекрасны, но Лили с этих пор уже ими не занималась — деревья, кусты и трава начали произрастать самостоятельно.
Когда-то тихий наш двор, палисадник и сад наполнились разнообразными звуками; зазвучали многочисленные голоса, среди которых было немало детских. Большинство людей, поселившихся в наше отсутствие в обоих домах нашего двора, потом жили здесь долгие годы, так что я имела возможность хорошо их узнать.
Особенно много народу заняли комнаты в двух больших квартирах первого и второго этажей розового дома. Помню недолго прожившее семейство, где было три девочки: Валентина, Галина и Нина, на место которого в бывших Поленькиных комнатах нижнего этажа розового дома потом поселилось семейство Трофименко с маленькой Галей и грудным, вскоре умершим Юрочкой (после которого родился другой мальчик — Сережа). Мать этих детей, взбалмошная и глупая, претендовавшая на интеллигентность, свековала в этом доме, вырастила дочь и сына, разошлась с мужем, потом долго жила одна и умерла уже в послевоенные годы.
В той же квартире заняла комнаты рабочая семья Березкиных — сапожник Николай Иванович, его совсем темная, странноватая жена Ольга Люциановна, кажется, латышка, плохо говорившая по-русски, и двое их малышей — Боря и Витя, вслед за которыми появилась на свет Маруся, а впоследствии еще Леня и Липа. В квартиру Шамшуриных наверху въехало много разного народу. Среди них была полная, усатая, немного смешная пожилая женщина Елизавета Григорьевна, которая часто к нам заходила с домовыми книгами, т. к. исполняла должность секретаря домоуправления (председателем которого был избран Березкин).
В нижней квартире нашего дома тоже появились новые люди. На втором этаже, в спальне Лили, поселился доктор A.M.Казанский с молодой женой. В небольшой комнате там же, на втором этаже, где прежде жили девочки, одно время жила старушка мадам де Бриньи, по происхождению американка, бывшая замужем за французом — старый друг семьи Орловых. Меня посылали к ней в первую зиму нашей жизни в Москве после приезда из Германии заниматься рукоделием. Она учила меня артистически класть заплаты на мужские носки и мы болтали с ней по-английски. Довольно скоро она умерла, и комнату заняла супружеская пара доктора Шишова.
В бывшей столовой Лили на первом этаже поселилась дочь Павлиной няни Татьяны Ивановны — Вера, которая вышла замуж за рабочего по фамилии Отев. Возле кухни в одной из маленьких комнат жила воспитанница Лили Ольга Маленькая с мужем-украинцем врачом Кобба. Вскоре у нее родился мальчик Ванечка, прелестный, на которого вес очень радовались, тем более что это был первый малыш в нашем доме. Прожил он недолго. Когда ему было года три, он заболел скарлатиной и умер в больнице. А муж после этого бросил Ольгу, вероятно, не выдержав ее несносного характера. Она вторично вышла замуж за простого печника латыша (или литовца) Камбара и переехала в верхнюю квартиру розового дома. Там у нее родилось двое детей — Бенита и Янек. Другие девочки Лили в это время уже разлетелись из гнезда — кто куда.
Школа
Жизнь наша в Москве пошла совсем по-новому. Сережа осенью 1923 года поступил в университет на биологический факультет. Он смог это сделать, т. к. ему, как и другим колонис-там старшей группы, выдали справку об окончании школы второй ступени. У меня такой справки не было, и приходилось думать о поступлении в школу. Для меня это оказалось нелегким делом, т. к. я не обладала никакими систематическими знаниями по предметам программы школы.
Решено было отдать меня в бывшую Алферовскую гимназию, которая находилась в Ростовском переулке на Плющихе. Незадолго перед тем муж и жена Алферовы, владельцы этой гимназии, были расстреляны по обвинению в принадлежности к какой-то контрреволюционной организации. Весь остальной педагогический персонал оставался прежним. Гимназия Алферо-вых была женская, хотя в нее успели влить группу мальчиков из других школ, основным контингентом учащихся продолжали оставаться девочки.
Должность директора школы выполняла в то время помощница Алферовых Ольга Никола-евна Маслова. Мои родители поговорили с ней, попросив разрешения поступить мне в 8-й класс (всего в школах тогда было 9 классов) после Нового года, с тем, чтобы в оставшееся до тех пор время я могла подтянуться по математике и другим запущенным предметам Я начала заниматься с большим рвением; по математике мне помогала Вера Степановна Нечаева, которая хорошо ее знала. Остальные предметы я проходила сама по учебникам. Материал по всем предметам был очень большой, и я распределила его точно на все оставшиеся у меня месяцы.
Но тут произошло событие, повергшее меня в полное отчаяние. Еще задолго до нового года, в октябре или ноябре, вдруг из школы пришло извещение, что я должна сейчас же прийти сдавать экзамены, а в противном случае принята в этом году в школу не буду. Помню, как я горько плакала, т. к. не успела пройти и малой доли того, что надо было по программе. Родители, особенно папа, уверенные в моих способностях, уговаривали меня пойти на экзамен с тем, что я знаю. Мне ничего не оставалось делать, и в один из ближайших дней после получения извещения я отправилась в школу, что называется, ни жива ни мертва.
Что у меня получилось с математикой, я не очень помню; кажется, я начала решать какую-то задачу и не кончила ее. Зато я очень хорошо помню экзамены по литературе и по немецкому языку. По языку меня экзаменовала пожилая (как мне тогда показалось, совсем старая) женщина с некрасивыми, но очень выразительными чертами и пышными, беспорядочно обрамлявшими лицо седыми волосами — Елена Егоровна Беккер. Она была классной наставницей того 8-го класса, куда я поступала. Приехав только что из Германии, я довольно свободно говорила по-немецки, чем совершенно покорила строгую Елену Егоровну, которая считала свой предмет самым главным. Очень возможно, что знание немецкого языка решило дело моего приема в школу, т. к. это в значительной степени зависело от Елены Егоровны, под начало которой я поступала.
По литературе меня экзаменовала прелестная, как я узнала потом, всеми любимая Елизавета Николаевна Коншина. Она спросила меня, какого писателя я особенно люблю. Я ответила: "Лермонтова". Тогда она попросила меня написать маленькое сочинение на тему: "За что я люблю Лермонтова". Меня посадили в какую-то комнату (не то пустой класс, не то учительскую), и я быстро, без труда написала несколько страничек. Во время моего писания в классах шли уроки, и на всем этаже стояла тишина Но вдруг дверь открылась и ко мне вбежала белокурая девица лет 17. Она очень весело и беззаботно заявила. "Меня выгнали из класса" и прибавила: "Пойду спрячусь в уборной". Совершенно незнакомая со школьными нравами, привычная к безукоризненной нравственности поведения ребят в колонии, я была потрясена этим явлением и высказанными девицей сентенциями. Как я узнала потом, девушка эта была из класса 9-го "Б" (8-й класс, куда я поступала, был только один, а девятых два).
Когда стало известно, что я в школу принята, папа рассказал мне, что это он попросил директора школы прислать мне извещение, желая сократить срок моей подготовки и неопределенного положения вне школы. Зачем он подверг меня такому волнению и лишним мучениям, понять до сих пор не могу. Однако вышло, что он оказался прав.
Так, приблизительно с декабря месяца, началась моя Школьная жизнь. Об этой школе, в которой я проучилась всего полторы зимы (половину 8-го и 9-й классы), у меня не сохранилось особенно приятных воспоминаний.
Большинство было из интеллигентных или полуинтеллигентных семейств. Только 6–7 человек по духу, воспитанию и стилю поведения подходили к тому, что я считала нормальным и естественным. Остальные были мне совершенно чужды. Многие ничем не интересовались, каждый держался сам по себе. Существовали, конечно, и парочки, особенно между девочками. Немало отмечалось пошлости в отношениях девочек с мальчиками; распущенности открытой по тем временам быть не могло, но глупого флирта было сколько угодно. Из рук в руки передава-лись записочки пошлого содержания.
Педагоги, особенно те, которые остались от старой гимназии, в первую очередь Ольга Николаевна Маслова и Елена Егоровна Беккер, строго блюли нравственность, что очень часто принимало нелепые формы. Так, например, как-то, в начальные дни моего пребывания в школе, когда я еще не знала толком принятых в ней обычаев, в какой-то момент мне довелось в течение нескольких минут, стоя в дверях своего класса, беседовать с кем-то из наших мальчиков. Заметив это, Ольга Николаевна подошла ко мне и хотя довольно ласково, но твердо попросила нас закончить беседу, дав понять, что разговор между мальчиком и девочкой содержит в себе что-то неприличное. Мне это показалось диким, т. к. я привыкла в колонии к товарищеским отношениям между мальчиками и девочками и к полному доверию к ним со стороны педагогов.
Из девочек нашего класса я с грустью вспоминаю Асю Анненкову, о которой мне хочется написать несколько слов; хотя я с ней не дружила и она мне не была даже симпатична.
Ася Анненкова была некрасива почти до уродства: у нее было бледное лицо с нечистой, угреватой кожей, толстый, вздернутый нос, маленькие зеленые глаза и пронзительно рыжие волосы. Она принадлежала к высокоинтеллигентной семье. Не помню, чем занимался ее отец; помню только, что родители Аси были антропософами и друзьями Андрея Белого.
Кроме Аси, у них был еще сын, на несколько лет ее моложе. Мальчика они обожали, а Асю не то что не любили, а просто ненавидели. От природы это была очень умная, незаурядно-одаренная девочка. Но ненормальная обстановка в семье, очевидно, изломала ей душу: она была крайне горда и ущемлена в первую очередь отношением к ней родителей, а затем и своим уродством. В коллективе она держалась независимо, гордо-молчаливо, ни с кем не дружила и даже почти не заговаривала. Ее не любили, но уважали, т. к. она была очень развита, начитанна, писала стихи. Школу она часто пропускала.
Об ее положении в семье нам иногда рассказывал Андрей Белый; говорил, что она постоян-но ходит в дырявых ботинках, промачивает ноги, что ей не покупают одежды, кормят ее иначе, чем сына, и т. п.
Окончив школу, Ася поступила в университет на отделение истории искусств, где мы некоторое время проучились вместе. Но вскоре она расхворалась скоротечной чахоткой и, проболев несколько месяцев, умерла. До нас дошел рассказ о том, что мать за ней почти не ухаживала, положила ее в темной, сырой комнате, что она злилась из-за того, что болезнь дочери не позволяет ей уехать на курорт.
Перед смертью Ася просила, чтобы умершую ее хорошо одели и причесали; бедняжке хотелось красиво выглядеть хотя бы в гробу. Но и мертвая она была по-прежнему некрасива. Я была на ее похоронах, во время которых с ненавистью и ужасом смотрела на стоявшую у гроба равнодушную мать.
В годы моего учения советская школа переживала первую стадию тех нелепостей, которые ознаменовали собой всю ее полувековую историю. Однако эта первая стадия была намного лучше тех, что последовали потом, когда начались эксперименты "комплексного" обучения, стали вводиться всякие профессиональные уклоны и т. д. Достаточно упомянуть хотя бы, что шедший за нами класс кончал уже школу с "землемерно-токсаторским" (!) уклоном. При мне не было отметок и дисциплина была сильнейшим образом расшатана. Но отдельные учителя сохраняли верность традициям в том смысле, что хорошо преподавали свой предмет. Однако самый дух новой школы не позволял им предъявлять ученикам требования, которые нужны были для основательного овладения предметом, и редко кому из них удавалось поддерживать в классах порядок.
Боялись ученики одного только Сергея Владимировича Бахрушина, который преподавал историю. Это был известный в Москве историк, профессор Московского университета, пожилой, солидный, внешне очень представительный человек, прекрасно излагавший свой предмет.
Если кто-нибудь из учеников начинал шептаться или позволял себе какую-нибудь шалость во время его урока, Сергей Владимирович тотчас же смотрел на провинившегося ученика, который краснел и съеживался под его гневным взглядом. Иногда он при этом спрашивал: "Вельский (или Цейдлер), я вам мешаю?" Он перехватывал летевшие по воздуху записки и клал их в карман пиджака, а на следующем уроке говорил, что прочел написанное, и удивлялся пошлости того, что писали авторы этих посланий.
С.В.Бахрушин был хорошо знаком с моим отцом и бывал у нас дома. Это был очень умный, значительный и талантливый человек. Жил он недалеко от нас в Гла-зовском переулке. В течение многих лет, уже после папиной смерти, я постоянно встречала его на улице, во все времена года одетого в темно-серую крылатку без рукавов. Грузный, с мясистым, поросшим седой щетиной лицом, он мелкими шагами быстро бежал по тротуару. Мне довелось быть ученицей Бахрушина и в университете, когда он читал на искусствоведческом отделении курс русской истории и вел по этому предмету семинар.
Весь класс очень хорошо относился к Елизавете Николаевне Коншиной, преподававшей литературу; а некоторые, особенно серьезные девочки, ее горячо любили. Елизавета Николаевна пленяла своей тонкой культурой, тактом, умением интересно и проникновенно излагать матери-ал урока. Даже завзятые шалуны на ее уроках вели себя сравнительно тихо. Как и Бахрушин, она имела обыкновение перехватывать записи, но никогда их не читала, а тут же, на глазах у всего класса, рвала на мелкие кусочки.
Елизавета Николаевна внешне была очень привлекательна. Невысокая, худенькая, обычно одетая в строгий английский костюм и блузку с галстуком-бабочкой, с коротко остриженными пышными темными волосами, в пенсне, через стекла которого смотрели ее ласковые глаза, она всем своим обликом настраивала класс на серьезный лад. Елизавета Николаевна относилась к своему предмету увлеченно и старалась увлечь учеников. Она предложила желающим органи-зовать литературный кружок и провела несколько занятий этого кружка у себя дома в Трубни-ковом переулке. Однако очень скоро пришел конец нашим встречам вне школы. Партийное начальство дало понять Елизавете Николаевне, что считает их неуместными, и она под каким-то предлогом перестала нас приглашать. А я так помню ее комнату в небольшом арбатском особнячке старой Москвы, заполненную книгами, с портретами писателей на стенах, с многочи-сленными фотографиями Чехова и Книппер-Чеховой, близкого друга Елизаветы Николаевны.
Преподавание в школе было, насколько я знаю, лишь коротким эпизодом в жизни Е.Н.Коншиной. В течение нескольких десятилетий — вероятно, около сорока лет — она проработала научным сотрудником в рукописном отделе Ленинской библиотеки, лишь в глубокой старости, после войны, уйдя оттуда на пенсию. Занимаясь с нами, она уже состояла в штате библиотеки.
Свою жизнь в школе я вспоминаю так. Прежде всего путь ранним утром; из дома я выходи-ла направо по Никольскому переулку и поворачивала в первый же переулок направо — Глазовс-кий. Он приводил меня к Смоленскому бульвару, который я пересекала, и по другую его сторону в том же направлении шла дальше по переулку до Плющихи. Перейдя Плющиху, попадала в 4-й Ростовский переулок, упиравшийся в 7-й Ростовский, где сразу налево на другой стороне находилась наша школа. 7-й Ростовский переулок тянулся по краю высокого берега Москва-реки, над которым возвышалось здание школы, так что сад при школе расположен был по склону берега. На своем пути я часто встречала девочек — Олю Яковлеву, Риту Ганешину и Лиду Черепахи-ну, тогда мы шли вместе. Рита жила в большом доходном доме на углу Глазовского и Денежного. В том же доме, только в другом его подъезде, жил Луначарский, и мне неоднократно доводилось наблюдать, как он выходил из своего подъезда и усаживался в машину.
Если мы приходили рано, то некоторое время сидели в раздевалке на деревянном диване. Входившие девочки обычно "перечмокивались" с пришедшими раньше их подругами. Потом все шли на второй этаж в большой зал. После звонка каждый класс занимал в зале свое особое место. Входила О.Н.Маслова и в наступившей тишине здоровалась с учениками. После этого ритуала все расходились по классам. Очевидно, так происходила прежде утренняя молитва в Алферовской гимназии. Теперь молитвы быть не могло, а сохранилась традиция сбора всей школы в зале перед началом уроков и коллективного приветствия. По-моему, это обыкновение было хорошим, т. к. с утра задавало тон дисциплины и собранности (который, впрочем, выветривался из сознания учеников, как только они выходили за дверь зала и диким аллюром мчались по лестницам и коридорам в свои классы).
Школа составляла в 1924–1925 годах только малую и далеко не самую важную долю моего существования. Большая часть моей духовной жизни связана была с домом и с колонией, в которую я постоянно рвалась всей душой и часто ездила, вплоть до ее закрытия осенью 1924 года.
Последние полтора года с папой
По приезде в Москву папа поступил на службу в Академию художественных наук, где до своей смерти занимал должность председателя литературной секции. Насколько я могла тогда знать, обстановка в этом учреждении была хорошей; во главе Академии стоял Петр Семенович Коган, который очень уважал моего отца; там же работал П.Н.Сакулин, Г.Г.Шпет и многие другие литераторы и ученые. Вокруг Академии художественных наук группировалась большая часть московской гуманитарной интеллигенции. Папа ходил туда на заседания и занимался писанием дома, главным образом работал над статьями о Пушкине. Готовил он также к печати находившийся у него в руках "Архив Огарева".
К папе по-прежнему ходило довольно много людей. Из старых друзей только единичные оставались в это время в Москве. Некоторые умерли, другие были за границей. Вяч. Иванов профессорствовал в Баку, а летом 1924 года навсегда уехал с детьми в Италию. Жуковские жили в Крыму. Бывал по-прежнему Андрей Белый, часто приходил милейший Верховский. Этот тонкий поэт и нежнейшей души человек, грузный, бородатый, обросший длинными, достигав-шими плеч волосами, с ласковыми глазами застенчивый и неловкий, до старости сохранял в себе что-то детское. Мы все его очень любили.
Сблизился с папой миниатюрный, сухонький, как комарик, историк литературы Абрам Борисович Дерман; как и раньше, дружил с ним Мстислав Александрович Цявловский. Стали появляться в нашем доме тогда еще молодые литературоведы Дмитрий Дмитриевич Благой и Николай Каллиникович Гудзий, который очень любил моего отца и приходил постоянно. Это был мало одаренный ученый, но хороший человек; крайне некрасивый, с изрытой оспой лицом, Гудзий питал большую слабость к прекрасному полу. Приходя к нам, он заглядывался на меня и отпускал в мой адрес комплименты. Папа возмущался этим и говорил мне: "Как ты допускаешь, чтобы он глядел на тебя такими глазами?" А что я, 16-летняя девочка, могла с этим поделать: только молчать и смущаться.
С Гудзием в те дни случилась одна история, произведшая на меня сильное впечатление. Однажды он прибежал к папе в большом смятении; они долго просидели запершись в папином кабинете. Когда он ушел, папа под большим секретом рассказал о том, что с Гудзием произо-шло. За день или два перед этим его внезапно вызвали на Лубянскую площадь в Ч К. Там ему было предложено стать осведомителем; по малодушию он не смог отказаться и подписал соответствующее обязательство. Придя домой, он опомнился и в состоянии, близком к самоубийству, помчался к папе как к самому уважаемому и, по его мнению, мудрому из всех своих друзей. Что ему папа посоветовал, я не помню. А история эта, кажется, кончилась ничем, чекисты Гудзия больше не трогали, очевидно, поняв, что его кандидатура не удовлетворяет требованиям, необходимым для предложенного ими занятия.
Нередко приходил к папе Б.Г.Столпнер, живший неподалеку от нас, чуть ли не в нашем же Никольском переулке. Это было странное существо. Маленький лысый старичок с лицом Сократа, отчаянно близорукий, так что читал он, воткнувшись своим красным носиком в страницу книги, с невнятной речью, он, казалось, не видел ничего вокруг себя. Беседовать он мог только на отвлеченные темы. У него не было семьи, никого близких, он никого не любил. Специальностью его была философия; в его переводе выходили сочинения Гегеля, и папа говорил, что во всей России один только Столпнер способен читать Гегеля в подлиннике, а тем более переводить его на русский язык.
Приходило к нам несколько ученых дам. Часто бывала Лидия Алексеевна Бах — старшая дочь известного академика, химика А.Н.Баха. Лидия Алексеевна очень любила моих родителей и равно дружила с папой и мамой. Это была высокая, худая девушка лет за 30, с длинным, не слишком красивым, но интересным лицом; держалась она прямо и немного чопорно. Очень образованная, блестяще владевшая французским языком, Лидия Алексеевна долгое время прожила в Париже, где близко сошлась с Л.И.Шестовым. Когда мы находились в Баденвейлере, она прислала папе письмо, в котором предлагала мне приехать к ней в Париж, обещая выучить меня французскому языку и дать мне в Париже образование. Не представляю, что было бы со мной, если бы родители приняли ее предложение, т. к. сама Лидия Алексеевна вскоре после того приехала в Россию. Занималась она экономикой; написала по-французски книгу об экономике Средней Азии, которая издана во Франции.
Мои родители изредка ездили к Бахам в гости. Старик Бах, на которого Лидия Алексеевна очень походила лицом, был мало симпатичен; будучи выдающимся ученым, он отличался крайним самомнением и держался малодоступно и гордо. Его толстенькая круглолицая жена Александра Александровна казалась более простой и добродушной. Кроме Лидии, у них было еще две дочери: Наталия — химик и Ирина — историк. Их всех я неоднократно видала. Наталия и Ирина повыходили замуж (муж Ирины, красивый чахоточный человек, доводился племянни-ком Шестову) и народили детей, а Лидия так и осталась в девушках.
Время от времени появлялись в нашем доме писательницы Ольга Форш и Любовь Яковлев-на Гуревич. Но с ними у меня как-то не связалось никаких воспоминаний. После отъезда из России Вячеслава Иванова стала вновь приходить А.Н.Чеботаревская, перед тем жившая с Ивановыми в Баку.
Завязалось новое знакомство с прелестной Ольгой Александровной Шор, которая работала вместе с папой в Академии художественных наук. Ольга Александровна была племянницей пианиста Д.С.Шора, двоюродной сестрой того Юши Шора, с которым я провела такой радост-ный день в Баденвейлере. Ее отец, А. С. Шор, до революции имел в Москве магазин роялей, а после революции вплоть до своей смерти в середине 30-х годов заведовал инструментальной мастерской (или лабораторией) в консерватории. Его жена, Розалия Моисеевна, знала мою маму девушкой, т. к. бывала в доме одной из маминых теток, и потому звала ее Марусей. Ольга Александровна, маленькая, худенькая, очень подвижная, с горящими карими глазами и копной черных круто вьющихся локонов, привлекала к себе все сердца. Обладая тонким умом и большой эрудицией в области эстетики, литературы и философии, она сама имела золотое сердце. Ее жизнь делилась между учеными занятиями и заботой о всех тех, кто нуждался в помощи. Если кому-нибудь было плохо или он попадал в беду, Ольга Александровна, ни минуты не раздумывая, первая оказывалась возле него и старалась переложить на свои плечи всю тяжесть происшедшего несчастья. Она всегда за кого-то хлопотала, вечно о ком-то заботилась. Это получалось так просто и естественно, что принималось как должное, часто совсем без благодарности, о которой она совершенно не думала.
Ольга Александровна была блестящей собеседницей и дружила с самыми интересными людьми из литературных кругов. У нее бывали Г.Г.Шпет, А.Г.Габричевский, мой отец и многие другие. В нашу семью она вскоре вошла как родная, став одним из самых близких нам людей. Но особая дружба возникла у нее с Вяч. Ивановым. Когда он уехал за границу, она в течение двух лет вела все его дела в России (он сначала числился в командировке), а потом, в конце 1926 года, уехала к нему в Германию, где прожила около него в качестве его секретаря и самого близкого ему человека до его смерти в 1949 году.
Мне ярко запомнилась первая моя встреча с Ольгой Александровной и первое от нее впечатление. Это было в начале лета 1924 года в жаркий вечер. Я приехала из колонии и, войдя в нашу столовую, увидела за чайным столом молодую женщину, поразившую меня необычностью своего облика. Поразило меня выражение ее лица, подвижного и, как мне показалось тогда, экстравагантный туалет. На ней была огромная, широкополая белая шляпа, отделанная круже-вом, и сильно декольтированное платье, которое то и дело сползало с ее худенького плеча. Жизнь так и искрилась в ее глазах, изящное, маленькое тело ни минуты не оставалось без движения.
А последний раз я видела Ольгу Александровну в апреле 1966 года в Риме старушкой за семьдесят лет. Она выглядела очень старенькой, т. к. у нее был запавший, беззубый рот; ее преле-стное, хотя и покрытое морщинами лицо по-прежнему окружали круто вьющиеся локоны, став-шие совсем белыми. Она была все та же, тонкоумная и сердечная, подвижная, полная энергии и такая же близкая, дорогая, как раньше. Эта встреча после 40 лет разлуки была воспринята мною как драгоценный дар, ниспосланный мне судьбой.
Часто приходила к нам где-то случайно познакомившаяся с папой, ставшая его ревностной поклонницей и нежно полюбившая мою мать Александра Васильевна Ростовцева. Александра Васильевна не имела отношения к литературе; зная хорошо французский язык, она зарабатывала уроками. Она жила в Малом Власьевском переулке в большой комнате старого деревянного особнячка вдвоем с тяжелобольным мужем.
При поверхностном знакомстве она казалась малозначительным, обыденным человеком. В то же время в ней ощущалось нечто не вполне обычное, как бы странноватое, что, вероятно, было связано с глубоко затаенной духовной жизнью. Связью с моими родителями она дорожила как чем-то для себя чрезвычайно важным. Это чувство сохранилось у нее и после папиной кончины. Много лет подряд, вплоть до маминой смерти в 1940 году, она постоянно приходила к маме, а в день папиной смерти неизменно приносила цветы. Если же была в этот день больна (она страдала тяжелым сердечным недугом), присылала цветы и записочку с домработницей.
Полтора года, прожитые нами вместе с папой после возвращения из-за границы, прошли сравнительно благополучно. Он зарабатывал хотя и немного, но мог не заботиться о постоянных поисках литературного заработка, как прежде, т. к. получал ежемесячное жалованье в Академии художественных наук, которого хватало на наш скромный образ жизни. Мама могла даже пригласить приходящую домработницу, снявшую с нее готовку и другую тяжелую работу по дому.
Попалась нам очень милая девушка Оля, довольно культурная, скромная, молчаливая, с красивыми золотыми волосами и нежным, бело-розовым цветом лица. Ее присутствие никого не тяготило, а, напротив, было Даже приятно.
Папин туберкулез принял вялую, хроническую форму, не опасную для жизни в пожилом возрасте. Неприятно было только, что по ходу его болезни он почему-то охрип и эта хрипота не поддавалась лечению и не оставляла его до конца.
Мой "роман" с ним, начавшийся в Баденвейлере, в Москве продолжался, развиваясь и возрастая. Папа относился ко мне со страстной, ревнивой любовью. Именно в этот период жизни он мне говорил: "Я никогда никого так не любил, как тебя, даже маму". Или: "В тот день, когда твои руки убирали мой стол, я совсем иначе работаю". Таких слов я больше никогда в своей жизни ни от кого не слышала. Почти ежедневно он звал меня на прогулку. Если у меня оказывалось много уроков и я отказывалась с ним идти, он огорчался и обижался как ребенок. Но это случалось редко. Почти всегда я с большой охотой и радостью шла по его зову.
Ходили мы по арбатским и пречистенским переулкам, по близлежащим бульварам. Во время этих прогулок он рассказывал мне о тех местах, по которым мы проходили, о "литератур-ной Москве", останавливаясь перед домами, связанными с жизнью замечательных русских людей прошлых столетий. Если бы я была постарше, я, вероятно записывала бы эти его рассказы, понимая их драгоценную значимость. Но в 16 лет люди так легко воспринимают богатства, расточаемые перед нами жизнью, что не отдают себе отчета в том, что каждое из этих богатств неповторимо и заслуживает запечатления. Слушая с интересом папины слова, я легко и бездумно переносилась мыслями на другое.
Во время наших прогулок по окрестным переулкам мы часто встречали кого-нибудь из живших поблизости папиных друзей или знакомых: С.В.Бахрушина, братьев Соколовых (это были братья-близнецы, лингвисты и литературоведы — Юрий и Борис Матвеевичи, настолько похожие между собой, что, когда я спрашивала, с которым из них мы встретились и, постояв на углу, поговорили, папа со смехом отвечал мне "право, не знаю"), П.Н.Сакулина, А. Белого и других. Папа постоянно таскал меня за собой, когда ходил по делам, в Румянцевский музей и особенно — в Академию художественных наук, помещавшуюся в одном из старых особняков Пречистенки.
Путь туда от нашего дома пролегал по Глазовскому, Денежному и Большому Левшинскому переулкам. Этой дорогой мы проходили постоянно, так что я на много лет запомнила каждый дом, мимо которого нам приходилось идти, каждую тумбу и плиту тротуара. А служащие Академии привыкли к тому, что Гершензон постоянно появлялся с дочкой.
По дороге с нами иногда случались маленькие происшествия, которые мне ярко запомни-лись. Помню, нам встретился угольщик с черным, как у негра, лицом, который вышагивал рядом с возом, заваленным угольными мешками. Мы с папой привлекли его внимание, и он, приняв нас, очевидно, за мужа и жену, отпустил какую-то ласковую насмешливую реплику, содержав-шую комплимент в мой адрес и похвалу вкусу моего пожилого "супруга", выбравшего себе в подруги такую хорошую девчонку. Как-то в Б. Левшинском переулке, пока мы довольно долго стояли, беседуя с кем-то из папиных литературных знакомых, я заметила на травке у обочины тротуара крошечного тигрового котеночка, который метался и жалобно мяукал. Мы с папой пожалели его и принесли домой. Он назван был Еськой и остался у нас жить, составив компа-нию нашему любимому серому котику, которого вскоре после нашего возвращения из Германии подарил нам дядя Коля, спасши от грозившей ему смерти и принеся в кармане пиджака.
Однажды, стоя около Манежа, мы с интересом разглядывали проходивший мимо нас автобус — тогдашнюю московскую новинку, впервые появившуюся на улицах города: до этого в Москве ходили только трамваи и по-прежнему было множество извозчиков.
В дни получения папой жалованья мы перед вечером отправлялись вдвоем на Арбат в кондитерский магазин на углу Б. Афанасьевского переулка (где до революции помещалась кондитерская "Эйнем") и покупали на 5 рублей разных конфет. Очевидно, в то время это была немалая сумма, т. к. нам завязывали огромный пакет. Я особенно любила заливные орехи, которые стоили дорого, но неизменно составляли часть нашей покупки. Появление сластей в нашем доме воспринималось как праздник, потому что было малодоступным, редким удоволь-ствием и к тому же обставлялось папой некоторой торжественностью.
Отличавшийся крайней ревнивостью, мой отец ревновал меня ко всем моим друзьям и подругам. Обычно, если ко мне приходил кто-нибудь из друзей-колонистов или школьных подруг, он выдерживал минут 40 или час, а потом выходил из своего кабинета и подсаживался к нам. Хотя и молча, он так явственно выражал свое нетерпение, что мои друзья начинали чувствовать нежелательность своего присутствия и торопливо собирались уходить. Не помню, чтобы я сердилась за это на папу. Я сама так нежно к нему относилась, что меня трогала его ревность, не вызывая досады или раздражения.
Грустной стороной жизни нашей семьи было отчуждение Сережи, который, взрослея, все больше отдалялся от родителей и от меня. Причин для этого не существовало никаких, и его тогдашнее, а тем более последующее поведение по отношению к нам навсегда осталось для меня необъяснимой загадкой. От природы очень способный, обладавший великолепной памятью, он блестяще учился в университете. Вскоре его начали отмечать педагоги — известный профессор Кольцов, Четвериков и другие. Несколько позже, когда он уже кончил университет, о нем узнал по небольшой напечатанной им в журнале статье знаменитый американский ученый, генетик Меллер, который настолько высоко расценил проделанную Сережей работу, что прислал ему письмо с приглашением приехать в Америку, чтобы стать его ассистентом.
Мы знали Сережиных товарищей по курсу — очень хороших и тоже способных ребят: Петра Фомича Рокицкого, Абу Овсеевича Гайсеновича, Колю Дубинина будущего академика. Хотя Сережа всячески ограждал свою дружбу с ними от нас, они все же заходили к нам в дом и мы были с ними знакомы. А Рокицкий оказывал мне внимание, явно стремясь за мной поухажи-вать. Мы с ним один раз даже долго гуляли вдвоем по арбатским переулкам. Но дружба эта не получила развития, так как, заметив нашу взаимную симпатию, Сережа сумел положить конец нежелательному для него сближению.
Уже тогда родители болезненно воспринимали отношение Сережи к семье, но не могли ничего с этим поделать. Мама, как всегда, кротко и самоотверженно переживала происходящее в глубине своей прекрасной души, а папа спасался любовью ко мне и не старался насильственно сближаться с Сережей.
Пока существовала колония, она по-прежнему играла для меня огромную, ни с чем не сравнимую роль, оставаясь в моем представлении самым дорогим, обетованным местом на земле. После того как моим родителям с таким трудом удалось восстановить в Германии наше с Сережей здоровье, они не разрешили нам по возвращении в Россию вновь поселиться в колонии, которая после этого просуществовала еще целый год. В течение этого года моей постоянной мечтой, носившей характер почти навязчивой идеи, были поездки в колонию.
Пускали меня туда не слишком охотно, так как я почти каждый раз возвращалась из колонии простуженной. Для разрешения моей поездки требовались определенные условия, в первую очередь хорошая погода. Если я наутро предполагала ехать в колонию, то обычно перед этим почти не спала ночь, замирая от страха, что погода испортится, прислушиваясь к звукам за окном: не идет ли дождь, не поднялся ли ветер. Такие же мучения переживались мною и в колонии, когда я после дня, проведенного там, просыпалась под утро с ощущением заложенного горла или начинающегося насморка. И все же мне довольно часто удавалось посещать колонию, и некоторые из этих поездок запомнились на всю жизнь, дополнив собою чудесные воспомина-ния предшествующих лет, когда я сама жила в ней постоянно.
Вскоре после закрытия колонии воспитанники Лидии Мариановны лишились своей наставницы. В Москве она Прожила недолго — вероятно, не больше двух лет. Где-то в середине 1920-х годов началось гонение на теософские общества; многие теософы были арестованы. Но сослали только двоих: Лидию Мариановну (вероятно, в связи с ее эсе-РОВСКИМ прошлым) и одного из молодых теософов, входавшего в группу "Оруженосцев", Алешу Щипановского, который, как рассказывали, вызывающе держался на допросах. Когда их высылали, были еще настолько идиллические времена, что группа находившихся в Москве ребят смогла узнать час отхода арестантского поезда (или вагона) и приехала проводить Лидию Мариановну. Среди них была я. Помню вагон с зарешеченными окнами, сквозь которые мы с трудом разглядели фигуры Лидии Мариановны и Алеши Щипановского. Еще находясь в московской тюрьме, Лидия Мариановна переслала с грязным бельем записочки для ребят, которые она засунула в бельевые пуговицы, а может быть и рубцы. Была одна записочка побольше, адресованная всем вместе, текст которой я списала Она гласила: "Помните про озимое семя. Пусть тише лежит под землей, пусть глубже пускает корни; пусть толще снежный покров — тем радостней зазеленеет весной — в новом году!".
Остальные записочки предназначались отдельным ребятам. Мне передали мою; это была узенькая полосочка бумаги сантиметра три в длину, которая вполне могла уместиться внутри полотняной пуговицы. Мельчайшими буквами на ней было начертано:
"Нат. Г. Не оставлю вас сиротами, вернусь к вам".
Лидия Мариановна была сослана в Сибирь — сперва в какое-то другое место, а потом в Ирбит. Она поселилась в селении, где было много ссыльных, в частности, молодежи, так что и в этой обстановке она сумела применить свой педагогический талант и интересы.
Когда срок ссылки Лидии Мариановны окончился, около года прожила она под Москвой в Лосиноостровской, а потом переехала на Северный Кавказ в поселок Верблюд и поселилась вместе с сосланной Магой. Там, в трудной обстановке, подвергаясь всяческим лишениям, ей довелось прожить недолго. Ее хрупкий организм был подорван; в 1931 году она скончалась от плеврита, когда ей было немногим больше пятидесяти лет. Последнюю весточку я получила от нее в начале 1931 года; узнав о рождении моей дочери, она прислала мне письмо с поздравле-нием и несколькими ласковыми, проникновенными словами.
В мае 1924 года я ездила с одноклассниками в Крым, и в вагоне по дороге в Москву каким-то образам сильно стукнула локоть правой руки. Образовалась довольно глубокая, кровоточащая ссадина, которую я в вагонных условиях здорово загрязнила. Кроме того, за время всего крым-ского путешествия я, очевидно, сильно утомилась и была истощена недостаточностью моего питания; в Москве моя рука разболелась. На коже начали образовываться мелкие нарывчики, постепенно покрывшие всю поверхность руки от плеча до кисти. Между ними вскакивали крупные фурункулы. Родители наши, обеспокоенные моим состоянием, стали обдумывать, как использовать летние месяцы для моего отдыха и поправки. Списались с дядей Бумой и решили послать меня месяца на полтора к нему в Одессу, где у них была снята дача на Большом Фонтане. Надеялись также, что он сумеет вылечить мою руку.
Выехали мы из Москвы вдвоем с Сережи. Он предполагал заехать в Одессу на 2–3 дня с тем, чтобы оттуда уехать в Геленджик, где должен был встретиться со своим однокурсником Рокицким, с которым они намеревались вместе заниматься сбором дрозофил — мелких мушек, нужных для опытов в области генетики. Так и получилось. Мы приехали и дяде Буме. Я сначала стеснялась и помалкивала, а Сережа держался очень мило (что он умел, когда ему хотелось) и всех очаровал. Потом он уехал.
Семья дяди Бумы, которая в это время состояла из тети Беллы, Леночки 22 лет и моей сверстницы Нади, жила на даче на Большом Фонтане недалеко от моря. В Даче они занимали две или три комнаты. Была и терраса, обвитая диким виноградом.
Меня поселили в маленькой комнате вместе с Надей. Сын дяди Бумы Миша, уже женатый, находился в Москве, где он с женой и еще двумя товарищами и их женами жили коммуной, считая, что таким путем воплощают в Жизнь новые человеческие отношения, порожденные ре-волюцией. Дядя Бума резко отрицательно относился к тому образу жизни, который вел в Москве Миша, и отказывался посылать ему деньги, зная, что они пойдут на расходы всей коммуны. Тетя Белла, со своей стороны, как мать жалела Мишу, т. к. он в то время еще ничего почти не зарабатывал, да и все остальные члены коммуны были совершенно нищие. Из-за этого между дядей Бумой и тетей Беллой происходили тяжелые сцены, с криками и т. д., во время которых мне было неприятно присутствовать.
Леночка, в то время студентка (или недавно кончившая) педагогического института по дошкольному отделению, была очень мила: веселая, добрая, легкая по характеру, хотя и без особенных глубин. Я с ней мало соприкасалась. Мне, естественно, болыше всего времени доводилось проводить с Надей, которая совсем не была похожа на Леночку. Очень умная, с непростым и нелегким характером, нередко впадавшая в мрачные настроения. Тетя Белла в то время являла собой тип одесской буржуазной дамы, очень мне мало знакомый и чуждый. Я себя чувствовала в этой семье не совсем просто, тем более что тетя Белла не очень скрывала, ее затрудняло мое вегетарианство, а также возня с моей больной рукой. Дяди Бума, который приезжал на дачу только на воскресенья, был со мной чрезвычайно ласков, уговаривал меня побольше есть. Время от времени он возил меня в город и показывал врачам-кожникам, которые проделывали с моей рукой разные малоприятные манипуляции, лечили прививками вакцины, приготовленной из посева моего же гноя (что вызывало подъем высокой температуры), и т. д.
Я проводила много времени за чтением. В то лето, один за другим, прочла все романы Достоевского; занималась самостоятельно французским языком, читая какую-то книгу со словарем (по совету папы, который когда-то сам так выучился читать по-французски). Ходили мы к морю, но купаться я не могла из-за руки. Один раз ездили в город в театр, в оперу. Что мы смотрели, я не помню. Помню только, что знаменитый одесский театр (тогда он был весь голубой внутри) очень мне понравился.
Однажды дядя Бума решил нас развлечь: взял лодку с гребцами, посадил в нее нас с Надей и Леночкой и сам сел. Около часу мы катались по морю. Но удовольствия из этого не получи-лось. Нас всех укачало, мы плохо себя чувствовали, каждый это скрывал, думая, что всем остальным приятно. Но все обрадовались, ощутив под ногами твердую землю.
Другим развлечением была наша с Надей поездка в Люсдорф — известное под Одессой дачное место. В Люсдорфе жили знакомые дяди Бумы: врач Константин Михайлович Гродский, человек лет под пятьдесят, и его сестра с двумя мальчиками. Поехали мы утром и застали семью в очень тяжелый момент: этой ночью мать семейства была арестована и увезена. Мальчики остались одни с дядей. Старшему, Шуре, было лет 14–15, младшему, Лене, — 8 лет. Этот мальчик учился музыке.
Уходя, мать сказала ему, чтобы он, несмотря на ее отсутствие, как всегда, выполнял свой музыкальный урок. За этим занятием мы его и застали. В комнате, разгромленной ночным обыском, за роялем сидел маленький мальчик и, обливаясь слезами, играл свои упражнения. Это был Леня Ройзман, будущий ученик дяди Шуры, пианист и органист, профессор Московской консерватории.
Кажется, мать их просидела в тюрьме недолго. Потом они переехали в Москву, где был арестован старший сын, Шура, который в ссылке погиб. А она долго болела (помнится, психи-чески), так что заботиться о них вынужден был все тот же дядя — Константин Михайлович Гродский.
Впоследствии в 1929 году Надя вышла замуж за Грод-ского, по возрасту годившегося ей в отцы. Родители ее были очень против этого брака, и отношения сложились тяжелые. А она своего мужа обожала и была с ним счастлива (хотя, как я узнала позднее, он был тяжелый и малосимпатичный человек). Прожила она с ним лет 25, а потом похоронила и осталась доживать в грустном одиночестве. Посвятив свою жизнь мужу, она загубила свои незаурядные способ-ности. Окончив юридический факультет Одесского университета, она всю жизнь проработала юрисконсультом, без любви и интереса к своей профессии.
Некоторые черточки жизненного уклада семьи дяди Бумы казались мне дикими. Так, я удивлялась, зачем тетя Белла заставляет приглашенную ею женщину мыть полы в даче каждый день и как она могла допустить, чтобы эта женщина пришла мыть полы на следующий день после родов. Удивил меня и еще один факт: в городе дядя Бума вел прием больных, который обслуживала внешне приятная прислуга в кружевном фартучке, наколке и т. д.
Временно она была отпущена в отпуск, и тетя Белла взяла на ее место другую — пожилую, простецкую, некрасивую женщину. Эта, вторая, прислуга оказалась по всем остальным своим качествам гораздо лучше первой (которая, кроме внешнего облика, не обладала никакими достоинствами), и тетя Белла слезно просила дядю Буму не возвращать из отпуска ту, что была раньше, а остаться при этой, гораздо более подходящей. Но дядю Буму так устраивал более элегантный вид первой во время приема больных, что он остался непреклонен и не согласился на просьбы тети Беллы. Удивляло меня и то, что Надя перед каждым приездом дяди Бумы на дачу переодевалась в нарядное, праздничное платье и оставалась в нем при отце, т. к. он этого требовал. Все эти светские (и, по правде сказать, мещанские) условности были мне крайне чужды, особенно после всего того, к чему я привыкла в колонии, да и у нас дома, где все такие понятия попросту не существовали.
Но сам дядя Бума мне очень нравился, и до конца его жизни (умер он в 1933 году) я его очень любила. Несмотря на привычки провинциальной врачебной знаменитости, он был значительным, ярким человеком, с горячим сердцем, многими чертами напоминая моего отца (которого он страстно любил). Весьма характерен для него был один случай, происшедший тем летом на моих глазах. По воскресеньям на даче дядя Бума отдыхал и отказывал всем, кто пытался вызвать его к больному. Один раз к калитке нашего сада подбежала женщина; вызвав дядю Буму, она стала слезно умолять его посетить на одной из соседних дач ее заболевшего мальчика. Дядя Бума отказал ей в резкой форме, даже раскричался. Женшина ушла в слезах. После ее ухода дядя Бума долго сидел молча, мрачно насупившись. Потом, все так же молча, встал, оделся и ушел, ничего никому не сказав. Только по возвращении рассказал, что хорошо сделал, посетив мальчика, у того оказалась тяжелая форма скарлатины.
Прожила я под Одессой полтора месяца. И за это время руку свою долечить до конца мне так и не удалось. Правда, мелкие нарывчики прошли, но уехала я с одним огромным фурунку-лом повыше кисти. Ехала я в поезде одна; дядя Бума просил каких-то знакомых, которые отправлялись в Москву тем же поездом, дорогой за мной присматривать, но не помню, чтобы они хоть раз взглянули на меня. И вообще я их не помню.
За время моего отсутствия в Москве с мамой произошло несчастье. На лестнице, когда она спускалась к парадному выходу, у нее закружилась голова, она упала и, пролетев вниз целый пролет, инстинктивно уперлась правой рукой в стену с такой силой, что сломала руку повыше кисти. Перелом оказался нехорошим, сломаны были обе кости. Руку положили в гипс и сделали это неудачно. Кость срослась неправильно, так что рука осталась искривленной, и мама ею с трудом владела до конца жизни. К моему возвращению гипс был уже снят, и руку лечили массажем. Мама была одна дома; папа находился в санатории под Москвой, в Серебряном бору.
На вокзале я взяла извозчика; но от калитки до дома чемодан мне пришлось нести. От напряжения в это время прорвался мой фурункул, и я вошла в дом в довольно беспомощном положении. На мое счастье, как раз в это время у мамы находилась массажистка — полная, симпатичная дама средних лет. Она оказала мне первую помощь. Этим нарывом закончилась моя эпопея с рукой, новых нарывов не образовывалось, рука излечилась. Эта массажистка потом еще долго к нам ходила, так что мы хорошо с ней познакомились. У нее был молодой сын — калека, с одной укороченной, висящей в воздухе ногой. Я часто его встречала у нас в переулке на двух костылях; за ним всегда шли собаки два коричневых, жесткошерстных фокса.
В день моего приезда произошло одно недоразумение, вызвавшее сильное огорчение и даже гнев папы. Я так хотела его поскорей увидеть, что, бросив все, помчалась в Серебряный бор. А он, в свою очередь, движимый тем же чувством, поехал в Москву. Мы разминулись, и он почему-то крайне болезненно на это отреагировал.
Вскоре после этого папа, легкие которого все никак не поддавались лечению, уехал в Крым, в Гаспру, в санаторий для ученых, принадлежавший ведомству ЦЕКУБУ (так тогда называли управление, которое занималось улучшением быта ученых: Центральная комиссия улучшения быта ученых). В Гаспре он прожил месяц так называемого бархатного сезона. Там отдыхало много писателей — поэт Г.И.Чулков и другие, с некоторыми папа дружил, и ему, кажется, было там приятно. Но поправления опять не вышло. Сохранилась карточка; группа отдыхающих в Гаспре, папа выглядит там совсем стареньким.
На этот раз я решила встретить папу иначе. Он почему-то не любил встреч на вокзале. Поэтому я, подгадав время, вышла на Арбат и пошла по левой стороне в направлении к Арбат-ской площади; расчет мой оказался правильным: вскоре я увидела извозчика, на котором ехал папа со своими вещами. Выдумка моя оказалась очень удачной, папа был в восторге, увидев меня, а я торжественно забралась на извозчика, и мы вместе прибыли домой. Любил меня он в это время просто до страсти. Казалось, вся его способность любви сосредоточилась на черноглазой дочке. Он и любовался мною, и гордился, и ревновал ко всем и ко вся.
После возвращения из Гаспры начался последний период папиной жизни. Жить ему оставалось тогда менее полугода. А ведь он был еще не стар; летом 1924 ему исполнилось 55 лет. Но судьба оказалась к нему милостива, вовремя прекратив его земное существование, которое, если бы он прожил еще 10–20 лет, не могло ему принести ничего, кроме страшного горя и безысходного отчаяния.
Зима 1924–1925 годов началась так же, как проходила и предыдущая. Сережа ходил в университет и все больше отдалялся от семьи, я бегала в школу и по вечерам ходила с папой гулять по арбатским и пречистенским переулкам, сопровождала его в Академию художествен-ных наук. Бывали у нас все те же люди, о которых я писала как о друзьях последнего периода папиной жизни. В декабре 1924-го мы похоронили маминого брата Колю; это несчастье мой папа, его товарищ по университету, перенес очень тяжело.
В сущности говоря, последние месяца четыре жизни моего отца были подготовкой к смерти — духовным уходом из жизни. Объективно его физическое состояние было как будто неплохим, но психически он очень изменился. Это было удивительно. В течение 2–3 месяцев он словно куда-то уходил от нас. Целыми часами сидел в кресле перед своим столом, ничего не делая, молчаливо погруженный в какие-то неведомые думы, далекие от всего окружающего. Часто у него на колене или на ручке его кресла сидел наш серенький котик, к которому он очень привя-зался. Немного он работал, опять вернувшись к Пушкину. Последней его статьей, оставшейся незаконченной, была статья "Плагиаты Пушкина". Но что-то другое, совершившееся в это время в его душе, было, очевидно, главным, и никто не знает, и никто никогда не узнает, что же это было. О чем думала его великая, мудрая душа, расставаясь с жизнью? Смерть его связалась в моих воспоминаниях все с тем же так глубоко им любимым Пушкиным.
В день смерти Пушкина, 11 февраля, в Академии художественных наук должно было состояться торжественное заседание с докладом о Пушкине Андрея Белого. Андрей Белый готовился к этому докладу со страстью. Помнится, он два раза приходил к папе делиться своими планами и советоваться по поводу доклада. Я присутствовала при этих разговорах. Андрей Белый говорил вдохновенно и сам был Удивителен со своим изменчивым лицом, с потрясавши-ми воображение интонациями голоса. Рассказываемые им мысли потрясали своей необычнос-тью, парадоксальностью, гениальной прозорливостью.
Вечер этого пушкинского дня остался для меня незабвенным. Отправились мы в Академию художественных наук торжественно, всей семьей. К нам приехала перед этим Таня и зашла писательница Любовь Яковлевна Гуревич; так что пошли мы большой компанией. Мне запом-нились все мелочи этого вечера, даже то, как я была одета. После возвращения из Германии мне сшили одно приличное синее шерстяное платьице, которое служило мне выходным. Под воротничок я завязывала белый, в голубую крапинку шелковый шарфик, так что получался порядочный красивый бант. Запомнилось мне, как в раздевалке Академии Таня в уголке завязывала мне этот бантик. Сидела я в зале, конечно, рядом с папой и одно время даже на ручке его кресла, так как зал был переполнен и свободных мест не было совсем. Андрей Белый читал лекцию хотя и интересно, но бледнее, чем говорил у нас дома. Все же настроение было приподнятое. А ведь мне было всего 17 лет. Все чувства и впечатления были крайне обострены.
После этого вечера папа прожил всего одну неделю. 17 февраля, вернувшись из школы, я узнала, что он заболел. У него сделались сильнейшие боли в груди, как он показывал, где-то под ложечкой. Вызвали доктора Махоткина, жившего в нашем переулке. Он предположил приступ печени. А боли были такие сильные, что папа временами кричал в голос. Сначала не думали, что это сердечное, тем более что он никогда сердцем не хворал (только несколько раз в жизни говорил, указывая на место под ложечкой, "я умру от этого места" — очевидно, что-то все же он там временами чувствовал).
Так прошел весь день 18 февраля. Я от папы не отходила. В ночь на 19-е Черняки оставили у себя ночевать дядю Якова Захаровича, врача, на всякий случай. Но его визиты были неприят-ны, т. к. он считал, что папа преувеличивает тяжесть своего состояния, проявляя мнительность, и спускался к нам сверху неохотно.
Папа скончался в 6 утра 19 февраля. Эту ночь я сидела возле него, почти все время держа свою ладонь на его лбу. Он говорил со мной. Говорил, что никогда никого не любил так, как меня, что если бы был молодым человеком, влюбился бы в меня за одну линию моих волос вокруг лба. Говорил: "Наташа от меня не отходит, а Сережа не хочет беспокоить себя моими страданиями". Правда, Сережа ни разу к нему не подошел, лежал, не раздеваясь, на диванчике в столовой. Один раз папа сказал: "Как жаль, что нет дома нашего кота, мне было бы легче, если бы он был тут". (А кот в это время несколько дней пропадал, что с ним нередко случалось. Кот вернулся домой, когда все было уже кончено — дня через два-три после папиных похорон. Поведение его в нашем доме первое время было волнующим и удивительным. Он то и дело направлялся в пустую, убранную папину комнату, становился посередине и принимался орать диким, неестественным криком, надрывающим душу.)
Когда папе стало совсем плохо, пришел сверху врач Давид Михайлович. Папа в одной руке держал папиросу, в другой — томик Пушкина, который силился читать. Мы стояли возле него; тут уж и Сережу мама силком притащила. Вдруг папа воскликнул: "Доктор, я уже умер, я уже умер!" И через несколько минут скончался. Я продолжала сидеть возле него и держать руку на его лбу, который постепенно остывал под моей ладонью.
Так настало утро: солнечное, морозное, с ярким, уже по-весеннему, светом. К нам приехала Таня. Почему-то с самого утра, вероятно, часов в 10, мы с ней вдвоем отправились на Арбатс-кую площадь в цветочный магазин за цветами. Никогда не забуду того чувства, которое владело мною в это торжествующе-прекрасное, предвесеннее, морозное утро. Земное, человеческое горе словно еще не дошло до моего сознания. Доминировало ощущение торжественного соприкосно-вения с вечностью, великого, непостижимого для человеческого ума праздника. Это чувство поддерживалось состоянием природы. Оно осталось незабвенным. Потом пришло земное: суета, множество людей, подготовка к похоронам.
Отец мой в то время пользовался такой большой известностью, что проститься с ним приходили сотни людей.
Квартира наша стояла открытой. В средней маленькой комнате поставили ширму, за которой мы прятались. Люди шли сплошным потоком; было много молодежи; время от времени слышались женские рыдания. В Одессу отправили телеграмму. Дядя Бума ответил, что выезжа-ет, прибавив: "Умоляю отложить похороны". Папа скончался в четверг, а похороны состоялись в воскресенье, т. к. ждали приезда дяди Бумы: ведь тогда еще не функционировала гражданская авиация; он ехал поездом.
Как это было ей свойственно, все хлопоты, связанные с папиными похоронами, взяла на себя Ольга Александровна Шор. В том ненормальном состоянии, в котором тогда пребывала моя потрясенная горем душа, я реагировала на самые неожиданные, случайно выхваченные из окружающей жизни впечатления, о которых и напишу. Так, мне особенно запомнилась прелест-ная Ольга Александровна со своей худенькой, подвижной фигуркой, маленькими руками с тонкими пальцами, на которые она даже в сильные морозы не надевала перчаток, говоря, что в перчатках ей холоднее. Запомнилась ее шапочка из обезьяньего меха с украшением вроде паука из оранжевого бисера, которая постоянно лежала, небрежно брошенная Ольгой Александровной, на мамином письменном столике.
Одно воспоминание до сих пор доставляет мне чувство боли и стыда. В какой-то момент, пока папин гроб еще был дома и стоял на письменном столе в его комнате (нашей бывшей детской), пришел Андрей Белый и прошел в эту комнату. Некоторое время он там находился один. Кому-то понадобился стул, и меня попросили достать его, я знала, что в папиной комнате есть свободные стулья и, не подумав, вошла туда. Андрей Белый стоял на коленях у гроба и, когда я вошла, резко вскочил на ноги. Тут я поняла всю чудовищную бестактность своего поступка, воспоминание о котором всю жизнь жжет мою совесть.
Папин гроб перевезли в Академию художественных наук и поставили в большом зале. Гроб был коричневый, дубовый, гладкий. Вокруг головы положили большую гирлянду цветов — белой сирени, которую через день, когда она завяла, заменили новой.
Летом 1970 года, когда я ездила с туристической экскурсией в Италию и два вечера провела в доме Ивановых в Риме, Ольга Александровна рассказала мне, что эту ночь она провела в Академии возле папиного гроба. Ей казалось невозможным оставить его там одного, и она поздним вечером отправилась туда. В пустом здании Академии кто-то все-таки дежурил (кажется, это была секретарша Лидия Павловна, очень преданный папе человек), один за другим пришли еще люди, обуреваемые тем же чувством. Это были Верховский и кто-то второй (я забыла, кого она назвала, — может быть, Гудзия). Рассказала она мне об этой ночи в пустынном, темном здании, о том, как они вместе бодрствовали, как она кормила мужчин найденными ею в шкафу бутербродами.
Приехал из Одессы дядя Бума. Помню, как мы отворили ему дверь, как он рыдал, обнимая и целуя нас.
Пока папа был еще дома, по маминому приглашению к нам приходили из синагоги священ-нослужители — несколько мужчин, которые отслужили над папой короткую панихиду. Не пони-мая слов, я не получила от нее особого впечатления. Меня поразило только то, что, в отличие от христианского обычая, они служили с покрытыми головами и, поминая папу, произносили не только его имя, но и отчество и фамилию. Еще дома с папы сняли гипсовую маску и сфотогра-фировали его.
В воскресенье утром в Академии состоялась торжественная гражданская панихида. Большой зал был переполнен народом. Но речей я не запомнила и кто говорил — тоже; играла музыка, кажется, по приглашению дяди Шуры — Квартет имени Бетховена. Похоронный кортеж на Ваганьковское кладбище проехал через переулок, и у ворот нашего дома была на несколько минут сделана остановка для маленького траурного митинга. Затем он проследовал на кладбище. Для нашей семьи была взята карета, тогда в Москве еще существовали такие, а за гробом шла огромная толпа, растянувшаяся на несколько кварталов.
У могилы снова говорились речи. Мне запомнилось только одно выступление — Алек-сандры Николаевны Чеботаревской, которое носило совершенно ненормально-истерический характер.
А после папиных похорон произошла трагедия. С кладбища Александра Николаевна побежала на Москва-реку и утопилась в проруби. Это самоубийство было проявлением наследственного психического заболевания. Мать Александры Николаевны, ее брат и сестра Анастасия Николаевна (жена Ф.Сологуба) покончили жизнь все одним и тем же способом — утопились. Случайно ли этот поступок Александры Николаевны совпал со смертью моего отца, очень близкого ей человека, или это было толчком тому, что давно подготовлялось у нее внутри, — сказать трудно. Во всяком случае ее ужасная смерть произвела на всех близко ее знавших крайне тягостное впечатление.
А что сказать о нас? Жизнь нашей семьи переломилась. Начался совершенно новый период, и без того тяжелый и еще отягощенный необъяснимым отчуждением Сережи, от чего особенно страдала мама.
А для меня со смертью папы закончился период детства и отрочества.
Началась юность, а с нею — вступление в новый мир существования, в котором у меня лично было немало хорошего, но который, сам по себе, постепенно становился все более пустым и страшным.
Об этой новой жизни писать мне не хочется.
30 декабря 1971 года
М. Л. Чегодаева. Комментарии к воспоминаниям моей матери
Наталия Михайловна Чегодаева (1907–1977)
Моя мать, Наталия Михайловна Чегодаева (свои научные труды она подписывала "Гершензон-Чегодаева"), прожила яркую, и, в общем, вполне счастливую, плодотворную жизнь. Многолетний сотрудник сначала Музея изобразительных искусств имени Пушкина, затем созданного И.Э Грабарем Института искусствознания, доктор искусствоведения, автор нескольких фундаментальных книг и многочисленных статей, она пользовалась в кругу художественной интеллигенции уважением и признанием и как ученый, и как человек высокой порядочности и бескомпромиссной нравственности, душевного благородства и женского обаяния, сохраненного ею до конца дней.
Но мало кто даже из самых близких людей знал, какой трагически-сложной, смятенной и скорбной была ее душа; какие горькие раны несла она в себе — и одной из таких незаживающих ран была посмертная судьба ее отца Михаила Осиповича Гершензона, одного из авторов заклей-менного Лениным и Горьким сборника "Вехи", "буржуазного идеалиста", демонстративно забытого, вычеркнутого из истории русской………
Она писала свои воспоминания об отце в 1952–1954 годах, имя не произносилось, а об издании его книг нельзя помыслить; писала "для себя", не читала никому, кроме дочери и мужа Не из страха — я не знаю людей более муже, более свободных от какой-либо политической зависимости чем мои родители.
С первых лет моей сознательной жизни я знала все, что только можно было тогда знать об арестах невинных людей, об истинной ценности постановлений ЦК КПСС по вопросам искусства, о фальсификации дела врачей… Если у отца еще были какие-то иллюзии в том, что касалось революции, личности Ленина, то у мамы, как мне кажется, было какое-то поразительное, интуитивное — даже не чувство, знание правды истории. Она все понимала и не боялась никого и ничего Прятала же свои воспоминания от чужих глаз, как прячут самое заветное, самое дорогое — навсегда оставшийся с нею и в ней мир дома Гершензона, озаренный радужным светом детства, счастье отцовской любви, общения с отцом, причастности к его мудрости, к его духовной красоте.
Грустно читать горькие строки о ее опустошенной, ссохшейся душе, о ее физической старости. В то время, когда она это писала — и так себя ощущала, она была в глазах всех, кто ее знал, энергичной, увлеченной своей наукой моложавой, да по существу еще и вовсе не старой — ей было тогда 45 лет красивой женщиной с очень счастливой личной и научной судьбой.
В 1949 году после блестящей защиты кандидатской диссертации о Яне Ван Эйке (мама шутила, что она "благополучно спрыгнула на ходу с несущегося поезда") Игорь Эммануилович Грабарь пригласил ее в сотрудники своего института, правда, при условии что она переключится на изучение русского искусства — в эпоху борьбы с космополитизмом заниматься западным искусством практически запрещалось. В это же время ее исключили из секции искусствознания и критики Московского союза художников как "занимающуюся неактуальными проблемами" — творчеством Рубенса, Рембрандта, того же Ван Эйка…
По совету И Э.Грабаря она приступила к работе над творчеством Д.Левицкого, увлеклась этим чудесным мастером и всей великой эпохой русской культуры XVIII века; сделала ряд открытий, восполнивших творческую биографию художника. Была издана ее книга "Левицкий", по сей день не утратившая высокого научного значения… По тем временам такая судьба могла считаться просто неслыханно, блестяще удачной.
В дальнейшем она вновь вернулась "на Запад"; ее лебединой песней стала большая книга о Брейгеле, вышедшая в свет уже после ее смерти.
Ей не довелось дожить до того времени, когда имя ее отца зазвучало вновь с уважением и признанием, книги начали переиздаваться и причастность к семье Гершензона воспринимается как великая честь, выпавшая на долю увы уже только мне, его внучке. Если бы она смогла пред-видеть возможность таких перемен, быть может, ее жизнь была бы радостней, душа спокойней и сами ее воспоминания предстали бы не только ностальгической тоской о прошлом, но и светлым прорывом в будущее. В 1952 году, когда она урывками, почти тайком начала заполнять своим четким почерком первую тетрадь, даже ее не совсем обычная прозорливость не могла преодо-леть непроницаемой власти тьмы.
А ей действительно была присуща провидческая сила, способность угадывать поступки незнакомых людей, их имена… Проявлялась эта сила всегда внезапно, помимо ее воли и неизменно поражала окружающих, хотя касалась обычно вещей маловажных, иногда курьезных. Помню несколько таких случаев В конце сороковых годов мамин дядя Александр Борисович Гольденвейзер, известный пианист, народный артист СССР, был членом Комитета по Сталин-ским премиям, обязан был смотреть все представленные на премию спектакли и часто брал с собой меня — тогда совсем юную девушку. Однажды мы с мамой, провожавшей меня, ждали его у входа в театр Станиславского, и мама вдруг произнесла: "Сейчас пройдет Москвин, за ним Глиэр!" Все так и произошло: мимо нас важно прошествовал Москвин; через несколько минут появился Глиэр Как-то в метро мама, взглянув на хорошенькую девушку, сказала. "Ее зовут Людмила!" Мы проехали несколько лишних остановок, пока не услышали, как спутница девушки назвала ее "Люся"…
Свою судьбу мама предвидеть не умела — всю жизнь ждала чего-то ужасного, рокового, что никогда не оправдывалось. Но смерть свою она действительно предугадала.
Конец ее был поистине мистическим. Она объявила, что, коль скоро ее мать, Мария Борисовна Гершензон, умерла в 69 лет от рака, и она умрет от него же и в том же возрасте.
Привела в порядок все свои дела, передала в Ленинскую (бывшую Румянцевскую) библио-теку архив отца — он много работал в Румянцевской библиотеке, был тесно связан с ней. Подговила к изданию рукопись своей книги о Брейгеле… Никакого рака врачи у нее не обнаруживали; мы с отцом пытались как-то действовать на нее, отвлекать, уговаривать. Ничего не помогало. Она твердо решила умереть, говорила, что не хочет жить дряхлой старухой, что завершила все, что могла, и больше ей жить незачем. В конце концов, у нее действительно открылся……. фактически она болела всего около месяца. Не знаю, то ли она со свойственной ей чуткостью ощущала в себе еще ничем не проявляющуюся болезнь, то ли накликала ее на себя…
Читатель встретит в авторском предисловии к воспоминаниям слова о последней вспышке света, озарившей ее жизнь в 1940–1941 год, в канун войны. Осенью 1940-го после смерти матери Н.М.Чегодаева ушла из музея из-за меня: смерть любимой бабушки вызвала у меня, девятилетней девчонки, что-то вроде нервного срыва и панического страха за жизнь своих близких, от которого я не избавилась и по сию пору. В это время вышел сталинский указ, запрещающий советским гражданам уходить с места работы; маме пришлось прибегнуть к помощи своего дяди А.Б.Гольденвейзера, депутата Моссовета. В архиве отца сохранилась эпиграмма, написанная по случаю встречи Нового, 1941 года Михаилом Владимировичем Алпатовым, известным искусствоведом, другом моих родителей:
Мой дядя самых честных правы, Но службу бросить мне помог И в няньки к Машеньке пристаем — Он лучше выдумать не мог.
Для заработка мама ездила от Союза художников с лекциями по вопросам искусства по разным городам нашей страны и в Грозном встретилась с художником — председателем тамошнего Союза художнике в. Знаю, что фамилия его была Борщев, имени не знаю. Он страстно влюбился в мою мать, и, как можно судить по приведенным строкам, чувство его не осталось безответным. Знаю, что он умолял маму уйти к нему, но у нее была я, она глубоко уважала мужа, Андрея Дмитриевича Чего-даева, да и не в ее характере было легкое отношение к семье Они расстались, а там началась война. В изданном после войны справочнике Союза художников фамилии Борщева не оказалось. Судьба его осталась моей матери неизвестной.
Абрам Осипович Гершензон (1868–1932)
Со старой фотографии смотрят два молодых еврея, типичные еврейские интеллигенты конца прошлого века. Явно два брата, похожие почти как близнецы, только старший, Абрам Осипович, чуть повыше младшего брата Михаила.
Я немногое знаю о семье Гершензонов. Испокон веков жили они в Кишиневе — дед Михаила Осиповича со стороны матери мальчиком 12 лет видел Пушкина, высланного в Кишинев, о чем глубоким стариком рассказывал внуку, водившему его, ослепшего, в синагогу.
Отец, Пинхус-Иосиф Гершензон, был торговцем, брался за разные "гешефты", как правило неудачные, и не слишком счастливо жил со своей Голдой, женщиной властной, сильной, с нелегким характером.
Мечтой отца было дать двум своим сыновьям хорошее образование. Оба в 1887 году окончили кишиневскую гимназию (Абрам был на год старше Михаила, но "зазимовал" в каком-то классе), после чего отец отправил их в Германию учиться — Абрама на врача, Михаила — на инженера. Профессии сыновьям старик выбрал сам: врач и инженер могли в России иметь хорошую работу, не состоя на государственной службе, которая для некрещеных евреев была закрыта.
Выбор отца вполне устраивал Абрама Осиповича, но решительно не устраивал Михаила. В университете во Фрейбурге он предпочитал изучать литературу и немецкую философию, пропа-дал в библиотеках и в конце концов понял, что инженерное дело не для него, взял документы и послал их в Московский университет, с очень малой надеждой попасть в "процентную норму", определенную для евреев. Однако судьба оказалась счастливой: Михаил Осипович был зачислен в Московский университет на филологический факультет.
Самоуправство сына вызвало негодование отца. Он тотчас же представил себе, что филолог не чем иным, как только педагогом, быть не может и, чтобы занять место хотя бы чуть выше учителя в хедере, должен будет креститься. Старик проклял сына и запретил ему показываться к себе на глаза. Все университетские годы в Москве Михаил Осипович содержал себя сам, давая уроки (впрочем, мать тайком от отца посылала ему небольшие деньги). Одиночеством, тоской по семье в значительной степени объясняется то, что Михаил Осипович так "прилепился" к дому Гольденвейзеров.
Курс он окончил блестяще — и отец сменил гнев на милость. Он понял, что сын сможет стать писателем, ученым и таким образом избежать государственной службы и сопряженного с ней крещения.
Закончилась жизнь Пинхуса-Йосифа печально. Прогорев на каких-то неудачных торговых сделках, он на последние гроши уехал в Аргентину, надеясь поправить там дела, но потерпел неудачу и окончательно разорился. В письме, полученном сыновьями, отец рассказал, что, поте-ряв все деньги, вынужден был стать старьевщиком и собирается вернуться домой — палубным пассажиром парохода, идущего в Ниццу. Домой он так и не доехал. Судьба его осталась неизвестной.
Михаил Осипович ездил в Ниццу, пытался что-нибудь разузнать, но кто мог ему сообщить что-либо о нищем старике, видимо, умершем в пути или в каком-нибудь портовом приюте для неимущих!
Абрам Осипович стал известным детским врачом в Одессе, женился на красивой еврейской девушке — Белле Марковне Лазаревой. Знакомство Михаила Осиповича с будущей невесткой было довольно забавным — я не раз слышала о нем и от матери, и от Беллы Марковны. Абрам Осипович перевелся из Германии на медицинский факультет Киевского университета, и Михаил Осипович приехал в Киев повидаться с братом. Адрес квартиры брата был ему почему-то неизвестен, и он пошел разыскивать Абрама Осиповича в университет. Тщетно бродя вокруг университета, Михаил Осипович разговорился с бойким красивым мальчиком, уверявшим, что знает всех студентов. "Так, может быть, ты знаешь Гершензона?" — "Конечно, знаю! Вон он сидит в сквере с моей сестрой"
У Абрама Осиповича было четверо детей. Старший, Саша, умер юношей в 1918 году от брюшного тифа; бабушка, обожавшая внука, не пережила его. Михаил Осипович получил страшную телеграмму о смерти одновременно обоих.
Второй сын, Михаил, в 30-е годы сотрудничал в детских журналах, помешал забавные загадки и шутки в "Мурзилке", написал не забытую до сих пор повесть "Стрелы Робин Гуда". Он погиб в ополчении в 1941 году. Я хорошо знала дочерей Абрама Осиповича — тетю Лену и тетю Надю — и его вдову Беллу Марковну. Довольно земная, эгоистичная и меркантильная в молодые годы, склонная к буржуазности, чем вызывала резкое осуждение Михаила Осиповича, она к старости совершенно переменилась, стала светлой, "возвышенной", самоотверженно живущей для дочерей и внуков.
Жизнь ее была полна тревог: потеряв на фронте сына, она в течение двух лет ничего не знала о судьбе дочери Надежды, оставшейся вместе с мужем в оккупированной фашистами Одессе. Евреи, они по существу были обречены на гибель. После освобождения Одессы Белла Марковна буквально сходила с ума от неизвестности. Опасались за ее больное сердце…
И вот совершилось чудо: пришла открытка от тети Нади к нам на Плотников переулок. Не зная, где могут быть мать и сестра, тетя Надя написала по нескольким знакомым адресам. Помню, разговор мамы с кузиной Леной по телефону: "Леночка, приготовь маму, не потряси ее слишком: Надя жива, пришла открытка…" — и восторженный вопль в трубке: "Мама, Надя жива!!!" От радости не умирают, сердце тети Беллы перенесло такое потрясение.
Дядю Бубу я не знала, хотя он меня видел: в 1931 году приезжал в Москву и даже лечил меня, грудную, от какой-то простуды.
Умер он, как и Михаил Осипович, вероятно, от инфаркта, "грудной жабы", как тогда говорили.
Живет в Москве его внук, сын Михаила Абрамовича, мой троюродный брат Женя, до невероятия похожий лицом на своего деда — и на Михаила Осиповича.
Александр Борисович Гольденвейзер (1875–1961)
Александр Борисович, "дядя Шура", и Татьяна Борисовна (1869–1953) Таня (я называла ее так, как называла бабушка) долгие годы были для моей матери и для меня самыми близкими людьми. После смерти в 1929 году Анны Алексеевны, жены Александра Борисовича, Татьяна Борисовна переехала к нему, вела его дом как радушная и гостеприимная хозяйка, разделяла его известность, его наполненную творчеством и общественной деятельностью жизнь. Судьба судила им — самой старшей и самому младшему из старой семьи Гольденвейзеров — на многие десятилетия пережить всех остальных — оба дожили до глубокой старости.
Многое могла бы я рассказать и о Тане, и о дяде Шуре, рядом с которым прошла вся моя юность вплоть до достаточно взрослого возраста — он скончался, когда мне уже было 30. Но почему-то ярче всего вспоминается мне сейчас один связанный с ними обоими эпизод — встречу в 1942 году на вокзале в Самарканде, куда мой отец и его семья были эвакуированы с Московским художественным институтом.
А.Б.Гольденвейзер был вывезен из Москвы на Кавказ в июле 1941 года вместе с большой группой известных артистов, художников, музыкантов творческой "элитой", "знатными людьми", как именовались в сталинские времена народные артисты, лауреаты Сталинской премии, депутаты и пр.
Были они сначала в Нальчике, потом в Тбилиси, а когда в 1942 году началось наступление немцев на Кавказ, их сочли за благо перевезти в Ташкент. Мы получили телеграмму от А. Б. о том, что их эшелон проследует в Ташкент через Самарканд.
Что означала даже мимолетная встреча в те страшные годы, знают только те, кто сам пережил весь ужас разлук, потери близких, неведения их судьбы. Даже приблизительного времени прибытия эшелона на самаркандский вокзал узнать было невозможно, и мама решила просидеть на перроне столько дней, сколько понадобится, не уходя ни на минуту. Мы с папой все-таки отправлялись домой на ночь, а утром шли обратно — 6 километров. Папа уходил в институт и снова возвращался; мы с мамой сидели весь день в тени вокзальной стены, а мимо нас по путям шли и шли эшелоны — на запад с солдатами и военной техникой, на восток — с беженцами.
В большинстве своем это были люди с Украины, из Польши, без вещей, давно все потеряв-шие, вот уже второй год скитающиеся по стране, гонимые ветром войны. Они выскакивали из душных теплушек и тут же, у вагонов, справляли нужду; выносили больных и изможденных хоть немного подышать воздухом. И с каждого поезда уносили прикрытые тряпьем горестные носилки с теми, кто не вынес…
У меня по сей день стоит в глазах старуха с очень белыми вьющимися вокруг лица волоса-ми — похожая на меня, теперешнюю. Она бессильно лежала прямо на асфальте в тени, а внук, мальчик лет восьми, собирал по перрону абрикосовые косточки, разбивал их камнем и носил ядрышки бабушке. А мы ничем не могли помочь: у нас с мамой у самих не было почти никакой еды, только немного приготовленных для дяди Шуры и Тани фруктов и узбекская лепешка, самое вкусное, что только может представить детское воображение.
Проходили эшелоны с ранеными. С одного сошел моряк — лицо его от глаз вниз было завешено марлей. Он стоял на перроне белый как мел, страшно напряженный и ждал, и вместе с ним ждали все, кто был рядом, молча, тревожно. Но вот в конце перрона показалась девушка. Она бежала, буквально неслась к моряку, он ринулся ей навстречу… Кажется, сам вокзал, все эти вагоны и теплушки вздохнули с облегчением.
Конечно, никаких сообщений о прибытии и отправлении поездов не было, а шло их по всем путям по пять-шесть одновременно, и я все приставала к маме: "Как же мы узнаем наш поезд?" — "Ну, будет торчать в окне какой-нибудь Мясковский, — отвечала мама. — Вот мы и узнаем".
Наконец, в тот момент когда все мы трое были на вокзале, к первому пути подошел поезд, составленный из пассажирских вагонов, и в окне виднелось одно-единственное лицо — Мясковского. Мама выкрикнула ему: "Где Александр Борисович?" — "Через вагон", — и мы помчались туда. Татьяна Борисовна и Александр Борисович, постаревшие, худые, утомленные долгой и жаркой дорогой, в первую минуту показались мне какими-то чужими и даже вроде не обрадовавшимися встрече. А потом настала радость и казалось война вот-вот кончится, и мы будем вместе, и я все беспокоилась: вдруг они не оценят наших гостинцев.
Александр Борисович долго и пристально вглядывался в мое лицо: "Маша изменилась — к лучшему". За тот год, что он меня не видел, я действительно очень изменилась, стала похожа на свою бабушку, его любимую сестру Марусю.
Эшелон простоял около часа. Мы надеялись на большее — в ту пору составы обычно застревали на станциях на долгие часы, но этот поезд явно шел по какому-то особому, привилегированному расписанию.
Вот так мелькнули перед нами на миг дорогие, любимые лица, слава Богу, живые и более-менее здоровые, и вновь исчезли еще на год. Я до сих пор вижу их в том купе — маленьких, старых, беспомощно влекомых куда-то чьей-то волей, неумолимой военной судьбой.
Сергей Михайлович Гершензон (род. 1905)
Второй сын Михаила Осиповича и Марии Борисовны Гершензон (первый Александр, Шушка — умер в 1904 году от туберкулезного менингита четырех месяцев от роду). Брат Сережа… Еще одна горестная рана, всю жизнь омрачавшая для моей матери светлую память ее детства.
Насколько я знаю, Сергей Михайлович вполне преуспел в жизни, большая часть которой прошла в Киеве, на Украине. Крупный биолог-генетик, действительный член Украинской академии наук, он, кажется, обрел мировую известность, дожил до глубокой старости Но горестно и страшно говорить об этом — мало известно мне таких черных "злодеев", словно бы сошедших со страниц романов Диккенса, как мой дядюшка.
Еще юношей он стал отдаляться от семьи, почти порвал с отцом, а после его смерти, живя в одной квартире с матерью, сестрой и ее семьей, практически не общался с ними, всячески подчеркивая, что с "веховским" Гершензоном и его близкими у него, коммуниста, нет ничего общего. Я-то дружила с двумя его детьми — братом Сашей, бывшим года на три старше меня, и сестрой Еленой, Елей, совсем еще малышкой. Их мать, Елена Дмитриевна, тетя Леля, тоже была биологом, милой женщиной лет тридцати.
Где-то в 1937–1938 году случилась трагедия: у тети Лели открылась саркома. Несколько месяцев она мучительно умирала, а в это время Сергей Михайлович завел роман с другой женщиной. Помню, как возмущались взрослые его беззаботной болтовней с этой дамой по телефону (висящему, как подобает в коммунальной квартире, в коридоре), заверениями, что он прекрасно настроен, отлично себя чувствует. В больнице он не показывался — врачи в конце концов просто потребовали, чтобы он пришел к умирающей жене, отчаянно его звавшей. Она умерла при нем, дождавшись, наконец, его появления… Когда в 1940 году умирала его мать, он вел себя точно так же, не пожелав ни увидеться с ней, ни проститься. Едва похоронив тетю Лелю, дядюшка женился. Своим поведением с покойной женой он вызвал такое возмущение своих и ее сослуживцев, что счел за благо взять место в Киеве, которое ему, видимо, еще раньше предлагали, и уехал из Москвы, оставив осиротевших детей на попечение тещи, полусумасшед-шей старухи, решительно непригодной на роль воспитателя. Ненормальность этой бабушки обнаружилась в том, что болезненно, страстно, не зная меры любя внука, она люто возненавиде-ла маленькую внучку, превратила ее в форменную Золушку. Закармливая толстого Сашку пирожными и конфетами, позволяя ему не ходить в школу и по целым дням валяться в постели, она держала Елю впроголодь, била, выгоняла спать в коридор — счастье, что рядом были вторая бабушка и тетка. В конце концов существование Ели стало настолько невозможным, что мой отец написал Сергею Михайловичу, требуя, чтобы он вмешался и как-то решил судьбу дочери. Дядя приехал и забрал ее — сын остался с бабкой. Я никогда больше не видела Елю. Отец запретил ей всякие сношения и с моей семьей, и с братом.
В войну Саша был эвакуирован с бабушкой куда-то в Сибирь. Там бабушка умерла, и он, мальчик лет тринадцати, оставшийся совсем один, отправился в странствия на розыски отца, добрался до него в Новосибирске, куда была эвакуирована Украинская академия наук. Отец не пустил его на порог.
Долгое время родные — моя мать и сестры тети Лели — ничего не знали о Саше. В 1945 году он вдруг появился у нас — тощий, оборванный, грязный, в коросте и вшах. Рассказал скупо, что был бродягой, нищим, шатался по России с такими же, как он, беспризорниками. Тетки отмыли, одели парня, но, привыкший к воле, он через несколько дней сбежал — и был арестован за бродяжничество и беспаспортность (ему уже исполнилось семнадцать), а затем выслан во Владимир — почему-то именно этот город был ему определен судом как место жительства.
Помню, что нанятый тетками и Александром Борисовичем Гольденвейзером адвокат умолял Сашу позволить рассказать о том, как отец-академик выгнал его вон — вероятно, это изменило бы отношение к нему суда, но Саша категорически не позволил. Всю жизнь он любил отца, не сказал о нем ни одного дурного слова, пытался как-то связаться с ним, с сестрами (у Сергея Михайловича родилась от второй жены дочь Злата). Бесполезно. Сергей Михайлович не желал знать ни сына, похожего на него лицом как две капли воды, ни — позже — столь же похожих на него внуков.
Саша не давал никаких поводов для такого отношения. Годы бродяжничества не испортили его: он тянулся к знаниям, много читал, нежно любил родных — мы с ним были лучшими (друзьями вплоть до его смерти в 1996 году от злостного диабета. Тогда, в сороковые, почти сразу после суда и высылки во I Владимир он был призван в армию — та, еще жуковская армия стала для него настоящей школой: он кончил там семь классов, получил специальность радиста; вернувшись во Владимир, поступил в техникум, затем в институт… Прожил прекрасную, достойную жизнь, до конца оставаясь таким же добрым, чистым, умеющим любить и прощать, каким был в юности.
А отец? Я мало знаю о нем, не знаю даже, жив ли он еще. В 1995 году был жив. Какова его научная репутация, не ведаю. Человеческая — все та же. Однажды в санатории "Узкое" мама познакомилась с супружеской парой ученых-биологов. Возникла взаимная симпатия, однако мама чувствовала, что ее новым друзьям что-то мешает держаться с ней просто. Наконец, они не выдержали. "Простите, Наталия Михайловна, за такой нескромный вопрос, но какие у вас отношения с вашим братом?" — "Решительно никаких". Последовал вздох облегчения: "Какое счастье! Вы так нам нравитесь и нам так было тяжело думать о вас как о сестре этого человека!" Не хочется передавать то, что рассказали маме биологи о поведении ее брата в эпоху борьбы с генетикой как "буржуазной псевдонаукой", о его неблаговидной роли в судьбе некоторых ученых-генетиков, его учителей и коллег. Их рассказы — на их совести.
Что еще? Однажды в трамвае напротив меня сел высокий красивый мужчина средних лет с очень знакомым лицом. Он всю дорогу не сводил с меня глаз но не так, как может смотреть мужчина на привлекшую его внимание молодую женщину. Похоже, я тоже ему кого-то напомнила: ведь я похожа лицом и на бабушку, и на него самого…
А имени Гершензона в моей семье больше нет. Когда Саша после армии, в начале пятидесятых годов — времени разгрома Антифашистского еврейского комитета и нагнетания антисемитизма — работал во Владимире на тракторном заводе, ему посоветовали в комитете комсомола сменить фамилию. Он взял русскую фамилию матери, о чем потом очень жалел. Но, может быть, так и лучше? Человек, предавший память отца, отрекшийся от матери и собствен-ного сына, потерял право передать дальше внукам и правнукам имя Михаила Осиповича Гершензона.
Как мог вырасти в семье М.О.Гершензона, в колонии Лидии Мариановны Арманд непорядочный человек с сердцем, обросшим мохом?
В нашей семье существует предание: когда Мария Борисовна ждала своего второго ребенка (только что потеряв первого), ей приснился сон. К ней пришел ангел и сказал: "Ты родишь сына. Назови его Бенедиктом, что значит "благословенный Богом". Бабушка была религиозной, но отнюдь не суеверной женщиной. Имя "Бенедикт" (в православном варианте Венедикт) ей не нравилось; сыну уже было приготовлено прекрасное имя Сергей. Родился ребенок редкой красоты, тонкий, умный, талантливый, воистину отмеченный Богом. "Сережа — маленькое чудо!" — говорил о нем отец. Но… когда отступается Бог, воцаряется кто-то другой. Наверное, все-таки следовало назвать мальчика Бенедиктом. Бенедикт Гершен-зон — совсем неплохо!
…Передавали, что, когда мама умерла, Сергей Михайлович выразил сожаление.
Дмитрий Вячеславович Иванов (род. 1912)
Могла ли думать Н.М.Гершензон-Чегодаева, когда в начале 1950-х писала в своих воспоми-наниях о тоненьком двенадцатилетнем мальчике с изуродованной рукой, какое место в ее жизни и жизни всей нашей семьи займет в 1960–1970 годы этот Дима, какими, едва ли не самыми близкими для нее людьми станут сын и дочь Вячеслава Иванова и Ольга Александровна Шор секретарь и добрый гений писателя и его детей? "Фламинго" называли ее Дима и Лидия, уверяя, что ее розовые крылья осеняют и защищают их своей безграничной добротой…
Ольга Александровна, человек причастный литературе, была близким другом Гершензонов и всего круга писателей и философов Серебряного века. На фотографии похорон Михаила Осиповича можно видеть ее, стоящую у гроба с прекрасным скорбным лицом. Вскоре после того она уехала в Италию, куда в 1924 году эмигрировал Вячеслав Иванов, и прожила с ним и его детьми до конца жизни, редактировала и издавала его труды, свято хранила его память. Диму она буквально спасла: он унаследовал от Веры тяжелую форму туберкулеза, несколько лет лечился в Давосе, в Швейцарии, и Ольга Александровна не отходила от него, выхаживала и опекала как родная мать.
Дмитрий совсем поправился, окончил Сорбонну, стал журналистом, французским коррес-пондентом в Италии. Когда началась война, он как французский подданный должен был верну-ться во Францию, но был освобожден от военной службы — изуродованная в детстве правая рука, возможно, спасла ему жизнь.
Обо всем этом мы узнали много позже. В течение 1930-1940-х годов Гершензоны не имели никаких сведений ни об Ольге Александровне, ни о Вячеславе Иванове и его семье. Доходили смутные слухи, что Вяч. Иванов принял католичество, стал чуть ли не кардиналом… Кардиналом он, разумеется, не стал, но католичество принял, хотя и с православием не порывал до конца, придерживаясь очень широких эйкуменических взглядов; работал библиотекарем в библиотеке Ватикана вплоть до прихода к власти Муссолини, запретившего лицам иностранного происхождения состоять на службе.
В 1949 году дошло до Москвы известие о смерти Вяч. Иванова. Не помню точно, в каком году — вероятно, 57-м или 58-м к Александру Борисовичу Гольденвейзеру явился московский корреспондент французской газеты "Франс суар" и французского радио Дмитрий Вячеславович Иванов, известный журналист, писавший под псевдонимом Жан Невсель (он легко получил французское подданство, так как родился во Франции, в местечке Невсель, откуда и пошел его псевдоним), друг генерала де Голля и папы Иоанна XXIII, о котором написал большую книгу, командор ордена Почетного Легиона…
Александр Борисович дал ему мамин телефон; они с мамой встретились на выставке Врубеля и однажды он появился у нас в Плотниковом переулке тонкий, изящный человек, говорящий по-русски с чудесной старомодной правильностью, похожий на отца, хотя и не отличающийся тем неотразимым мужским обаянием, каким, по маминым словам, отличался Вячеслав Иванов.
Помимо желания возобновить старые связи у Дмитрия Вячеславовича в отношении мамы был, как он утверждал, мучивший их все эти годы долг: в течение тридцати лет во всех странах мира многократно переиздавалась "Переписка из двух углов" М.Гершензона и В.Иванова, и гонорары от изданий доставались их семье. Понимая, что передать маме ее долю в виде валюты невозможно и даже опасно (иллюзий о нашей стране у опытного журналиста не было никаких), Дмитрий Вячеславович спросил, в какой форме мог бы он компенсировать этот долг? Мои родители, конечно, от всего отказывались, Дмитрий Вячеславович настаивал, наконец, отец признался, что был бы рад, если бы Дмитрий Вячеславович достал ему две-три книги, изданные во Франции и Италии и нам недоступные, в частности томик Бодлера из "Библиотеки Плеяды", дивного издания французской классики. Хорошо помню следующее появление у нас Дмитрия Вячеславовича: он буквально сгибался под тяжестью огромного рюкзака, набитого чуть не сотней книг — всеми томами "Плеяды", какие только вышли в свет к тому времени, и еще другими прекрасными изданиями по искусству.
В течение всех последующих лет дружба с Дмитрием Вячеславовичем, его сестрой Лидией Вячеславовной, известным в Италии композитором (до отъезда из России она училась в Московской консерватории у А.Б.Гольденвейзера), и Ольгой Александровной Шор была одной из самых светлых, радостных страниц в жизни моей матери. Она неоднократно ездила к ним в Рим, и одна, и с моим отцом. Ее последние предсмертные строки, адресованные самым близким людям, начинались с обращения к Ивановым и Ольге Александровне…
"Моей римской семье.
Родные мои, любимые, любимые, светлые!
О, если бы я могла, как вы, верить, что ухожу ко Христу, а не проваливаюсь в черную бездну! Ваша вера, ваша любовь были светлым лучом, осветившим последние годы моей жизни. Поистине, для меня это был "Свет Вечерний". Спасибо, спасибо вам, спасибо!
Ольга, отслужи в своей православной церкви заупокойную службу за мою грешную душу.
Прощайте, прощайте, родные!
Прощай, моя дивная Италия!
О, розовые крылья Фламинго! Как я любила вас, как верила в вашу мистическую силу! Верила до последнего своего вздоха".
Ольги Александровны и Лидии Вячеславовны уже нет в живых. Дмитрию Вячеславовичу — теперь уже моему близкому другу и другу моих сыновей — 17 июля 1999 года исполнилось 87 лет. В тот самый день, когда я писала эти комментарии и думала о нем, беспокоилась — как он, поскольку давно не имела от него никаких известий, вдруг вечером раздался телефонный звонок из Рима: Дмитрий Вячеславович сообщал, что летит в Москву на вечер памяти Вячеслава Иванова, посвященный пятидесятилетию со дня его смерти. В самый день смерти — 16 июля — в Новой опере в саду Эрмитаж состоялся концерт. Вел его известный литературовед Николай Котрелев; сидел на сцене за столиком вместе с Дмитрием Вячеславовичем — постаревшим за то время, что я его не видела, ссохшимся и ссутулившимся, но светящимся какой-то удивительной духовной красотой. Читались стихи Вячеслава Иванова, исполнялись романсы на его слова Лидии Вячеславовны. Звучала музыка Скрябина, с которым Вячеслав Иванов дружил, Бетхове-на, которому посвящал проникновенные строки. Дмитрий Вячеславович прочел изящное поэти-ческое эссе, достойное пера его отца, о жизни их семьи в Риме, в старом доме на Авентине, о том, как после ночи творчества Вячеслав Иванов читал им свои новые стихи, о звучащей постоя-нно в доме музыке Лидии, о философских записках Ольги Александровны. О прекрасной, легкой смерти "в одночасье" Вячеслава Иванова и о том, как в последний раз проследовал он на катафалке, запряженном лошадьми, по благословенным улицам Рима…
Дом в Плотниковом
Дом Елизаветы Николаевны Орловой в Плотниковом переулке, построенный в 1912 году известным московским архитектором А.Ивановым-Шицем (он, между прочим, построил здание нынешнего театра Ленкома на Малой Дмитровке бывший Купеческий клуб), прожил человеческий срок жизни — чуть больше шестидесяти лет и погиб в конце 70-х, когда на его месте воздвиглась под тем же номером 13 розовая "вышка" цековского жилого дома — та самая, с балкона которой бросился после подавления путча 91-го года управделами ЦК (кажется, такова была его партийная должность?) товарищ Кручина. В 70-е немало было таких сносов старых особняков в тихих арбатских переулках: партийная элита потихоньку вытесняла с Арбата старую московскую интеллигенцию и либо строила себе новые дома повышенной комфортнос-ти, либо восстанавливала для себя роскошные квартиры доходных домов, расселяя по дальним московским окраинам жильцов этих "коммуналок".
В коммуналку была превращена и бывшая квартира М.О.Гершензона. Я знала ее только такой — заселенной несколькими семьями, давно утратившей благородный дух, некогда приданный обители Орловой талантливым архитектором.
Елизавета Николаевна явно строила свой дом увлеченно и со вкусом. Я помню дом уже надстроенным, но фасад, обращенный к переулку, сохранился нетронутым — асимметричный, с самой выразительной и характерной деталью парадным входом, оформленным в виде углубленной внутрь террасы с низкой аркой, поддержанной справа одной толстой колонной, зрительно уравновешенной овальным окном в левой части террасы. Над террасой располагался широкий балкон, а левую часть фасада "держал" красивый трехгранный выступ с большими окнами, напоминавший мелким переплетом английские дома.
Что-то английское было и в планировке квартир, расположенных в два этажа с внутренни-ми лестницами. На всем облике дома лежал отпечаток индивидуальности, вкуса, возможно, не столько архитектора, сколько хозяйки, строившей этот дом для себя и для самых близких, дорогих ей людей. Вероятно, этот дом — хороший образец московского архитектурного "модерна", был одним из лучших созданий А.Иванова-Шица.
В 30-е годы дом надстроили. На месте чердака и бывших комнат деда сделали квартиру и еще два этажа над ней. Уничтожили в нашей квартире черный ход, и вместо него получилась еще одна крохотная комнатушка, куда тотчас был вселен новый жилец. Во время надстройки совершенно вытоптали и вырубили сад — я помню его уже только пустырем.
До войны квартира еще как-то сохраняла родственный облик: в ней жили семья моей матери (в бывшей детской и маленькой проходной), семья ее брата (в бывшей столовой) и Вера Степановна Нечаева, ученица Михаила Осиповича, которой он в первые годы революции, когда власти потребовали "уплотнения", отдал бывшую спальню. В бывший кабинет деда был вселен еще один его ученик — литературовед Яков Захарович Черняк В комнате прислуги за кухней до 40-го года жила Елизавета Николаевна.
Процесс окончательного оформления квартиры в коммуналку завершился в годы войны, когда в октябре 1941-го в нее вселили людей из разбомбленных домов. Бомба упала и в наш двор; стекла вылетели, осколок врезался в стену — прямо над моей детской кроваткой. В те дни мы с мамой были в эвакуации, папа — в ополчении. Остававшийся в Москве друг и учитель моих родителей известный искусствовед Виктор Никитич Лазарев забил окна фанерой и запер наши комнаты, чем сохранил их от заселения и спас от неминуемого уничтожения в печке нашу библиотеку, в том числе книги деда.
Вернувшись из эвакуации в 1943 году, мы застали квартиру заселенной десятком новых людей. В бывшей столовой, где раньше жили Сергей Михаилович, а потом Саша с бабушкой, теперь жила семья погибшего на фронте солдата старуха-мать и молодая вдова с двумя детьми. В "прислужьих" комнатах (комнату Лили поделили на два крохотных "купе") обитали в одной — мать с сыном, в другой — старуха-тетка с племянником. Хуже всего жилось в комнате, переделанной из черного хода: на восьми метрах жили еще нестарые родители и молоденькая дочь с мужем и грудным ребенком.
Мы были просто барами: у нас было две комнаты, что по коммунальным меркам считалось неслыханной роскошью. В бывшей спальне жила, как и раньше, В.С.Нечаева с сыном Димой — моим ровесником, другом детства. Черняки после надстройки дома получили квартиру в другом конце Москвы, на Таганке.
Мы были неплохой квартирой. У нас не было серьезных ссор; никто не подсыпал окурков в чужие щи, и все мы кротко терпели, когда соседская Танька или закухонный племянник Мише-нька — вылитый Остап Бендер — часами трепались по телефону. Но ощущение бесхозности, случайности, как в поезде, где на миг соединились чужие и, в общем, ненужные друг другу люди накладывало отпечаток на весь наш быт.
Мы так за всю мою юность и не собрались сделать ремонт на кухне и в коридоре. Спокойно мирились с закопченным дочерна потолком, ржавыми слезящимися трубами, раковинами, куда страшно было уронить очищенную картофелину, с тараканами, клопами, крысами… Крысы — обильное потомство прабабки, таскавшей когда-то отрадинские яблоки — устроили себе нору под потолком: очевидно, это был лаз из верхней квартиры, и по вечерам спокойно, одна за другой поднимались по трубе, причем последняя обязательно оставляла спущенным из норы длинный голый хвост. Как-то папа прижал его палкой от щетки — оскорбленная крыса тут же втащила его в нору. На крыс не было никакой управы; их ничуть не беспокоило наличие соседского Барсика. Впрочем, этот пушистый красавец славился своей трусостью.
Но и в этом, изменившемся до неузнаваемости, загаженном доме шла яркая подчас жизнь, бывали интересные люди. Я 3.Черняк дружил с Борисом Пастернаком, и тот нередко бывал у него. К Вере Степановне приходили литературоведы Д.Благой, М.Цявловский. У нас за тем же, перенесенным из столовой столом, под тем же белым абажуром (Собирались художники, искусствоведы; бывали В.Лазарев, М.Алпатов, М.Ильин. И загорались новогодние елки, и замирали детские сердца в предвкушении счастья. Вера Степановна до войны устраивала нам чудесные праздники, ставила спектакли, в которых артистами были ее сын Дима, брат Саша, я и она сама, явно не лишенная актерских способностей.
А после войны в наших двух комнатах собирались мои школьные, а потом институтские друзья…
В середине 50-х в Москве стали возникать жилищные кооперативы. Мои родители, сотруд-ники института Грабаря, входившего тогда в систему Академии наук, вступили в академический кооператив, и в 1959 году мы навсегда покинули дом в Плотниковом переулке, уехали на юго-запад, в Черемушки, словно бы в какой-то незнакомый город. Вместе с нами в тот же дом (тогда — последний в районе, дальше простирались поля) переселились и Вера Степановна с Димой, его женой и старшей дочкой. Младшая стала одним из первых детей в новом доме. Самая близкая, родственная часть нашей коммуналки не распалась, осталась рядом навсегда — до смерти мамы и Веры Степановны, до смерти Димы.
Странное чувство сопровождало отъезд: счастье обретения отдельной квартиры заглуша-лось глухой ностальгической тоской и чувством какой-то смутной вины. Не просто кончался огромный период жизни, оставались словно бы на том берегу детство, юность, тени дорогих людей. Мы предавали свой дом, бросали на неминуемую гибель…
Когда мы выехали, наши бывшие комнаты тотчас заняла семья, теснившаяся впятером на восьми метрах. Никакого ордера у них не было, но, кажется, жилищные власти не посмели их выгнать Слишком уж чудовищно было их существование! Что сталось с ними и остальными жильцами после сноса дома не знаю. Вероятно, расселили в хрущевские пятиэтажки куда-нибудь в Коровино-Фунькино…
Перед отъездом мама своими руками разбила белую люстру, висевшую когда-то в гершензоновской столовой.