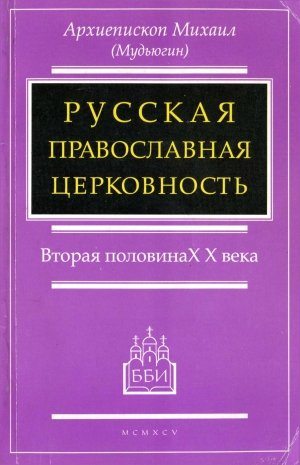
Предисловие
Проезжая по России, посещая ее города и села, даже самый далекий от православия, а впрочем и от религии вообще, путешественник не может не заметить зданий с куполами и колокольнями, увенчанных крестами. Таких зданий, каменных и деревянных, в дореволюционный период было очень много, особенно в старинных русских городах; после Октябрьского переворота число их стало сильно уменьшаться, к концу Великой Отечественной войны снова несколько возросло, в 60–е гг. резко сократилось, теперь вновь заметно растет.
Как читатель уже догадался, речь идет о храмах, по преимуществу православных. Православными называют себя большинство их посетителей. Что означает для них вера? Для одних православие — это торжество архиерейской литургии, где на глазах у переполняющей храм толпы опытные священнослужители выполняют сложные, прекрасные в своей непонятности обрядовые действия; для других православие — это прежде всего благостный лик на иконе, озаренный умилительно слабым огоньком лампады. Для иных православие — заполняющая храм изысканная духовная музыка, исполняемая солистами под аккомпанирующий рокот мощного хора, а для других — затейливая вязь древнего знаменного распева, строгие звуки которого доносятся с заполненного черными фигурами монастырского клироса. Православие — это и монотонное чтение псаломщика в буднично пустой полутемной церквушке, но это и радостное движение сердца в ответ на раздающуюся с амвона проповедь. В православии совмещаются слезы умиления при чтении покаянного канона священником, стоящим перед черным аналоем, и ликующий взрыв пасхальной радости, когда из того же храма, залитого теперь ослепительным светом, в безбрежное море огней, мерцающих в руках осаждающих храм людей, выходит крестный ход.
Многообразны и бесконечно богаты наши православные богослужебные впечатления и молитвенные переживания! Но ведь это все эмоции, и трудно различить, где кончается любованье произведениями живописи и начинается молитвенное умиление, где музыкальное переживание гармонической стройности и мелодического рисунка превращается в молитву, динамическая вовлеченность в которую с большой силой воспроизводится звуковым потоком мистически проникновенной музыки.
Но если не отрываться от реальности, то нужно признать, что для большинства посетителей православных храмов, для тех, кто по тем или иным причинам считают нужным переступать через церковный порог, оказывается недоступной не только мистическая глубина молитвенных переживаний, но даже элементарный язык внешних средств церковной выразительности.
Если же говорить о всей массе населения, называющего себя православным, то даже переступать церковный порог многие не считают нужным, хотя не отрицают свое «православие», т.е. свою принадлежность к Православной Церкви. Они предпочитают оставаться дома — одни по состоянию здоровья, другие по действительной или воображаемой загруженности делами, а кое–кому даже сама идея провести два часа в храме представляется нелепой, оправданной в крайнем случае, лишь как удовлетворения обыкновенного любопытства. Религиозное значение воскресных и других праздничных дней настолько стерлось из сознания этих «православных» людей, что в храме их можно увидеть разве что по случаю крещения младенца или при отпевании ушедшего из жизни родственника.
В Древней Церкви условием постоянного, пожизненного сохранения церковной принадлежности, кроме принятия таинства крещения, в неменьшей степени являлось участие еще в одном великом церковном таинстве — в святой евхаристии, участие уже не однократное, как крещение и миропомазание, а целожизненное и регулярное. Это установление сохраняет силу и в настоящее время (ибо его никто не отменял), однако множество православных русских людей десятками лет не подходят к святой чаше и при этом не только сами продолжают себя считать членами Церкви, но и окружающим не приходит в голову сомневаться в их церковной принадлежности.
Невольно возникает вопрос: те, кто в таинствах Церкви участия не принимают, Словом Божьим, которое содержится в Священном Писании (т.е. в Библии) и которое Церковь преподает, не пользуются и даже в храмах Божьих показываются только от случая к случаю, — имеют ли такие люди основание считать себя православными в реальном значении этого слова, т.е. «право», или «истинно» славящими Бога?
Дает ли такая поверхностная воцерковленность этим людям основание считать себя принадлежащими к Церкви, к народу избранному, царственному священству (1 Петр 2:9) только потому, что они формально отличаются от общего атеистического окружения? Ведь осознание себя православным часто основывается не на глубинных религиозных переживаниях и даже не на церковном поведении и жизненном укладе, а только на факте совершения крещения по принятому в Православной Церкви чинопоследованию, притом, разумеется, священником, той же Церковью посвященным и ею же на служение поставленным. Именно совершение таинства крещения в недрах той или иной христианской Церкви, в данном случае Православной, дает формальное обоснование считать крещеного человека ее членом.
Конечно, принадлежность к той или иной Церкви, будь то Православная, Римско–католическая или какая–либо из протестантских, имеет, как известно, не только канонический, сакраментальный и вероучительный аспекты; в лице множества своих иерархов, богословов и большей части сознательно верующих мирян Православная Церковь убеждена не только в своей благодатности и канонической законности, но и в истинности своего вероучения в отличие от других христианских вероучений, большинство которых теми же иерархами, богословами и мирянами отвергаются как неправильные, ошибочные, а кое в чем даже еретические. Отсюда само слово «православный» обретает значение правильности — взглядов, убеждений и всего вероучения в целом. Такой аспект понятий — «православный человек», «православная церковь», «православие» — явился поводом для возникновения всей этой терминологии: Церковь стала именовать себя Православной в отличие от других Церквей — хотя и христианских, но не православных, т.е. хотя и прославляющих Бога на основе христианского учения, но прославляющих не «православно», а «инославно».
Здесь мы считаем уместным сказать наконец, что для обозначения церковной принадлежности Богу через Господа Иисуса Христа существует другой термин, к которому само слово «православный» является лишь прилагательным и без которого оно теряет всякий смысл: это слово — христианин.
В самом деле, мы, как общеизвестно, не просто «православные», а «православные христиане», и наша Церковь не просто «Православная», а «Православно–христианская Церковь», состоящая из множества православных христиан, проживающих в различных странах, принадлежащих разным народам, разным национальностям и одновременно являющихся ее членами.
Наименование всех учеников Христовых, всех, кто через веру во Христа и принятие крещения вошел в Церковь Христову, «христианами» сугубо первично, ибо, как свидетельствует о том Священное Писание, это священное именование начало употребляться в самые первые годы существования христианской общины, почти сразу же после сошествия на учеников Христовых Святого Духа, т.е. сразу после возникновения Церкви Христовой. В своей книге «Деяния Апостолов» евангелист Лука упоминает об этом: «ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами» (Деян 11:26).
Прилагательное «православный» стало в качестве определения присоединяться к существительному «христианин» (равно как и к существительному «Церковь») много позднее, в периоды обострения сначала антиманихейской и антигностической, а потом антиарианской полемики, когда для Церкви оказалось необходимым отмежеваться от еретиков, тоже именовавших себя христианами, но своими лжеучениями подрывавших самые основы христианской веры.
Однако высокая ценность звания «христианин» не только в его библейской обоснованности и первичности, но также и в практической необходимости выделять крещеных, исповедующих свою принадлежность ко Христу людей из всего человеческого рода, большая часть которого Христа или не знает, или не принимает. Но наивысший смысл и глубочайшее значение этого звания для нас в том, что оно предельно кратко и ясно выражает нашу приверженность ко Христу как к нашему Господу и Спасителю.
Тем более наводит на печальные размышления факт, что в обиходе многих Церквей именование их «христианскими», а их членов «христианами» теперь почти не применяется: на вопрос о религиозной принадлежности обычно можно услышать — «православный», «католик», «баптист» или что другое, и очень редко — «христианин». Даже в богослужебных ектениях мы слышим: «Еще молимся о всех преждепочивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду, православных». Лишь в одной, редко произносимой ектений говорится: «Еще молимся за всю братию и за вся христианы».
Что же касается православия в самом высшем значении этого лова, то мы с благоговейным трепетом осмеливаемся утверждать, что самым Православным Человеком был, есть и остается навеки Господь наш Иисус Христос, ибо Он всем Своим Богочеловеческим существом прославил и прославляет Отца Небесного, о чем Сам сказал в Своей Первосвященнической молитве: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин 17:4). Это величайшее дело Он, как известно, завещал Своим ученикам, т.е. всем членам Своей Церкви (Ин 14:12, 20–21). Он призывал их быть светочами, жизнедеятельность которых побуждала бы всех к прославлению Отца Небесного (Мф 5:16). Апостол Павел, этот величайший провозвестник и учитель веры, разъяснял, что прославлять Бога надо душой и телом, т.е. всем своим существом (1 Кор 6:20). Наконец, важнейшая, самая великая, самая основная заповедь, преподанная Богом уже в Ветхом Завете и Христом названная «первой» и «наибольшей», призывает любить Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением (Втор 6:5; Мф 22:37,38). Вероятно, никто из читателей Библии никогда всерьез не сомневался, что именно в такой, объемлющей всего человека любви состоит истинное, угодное Богу Его прославление, иначе — настоящее, действенное православие, которое приводит к Богу и действием Святого Духа соединяет с Отцом Небесным через Сына Божьего Иисуса Христа всякого, кто хочет жить в Боге и с Богом (1 Ин 4:16).
Единение Сына Божьего с Его последователями, с Его учениками происходит в исполнении ими Его заповедей, в продолжении ими Его дела (Ин 14:12,21,23). Ведь добрые дела, к совершению которых ученики Христовы призваны (Еф 2:10), только потому побуждают к прославлению Отца Небесного (Мф 5:16), что совершаются ими в единении с их Главой и Учителем, без Которого они не могут делать ничего (Ин 15:5) и потому все искренно, горячо, разумом и сердцем в Него верующие участвуют в прославлении Им Отца, т.е. участвуют в Его «право–славии». Ибо жизнь вечная, дарованием которой Сын Божий прославил Своего Отца, и состоит в познании «единого Бога Отца и посланного Им Иисуса Христа» (Ин 17:3). Это познание не только в формальной принадлежности к тому или иному из христианских вероисповеданий, не в холодном признании тех или иных вероучительных истин, а в устремлении умом, сердцем и волей к Богу Отцу, через Сына Божьего Иисуса Христа действием Духа Его Святого.
Предлагаемый труд — не учебник и не изложение догматического вероучения. Он написан на основе опыта личной церковной жизнедеятельности и представляет собой попытку правдиво обрисовать некоторые явления церковной жизни с точки зрения их соответствия основной задаче Церкви Христовой — звать, направлять и вести людей к Богу, в жизнь вечную, дарованную нам Сыном Божьим Иисусом Христом.
Жизнь Церкви во многом воспроизводит земную жизнь Самого Иисуса Христа (Ин 15:20), и как Христос подвергался многим искушениям, так искушениям подвергается и Его Церковь в лице ее членов, общин, епархий и даже Поместных Церквей. И если Церковь как таинственное Тело Христово остается единой, святой, кафолической («соборной») и апостольской (Никео–Константинопольский Символ веры), то ее органы и, конечно, отдельные члены подвержены опасности заблуждений и грехов.
Людям свойственно свыкаться со своими грехами, тем более с ошибками и отклонениями, притом не только не замечать, но даже любить их. Вот почему церковные люди часто предпочитают проходить мимо церковных недостатков, мимо отрицательных сторон церковной жизни. Им хочется верить, что все, совершаемое в Церкви, в частности, в храмах, то есть там, где находится средоточие православной церковной жизни, — непогрешимо, безошибочно, идеально. Даже если вкрадывающиеся в церковный обиход проявления обрядоверия, суеверия, нередко прямые искажения новозаветного учения Христова (а оно ведь и составляет вероучительную основу истинной церковности) бросаются в глаза, многие из православно воспитанных людей стараются их не замечать или (что много хуже) считают их столь же неотъемлемо присущими истинно православной церковности, как и основные вероучительные и нравственные положения, которые содержатся в Священном Писании и в Священном Предании Церкви.
В результате в сознании православного человека обряд нередко занимает первое место, а сущность таинства становится чем–то второстепенным либо о ней и вовсе забывают.
И тогда произнесение («вычитывание») молитв, предусмотренных уставом, начинает казаться многим более важным, чем их осмысленное переживание.
И тогда апокриф, т.е. сказание или предание, Церковью не принятое или даже отвергнутое, становится более популярным чтением и пользуется большим доверием и авторитетом, чем Священное Писание.
И тогда великий, святой, спасительный, божественный облик Христа Спасителя заслоняется обличиями и заповедями человеческими (Мф 15:9).
Не пора ли начать говорить правду?
Ведь именно боязнь правды налагает печать молчания на церковных людей, болеющих душой за свою Церковь и искренно желающих ее освобождения от всего, что препятствует спасительному воздействию на вверенные ей Богом человеческие души, на членов тела Христова (1 Кор 12:27).
I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Об историческом наследии
Когда–то, много веков назад, жизнь русского человека была проникнута православным мироощущением. Молитвы утренние и вечерние, краткие, совершаемые по нескольку раз в день до и после приема пищи, молитвенные обращения к Богу по разным случаям: например (см. молитвослов) «перед началом всякого доброго дела», во многих семьях — ежедневное чтение вслух Священного Писания, «славление», т.е. молитвенные посещения дома священником по большим праздникам, наконец, по воскресным и по другим праздничным дням походы всей семьей в храм, — все это придавало церковную окраску буквально каждому моменту жизни человека.
К этому надо прибавить участие в частных богослужениях, совершавшивхся нередко в домашних условиях при всех сколько–нибудь выдающихся семейных и личных событиях: сюда относятся крещение детей, молебны и панихиды по разным случаям и памятным дням, наконец, отпевания усопших родных и близких.
Важнейшее место в жизни православного христианина занимали такие стимулирующие духовное развитие переживания, как нередкие причащения Тела и Крови Христовых с предшествующей исповедью. Быт упорядочивался чередованием постных и скоромных дней, даже целых периодов (масленица, Великий и другие посты, «сплошные» недели, в том числе пасхальная, «святки» и другие), отличавшихся большим многообразием народных обычаев, регулировавших и обыденную, и сакральную стороны жизни.
Трудно определить, в какой степени все это совершалось с должным благоговением и усердием и сопровождалось настоящей молитвой, которая есть не что иное, как «устремление ума и сердца к Богу»[1] Можно, однако, считать несомненным, что пронизанная церковными установлениями жизнь православной семьи оказывала постоянное мощное воспитательное воздействие на личность человека во всей ее многогранности.
Конечно, все это протекало в условиях патриархального уклада взаимоотношений, освящаемого Церковью. Но верно и обратное: сама патриархальность уклада обеспечивала соблюдение установленных и укоренявшихся веками норм церковного оформления трудовой и семейной жизни. Тем самым личная свобода в религиозной сфере практически сводилась на нет: даже такой, с современных позиций, сугубо личный акт, как вступление в брак и сами супружеские отношения определялись, как правило, волей родителей, прежде всего, главы семейства, а в условиях крепостного права также согласием владельца «человеческих душ», т.е. помещика (или игумена, если говорить о монастырских крестьянах). Однако православные люди тех времен других моделей жизненного поведения не знали, и потому их воля только в редких случаях вступала в конфликт с установившимся стереотипом отношений.
Из всех элементов этого пронизанного церковностью уклада к настоящему времени сохранилось более или менее устойчиво только посещение богослужений в храмах. Лишь очень небольшая часть верующих молится в домашних условиях; Священное Писание и вообще духовную литературу тоже берут в руки сравнительно немногие. Большинство церковно верующих людей практикует только нерегулярное посещение общественных богослужений по праздничным и памятным дням с эпизодическим участием в таинстве евхаристии, а также совершение «заказных» частных богослужений («треб»).
Внешние условия недавнего прошлого
В годы гонений большинство людей, особенно деревенских жителей, чтобы посетить «ближайший» храм, вынуждены были преодолевать десятки и даже сотни километров, почему и богослужения оказывались недоступными. Как известно, в период хрущевского гонения (1960–1964 гг., а по инерции и в последующие два десятилетия) совершение треб в домах было запрещено: крещения, отпевания, панихиды, молебны, освящения домов — все это в жилых помещениях можно было совершать только с особого разрешения райисполкома в каждом отдельном случае. Не попали под запрет только домашние исповедь и причащение, а также соборование тяжелобольных. Однако православные так были запуганы многолетними репрессиями, так свыклись с ограничениями вероизъявления, что лишь немногие решались пригласить священника в дом, опасаясь не только административных неприятностей, но и столкновения с недоброжелательно настроенными соседями, атеистами или хотя и верующими, но чрезмерно боязливыми. Последствия ограничений и запугиваний сказываются на поведении верующих и поныне.
Если приход священника в частную квартиру был связан с затруднениями, то причастить больного, даже умирающего в больнице было практически почти невозможно, хотя законом разрешалось. Настойчивым родственникам в этих случаях, чтобы преодолеть сопротивление больничного начальства, приходилось, пользуясь ходатайством своего архиерея, обращаться к местному уполномоченному Совета по делам религий и иногда удавалось добиться желаемого результата.
С начала 1991 г запреты на совершение богослужений в частных домах и даже в учреждениях (в больницах, местах заключения и др.) были сняты, но люди отвыкли от общения со священником в домашней обстановке, и даже к умирающему родные не догадываются вызвать из ближайшей церкви священника для духовного напутствия.
Оценивая объективную ограниченность возможностей Русской Православной Церкви, нельзя упускать из вида главный из многочисленных факторов: действовавший в течение семи десятков лет закон 1918 г. об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Сразу после вступления в силу этого закона уже в 1918 г. были закрыты почти все домовые церкви и, таким образом, регулярного духовного окормления лишились больные в больницах, заключенные в тюрьмах и лагерях, учащиеся в школах и университетах. Прекратилось преподавание в школах религиозного вероучения («Закона Божьего») и даже на дому наставлять ребенка (что при наличии достаточной родительской инициативы законом допускалось) стало для священника небезопасным. До 1943 г., когда необходимость мобилизации и сплочения всех сил народа для отражения внешнего врага заставила Сталина и возглавлявшееся им Политбюро несколько ослабить давление на верующую часть населения и на Церковь, не работали духовные учебные заведения и, следовательно, в течение 25 лет не было возможности готовить смену духовенству, которое к этому моменту было почти целиком истреблено расстрелами, лагерями, ссылками, всеми видами безудержного гонения и насилия. Отсутствовала тогда и церковная печать: первые номера Журнала Московской Патриархии — единственного печатного органа Православной Церкви в течение многих последующих лет — вышли опять–таки только в 1943 г.
В еще худшем положении находилось церковное книгоиздание: с 1917 до 1956 г. не был напечатан ни один экземпляр Священного Писания, да и впоследствии из анекдотически малых тиражей добрая половина направлялась за рубеж, пополняя там библиотеки, создавая избыток печатного Слова Божьего в зарубежных епархиях РПЦ, насчитывающих каждая в лучшем случае десяток приходов.
Не было возможности, разумеется, выпускать какую–либо другую церковную литературу, в том числе и богослужебные книги; в массовом порядке уничтожались книги, остававшиеся бесхозными после закрытия и разорения, а часто и разрушения очередного храма[2].
Острый недостаток литературы и педагогических кадров чрезвычайно затруднили деятельность открывшихся в первые послевоенные годы восьми семинарий[3] и двух академий. Немалые сложности создавал деятельности учебных заведений, равно как и делу проповеди Слова Божьего во всех приходских храмах гласный и негласный контроль, осуществлявшийся Советом по делам религий в тесном сотрудничестве с Отделом агитации и пропаганды при ЦК КПСС, с одной стороны, и, конечно, с органами госбезопасности — с другой. Наиболее талантливые, яркие и активные преподаватели и проповедники всегда находились под реальной угрозой увольнения, зато беспомощные чтецы устаревших схоластических конспектов могли быть уверены в своей безопасности. Неприятности ждали и абитуриентов семинарии: их документы нередко перехватывались, о чем они узнавали по давлению, оказывавшемуся по месту их работы и проживания. Если при поступлении они проявляли глубокую христианскую убежденность, то медицинской комиссии предписывалось обратить особое внимание на их психическое состояние[4] Ежегодный прием в семинарию ограничивался согласованной с Советом по делам религий квотой, которая в 60–е гг. не превышала в Ленинграде 20, а в Москве 40 воспитанников; был год (кажется, 1964), когда в первый класс Ленинградской семинарии зачислили всего 8 человек! Только к концу 60–х гг. усилиями Священного Синода удалось увеличить прием и впоследствии даже открыть во всех семинариях параллельные классы.
Ограничения и тяжелейшие условия, в которых работали духовные школы, сказывались на их выпускниках, которые и в духовном, и в интеллектуальном отношении отличались от прежнего духовенства далеко не в лучшую сторону. К тому же их было попросту мало. Архиереям приходилось (да и теперь приходится) рукополагать «выдвиженцев», т.е. самоучек, положительно проявивших себя в качестве чтецов, алтарников, певцов и др. Хотя в этом контингенте нередко оказывались «самородки», пастыри, горящие верой и любовью, однако отсутствие систематического (а подчас даже какого бы то ни было) богословского образования неизбежно обнаруживалось в их деятельности, способствуя превращению кое–кого из них в далеких от истинной духовности буквоедов, чаще всего обрядоверов, не столько пастырей, сколько, согласно крылатому выражению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «требоисправителей и кадиломахателей».
Бедственное положение, в котором оказалась Церковь в условиях советского режима, объясняется объективными обстоятельствами. Однако наряду с внешней неблагоприятной ситуацией приходится признать наличие многих факторов, тоже затрудняющих и ограничивающих церковную деятельность, но зависящих в той или иной мере от самой Церкви.
Новые условия, новые возможности и новые трудности
В результате прекращения гонений, а также практически полного свертывания с 1986 г. искусственно культивировавшейся антирелигиозной пропаганды, церковная деятельность приняла широкие масштабы. Массовое возникновение новых общин и передача им сохранившихся церковных зданий, разукрупнение епархий и связанное с этим увеличение их численности, открытие новых семинарий, бурный рост числа монастырей — все это говорит об усилении влияния Церкви на жизнь народа, о повышении ее авторитета, об увеличении числа верующих, о чем в какой–то мере можно судить по возрастанию числа крещений и венчаний.
Однако, как это ни горько, приходится признать, что у тех, кто болеет душой за дело Христово, т.е. за дело спасения человеческих душ, нет оснований для триумфальных настроений. Если уменьшение в последнее время (1992–1994 гг.) числа приводящих к св. крещению можно объяснить тем, что стихийное повсеместное устремление сотен тысяч (если не миллионов) к купелям в предшествующие годы было вызвано снятием законодательных и психологических барьеров и что оно ослабело, когда желавшие креститься, но ранее трусливо воздерживавшиеся успели за 1987–1991 гг. осуществить свое благое намерение, то несомненно происходившее одновременно снижение посещаемости богослужений не поддается уже такому простому и утешительному объяснению. Отчасти это можно сказать и о небольших городских и районных центрах: расположенный них храмы неуклонно из года в год пустеют и ситуационный рост посещаемости на переломе 80–х и 90–х гг почти их не затронул. Воскресные богослужения сплошь и рядом совершаются в них с молитвенным участием пяти, десяти, много если двадцати посетителей. Только в самых торжественных случаях (Пасхальная заутреня, храмовый праздник, родительская суббота, архиерейские служения) их число возрастает до нескольких десятков.
Весьма тревожным явлением следует признать сравнительную стабильность числа лиц, приходящих к исповеди и святому причастию. Хотя учет их в большинстве приходов или не ведется, или имеет отнюдь не точный характер, все же повсеместно бросается в глаза отставание роста числа причастников от числа принимающих крещение. Ведь вступление в церковную ограду через таинство крещения должно быть началом православно–христианской жизни, в частности, регулярной, более или менее частой исповеди с последующим причащением, Между тем подавляющего большинства новокрещеных в очередях к исповедальному аналою, а следовательно и к св. чаше (да и вообще за Божественной литургией), не видно; относясь к таинству крещения как к традиционному обряду, они никак не связывают его с последующим образом своей церковной, а тем более частной и общественной жизни. К сожалению, неотделимое от крещения «обращение», духовное возрождение и обновление остаются для подавляющего большинства лишь прописями, изложенными на страницах Священного Писания и катехизиса.
Невысокая посещаемость и вообще низкая церковная активность обусловливают финансовые затруднения как множества отдельных приходов, так и всей Церкви в целом. Ведь основную массу частых посетителей храмов составляли и составляют пенсионеры, домашние хозяйки, отчасти служащие, т.е. малоимущие и низкооплачиваемые слои населения. Недавний спонтанный и кратковременный всплеск посещаемости не был следствием роста крещений и увеличения численности прихожан, он не повлек за собой повышения церковных доходов; случайные посетители — ведомые зачастую не более чем любопытством или же примером окружающих (следование «моде»), отнюдь не испытывают склонности активно пополнять церковные ресурсы, которые (особенно под остаточным действием антицерковного воспитания и соответствующей агитации) чаще всего представляются им грандиозными и неисчерпаемыми. Поэтому передача общинам бывших церковных зданий обычно влечет за собой трудности, сопряженные с реставрацией, ремонтом и обустройством, трудности часто непреодолимые.
Инфляция, ставшая социальным бедствием для всей страны, особенно тяжело отразилась на необеспеченной, беднейшей части населения, результатом чего явилось дальнейшее оскудение церковного бюджета и даже резкое снижение материального уровня жизни церковных тружеников.
В чем причина всего этого оскудения? Причин много. Несомненно, одной из наиболее очевидных следует признать антирелигиозную обработку душ, которая проводилась в течение 70 лет усилиями компартии со всемерным использованием государственных средств насилия, угнетения и подавления. В течение целого исторического периода, охватывающего почти три поколения, людям внушалось, что единственным заслуживающим доверия мировоззрением является атеистический материализм, что всякая религия противоречит научно установленной истине и потому всего лишь пережиток прошлого, сам по себе для общества вредный и терпимый только как удел коснеющих во мраке невежества суеверных старух. Именно такое отношение к религии, а следовательно, и к ее носительнице — Церкви, прививалось уже детям, а потом закреплялось в юном и зрелом возрасте. В результате формировалось массовое предубеждение против всего церковного, которое, по излюбленному выражению Ленина, «пахло фидеизмом и поповщиной», представлялось подавляющему большинству населения чем–то постыдным, отчасти нелепым, отчасти уродливо–страшным и во всяком случае в житейском плане обременительным и даже сугубо вредным.
Такие взгляды и убеждения не могут исчезнуть из человеческих душ быстро, тем более в срок, ограниченный несколькими годами, даже в результате законодательных актов, предоставляющих теперь религиозной деятельности достаточную свободу. До сих пор многим (может быть, даже большинству) молодым и пожилым людям посещение храма продолжает казаться поступком необычайным, а учитывая заведомое отсутствие; церковных навыков, даже рискованным. Подобные настроениям естественно, не способствуют тому, чтобы человек зашел в храм хотя бы случайно, не говоря уже о частом или тем более систематическом посещении.
Все это относится к тем, кто имеет хотя бы минимальную потребность в посещении храма, пусть даже в порядке первичной, так сказать, туристической заинтересованности. Что же можно сказать о тех, кто этой потребности вообще не испытывает, кто полностью проникся материальными заботами, чья» душа как это произошло со многими пожилыми людьми, подверглась в сталинскую эпоху кардинальной обработке, не оставившей в ней ничего возвышенного и святого? Можно ли ожидать появления их в церкви, хотя бы даже эпизодического?
Второй причиной того, что снятие законодательных, административных и других запретов не вызвало значительного роста молящихся за богослужениями, приходится признать слабость позитивного, т.е. религиозного воздействия, которое призвана оказывать на население Церковь[5]
Конечно, Церковь теперь находится в труднейшем положении. Ниспосланная Богом, почти непредвиденная свобода действий сопряжена с возникновением у нее, у ее руководства, у всего духовенства и у всей массы верующих православных людей совершенно новых духовных и материальных трудностей, к преодолению которых Церковь оказалась, как ясно из предыдущего обзора церковной жизни, неподготовленной.
Наплыв желающих принять св. крещение, достигнув, как мы видели, к 1989–1990 гг грандиозных размеров, почти исключал возможность даже той скудной катехизации, которую в предшествовавшие менее напряженные годы пытались осуществить ревностные (и тогда очень немногие) пастыри.
Частная (индивидуальная) исповедь, удовлетворяющая духовную потребность церковно воспитанных людей в пастырском руководстве, оказалась практически полностью вытесненной из церковного обихода и заменилась общей, которая уже со времен св. Иоанна Кронштадского завоевала господствующее положение. Таким образом, и крещение и исповедь, т.е. таинства, требующие наиболее сознательного и глубоко осмысленного к ним подхода, утрачивали значение средств христианского воспитания и большинством прихожан стали пониматься и совершаться как некие обрядовые действия, разве только имеющие среди прочих обрядов сравнительно немаловажное значение. Что касается сакраментальной сущности таинств, в частности, усыновления Богу через облечение во Христа в таинстве св. крещения, прощения грехов Богом как результата искреннего покаяния в таинстве исповеди, то эта сущность, разумеется, объективно осуществляется, но лишь в малой степени осознается подходящим к таинству православным христианином и потому нередко остается бесплодной.
Тем не менее следует благодарить Бога за то, что в течение всех тяжелых для Церкви лет не прекращалось совершение евхаристии, каждый желающий молиться в храме, хотя и с трудностями, но мог в него войти, молитвенно участвовать в богослужении и услышать Слово Божье, а иногда и проповедь.
Конечно, при всех присущих Церкви функциональных и органических недостатках следует воздать хвалу многим тысячам глубоко верующих, в сане и вне сана, вдохновленных своей верой, своей церковной принадлежностью, которые в тягчайших условиях, вопреки господствующим в обществе взглядам, преодолевая отчуждение, презрение и давление, не только сохранили свою веру, но изо дня в день поддерживали Церковь Христову, отдавая ей немалую часть своих сил, способностей, времени и материальных средств, выражая в ней и через нее свою любовь к Богу, во Святой Троице славимому, и стараясь напитать свои души ее духовным богатством.
II. ИИСУС ХРИСТОС–СОЗДАТЕЛЬ И ГЛАВА ЦЕРКВИ–В ПРАВОСЛАВНОМ СОЗНАНИИ
Жизнь Церкви, в частности духовная жизнь каждого из ее членов, сущностно, органически соединена со Христом — Создателем и Главой Церкви (Мф 16:18; Еф 5:23).
Церковь Христова с апостольских времен и до наших дней во множестве своих членов и особенно в лице своих лучших представителей, мучеников, святителей, подвижников осознавала, что Христос, Который вчера и сегодня, и во веки Тот же (Евр 13:8), есть Краеугольный Камень, положенный во главу угла, на котором утверждается все здание (Пс 117:22,23; Mф. 21:42; Мк 12:10). С именем Господа Иисуса в сердце и на устах шли в тюремные застенки, на пытки, на цирковые арены к зверям на растерзание сонмы мучеников; несчетно повторяли молитву Иисусову, спасались пустынножители и обитатели монастырей; вся Церковь в священные минуты, предшествующие принятию Тела и Крови своего Господа и Учителя, торжественно провозглашает: «Един свят, един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца!»
Богочеловеческая Личность Иисуса Христа как Господа и Спасителя всей Церкви, т.е. каждого христианина, обусловливает пророческую целенаправленность Ветхого Завета, жизнь Христа является основным стержнем содержания Нового Завета, и таким образом в Нем видит человечество и особенно Церковь смысл всей Библии, всего Священного Писания, более того — всего Откровения, вершиной коего является Сам Иисус Христос. Он — любящее и всемогущее, вочеловечившееся на ради и нашего ради спасения Отчее Слово есть сущность Откровения Божьего, в том числе и доступного всем внешнего Откровения в природе, и заложенного в каждой душе Откровения в самосознании и в совести и, конечно, причем в наибольшей полноте и ясности, в Священном Писании, сохраняемом Церковью для всех поколений.
Достаточно раскрыть Евангелие, чтобы убедиться, что Иисус Христос есть средоточие Благой вести. Все содержание этого Божественного Откровения сводится к описанию обстоятельств и событий земной жизни Христа и воспроизведению Его высказываний. Обо всех остальных деталях евангельского повествования (да и всего Нового Завета в целом) мы узнаем только в их связи с жизнью Иисуса Христа — Того, Кто исполнил ветхозаветные предвещания, Того, Кого Бог соделал Господом и Христом (Деян 2:36), о чем стал проповедовать апостол Петр сразу после великого события Пятидесятницы, после излияния на учеников Христовых дарований Святого Духа (Деян 2:1–4).
В ответ на первые же угрозы, запреты и преследования ученики Христовы, говоря от имени Иисуса Христа, утверждали, что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
Имя Христово принимали на себя общины, возникавшие одна за другой уже далеко за пределами Палестины (Деян 11:26), и с тех пор христианами именуют себя миллионы идущих к Богу — Отцу своему — через усыновление Ему, соделанное воплощением, страданиями и смертью Сына Божьего. В сознании каждого из них в большей или меньшей степени утвердилась убежденность в том, что как един Бог, так «един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим 2:5) и «нет ни в ком ином спасения» (Деян 4:11).
Превосходящие всякое человеческое разумение (Флп 4:7) величие и святость Господа Иисуса Христа и совершенного Им дела спасения привели к тому, что все усилия врага рода человеческого и руководимых им темных сил в человеческом мире были с первых дней земной жизни Спасителя направлены лично против Него; таковы были попытки убить Его в младенческом возрасте (Мф 2:3,12), извратить Его спасающую миссию (Мф 4:1–10; Лк 4:1–13), сбросить Его с горы (Лк 4:29,30), взять
под стражу (Ин 7:44–46). Как известно, дьявол потерпел поражение и именно тогда, когда его усилия, казалось бы, увенчивались успехом, когда Спаситель наш был предан, подвергся неправедному суду, бичеванию, распятию и умер на кресте.
Но и после победного воскресения Господа, после основания созданной Им и запечатленной сошествием Святого Духа Церкви действия враждебных сил были направлены не столько против Церкви как учреждения, сколько опять–таки против Христа — ее Создателя и Учредителя, а тем самым, конечно, и против Церкви, составляющей Его Тело (1 Кор 12:27).
В самом деле, почти все лжеучения первых веков существования Церкви имели целью извратить церковное представление о богочеловеческой Личности Христа Спасителя. Одни из них пытались отрицать или, по крайней мере, подвергать сомнению Его Божественность (ариане), другие — Его человечность (монофизиты); некоторые сомневались в реальности Его волевой деятельности (монофелиты).
Позднее, когда стало развиваться церковное искусство, антихристианская тенденция приняла форму иконоборчества, т.е. искусственно воздвигаемых запретов изображать Христа, воспроизводить Его облик доступными человеку средствами.
Ереси были к концу IX столетия в основном преодолены, но церковные болезни, многочисленные и многообразные, продолжали и в наше время продолжают терзать Тело Христово. Одной из самых опасных и в то же время наиболее распространенных из них следует признать утрату множеством христиан осознания богочеловеческой Личности Иисуса Христа как средоточия духовной жизни каждого христианина и всей Церкви.
Здесь речь идет не об утрате веры в Бога, не об атеизме, опустошавшем за последние десятилетия миллионы человеческих душ; имеются в виду утрата православными христианами, сохраняющими веру и даже связь с Церковью, живого общения с Христом как со своим Учителем, Господом и Спасителем. Как учит Слово Божье и святая Церковь, эта связь — в молитвенном общении с Ним, в восприятии и усвоении Его Слова, преподаваемого в Священном Писании, в таинстве святой евхаристии[6], в исполнении Его заповедей (что, конечно, важнее всего), в любви к Нему и друг ко другу (Ин 15:10–12). Незадолго до конца Своей земной жизни Христос наставлял учени — «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин 15:4). Такое взаимное сопребывание с Христом является наивысшим состоянием человека, к достижению коего ему нужно стремиться, если он хочет быть учеником и последователем Христовым. Конечно, это сопребывание, которое Господь Иисус тогда же назвал богопознанием и жизнью вечной (Ин 17:3), должно быть целью наших духовных устремлений, всей нашей земной жизни, протекающей в следовании за Тем, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). По существу такое единение со Христом есть исполнение Его слов: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48), ибо и эта заповедь выполнима только в процессе устремления к цели, движение к которой действием благодати Божьей возможно, но достижение коей в беспредельной полноте превышает не только тварные возможности, но и всякое помышление, а тем более — разумение (Флп 4:7; 1 Тим 6:16; 1 Кор 13:12).
Несомненно, все христиане духовно отличаются один от другого, их религиозные помыслы и чувствования весьма многообразны. Не только степень близости к Богу, но и сила их устремления у каждого различна. Однако как и в отношении любых явлений духовной (и не только духовной) жизни и здесь возможно группирование по каким–то признакам, возможна и классификация.
Подавляющее большинство населения России в настоящее время составляют атеисты в совокупности с теми, кто допускает бытие Божье или не отрицает его, но не делает из этого никаких выводов в отношении своего поведения и даже образа своих мыслей. Многие из этих людей, далеких от каких–либо религиозных переживаний и даже стопроцентных атеистов были крещены в большинстве случаев еще в младенческом возрасте, но их родители и воспитатели не осознавали ни значения, ни сущности крещения и несли своих детей к купелям, следуя только традиции, нередко уступая требованиям представителей самого старшего поколения, выступающих опять–таки в защиту привычной традиции.
Разумеется, о Христе Иисусе у таких крещеных или некрещеных людей были самые общие, чаще всего под влиянием антирелигиозной пропаганды превратные представления, исключающие возможность какого бы то ни было общения или! обращения. Пожалуй, не менее многочисленна группа тех, кто, будучи в свое время крещен, сознает себя «православным», изредка посещает храм, преимущественно в дни самых больших праздников и личных семейных памятных дней, чтобы совершить крещение, отпевание или другую требу. Религиозность таких православных прихожан неоднородна: ее характер сильно зависит от уровня культуры и отчасти образования. Более интеллигентные в какой–то степени понимают, что главное в религии — богопочитание и что Христос — Носитель всего, что Бог дает верующему человеку, что Евангелие — книга, хотя большинству малознакомая, однако по своему содержанию высокая и даже священная, заслуживающая, по крайней мере, уважения.
Совсем иное отношение к Личности Христа со стороны других, тоже эпизодических посетителей храма, чей культурный уровень, однако, много ниже; в городах — это в большинстве люди среднего возраста и даже моложе, выходцы из деревень, нередко во втором и даже в третьем поколениях, а в сельской местности почти исключительно старушки, чей уход из жизни имеет естественным результатом постепенное, но неуклонное опустение не только храмов, но и целых сел и деревень.
Именно в этой среде пышным цветом распускается присущее многим русским православным людям доходящее до влюбленности преклонение перед обрядом, заслоняющим и даже вытесняющим в их сознании как само вероучение, так и его нравственное воздействие; здесь широкой популярностью пользуются всевозможные агиографические легенды и сказания[7], нередко не только заменяющие для верующего Библию, но даже затуманивающие сам облик Христа, превращающие представление о Его Личности в нечто побочное, находящееся где–то на периферии религиозного сознания.
Такие люди обращают свои взоры ко Христу преимущественно в дни Страстной и Пасхальной седмиц, но и в эти священные для каждого христианина дни храмы, как правило, почти пустуют, во всяком случае в сравнении с многолюдьем в дни памяти особо чтимых святых и чествования различных икон Божьей Матери.
Наконец, если обратить внимание даже на более церковно просвещенных прихожан и частично духовенство, приходится с горечью признать, что и в этой среде недостаточно усердия в почитании Христа Спасителя и в конце концов Бога, во Святой Троице славимого. Эта тенденция до такой степени вошла в кровь и плоть церковной среды, что она сказывается не только в личном благочестии, не только в поведении и настрое молящихся, но и во многих деталях богослужебного и молитвенного обихода.
Так, в обычае духовных лиц начинать любое собрание, заседание, совещание или учебное занятие пением (или чтением) обращенной ко Святому Духу молитвы «Царю Небесный», а завершать молитвой к Богородице — «Достойно есть». Перед началом последней молитвы все обнажают головы, снимая клобуки или другие головные уборы. Такой знак почитания Божьей Матери естественен и не может, разумеется, вызывать возражения. Но почему молитву «Царю Небесный» поют с покрытой головой? Почему Святому Духу, т.е. Богу отказывается в знаке почитания и благоговения, который не задумываясь оказывают Божьей Матери, «честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим», но все же человеку?! Разве это не должно вызывать хотя бы изумление, если не негодование? Оказывается, не вызывает, и когда обращаются к Царю Небесному, ничья рука не тянется к головному убору, чтобы оказать Ему честь и славу хотя бы наравне с Царицей Небесной!
В качестве другого примера из общественно–богослужебной сферы следует привести вошедшую в традицию практику совершения после литургии молебнов, которые в православных храмах крайне редко бывают обращенны к Господу Иисусу Христу в дни Его, т.е. так называемых «господских» праздников, между тем, как общецерковное, торжественное совершение молебствий, обращенных к празднуемому святому, считается почти обязательным.
Духовенство выходит из алтаря на середину храма, туда же выносят Евангелие и читают его, а затем нередко молитвы поются всеми присутствующими, — все это придает молебствию такую торжественность, что впечатление от только что прослушанной и, может быть, пережитой литургии резко снижается и богомолец уходит из храма с мыслями не о Триедином Боге, Творце, Искупителе, Спасителе и Обновителе, а о том святом, которому только что был отслужен молебен. Само посещение храма и пребывание в нем остаются в сознании человека как действия, совершенные в честь и память празднуемого святого.
Отмеченная психологическая несообразность отражается еще на одной, для священнослужителей весьма заметной детали: пение за молебном обращенной к Спасителю (также когда Он возглавляет список упоминаемых в молебне святых) молитвы: «Избави от бед рабы Твоя, многомилостиве Господи… как правило, вызывает затруднения: редко кто ее помнит наизусть, между тем как пение аналогичной молитвы, обращенной к Богоматери: «Спаси от бед рабы Твоя, Пресвятая Богородице…», равно как и обращение к тому или иному святому: «Молите Бога о нас…», никогда не вызывают никаких заминок.
И здесь, как и в случае иных культовых извращений, перегибов и перехлестов, беда современной Церкви не в том, что они бытуют в массе верующих людей, не имевших возможности не только получить минимальное духовное образование и воспитание, но остававшихся часто вообще без какого–либо духовного руководства, находившихся в течение десятков лет под давлением антирелигиозной пропаганды; беда — в бездеятельности тех церковных деятелей, которые не хотят даже замечать явных отклонений от истинно церковной православно–христианской практики, идут на поводу у народного «злочестия», ограничиваясь лишь изредка декларациями о желательности (о необходимости нет даже и речи!) борьбы с суевериями и обрядоверием.
К счастью, однако, для Церкви и для всего христианства «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор 3:11), а «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр 13:8).
В Православной Церкви существует и действует иерархия почитания. Святым угодникам Божьим воздается почитание разной силы и степени (подробнее об этом будет сказано далее). Так, Сам Христос Спаситель говорил об Иоанне — Своем
Крестителе, что «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф 11.11). Апостол Павел, намекая на эту иерархию, подчеркивал, что «звезда от звезды разнится в лаве» (1 Кор 15:41). Среди всех небесных светил церковного небосклона наиболее ярко сияет Пресвятая Дева — Матерь Божья, ибо по воле Божьей и согласно ее собственному пророчеству, ее прославляют и будут прославлять все поколения людей (Лк 1:48).
Однако как яркость Солнца неизмеримо превосходит яркость всех других небесных тел, так Божественное величие и святость Господа Иисуса Христа сияет для Церкви Христовой и для всего мира светом, беспредельно и неизмеримо превосходящим всякий иной свет, который при всей его красоте и любой степени яркости, является и остается тварным и потому несопоставимым со светом Бога, Который пришел в мир для нашего спасения (Ин 3:19).
III. СЛОВО БОЖЬЕ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА
Святая Библия («Книги»), состоящая, как известно, из книг Ветхого и Нового Заветов, признается и почитается Церковью (как Восточной, так и Западной) не только величайшим, беспредельно значительным, важнейшим из всех творений человеческих, но прежде всего — высочайшим Божественным Откровением, великой святыней, СЛОВОМ БОЖЬИМ.
Такое восприятие Церковью Священного Писания засвидетельствовано в православном катехизисе[8], в единодушных высказываниях отцов Церкви, наконец, в соответствующем определении I Вселенского (Никейского) Собора, утвердившего в 325 г. канон библейских книг.
Само новозаветное Слово Божье говорит о себе: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим 3:16–17). Так писал великий учитель народов, святой апостол Павел. Еще раньше святой первоверховный апостол Петр утверждал: «Мы имеем вернейшее пророческое слово; ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, изрекали его святые Божий человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр 1:19,21); в другом послании апостол Петр писал христианам: «(вы) возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал; но слово Господне пребывает в век» а «это есть то слово, которое вам проповедано» (1 Петр 1:23–25; Ис 40:6–8).
В течение двухтысячелетий, истекающих ныне со времени прихода в наш мир Господа Иисуса Христа, Священное Писание являлось предметом благоговейного почитания постоянно обращавшихся к нему проповедников и учителей христианской веры, особенно отцов Церкви, многие страницы творений которых буквально испещрены библейскими изречениями (см. например, творения св. Иоанна Златоуста или св. Григория Нисского).
Это неудивительно, ибо «слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4:12).
Слово Божье, преподанное нам в Священном Писании, как все в нашем тварном мире, имеет причину и цель. Причиной, источником его происхождения является воля Божья, благая и совершенная. На эту причину указывает евангелист св. Иоанн Богослов, приоткрывающий нам тайну вочеловечения Второго Лица Святой Троицы, Которое он именует «Словом». «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть… и Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин 1:1–4). Таким образом, Слово Божье онтологически божественного происхождения; наша Церковь учит, что Сам Богочеловек Иисус Христос — высшее Божественное Откровение, Слово Отчее: Он явил Себя миру, в Себе явил миру Бога Отца (Ин 14:9–12; 10:30) и от Отца послал Духа Святого, Который делает людей способными принять, понять и усвоить Слово как Откровение Божье, познать Бога верой, надеждой и любовью, в чем и состоит спасение и жизнь вечная (Ин 4:26; 15:26; 16:13; 17:3).
Имея божественное происхождение, Слово Божье дано нам с целью также божественной. Эта цель совпадает с целью воплощения Слова Отчего, Сына Божьего — спасение рода человеческого, о чем Он Сам многократно говорил: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16);
«Сын Человеческий… пришел… чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20:28); «Сын Человеческий пришел… души человеческие… спасать» (Лк 9:56). Эта величайшая истина глубоко проникла в сознание не только учеников, непосредственных свидетелей земной жизни Спасителя, но и в церковное сознание всех последующих поколений; так, апостол Павел, сам принадлежавший ко второму поколению учеников, писал своему ученику Тимофею предельно кратко, но с предельной ясностью: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тим 1.15).
Не только новозаветная письменность, но и все ветхозаветное Писание дано человечеству Богом, Который и до Христа промыслительно открывал Себя избранному народу, дабы в нем, жившем в условиях языческого окружения, сохранить истинное богопочитание, знание единого, истинного Бога, Творца неба и земли и тем создать условия для пришествия в мир воплотившегося Слова, Господа Спасителя мира: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр 1.1–2).
В соответствии с высочайшим божественным происхождением Священного Писания и также с божественной целью его преподания оно, естественно, должно быть предметом благоговейного почитания и использования по прямому назначению. Оба эти вида человеческого, прежде всего, церковного ответа на любовь Бога, на Его попечение о нашем спасении совпадают, ибо несомненно высшим, наиболее достойным выражением и способом почитания всякой святыни, тем более Слова Божьего является применение и употребление для цели, с какой святыня преподается, т.е. для спасения душ человеческих: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5:15–16).
Но в жизни приходится различать внешнее от внутреннего, физическое от духовного, даже проводить границу между переживаниями при всей их взаимосопряженности и органическом единстве. Так, у апостола Павла мы находим одно из важнейших для нас разграничений: «прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божий» (1 Кор 6:20).
В нашей Православной Церкви Священное Писание, в частности и особенно Евангелие, является предметом богослужебного почитания. За каждым всенощным бдением священник выносит его на середину храма, и чтение его должно являться кульминацией и средоточием совершаемого богослужения. Чтение евангельского текста предваряется краткой молитвой: «И о еже сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим», за которой следуют два призыва к внимательному слушанию, сначала более пространный, сопровождаемый благословением: «Премудрость, прости, услышим Святаго Евангелия, мир всем!», другой предельно краткий: «Вонмем!» (т.е. будем внимательно слушать), между коими объявляется, какому автору (евангелисту) принадлежит подлежащий чтению текст. Ревностные священники, говоря о поведении в храме, не упускают случая сказать, что слушать Евангелие следует, склонив голову, что чтение не должно нарушаться разговорами, хождением по храму и другими отвлекающими внимание действиями. И в самом деле, во время евангельского чтения шум, нередко мешающий православному богослужению[9], обычно несколько стихает: большинство присутствующих, включая даже случайных посетителей, осознает, что совершается нечто сугубо значительное, требующее уважительного отношения[10]
Каждое евангельское чтение предваряется и сопровождается прославлением Бога: «Слава Тебе, Господи, Слава Тебе!», чтение за литургией, кроме того, пением «Аллилуйя» («Слава Богу»), которое как бы отделяет евангельское чтение от предшествующего «апостольского», т.е. чтения отрывка из апостольских посланий или «Деяний святых Апостолов». Чтением Евангелия завершается в основном наиболее торжественная часть бдения (полиелей)[11], после чего следует лобызание лежащего на аналое Евангелия с последующим получением молящимися индивидуального благословения (или елеопомазания) от одного из служащих священников или от возглавляющего богослужение архиерея[12]
Во многих приходах сохраняется другой, не имеющий никаких положительных сторон обычай читать за вечерним богослужением Евангелие, раскрывая его в алтаре на престоле. Священник стоит спиной к слушателям и, несмотря на открытые царские врата, не в состоянии донести до них текст в полном объеме, а если у него к тому же слабый голос или недостаточно отчетливое произношение, то чтение превращается в пустую формальность, в томительный обряд, лишенный всякого духовного содержания.
Несомненно, что основной, самой главной, а по существу единственной целью включения в богослужебные чинопоследования евангельских, апостольских и ветхозаветных (так называемых паремий) чтений является стремление к тому, чтобы Слово Божье коснулось умов и сердец присутствующих при богослужении — как молящегося народа Божьего (1 Петр 2:10), так и тех, кто будучи еще далек от Бога, оказались привлечены промыслом Божьим в храм для того чтобы стать слушателями Слова и тем самым воспринять семя, которое при благоприятных условиях может прорасти и принести плод, может быть, даже сторицею (см. притчу о сеятеле, Мф 13:3–9; 18–23; Мк 4:1–20; Лк 8:4–15). И вот, если мы будем следовать принципу правдивости, которому присягнули в предисловии к настоящему труду, придется признать, что основной помехой делу благовестил является чтение Священного Писания на языке для многих малопонятном, а для большинства — совсем непонятном, на языке церковнославянском.
В самом деле, не только христианину, имеющему в душе хоть искру любви к Богу, любви ко Христу, пришедшему в мир, жившему в нем, страдавшему и воскресшему «нас ради и нашего ради спасения»[13], но даже любому непредвзятому человеку должна быть ясна мысль, изложенная во всей убедительности и простоте все тем же святым апостолом Павлом: «в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке… если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер» (1 Кор 14:9,19).
Непонимание славянского текста Священного Писания обусловлено двумя причинами. Прежде всего, это незнание посетителями наших храмов церковнославянского языка, который, при всем родстве с ним русского, все же язык иной, обладающий своеобразной лексикой, собственной грамматической структурой.
Лучше обстоит дело у православных людей, получивших церковное воспитание, но, во–первых, они составляют меньшинство, а во–вторых, человеческое сознание привычно скользит мимо или как бы по поверхности славянского текста, который остается все же недоступным для понимания даже обладающими церковным опытом слушателями.
Действительно, может ли рядовой русский человек понять такие высказывания как «уне есть, да Аз иду», «что–ся вам мнит?» или «имамы ко Господу» и многие другие, столь же чуждые строю родного языка?
Вторым обстоятельством, делающим некоторые библейские тексты, главным образом ветхозаветные, на славянском языке вовсе недоступными для русского человека, является низкое качество перевода: ведь перевод Ветхого Завета на славянский язык осуществлялся в X–XI вв. не с еврейского оригинала, а с греческого перевода, причем переводчики не всегда были на высоте положения, о чем свидетельствуют такие примеры: «Яко еще и молитва Моя во благоволении их, пожерта быша при камени судии их. Услышатся глаголи мои яко возмогоша, яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде» (Пс 140:5–7).
Соответствующий русский перевод, осуществленный в XIX в. непосредственно с еврейского языка, звучит следующим образом: «Мольбы мои — против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней».
Сопоставление говорит само за себя, славянский текст настолько невразумителен, что приходится считать его браком, по какой–то причине допущенным неизвестным переводчиком. Брак возможен, в некоторой мере он сопровождает почти всякий, в том числе творческий труд; вызывает изумление другое — в течение веков Церковь ничего не предпринимает для исправления таких погрешностей, которых именно в Псалтири, наиболее богослужебно применяемой ветхозаветной книге, особенно много. В результате изо дня в день чтецы должны воспроизводить никому, в том числе им самим непонятный набор слов, а слушатели обречены на безнадежные старания их уразуметь.
Как известно, апробированный Церковью русский перевод Священного Писания был осуществлен и начал печататься в середине прошлого столетия под благотворным влиянием святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, одного из самых просвещенных и деятельных иерархов того времени. Однако до сих пор во многих приходах нет ни одного экземпляра русскоязычной Библии — этой насущной для душ человеческих духовной пищи, а порой книга имеется, но зачастую лежит на полке без употребления.
Эти отрицательные явления в сфере богослужебного применения Священного Писания коренятся в недооценке его значения как Божественного Откровения, нередко перерастающей в пренебрежительное к нему отношение, в его игнорирование. В самом деле, исповедуемый Вселенской Церковью богооткровенный характер Библии, общецерковное признание ее безоговорочного и спасительного воздействия остается достоянием догматики и святоотеческих трудов, но не затрагивает сознания широких масс православного народа, в том числе и духовенства[14]
В течение упомянутых десятилетий гонений и притеснений цена Библии на «черном рынке» (а где иначе ее можно было приобрести?) достигала весьма значительной суммы, отсутствие Священного Писания у верующих объяснялось дефицитом и дороговизной, хотя кто действительно жаждал Слова Божьего в этот период духовного голода (Ам 8:11–12), тот находил его. Ведь человек, для которого Слово Божье является насущной духовной пищей, следуя примеру евангельского искателя жемчужин, готов продать все, что имеет, только бы приобрести эту величайшую драгоценность (Мф 13:45–46). Времена изменились, Священное Писание переиздается и лежит на прилавках в храмах и в церковных лавках. Однако спрос невелик — он много меньше, чем на популярную «назидательную» литературу типа «Троицких листков», которая по своей духовной ценности несопоставима не только со Словом Божьим, но и с серьезными богословскими трудами.
Факт горестный, но несомненный: русский православный народ не знает Слова Божьего и не стремится, даже не считает нужным знать. Подавляющее большинство духовенства, пройдя его в семинарии (именно «пройдя», а не изучая), очень редко к нему обращается для домашнего чтения и даже проповедовать предпочитает на общеизвестные темы церковных праздников или житий чтимых святых. В такой ситуации Слово Божье может быть услышано народом в основном только благодаря чтению в храмах, которое фактически превращено в почти бесполезную и не имеющую никакого смысла процедуру.
Все церковные люди знают, что читать на амвоне, на клиросе, в алтаре, посредине храма следует неторопливо и громко, отчетливо и молитвенно. Тем не менее редкий или случайный посетитель храма при всем желании не может воспринять читаемый текст: чтецы, как правило, стоят на клиросе, и звук не может преодолеть преграду из икон, изолирующую чтеца от народа, тем более, что стоит он, конечно, к народу спиной и слышно его лучше всего не народу, а священнослужителям в алтаре. За неясное произношение, за недостаточную громкость, за чтение вполголоса с чтецов, дьяконов, а тем более — священников взыскивают крайне редко. В результате народ Божий ничего не слышит или, во всяком случае, не может воспринять и осознать то немногое, что все–таки доходит до слуха.
Но есть еще один, вполне обычаем узаконенный и повсеместно признанный и применяемый способ лишить слушателя возможности сознательного усвоения читаемого молитвенного или поучительного текста: это монотонность чтения. Считается необходимым читать часы, шестопсалмие, кафизмы на одной ноте, не допуская даже намека на выразительность. Находятся любители такого якобы «уставного» чтения, которые в обоснование монотонности утверждают, что тем самым устраняется личная интерпретация чтецом читаемого текста, выражение его собственного к нему отношения, которое при выразительно–интонационном чтении будто бы навязывается слушателям. При этом поборники монотонности упускают из вида, что именно при монотонном чтении слушателям действительно навязывается то безразличие к содержанию текста, которое, к сожалению, свойственно подавляющему большинству церковных чтецов и которое находит свое выражение в чтении, лишенном каких–либо смысловых оттенков. Монотонное чтение действует утомляюще, усыпляюще (в монастырях, где во время чтения кафизм не только полагается по уставу, как и везде, сидеть, но и предоставляется реальная возможность для этого, монахи обычно дремлют в своих стасидиях); слушателям словно внушается: «то, что читается, не имеет для тебя существенного значения; читается потому, что так «положено» церковным уставом». Есть и такие посетители богослужений, кто считает, что непонятность, неразборчивость чтения и песнопений даже придает богослужению особый, мечтательный и расслабляюще–поэтический колорит, который сознательным восприятием текста нарушается. Этим любителям эмоциональности надо прочесть 13 главу Евангелия от Матфея, где Спаситель указывает в притче о сеятеле на судьбу разных семян Слова Божьего, падающих в человеческие души; так вот, семя, попавшее в хорошую почву, прорастающее и приносящее плод, имеет такую благоприятную судьбу потому, что воспринимается «с разумением». О неразумении Слова говорит Христос (см. Мк 4:12), когда упоминает тех, кто, не понимая Слова, не могут обратиться к Богу и не получают прощения грехов.
Дьяконы читают евангельский, а псаломщики — апостольский текст иначе: они начинают на возможном для их голоса низком звучании и по мере приближения к концу чтения постепенно звук повышают и усиливают, с тем чтобы последние слова прокричать (или, что ближе к истине, прореветь) неестественно громогласно. Многие дьяконы гордятся достигаемым эффектом. Все это не имеет никакого отношения к содержанию произносимых слов и фраз, и нередко звуковая кульминация приходится на слова, завершающие полагающийся текст, но не имеющие никакого особого значения или смысла. Такого рода чтение не может человеком, благоговеющим перед Словом Божьим, восприниматься иначе как кощунственное надругательство над библейским текстом, как одно из сатанинских ухищрений, препятствующих доброму семени попасть в почву человеческих душ и оказать на них свое спасительное воздействие (Мф 13:19).
Но из этих ухищрений наиболее мощно действующим все же следует признать чтение в храмах Слова Божьего на церковнославянском языке, для подавляющего большинства слушателей непонятном, а для меньшинства — малопонятном, о чем было сказано выше.
Люди идут в храм, желая осмыслить жизнь, услышать о Боге и от Бога нечто, что захватывало бы и радовало бы душу, встретиться с Тем, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6); вместо этого посетитель храма слышит множество непонятных слов, да и те, как известно, не всегда доходят даже до слуха из–за недостатков их воспроизведения.
В результате в нашем народе и среди верующих, и среди неверующих утвердилось весьма распространенное и имеющее уже характер предубеждения мнение, что в богослужении заведомо ничего или почти ничего невозможно понять и что наибольшую важность и интерес в нем имеет обрядовая, внешняя сторона, хотя смысл как совокупности обрядовых действий, так и отдельных обрядов остается даже для постоянных посетителей тайной за семью печатями.
Естественно, о сознательном, благоговейном отношении к Слову Божьему, т.е. о его слышании и усвоении в стенах православного храма не идет и речи; не может православный человек и жаждать Откровения Божьего, Его святого Слова, ибо не осознает его божественной ценности и при существующей церковной практике осознать не в состоянии.
IV. БОГОСЛУЖЕНИЕ
Перед ревнующим о славе Божьей православным христианином, молитвенно участвующим в богослужении, неизбежно возникает тревожный вопрос: совершается ли это богослужение в соответствии с реальными духовными нуждами его самого и стоящих вокруг собратьев по вере? Совершается ли оно так, что может служить и служит средством миссионерского воздействия на тех, кто, будучи еще от Бога далек, пришел в храм впервые, движимый не столько влечением сердца, сколько познавательным интересом или даже просто любопытством? Нет ли в самом богослужении, в его совершении и внешнем оформлении чего–либо, что вызывает отталкивание, что исключает возможность восприятия, понимания и тем более молитвенного соучастия?
Эти вопросы, актуальные для каждого прихожанина, должны приобретать особую остроту для духовенства, то есть для тех, для кого возвещение Слова Божьего и молитвословий молящимся, совершение святых таинств и других священнодействий является не только профессиональной деятельностью, не только обязанностью, но делом жизни, делом, к которому Бог призывает и на осуществления коего посвящает каждого священно–и церковнослужителя.
Конечно, образованный, духовно зрелый священник, горячий молитвенник, сознательно воспринимающий и переживающий совершаемую им или с его участием службу Божью, может в своей молитвенной сосредоточенности даже не замечать небрежности и невнятности клиросного чтения, спешку дьякона, который переходит к очередному прошению под звучание не–допетого еще «Господи, помилуй», не обращать внимание на шум и громкую перебранку в очереди к свечному ящику.
Но и такой ревностный священнослужитель, чей молитвенный настрой, казалось бы, защищен от внешних помех, именно в силу своей ревности не может быть равнодушным к духовному состоянию стоящей за его спиной паствы, для которой и от имени которой он служит. Его более, чем кого–либо, печалит и внутренно ранит и небрежное отношение к святыне со стороны сослужителей, и беспросветный мрак в душах тех посетителей храма, которые вместо устремления ума и сердца к Богу, скучают и томятся от кажущегося бесконечным монотонного, непонятного клиросного чтения, мечутся от иконы к иконе, спрашивая умудренных многолетним обрядовым опытом прихожан, перед какой иконой надо поставить свечку, если покинул муж, а перед какой — если украли из сумочки деньги!
К счастью, для будущего нашей Церкви отнюдь не все причины недостаточной эффективности ее богослужения имеют объективный, не зависящий от самой Церкви характер. Очень многое в церковной деятельности, особенно в богослужебной практике, может быть исправлено или усовершенствовано, притом чисто церковными силами и средствами, и в этом ничто нашей Церкви не препятствует, кроме присущих множеству ее членов невежества, косности, безразличия, равнодушия и лени.
Многое, что мешает молитвенному восприятию и переживанию богослужения, обусловлено дефицитом духовности священнослужителя и присущими лично ему и его служению недостатками. Священный молитвенный текст часто воспроизводится торопливо, неотчетливо, слишком тихо или чрезмерно громко, невыразительно. Существенное значение имеют также манера поведения священнослужителя, наличие у него вредных привычек, привлекающих к его внешнему облику внимание молящихся и тем самым отвлекающих их от молитвы. Нередко священнослужитель, стоя на виду у всех на амвоне или посреди храма, начинает бродить взглядом по клиросам или по лицам молящихся, отнюдь не являясь в таком случае примером молитвенной сосредоточенности.
Все эти отрицательные явления легко устранимы, если священнослужитель или чтец старается сосредоточиться на содержании звучащего в данный момент священного или молитвенного текста, находит в нем духовное удовлетворение, согласно словам псалмопевца: «Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим» (Пс 118:103); «радуюсь я слову Твоему как получивший великую прибыль» (ст. 162).
Неизбежно отвлекающим священнослужителя от молитвы фактором является необходимость одновременно с молитвой производить многочисленные обрядовые действия. Однако их частое и единообразное совершение создает очень скоро навык почти автоматический; тогда обрядовые действия могут уже не мешать молитве и даже способствуют благоговейному духовному состоянию служителя.
Однако трагедией большинства священнослужителей является то, что они заботятся о безошибочности обрядовых действий гораздо больше, чем о собственном духовном состоянии. Внешние действия заметны для окружающих, в том числе для начальства — старших священников, настоятеля, архиерея, а внутреннее состояние известно только Господу Богу, и здесь вступает в силу апостольское указание, которым часто пренебрегают: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5:29; ср. 4:19). При оценке же духовной настроенности многих священнослужителей невольно вспоминаются евангельские слова: «возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» (Ин 12:43).
Подобному искушению подвергаются и дьяконы и священики на каждом шагу, и нельзя относиться к этому, как к чему–то порочащему священнослужителя, ибо речь идет об общечеловеческой слабости, склонности переоценивать внешнюю сторону в ущерб внутреннему содержанию (Мф 15:16–20). Трагично, однако, что в Церкви почти нет соответствующей воспитательной работы ни со стороны архиереев, ни со стороны опытных протоиереев и протодиаконов; почти никогда младшие и начинающие не слышат напоминания о необходимости сохранять благоговение и молитвенность, вдумчиво читать тайные молитвы, всеми силами души переживать тайнодействия. Зато любая даже самая мелкая неточность в обряде или (у иподьяконов) в обслуживании архиерея, естественно, вызывает соответствующее замечание, нередко окрик, гнев[15]
Здесь уместно упомянуть о бездумно практикуемом обычае заставлять только что рукоположенного дьякона или священника («ставленников») служить ежедневно утром и вечером даже без дней отдыха в течение длительного срока, часто до сорока дней сразу по их посвящении. Помимо разрушительного действия этой практики на семейную жизнь ставленника, чаще всего вступившего в брак незадолго до рукоположения, она почти неодолимо отрицательно действует на психику ставленника, вызывая у него неизбежную усталость, переходящую в противление и мечту о скорейшем завершении такого стажирования. А это исключает усердие, радость служения, даже искреннюю сердечную молитву. К несчастью, архиереи и настоятели кафедральных соборов не заботятся о духовном состоянии и развитии ставленников, стараясь лишь в кратчайший срок натренировать их в точном выполнении писаных и неписаных правил чинопоследования, в результате чего начинающий священнослужитель чувствует себя к концу стажировки крайне истомленным и уже надолго неспособен к сознательному, благоговейному и радостному дальнейшему служению.
Однако вернемся к мирянину, стоящему в глубине храма. Если он пришел к литургии с искренним желанием отрешиться на время богослужения от повседневной суеты и усердно, без помех помолиться, то он в большей или меньшей степени испытывает разочарование. Так, если он пришел вовремя, первое впечатление будет от чтения часов — как правило, монотонного, обычно торопливого чтения прекрасных глубоких молитвословий, само содержание которых остается, однако, в основном недоступным: славянский язык создает барьер, непреодолимый для слушателя псалмов и молитв, если он не имел счастья с детства посещать церковь. Но даже и среди целожизненных посетителей есть множество таких, кто давно потерял надежду понимать привычное, но лишенное для них реального смысла чтение.
Отрадой для молящихся является первая половина собственно литургии (так называемая «литургия оглашенных»), когда дьякон произносит с амвона краткие, содержательные прошения, именно по своей лаконичности и единообразию сравнительно более понятные. Условием для этого являются, конечно, достаточная громкость, неторопливость и особенно отчетливость произнесения, что, к сожалению, далеко не всегда бывает.
Восприятие последующих частей литургии, где важнейшая часть молитвенных текстов произносится священниками, кроме прочего, очень затруднено почти постоянным пребыванием священника в алтаре, т.е. за иконостасной преградой, притом при закрытых царских вратах: иконостасы, особенно древнего массивного стиля, более чем наполовину поглощают звук.
Но есть факторы, нарушающие молитвенное состояние посетителя храма в течение всего богослужения: это, прежде всего, шум. Основной источник шума — голоса многих из находящихся в храме православных христиан, голоса тех, кто пришел сюда, казалось бы, для молитвенного общения с Богом, однако ведет себя неподобающим и несоответствующим этой цели образом.
Ведь сотни (а в больших храмах и в дни больших праздников тысячи) стоящих в храме людей можно разделить на две категории: одна (это, к счастью, меньшинство, хотя часто многочисленное) состоит из женщин, преимущественно пожилых, многолетних посетительниц богослужений, лишенных чувства благоговения, ведущих себя в церкви развязнее и раскованнее, чем дома или в каком–либо другом месте. Многие из них, может быть, подсознательно, относятся к храму как к месту свидания со знакомыми, как к месту, где можно в соответствии с поговоркой «людей посмотреть и себя показать». Они не молятся и почти не помышляют о молитве, подчас даже не представляют себе возможности духовного обращения к Богу с просьбой, благодарением или тем более с прославлением, а отмеченная выше невозможность сознательного восприятия произносимых или поющихся молитвенных текстов создает благоприятные условия для бездумного, рассеянного времяпровождения, для праздных разговоров, иногда переходящих в болтовню базарного типа. Если число таких «молящихся» оказывается значительным, обстановка в храме становится поистине ужасающей: в храме поднимается гул, иногда начисто заглушающий чтение и даже пение.
Остальные — те, кого действительно можно назвать молящимися или хотя бы желающими молиться, оказываются жертвами поведения своих единоверцев, распущенность которых мы только что пытались описать, хотя по своим масштабам и по степени кощунственности она нередко превосходит возможности всякого описания и даже воображения. Некоторым оправданием любительниц церковной болтовни, нарушающей молитвенную атмосферу, может считаться длительность православных богослужений, которую нельзя не назвать непомерно большой. В самом деле, даже обычная воскресная литургия, совершаемая неспешно и благоговейно, с исполнением музыкальных произведений необиходного характера, длится не менее двух с половиной–трех часов, а всенощное бдение (никогда своего наименования не оправдывающее), продолжается не меньше трех–четырех часов, а в канун особо торжественных дней достигает во многих храмах и монастырях пяти и более часов. Практикуемое только в Русской Православной Церкви уставное выстаивание всего богослужения от многих, особенно пожилых, старых и больных прихожан требует значительных усилий, а для страдающих хроническими заболеваниями и физически слабых оказывается вообще непереносимым[16]
Основной, так сказать, органически–структурной причиной этой исключительной, иногда превышающей нормальные человеческие возможности длительности православного богослужения в России, является многократное повторение одних и тех же элементов текста богослужения — тем самым игнорируются слова Спасителя: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники» (Мф 6:7). У нас же при чтении часов в начале Божественной литургии (3–й и 6–й час) «Трисвятое» с сопровождающими его молитвами («Пресвятая Троице», «Слава и ныне», «Отче наш») повторяется троекратно, а перед совершением в Великом посту литургии Преждеосвященных Даров — шесть раз! Молитва «Иже на всякое время и на всякий час» повторяется за утренней великопостной службой не менее четырех раз; «Просительная» ектения за каждым бдением и за каждой литургией произносится дважды; что касается «малой» ектений, то она за время бдения повторяется шесть раз, а при совершении некоторых богослужений (в частности, за утреней Великой пятницы) — двенадцать раз, ибо этой ектенией сопровождается каждое из двенадцати евангельских чтений.
Одним из основных эпицентров шума и непристойной развязности приходится признать пространство в задней части храма, прилегающее к свечному ящику, где продаются свечи, иконы и пр. где ведется прием записок с именами живых и умерших для их поминовения, т.н. «заздравных» и «заупокойных». В дни большого скопления прихожан, особенно по «родительским субботам», там образуются очереди иногда в десятки метров длиной. Стоящие в очереди, в большинстве женщины, нередко совершенно забывают, что находятся не в магазине, а в храме; здесь можно услышать все, что привычно слышать в любой бытовой очереди: споры, взаимные упреки, оскорбления, подчас даже ругань. Сплошь и рядом стоящие за ящиком церковные служащие дают неизбежные пояснения несдержанно и раздраженно, а порой и вовсе кричат. Если процесс продажи–купли свечей, составляющий основной вид деятельности за свечным ящиком, является источником мешающего молитве шума, то не меньшей помехой следует признать последующий процесс доставки свечей от ящика к подсвечникам.
Наиболее естественным, так сказать, классическим, способом попадания приобретенной свечи к месту ее поставления следует признать совершение этого действия самим приобретающим свечу прихожанином. Многие так и делают. Православному человеку, вообще говоря, приятно самому решить, перед какой святыней (иконой, крестом или мощами) поставить свечу, самому свечу возжечь от пламени уже горящих тут же других свечей, самому ее установить, после чего к святыне приложиться, совершив крестное знамение и поклоны. Однако большая часть свечей приобретается во время начавшегося уже богослужения, когда храм заполнен народом и достигнуть намеченной иконы или другой святыни можно только, протиснувшись сквозь толпу молящихся, что обременительно для них и для владельца купленной свечи. Обычным способом преодоления этой трудности является передача свечи из рук в руки с неизбежным похлопыванием свечой по плечу стоящего впереди человека, чтобы обратить его внимание, побудить повернуться к источнику беспокойства, принять свечу и передать ее таким же образом дальше. Передача сопровождается устным указанием целевого назначения свечи, т.е. для какой иконы она намечается. Все это не только увеличивает общецерковный шум, но само по себе нарушает молитвенное состояние и молитву многих прихожан. Ведь путешествие каждой свечи требует внимания и активного участия в нем десятков лиц, стоящих на трассе от ящика до выбранной иконы. В особенно тяжелом положении, почти исключающем возможность сосредоточенной молитвы, оказываются те, кто встал на прямой линии — кратчайшем пути от ящика до иконы. Конечно, ни о какой молитве не может быть и речи, если тебя то и дело, иногда каждую минуту похлопывают по плечу или по руке, заставляют оборачиваться, выслушивать информацию о назначении свечи и передавать ее вместе со свечой дальше, теперь нарушая молитву уже других прихожан.
Еще одним источником шума в большинстве храмов оказывается клирос, обычно левый, где поют «любители», куда доступ имеют все желающие, у кого есть (а иногда и нет) слух и голос. На клиросе, где поет «правый», т.е. профессиональный, оплачиваемый хор, дисциплина сравнительно удовлетворительна, чего, как правило, нельзя сказать о «левом» хоре. В самом деле, каждый певец правого хора зависит от регента, который может применять к нему меры дисциплинарного взыскания, в частности за разговоры на посторонние темы, споры и т.п. Некоторые из этих мер весьма ощутительны, например, удаление с клироса, лишение или снижение зарплаты, а то и увольнение.
В левом, так называемом любительском хоре, наоборот, регент, обычно псаломщик или «головщик» (запевала), сам зависим от хора: любой певец или певица может произвольно не явиться, вести себя во время богослужения в соответствии с собственным уровнем благочестия (часто весьма низким), настроением и другими личностными факторами сугубо переменного характера. Замечания регента оказываются, чаще всего, малоэффективными, ибо не подкреплены возможностями административного или материального воздействия. В результате на клиросе тоже возникают разговоры, смех, нередко споры и ссоры, т.е. шум, который доносится до стоящих по близости прихожан, вызывая в них не только удивление и досаду, но и антицерковные мысли и настроения, разрушая идеальные представления о духовном состоянии тех, кто удостоен Богом счастья во весь голос Его прославлять.
Наибольший соблазн, наибольшее смятение в души верующих православных мирян вносит недостойное поведение духовенства. Тут приходится говорить об отрицательном воздействии, которое оказывает на духовное состояние и поведение священнослужителей иконостас. Скрывая их от глаз прихожан в течение большей части богослужения, иконостас способствует созданию в алтаре атмосферы интимности, некоторому ослаблению самоконтроля и тем более внимания к тому, что читается и поется вне алтаря. Сказанное особенно ярко проявляется при соборных и архиерейских служениях. В этих случаях алтарь оказывается переполнен духовенством, особенно молодыми, чаще всего духовно невоспитанными иподьяконами и алтарниками, которые суетятся, постоянно передвигаются с места на место, надевают облачения, выполняют «тысячи мелочей» архиерейского обихода, подходят друг к другу (в первую очередь, конечно, к архиерею) с приветствиями и за благословением, — и все это создает мощный гул, делающий содержание того, что читается и поется по другую сторону иконостаса, уже совершенно недоступным.
Ужаснее всего, что доброго примера молодые церковнослужители, те же иподьяконы и алтарники, да и юные еще дьяконы и священники не видят ни от кого, ибо убеленные сединами и отягощенные служебным опытом почтенные протоиереи, воспитанные в атмосфере алтарной суеты, сами поддаются ее разлагающему влиянию и нередко в свободные от предстояния за престолом минуты предаются дружеской беседе, лишь изредка прерывая ее крестным знамением, совершаемым ради приличия или по привычке, лишенной всякого сознательного содержания.
Весьма ощутительно различие между поведением священнослужителей в алтаре и вне его. Уже готовясь к торжественному попарному выходу на литию, полиелей или на один из литургических выходов, поцеловав край престола и шествуя к выходам через северные и южные двери, священники невольно подтягиваются, на лицах появляется значительность и даже торжественность; уверенными, слегка поспешными шагами, но уже без всякой суеты они появляются перед прихожанами (отвлекая их, конечно, тем самым от молитвы), а спустившись к середине храма и отдав уставный поклон предстоятелю, они (те, кто умеет себя на людях держать) застывают в позах, полных не только значительности, но и кажущейся сосредоточенности.
Все сказанное имеет в некоторой степени памфлетный характер и отнюдь не претендует на универсальность. Слава Богу, в православном духовенстве очень много тех, кто, любя Господа Иисуса и радея о Его доме, знает радость и силу настоящей молитвы, живет и трудится в постоянном общении с Богом через восприятие Его Слова и благодати святых таинств. Недостатки богослужебной практики, недостаток благоговения, а у многих даже желания и умения внешне вести себя с элементарно пристойной сдержанностью — все это, конечно, тяготит любого молитвенно настроенного прихожанина, а тем более священнослужителя. Священнику приходится прилагать немало усилий, чтобы при многочисленных и разнообразных помехах сохранять молитвенный настрой, совершать тайные и произносить возглашаемые молитвословия, следуя за текстом не только взором и языком, но также мыслью и чувством. Священнослужителю нужно, обращаясь к Богу с сознательной и усердной молитвой, своевременно исполнять все предписываемые чинопоследованием обрядовые действия, не допуская небрежности, поспешности и неаккуратности.
Все это столь трудно, что многие (может быть, даже большинство) священнослужители с самого начала идут по линии наименьшего сопротивления, т.е. заботятся только о внешней стороне служения, в большей или меньшей степени пренебрегая тем, что воистину важнее и ценнее любых обрядов, — сознательным, вседушевным богослужением. Такой упрощенческий подход к преодолению трудностей священнослужения оказывается широким путем, ведущим к гибели (Мф 7:14). Избежать этого гибельного пути возможно только действием благодати Божьей, которая дается в таинстве рукоположения, но требует постоянного «возгревания» воленаправленным усилием самого священнослужителя, как начинающего, так и уже накопившего в большей или меньшей степени опыт служения (2 Тим 1:6).
Дело трудное, но ведь еще труднее много более широкое дело спасения, и здесь уместно будет вспомнить ответ нашего Спасителя ученикам, усомнившимся в самой возможности спасения: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф 19:26).
До сих пор мы касались в основном богослужебных недостатков и несообразностей, зависящих главным образом от самих участников богослужения, т.е. в первую очередь от священнослужителей и в какой–то мере от прихожан. Однако приходится признать, что в самом богослужении, унаследованном от множества поколений, есть особенности, не способствующие, а во многих случаях и мешающие как молитвенному состоянию и молитве присутствующих, так и восприятию ими Слова Божьего и литургических текстов. Остановимся на них, не входя в недоступные многим читателям исторические проблемы происхождения, развития и видоизменения текстов и обрядовых действий.
Прежде всего, следует выразить восторженную благодарность Богу за многовековое сохранение в Православной Церкви замечательных, поистине боговдохновенных, восточно–святоотеческих литургий св. Василия Великого и Иоанна Златоуста[17]
Литургия, как известно, имеет среди всех богослужений великое, ни с чем не сравнимое значение не только потому, что ее средоточие — таинство евхаристии, но и потому, что в отличие от других, постоянно совершаемых в приходской практике общественных богослужений, а именно, вечерни и утрени[18], ее молитвенное содержание имеет преимущественно христологический характер: молитвословия, обращенные к Богоматери и к святым, в литургии весьма лаконичны и практически не нарушают христологической молитвенной устремленности богослужения. Однако литургия в ее современном виде обладает многими особенностями текстов и обрядов, отнюдь не способствующими молитвенному состоянию и назиданию присутствующих.
Не говоря уже о малой доступности для прихожан богослужебного языка, приходится отметить наличие в литургии таких молитвословий, сам характер которых исключает возможность активного молитвенного их переживания даже и самими священнослужителями. Таковыми являются: заздравные и заупокойные поминовения, ектений об оглашенных и предпричастный интервал, заполняемый по обыкновению то «концертом», т.е. сравнительно сложным в музыкальном отношении песнопением, то чтением молитв перед причащением.
Поименное поминовение живых и усопших осуществляется включением в основное чинопоследование: живых — прошением «О милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих (следует перечень имен) и о еже умножити им лета жития их», а усопших — целой заупокойной ектений, начинающейся, однако, прошением за присутствующих молящихся: «Помилуй нас, Боже… Вставной характер этих поминовений виден уже из возможности пропуска как заздравного поминовения, так и заупокойной ектений, что и имеет место по усмотрению настоятеля в наиболее торжественные дни церковного года.
Сама по себе молитва за живых и усопших за литургией вполне естественна, но произнесение, обычно скороговоркой, имен, часто весьма продолжительное, не имеет для заполняющих храм людей ни назидательного, ни даже молитвенного значения, вызывая лишь утомление, желание скорейшего окончания и, разумеется, нарушает молитвенное состояние. Поминовение уставом предусмотрено в соответствующий момент, а именно, в конце проскомидии, т.е. приготовления Св. Даров, совершаемого обычно на жертвеннике священником во время чтения часов, но проскомидийное поминовение остается для прихожан неслышным, а «гласное» поминовение на литургии служит своего рода демонстрацией того, что поданные за свечным ящиком «записки» и «поминания» (записки, переплетенные в виде книжечки, с перечнем подлежащих поминовению живых и усопших) дошли до места назначения, т.е. до дьякона или священника[19]
«Оглашенными» (катехуменами) в древней Церкви, как известно, называли взрослых лиц, готовившихся к принятию крещения. Сама подготовка (катехизация) состояла в переходе к христианскому образу жизни под руководством священника и крестных родителей, т.е. обычно лиц, от которых оглашаемый воспринял начала христианской веры; в усвоении азов христианского вероучения, опять–таки под руководством священника (иногда — дьякона или даже мирянина, но по благословению священника) и наконец в регулярном посещении богослужений. Ектения «об оглашенных» есть молитва всей Церкви (всех молящихся за литургией прихожан) об «оглашенных», т.е. о тех, чьи имена «оглашены» к сведению всей общины, как имена готовящихся к вступлению в нее через таинство крещения.
В течение многих веков крещение в России совершалось в младенческом возрасте, и вся ектения оказывалась грубым анахронизмом, сохраняемым только из уважения к ее историческому происхождению, т.е. по традиции, анахронизмом, лишенным всякого содержания и смысла.
В послевоенные годы, особенно начиная с середины 80–х гг. крещения взрослых участились, а во многих приходах подготовка к крещению стала приобретать организованный характер. В связи с этим и ектения об оглашенных становится все более актуальной, но в этом отношении необходимы некоторые мероприятия: во–первых, следует периодически разъяснять прихожанам ее значение, особенно при проведении катехизических занятий; во–вторых, надо исключать завершающее эту ектению обращение к оглашенным, где они призываются покинуть храм — тем самым не допускается их присутствие (как еще некрещеных, т.е. не членов Церкви) при совершении важнейшей, самой священной части литургии — евхаристического канона с последующим причащением духовенства и мирян.
Если, как упоминалось, вся ектения об оглашенных приобрела в течение веков характер анахронизма, то в еще большей степени это относится к троекратно повторяемому призыву: «Елицы оглашеннии, изыдите», — призыву, которому никто не следует, на который никто даже внимания не обращает. Ведь в наших храмах присутствуют в течение всей литургии не только готовящиеся принять крещение, но и убежденные атеисты, совершенно не собирающиеся подходить к купели, и их никто не гонит, даже если их атеистические взгляды общеизвестны; они спокойно стоят в продолжение всей литургии, и их присутствие придало бы попытке изгнания оглашенных парадоксальный характер, если бы, конечно, кто–нибудь воспринимал ее сколько–нибудь серьезно.
Наличие в богослужении ектений об оглашенных, утомительного перечня имен при поминовении живых и умерших и другого словесного балласта — это не только бесплодная потеря времени, но и явный вред для всех молящихся. Пришедший в храм человек убеждается, что в богослужении имеются такие части или разделы, которые заведомо не подлежат восприятию, не имеют молитвенного значения, не претендуют на благоговейное отношение к их содержанию. Так как рядовой посетитель храма не в состоянии осознать, почему тот или иной текст не должен обладать для него какой–либо актуальностью и значением, не помогает «устремлению его ума и сердца к Богу» (что, согласно катехизису, составляет сущность всякой молитвы), то у него появляется искушение предполагать, что и остальные части богослужения, в том числе и евхаристический канон и чтение Священного Писания не столь уж важны и актуальны, что действенность всего, что произносится в храме на церковнославянском языке, заведомо снижается, так как до сознания человека доходят лишь некоторые слова, в лучшем случае — отдельные фразы!
Несколько слов теперь о предпричастном перерыве в богослужении. Чинопоследованием предусматривается в это время пение «запричастного» (скорее, предпричастного) извлеченного из Псалтири стиха, размер которого даже в концертном его исполнении не позволяет заполнить паузы, длительность которой определяется временем, необходимым для причащения в алтаре духовенства. Пение хора или чтение молитв перед причащением создает у молящихся соответствующее действительности впечатление, что молитвы читаются или поются не потому, что они потребны, как молитва, т.е. обращение к Богу, а потому, что необходимо заполнить возникший интервал. К тому же молитвы читаются часто с характерной для клиросного чтения безучастной монотонностью, что не соответствует ни их задушевному, возвышенному содержанию, ни торжественности предшествующих частей литургии — евхаристического канона и пения молитвы Господней. Слушают эти молитвы утомленные причастники, стоящие перед царскими вратами, и невольно испытывают нетерпеливое (или терпеливое, но от того не менее тяжелое) ожидание: когда же, наконец, царские врата откроются и начнется причащение. Очень благоразумно поступают те священники, которые обусловленную причащением в алтаре духовенства паузу заполняют проповедью, — если она содержательна и доходчива, то гораздо лучше подготовит людей к принятию святых тайн, чем монотонное звучание весьма назидательных, но — увы! — на славянском языке малодоступных большинству молитв. У остальных молящихся (т.е. у большинства) изменение характера богослужения создает впечатление, что с возгласом «Святая — святым» литургия в основном завершена, а так как после этого происходит причащение духовенства и мирян, то и вся заключительная часть литургии представляется неким добавочным эпизодом, со всем предшествующим органической связи не имеющим. Это, конечно, снижает силу благотворного воздействия, оказываемого на молящегося православного человека всей литургией в целом.
Но и наиболее важные по своей значимости, по своему спасающему воздействию непревзойденные части Божественной литургии не свободны от отдельных особенностей, затрудняющих молитвенное восприятие богослужебных текстов.
Всего лишь несколько фрагментов основной молитвы евхаристического канона[20], анафоры, произносятся вслух — это не только лишает слушателей возможности участвовать в соответствующих молитвенных переживаниях (они выпадают только на долю священников, читающих эти молитвы целиком наизусть или по служебнику), но делает бессмысленными сами эти громко произносимые отрывочные фразы, ибо вырванные из контекста, они утрачивают смысл и содержание их оказывается загадочным. Таков возглас: «Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще». Хотя эти слова составляют органическую часть молитвы, элементом которой они являются, однако обычно громкое, отчетливое произнесение резко обособляет их от невнятного пения предшествующего и последующего молитвенного текста, и потому смысл совершенно ускользает от сознания молящихся.
Другим, притом наиболее ярким примером разделения текста на произносимую и «тайную» его части, затрудняющего, точнее, делающего невозможным его понимание, может служить разделение одной из молитв евхаристического канона на две части, из которых первая читается священником «тайно», т.е. про себя, шепотом или вполголоса, а вторая, заключительная — во всеуслышание. Вот эта молитва: «Еще приносим Ти сию словесную и бескровную службу о иже в вере почивших праотцех, патриарсех, пророцех, апостолех, проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, воздержницех, о всяком дусе праведнем, в вере скончавшемся». Вся приведенная выше часть молитвы молящимся в храме не слышна и, следовательно, молитвенно пользуется ею только священник. До остальных доходит только вторая завершающая часть молитвы: «Изрядно (особенно) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Даже при беглом ознакомлении с этим заключительным текстом молитвы становится ясно, что он имеет смысл только в связи с предшествующей, первой ее частью и вне этой связи всякое значение утрачивает. В самом деле, говорится: «Изрядно о Пресвятей» и т.д., а что «изрядно»? В предшествующей части текста разъясняется, что бескровная Жертва приносится за литургией «о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся», в завершение молитвы нам возвещается высокая истина, что она приносится и за Пресвятую, Пречистую Богородицу и за нее «изрядно», т.е. «особенно», как бы в первую очередь. Весь глубокий смысл этого утверждения для слушателя пропадает, а относящиеся к Божьей Матери слова утрачивают всякий смысл.
Мы отметили лишь некоторые отрицательные черты богослужебной практики РПЦ, снижающие воздействие молитвенного текста, нарушающие молитвенное состояние прихожан. Эти отрицательные стороны тем более достойны сожаления, что само содержание большей части православных молитвословий обладает богатством богословской мысли и искренностью религиозного чувства. Но сожаление, которое издавна испытывали горящие любовью к Богу и Церкви духовные и светские ее чада, остается бесплодным переживанием, если не побуждает саму Церковь к уставным, каноническим, обрядовым и текстологическим изменениям, способствующим большей молитвенной воодушевленности каждого из посетителей наших храмов и всей Церкви в целом.
Приходится с горечью признать, что в этом направлении делается совершенно недостаточно, если делается что–либо вообще. Большинство церковных деятелей в сане и без сана, как рядовых, так и самых высокостоящих, как бы застыли в преклонении перед церковной действительностью и готовы мириться с любыми, даже самыми безобразными ее явлениями, ибо ими владеет любовь не к Богу и даже не к Церкви как к благодатному орудию нашего спасения, а к привычной церковной атмосфере, к церковному убранству и ритуалу, словом — к внешней стороне церковной жизни.
Развитие в светлом, спасительном для членов Церкви направлении возможно путем, прежде всего, общецерковной воспитательной работы и ряда несложных организационных мероприятий. И то и другое следует осуществлять не только по инициативе того или иного священника или даже архиерея, а как ряд систематических общецерковных мероприятий, проводимых сверху и воздействующих на всю массу православных христиан, — и уже заполняющих наши храмы, и тех, кто пытается или даже только начинает испытывать потребность в них войти.
Что необходимо осуществить в первую очередь?
Конечно, нужна систематическая разъяснительно–воспитательная работа, направленная к прекращению в храмах праздной суеты и болтовни. Эта работа должна вестись всеми священнослужителями путем бесед, проповедей, персонального воздействия на наиболее злостных нарушителей. Как показал опыт, весьма эффективна такая мера, как вынос свечного ящика за пределы храма в обособленное помещение или хотя бы в притвор. Не менее радикальное средство — полное прекращение любой деятельности за свечным ящиком сразу после начала Божественной литургии, о чем надо предупредить с амвона и при помощи письменных объявлений. Необходимо призывать прихожан не передавать свечи во время богослужения.
По отношению к духовенству церковное начальство не должно воздерживаться от применения самых строгих мер: за развязное поведение в алтаре следует из него изгонять! Немалую положительную роль могут сыграть понижения в служебном положении, снятие наград и в некоторых случаях даже наложение штрафов.
Вся эта воспитательная и административная работа не должна быть пущена на самотек, необходим неусыпный контроль, с тем чтобы каждый священнослужитель, а тем более церковнослужитель ощущал бы над собой крепкую руку старшего по службе, готового не только подсказать забытый возглас, но и заградить уста неблагоговейному болтуну, а если речь идет об архиерее, то крепкую длань патриарха, жестко взыскивающего со своих младших собратьев, если они поддаются искушениям распущенности и лени.
Наконец, высшему церковному священноначалию следует основательно задуматься над необходимостью облегчить физические условия пребывания молящихся за богослужением. Целесообразно было бы принять следующие меры:
полностью или хотя бы частично устранить из чинопоследований многочисленное повторение одних и тех же богосужебных текстов, представляющих собой утомительное «многоглаголание»;
упорядочить существующую практику стихийных, произвольных сокращений текста при чтении кафизм, стихир, канонов и проч.
установить во всех храмах (по периметру) скамейки для отдыха;
оборудовать храмы необходимой вентиляцией, соответствующей расчетным данным.
Осуществление этих и, возможно, иных несложных мероприятий будет поощрять молитвенные устремления всех посетителей храма, резко снизит усталость и, следовательно, потребность в праздных разговорах и в передвижении во время богослужения.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что хотя упомянутые меры, несомненно, увенчаются успехом и окажутся полезными даже в рамках какого–либо одного прихода, однако существенный эффект может быть достигнут только в результате мероприятий, проводимых централизованно в общецерковном порядке и сопровождаемых четко налаженной инспекцией, которая, с одной стороны, контролировала бы их неуклонное выполнение, а с другой — не органичиваясь церковно–административной деятельностью, постоянно призывала бы и архиереев, и все духовенство, и болеющих за церковную жизнь мирян к осознанию высокого призвания каждого члена Церкви в отдельности и всей Церкви Христовой в целом.
V. ПОЧИТАНИЕ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Почитание Божьей Матери занимает в религиозном сознании православного христианина очень большое место. Достаточно взять любую богослужебную книгу, равно как и любой молитвослов, предназначенный для домашнего употребления, чтобы убедиться, что почти каждое чинопоследование включает молитвы, обращенные к Богоматери. Она прославляется как Матерь нашего Спасителя и Господа, как «честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим», к ней обращаются с прошениями о молитвенном предстательстве, ходатайстве перед Богом как за совершающего молитву, так и за всю Церковь Христову, за весь человеческий род. Содержание молитвословий многообразно: здесь и мольба о спасении, и отражение наветов врага рода человеческого, и прошения, вызванные текущими житейскими заботами, трудностями и горестями.
В историческом плане почитание Богоматери имеет несколько оснований. В качестве первого следует упомянуть естественный факт: существование у Господа Иисуса Христа, как у всякого человека, Матери. В силу этого на Пресвятую Деву частично переносятся чувства любви и благодарности, которые, будучи обращенными к ее Божественному Сыну, составляют существеннейший аспект христианства в его идеально евангельском понимании (Ин 14:15, 21, 23–24; 21:15–17; 1 Ин 4:19–21).
Другим основанием следует считать евангельские тексты, выделяющие Богоматерь (а следовательно, и отношение к ней) из всех женщин человеческого рода как избранницу Божью, особым образом облагодатствованную, выполнившую исключительную по своему значению, трудности и святости жизненную задачу.
Так, уже в приветствии Архангела Гавриила, представшего пред Девой Марией в Назарете, содержится указание на исключительность возвещаемого им благовестия: «Господь с Тобою; благословенна Ты между женами»(Лк 1:28). Все остальное, сказанное Ангелом, содержит изложение сущности преподаваемого благовестия: «Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и родишь Сына… Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя» (ст. 35), а также христологическое пророчество: «наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца… рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (ст. 31–33, 35).
Другим, не менее определяющим основанием почитания Богоматери являются ее пророческие слова: «отныне будут ублажать Меня все роды » (Лк 1:48).
Все это, как видим, было произнесено до Рождества Христова. Но вот, в самом конце земного пути Господа Иисуса Христа, Его Матерь услышала из Его уст обращенные к ней слова усыновления ею любимого ученика Иисуса — Иоанна: «Жено! Се, сын Твой» и далее — подобные же слова Иисуса, обращенные к Его ученику Иоанну: «Се, Матерь твоя!» (Ин 19:26, 27).
Конечно, усыновление непосредственно относилось к любимому ученику Христову, но христианское сознание как на Востоке, так и на Западе с самого начала молитвенного почитания Богоматери усматривало в предсмертном завещании Богочеловека основание для надежды всех христиан на ее материнское молитвенное предстательство.
Таким образом, текст евангелиста Иоанна, воспроизводящий столь значительные предсмертные слова Спасителя, дает основание уже не только для почитания Богоматери, но и для молитвенного обращения к ней, для просьб о ее содействии общему потоку человеческих прошений, обращенных к Богу, Единственному Источнику всякого блага, прежде всего — вечного спасения.
Однако несмотря на громадное значение всех евангельских
высказываний, являющихся обоснованием молитвенного и всякого иного почитания Божьей Матери, все же не наличие в Священном Писании тех или иных текстов (многим православным даже неизвестных) побуждает к почитанию Божьей Матери, а тем более обращению к ней с просительными молитвами, — христианам, особенно православным, присуще особое, эмоционально весьма ярко окрашенное отношение к Божьей Матери. Это отношение включает, прежде всего, уверенность в ее любви к искупленному ее Божественным Сыном роду человеческому, нашу ответную любовь к ней, находящую себе яркое выражение не только в богослужении, но, прежде всего, в сердцах православных людей, и, наконец, уверенность в особой близости Божьей Матери к ее Божественному Сыну, в вечно продолжающейся близости, основанной на любви, материнской и сыновней.
Такие чувства и вся задушевность отношения православного христианина к Божьей Матери находят выражение как в личных, никем из окружающих не зримых и потому никому неизвестных молитвенных обращениях православного сердца, так и в литургических текстах. Литургическое прославление Богоматери занимает в православном богослужении громадное место (равно как и в молитвословиях, рекомендуемых для домашней молитвы). Но и в сугубо личных, интимных молитвах люди очень часто взывают к Божьей Матери.
Почему нельзя просто сказать — «чаще всего»? Казалось бы, и приведенные евангельские тексты и сама непревзойденная и несравнимая близость Богоматери к ее Сыну дают основания для преимущественного, ни с кем не сопоставимого почитания? Однако если в литургической сфере Богоматерь действительно занимает среди всего сонма святых самое выдающееся место, люди в целом столь же восторженно воспевают и столь же усердно обращаются за помощью к особо почитаемым святым, в частности к святителю Николаю, целителю Пантелеймону, преподобному Сергию и некоторым другим.
Может быть, именно как протест против выдвижения на передний план лиц, вступавших в ходе исторического процесса в ряды канонизированных святых, привлекавших при этом к себе особое внимание, оставляющее в тени Богоматерь, появились песнопения и молитвы, утверждающие приоритет почитания Богоматери. Именно этой тенденцией «защиты» почитания Божьей Матери как исключительно, несравнимо близкой к ее Божественному Сыну (т.е. Богу!) можно объяснить появление таких песнопений, как «Не имамы иныя помощи», «К кому возопию, Владычице, к кому прибегну к горести моей» и подобных других. При составлении этих молитвословий упускалось из виду, что их текст при буквальном понимании может быть воспринят как некое умаление почитания кого–либо, кроме Божьей Матери.
Накануне Своих крестных страданий Христос настойчиво убеждал учеников: «Истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин 16:23–24). Позже ученики Христовы, в самом начале своей проповеднической деятельности, говоря о Божественном Учителе, с полной уверенностью провозглашали: «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
Конечно, ни один православный богослов, более того, как можно надеяться, ни один православный священник не будет утверждать в проповеди, что ко Христу не следует обращаться с молитвой, что она должна быть направлена только к Его Пречистой Матери.
Православным ответом на недоуменные вопросы по поводу обычного молитвенного обращения: «Пресвятая Богородице, спаси нас!», которое, казалось бы, прямо противоречит приведенным здесь апостольским словам, является уверенность православного человека во всесильности молитвенного предстательства Божьей Матери перед ее Божественным Сыном. Подобные молитвенные обращения к Божьей Матери оставляют глубокий след в душах молящихся, и, к сожалению, некоторые из них забывают о том, что Иисус Христос есть «един и посредник между Богом и человеками» (1 Тим 2:5), и начинают пренебрегать непосредственным общением со своим Спасителем, а со всеми нуждами и заботами обращаются к Его Матери, и притом только к ней, что в своем крайнем выражении привело к возникновению «Богородичной ереси».
С весьма ярким примером такого извращения автор имел случай соприкоснуться лично в Вологде, куда осенью 1958 г. приехал из Ташкента протодьякон о.Алексий. Он в частном разговоре прямо заявил, что молится, обращаясь только к Божьей Матери, и ссылался опять–таки на популярную молитву: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды разве Тебе, Владычице». Заслуживает внимания трагическая судьба этого протодьякона: в начале 60–х г.г. он публично отрекся от веры, а через несколько лет покончил с собой.
В течение последних десятилетий и в богослужебной практике появились искажения православного почитания Пресвятой Девы Марии, уже не только в виде молитвенных обращений, прошений и т.п. но даже целых чинопоследований. Таковы так называемые «непорочны», читаемые на утреннем богослужении, посвященном погребению Божьей Матери. По форме они копируют полностью чинопоследование утрени Великой субботы, а по содержанию отличаются тем, что обращены к Божьей Матери, в то время как соответствующее страстное чинопоследование обращено, как известно, к Господу Иисусу Христу, Тело которого символически погребается во гробе. Во всех стихах успенского чинопоследования ярко выражено стремление сравнить, а порой даже отождествить обстоятельства конца жизненного пути Пречистой Матери с соответствующими обстоятельствами кончины и погребения ее Божественного Сына. Во многих стихах эта тенденция приводит даже к простому повтору содержания стихов Великой субботы, где заменяется лишь обращение: вместо имени Спасителя подставляется имя Богоматери. Упомянутое тождество формы, в частности сопровождение каждой «похвалы» стихами 118 псалма — «Блаженни непорочнии в пути», равно как и крестный ход с плащаницей вокруг храма в конце утрени еще сильнее подчеркивает сходство успенского чинопоследования со страстным.
Не говоря уже о том, что подобная грубая переделка, представляющая собой искаженное заимствование, лишает успенские «непорочны» осмысленности и красоты (свойственной, однако, оригиналу, каким являются древние страстные «непорочны»), насильственное сопоставление таит в себе опасности подмены в сознании православного человека молитвенного переживания страданий, смерти и воскресения Спасителя переживанием событий, сопровождавших, согласно преданию, успение Божьей Матери[21]
Чин ее погребения появился на Руси сравнительно недавно, всего лишь в начале XX столетия. В частности, в Петрограде он впервые совершался в 1923 г. в храме (ныне не существующем) на улице Жуковского близ угла Надеждинской улицы (ныне Маяковского), где размещалось подворье женского монастыря. Богослужение совершал епископ Петергофский Николай (Ярушевич), будущий митрополит Крутицкий и Коломенский.
По имеющимся сведениям, чинопоследование проникло в Русскую Церковь через Западную Украину, где его создание и распространение легко объяснимо униатским стилем почитания Божьей Матери, навеянным католической мариологией доватиканской эпохи[22]
Еще более богословски нелепой и, можно безоговорочно сказать, — кощунственной имитацией следует признать появившуюся в последние десятилетия XX столетия так называемую «Богородичную Псалтирь», где псалмы Давида, принадлежащие, как известно, ветхозаветной эпохе, адресуются опять–таки не Всемогущему, Истинному Богу Израилеву, а… Божьей Матери.
Только низким уровнем христианского самосознания многих православных людей, в том числе, увы, также облеченных большим доверием и ответственностью церковных деятелей, можно объяснить появление в печати и широкое распространение такого рода нелепицы.
Весьма знаменателен тот факт, что призыв к почитанию исключительно Божьей Матери содержится только в молитвословиях позднейшего происхождения, тогда как более древние строго христологичны и органически сочетают почитание
Божьей Матери, благодатное упоминание значения и действенности ее молитвенного предстательства с обращением к Иисусу Христу как к Источнику спасения. Таковы постоянно повторяемые в богослужебных последованиях «богородичны»: «Преблагословенна еси, Богородице Дево» (воскресная утреня), «Нас ради рождейся от Девы» (9–й час), тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце правды Христос, Бог наш» (тропарь праздника Рождества Богородицы, ср. Тропарь Сретения Господня) и многие другие[23]
Наиболее совершенной из всех «богородичных» молитв следует признать «Богородице, Дево, радуйся», где прославление Богоматери органически сочетается с прославлением ее Божественного Сына и даже с упоминанием сущности Его спасительного подвига — «яко Спаса родила еси душ наших». В этом великом песнопении сочетаются слова Архангела (Лк 1:28) и святой Елизаветы (Лк 1:42), близкого Марии человека: «Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего». Именно этими, увековеченными в молитве словами Елизавета приветствовала посетившую ее родственницу, вступившую на предопределенный ей великий, святой и безмерно тяжкий жизненный подвиг.
В заключение можно сказать, что православно–церковное понимание места, занимаемого Матерью Божьей в Церкви, прекрасно отражено в литургии св. Иоанна Златоуста, где евхаристическое «тайное» поминовение: «Еще приносим Ти сию бескровную жертву о иже в вере почивших праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апостолех, мученицех, исповедницех, воздержницех и о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся» заканчивается возгласом: «Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии» (об этом уже упоминалось в предыдущей главе). Тем самым утверждается, что стоящая на престоле бескровная Жертва приносится о всех «в вере скончавшихся», в том числе и о Пречистой Богородице включительно, причем о ней «изрядно», т.е. особо и в первую очередь. Тем самым косвенно указывается, что Богоматерь возглавляет весь молитвенный сонм спасающихся через искупительный подвиг ее Божественного Сына.
В конце 80–х гг нашу Церковь постигло новое бедствие, выражаясь богослужебным языком, — новый церковный соблазн, являющийся прямым развитием и последствием отмеченных выше уклонений от догматически правомерных форм почитания Пресвятой Богородицы; имеется в виду упомянутая выше «Богородичная ересь», приверженцы которой открыто, претендуя на изложение якобы богословской истины, провозглашают приоритет почитания Богоматери. Явное несоответствие этого лжеучения основным истинам православной веры, наряду с широкой «миссионерской» деятельностью, проводимой так называемым «Богородичным центром», побудили руководство РПЦ вынести проблему на обсуждение архиерейского собора и на страницы церковной печати.
Следует молиться о том, чтобы Господь Сам действием Святого Духа оградил Свою Церковь от еретических лжеучений, использующих любовь православных людей к Пресвятой и Преблагословенной Деве Марии для кощунственного, а по отношению к ней оскорбительного противопоставления Богородицы ее Божественному Сыну в сердцах искупленных Им. Веруя в вечность, нерушимость и неодолимость Церкви Христовой, мы веруем также, что никакие измышления и еретические извращения не смогут нарушить глубокую сопряженность нашего почитания и наших чувств, обращенных к Божьей Матери, с почитанием и с любовью к ее Божественному Сыну, нашему Господу, Искупителю и Спасителю.
VI. ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ
Понятие о святости людей в православном богословии двояко: к святым в широком смысле слова могут быть отнесены все крещеные люди, сохраняющие свою принадлежность к Церкви Христовой. К святым в смысле особой близости к Богу, являющейся основанием для их личного почитания, причислены ушедшие в иной мир люди, в отношении которых Святая Церковь убеждена, что они уже сподобились спасения и наслаждаются вечным блаженством. Настоящая глава посвящена прославленному почитанию людей, чья святость понимается именно в этом смысле.
Прежде всего, под святостью понимается освященность, даруемая человеку в таинствах крещения, миропомазания, а в дальнейшем в многократно повторяемом таинстве евхаристии, т.е. в причащении Тела и Крови Христовых. Именно эту святость имел в виду апостол Павел, когда писал: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева (императорского) дома» (Флп 4:22); в другом месте «Приветствуют вас все святые» (2 Кор 13:12). То же самое понимание святости нашло отражение в литургических возгласах: «Благословен вход святых Твоих», «Вся святыя помянувше, сами себе и друг друга и живот наш Христу Богу предадим»[24]
Зато почитание канонизированных святых (т.е. признаваемых Церковью таковыми по итогам их земного пути) получило в Кафолической Церкви, как на Востоке, так и на Западе самое широкое распространение; уже с III–IV вв. оно вошло в плоть и кровь церковной жизни. Почитая святых, Церковь особое внимание уделяет проявлениям их святости, например: нетлению мощей, чудесным исцелениям и др.
Самым ранним следует признать почитание мучеников: уже у св.Иоанна Златоуста можно найти отдельные высказывания, содержащие восхваление христиан, проявивших твердость в вере, претерпевших в период гонений преследования, страдания, а зачастую и смерть принявших за веру Христову. У живших на полстолетие раньше великих каппадокийцев — Василия Великого, его брата Григория Нисского, Григория Богослова (Низианзина), встретить упоминания о мучениках труднее. Ни у кого из них нет еще сколько–нибудь отчетливого учения о молитвенном предстательстве усопших, в том числе мучеников, апостолов и пророков. Хотя почитание святых мучеников, в частности совершение литургии на местах их захоронений и благоговейное отношение к их останкам, твердо вошли в обиход жизни христианина уже во II—III вв., однако призывание их молитвенного содействия возникло значительно позже и может быть отнесено к периоду V–VIII вв., когда почитание распространялось также и на аскетов, подвижников, а потом и на некоторых святителей.
Особое почитание воздавалось местным святым, т.е. по месту жительства, кончины и погребения того или иного христианина, впоследствии удостоенного прославления. Вообще канонизация как церковно–канонический акт — явление сравнительно позднее, которое можно проследить не ранее чем с V в. До того прославление святых происходило спонтанно, шло снизу, от народного благочестия и Церковью лишь фиксировалось и утверждалось чаще всего в порядке богослужебного поминовения.
Следует напомнить, что Церковь молитвенного обращения к святым своим членам никогда не предписывала и не навязывала. Все поистине грандиозное обилие обращенных к святым молитвословий, создававшееся веками и постепенно входившее в богослужебное употребление, не подвергалось до последнего времени церковному официальному санкционированию или утверждению. Интересно также отметить, что обращенные к святым молитвословия (тропари, кондаки и другие) почти все анонимны, т.е. авторы их неизвестны, между тем как очень многие аналогичные молитвословия, обращенные к Богу (и Иисусу Христу, ко Святому Духу, ко Святой Троице), хотя и дошли до нас по большей части из глубокой древности, но мы хорощо знаем имена их авторов. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить творческую деятельность таких великих молитвенников и песнотворцев, как святые Иоанн Дамаскин, Роман Сладкопевец, Косма Майюмский, как творцы совершаемых в Православной Церкви литургий, или заглянуть в часослов и в обычный молитвослов, где указаны авторы почти всех (в часослове — многих) молитв, утренних, вечерних, перед причащением, крещением и др.
Все это говорит о спонтанном возникновении и внедрении бесчисленных элементов православного богослужения, представляющих собой молитвенные обращения к многочисленным святым, преимущественно к наиболее чтимым. Однажды включенный в богослужение по чьей–либо инициативе тот или иной элемент, в частности, например, молитвенное обращение к тому или иному пользовавшемуся общим почитанием усопшему мученику, исповеднику или церковному деятелю, впоследствии закреплялся частым или даже постоянным, хотя еще не утвержденным уставом повторением[25]
Сказанное подтверждается также тем общеизвестным фактом, что большинство святых, имена которых можно найти в православном календаре (в «святцах»), вообще не имеют составленных в их честь и обращенных персонально к ним молитвословий и служб. Если в том или ином приходе есть желание почтить память такого святого, ему совершается служба по Общей минее, где помещены несколько служб, из которых каждая предназначена для молитвенного чествования любого лица, принадлежащего к одной из известных нашей Церкви групп святых, т.е. мучеников, преподобных, святителей и других, так что любому святому поются и читаются песнопения и молитвы те же, что и другим святым той же группы; разница — только в имени святого, которое вставляется в предусмотренные в тексте места.
Практически, однако, память большинства святых, не пользующихся широкой известностью и почитанием[26] вообще богослужебно не отмечается; в лучшем случае усердный священник упомянет их имена в отпусте или при совершении проскомидии.
Все это говорит о большой степени свободы в богослужебном почитании святых: не имея догматического или даже канонического обоснования, оно базируется главным образом на народном благочестии; лишь в отношении богослужений в честь наиболее древних и особо почитаемых святых можно найти указания в типиконе и в Минее месячной[27] (таковы наиболее близкие Христу святые апостолы, наиболее почитаемые пророки, прославленные великомученики и святители древности). Обращение к святым в частной (личной) молитве Церковью никак не регламентируется и предоставляется целиком воле и инициативе молящихся.
Этими обстоятельствами, равно как и отсутствием по обыкновению, современных тому или иному прославляемому лицу свидетельств, объясняется легендарный характер значительной части житийной литературы (агиографии). Наименее «украшены» легендарными, в большинстве чудесными деталями жития святых, живших в сравнительно позднее время. Так, сравнительно достоверными можно считать жития многих русских святых, вошедших не только в агиографию, но и в гражданскую историю нашего народа, таких, как князья Владимир Киевский, Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобные подвижники Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святители, в том числе московские, Петр, Алексий, Филипп, Иов и Гермоген, Митрофаний Воронежский, Феофан Затворник, подвижники Антоний и Феодосии Печерские и многие другие.
Однако и позднейшие творения житийной литературы не обошлись без надуманных, фантастических «басен» (1 Тим 4:7; 2 Тим 4:4); таковы, например, упоминания о молитвенных воплях, якобы издаваемых в утробе матери, и воздержании грудных детей по постным дням от материнского молока[28] Если подобные сказания вызваны естественным желанием как–то возвеличить святого, приписать ему святость с момента рождения, то в житийной литературе можно встретить также легенды, создание которых вовсе нельзя объяснить: они являются просто плодом богатой, даже безудержной фантазии. Таково, к примеру, «предание» о путешествии Марии Магдалины в Рим, где она якобы преподнесла императору Тиверию крашеное яйцо и приветствовала его словами «Христос Воскресе». Эту выдумку, совершенно не укладывающуюся в исторический и социально–бытовой контекст, можно услышать в проповедях чуть не каждый раз, когда речь зайдет о Марии Магдалине, чаще всего в третье воскресенье Пятидесятницы. Не менее фантастическим представляется использование св. Кононом (день памяти — 5 марта) для сельскохозяйственных работ бесов, изгнанных им из людей. Но известны, однако, и древние святые, жития которых свободны от явных вымыслов, засвидетельствованы до мельчайших подробностей и от коих до нас дошли не только биографические сведения, но и многотомные сочинения. Таковы, например, отцы каппадокийцы (IV в.) и особенно святой Иоанн Златоуст (+ 407).
Следует отметить однако, что, независимо от степени достоверности, жития святых не только интересны и содержательны, но и представляют собой поучительное чтение, на котором духовно воспитывалось множество христиан в течение двух тысячелетий церковной истории.
Почитание святых имеет различные и взаимосопряженные стороны.
1. Знакомство всей Церкви с событиями земной жизни как признанных и прославленных святых, так и членов Церкви, еще не канонизированных, но уже пользующихся местным или общецерковным почитанием; повествование о жизни таких лиц сопровождается обычно указанием на их поведение и деятельность как на образец, достойный подражания; пример святых служит при этом своего рода ободрением, свидетельствующим о реальной, открытой для каждого возможности достигнуть высот нравственной, богоугодной жизни и близости к Богу, т.е. святости.
2. Прославление святых (признаваемых Церковью, т.е. канонизированных) в общественной и частной молитве, для чего фактическим обоснованием служит опять–таки их богоугодная жизнь, а канонически — причисление их Церковью к лику святых, т.е. канонизация.
3. Обращение к святым как к молитвенникам за человечество в целом, за Церковь и за отдельных христиан, в частности, и в особенности за тех, кто призывает их на помощь.
Первый фактор не вызывал и не вызывает в христианском мире особых разногласий. Даже протестантские течения не отрицают полезности и допустимости памятования о жизни людей, прославившихся в истории благочестием и доброделанием.
Второе же обстоятельство — восхваление и прославление (обычно посмертное) членов Церкви, широко известных своей богоугодной жизнью — является не чем иным, как эмоциональным преломлением первого аспекта, лирическим к нему комментарием.
Совсем иная ситуация сложилась относительно третьей стороны церковной жизни, являющейся предметом оживленных дискуссий, особенно обострившихся на Западе в ходе Реформации и поныне не утративших остроты и злободневности. Как известно, в то время как обе Кафолические Церкви (Восточная и Западная) включают молитвенное обращение к святым в свое вероучение и богослужебную практику, почти все протестантские церковные организации (конфесии, деноминации), сформировавшиеся на почве Реформации, отвергают возможность такого обращения или, по меньшей мере, от него воздерживаются.
Следует отметить, что отрицательное отношение реформаторов к почитанию святых в значительной мере вызвано извращениями, которыми это почитание сопровождалось в условиях средневекового католицизма. Но надо также признать, что и в Восточной Церкви такие же и им подобные отклонения не только имеют место, но и широко распространены, что опасно не только для чистоты христианского сознания отдельных верующих, но и для чистоты самого провозвещения Христовой истины, для всей церковной жизни.
Проблема допустимости и обоснованности обращения к святым с просьбой о ходатайстве перед Богом затрагивается в Священном Писании лишь вскользь. Можно сослаться на обстоятельства земной жизни Спасителя, когда к Нему обращались с просьбами через посредников. Таким посредником на брачном пиру в Кане Галилейской явилась Матерь Иисуса, доведшая до Его сведения озабоченность хозяев дома по поводу нехватки вина (Ин 2:1–11). Другим примером может служить обращение ко Христу учеников Филиппа и Андрея, по ходатайству которых были допущены к беседе со Спасителем приехавшие на праздник чужестранцы (Ин 12:20–29).
Примеры эти звучат убедительно, но касаются ходатайства друг за друга людей, пребывающих в условиях земной жизни.
Но вот текст из Апокалипсиса, где находим намек на молитвы, воссылаемые в условиях потустороннего бытия (Откр 8:3–4): говорится о дыме фимиама с молитвами святых — однако здесь остается неизвестным характер этих молитв; имеются ли в виду молитвы просительные, хвалебные или благодарственные. Наиболее вероятно, что «молитвы святых» в Апокалипсисе — это славословия «множества людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов и языков», которые восклицали громким голосом: «спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу» (Откр 7:9–10). Тот же хвалебный характер имеет и ангельское славословие, которое приводится в одном из следующих стихов той же главы: «Аминь! Благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» (ст. 12). Элемент прошения или ходатайства здесь обнаружить трудно.
Как известно, противники обращения к святым с просьбой о молитвенном ходатайстве тоже ссылаются на тексты Священного Писания, но мы не будем касаться этого вопроса, т.к. наша задача сводится к критике не установлений и сакраментальной практики православия, а лишь его извращений и отклонений от духа и буквы Евангелия.
Есть и другие не менее (а может быть, и более) веские положения, воодушевляющие (чаще всего неосознанно или подсознательно) православного человека (равно как и католика), когда он молитвенно обращается к тому или иному святому.
В самом деле, молитва, общецерковная и частная, является неотъемлемой частью молитвенного наследия, молитвенной практики, можно сказать^всей духовной жизни христианской Церкви и каждого христианина независимо от его конфессиональной принадлежности. Молитва за окружающих людей, близких и дальних, имеет примером и образцом как молитвенный опыт Самого Господа Христа (Лк 22:32; 23:34), так и практику Церкви Христовой с самого ее основания (Деян 12:5; 1 Тим 2:1–2; Иак 5:14–16). Но если молитва за других, прежде всего за ближних, естественна, оправдана и действенна, то почему она, как утверждают противники молитвенного обращения к святым, утрачивает свою действенность и легитимность, как только молящийся субъект переходит в горний мир? Ведь предпосылкой просительной молитвы за другого являются реальность существования субъекта и объекта молитвы, а также любовь молящегося субъекта. Объекты молитвы ушедших от нас людей продолжают еще свое земное странствование, а субъекты, т.е. молящиеся, хотя и оказываются в новых условиях, однако живут в полном смысле этого слова, как это засвидетельствовано Самим Христом: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк 20:38). Трудно сомневаться, что, уходя в иной мир, люди сохраняют свойства и характерные черты, присущие им в прожитой земной жизни, и именно устойчивость, неподвластность смерти самого святого свойства, в котором человек реализует свое богоподобие, — любви, имел в виду апостол Павел, когда утверждал: «Любовь никогда не перестает» (1 Кор 13:8).
Итак, есть основания надеяться, что ушедшие от нас, в частности удостоенные вечного блаженства наши братья по вере сохраняют любовь к пребывающим на земле людям и проявляют ее в ходатайственной за них молитве, в предстательстве за них перед Богом подобно тому, как они прежде проявляли свою любовь к ближним, подобно тому, как делаем это и мы, когда молимся здесь друг за друга. Можно предполагать, что если бы обсуждаемая здесь проблема стала предметом богословского рассмотрения, то идея о возможности молитвы жителей горнего мира за нас, жителей земной юдоли, вряд ли встретила бы серьезные возражения.
А возможно ли непосредственное духовное общение между жителями двух миров, и если возможно, то допустимо ли с евангельских позиций? Ответ на поставленный вопрос будет отнюдь не однозначный, ибо молитвенное обращение к кому–либо, кроме Бога, человеку с протестантской психологией представляется впадением в язычество, шагом к многобожию.
Мы уже упоминали, что реформаторы отрицают допустимость молитвенного почитания святых. Это в значительной мере вызвано извращениями такого почитания в условиях средневекового католицизма. Извращения эти таковы:
преувеличенное, гипертрофированное почитание отдельных святых. Оно наносило ущерб богопочитанию и, несомненно, содействовало внедрению в сознание христиан элементов языческой психологии;
обращение к некоторым святым с преимущественным ожиданием от них помощи при болезнях или тяжелых житейских обстоятельствах;
прямое обожествление святого.
Не только богословам и священнослужителям, но и мирянам нашей Церкви известны эти крайности почитания святых (они прямо или косвенно в них неизбежно участвуют).
Хотя, обращаясь к любому святому, Церковь вполне канонично и последовательно взывает: «святителю отче», или «святый мучениче», или «преподобный отче, моли Бога о нас», однако многие молящиеся, слыша или произнося эти обращения, ожидают помощи не от Бога по молитвам святого, а от самого святого, становящегося непосредственным объектом почитания и обращения. Происходит психологический процесс подмены Бога, единственного Источника всякой помощи, избавления и спасения, другим объектом обращения — тем, к кому обращение направлено, и благоговение перед кем (а часто и любовь к кому) заставляет забывать о его человеческой натуре и, следовательно, ограниченности возможностей. В некоторых случаях это приводит к полному игнорированию Источника всякого блага, к забвению Бога.
Так, всем известно высокое почитание святителя Николая, архиепископа Мир–Ликийского, основывающееся как на фактах его жития, свидетельствующего о его глубокой деятельной любви к ближним, так и на широкой убежденности и трогательной вере в его личное духовное могущество, в его широкие возможности оказать помощь тем, кто к нему за ней обращается.
Автор хорошо знал ленинградского инженера, который в кругу сослуживцев называл себя безбожником, открыто исповедовал атеизм. Однако над его постелью всегда висела икона святителя Николая, имя которого этот инженер носил. На недоуменный вопрос, как это согласуется с его атеизмом, Николай Васильевич с убежденностью отвечал: «Ну что вы! Святитель Николай — мой непременный помощник во всех случаях жизни: я без него и шагу не сделаю». Это наглядный случай вытеснения почитания Бога гипертрофированным почитанием святого.
Приведенный пример отнюдь не единичен. Множество православных (равно как и католиков, хотя теперь, после II Ватиканского Собора их число уменьшилось), молясь святому, забывают о Боге и, не отрицая, в отличие от вышеупомянутого инженера, бытия Божьего, как бы выносят Его за скобки своего умозрения, своих молитвенных переживаний.
Другой случай, тоже из личного опыта.
В 50–х гг. в Преображенском соборе Ленинграда служил пожилой, почтенный протоиерей о.Иоанн Чукой. Помню его возмущение, когда женщина, для которой он собирался служить «заказной» молебен, заявила, что «служить Спасителю не надо, а только Казанской Божьей Матери[29] и Николаю Чудотворцу». У уважаемого, просвещенного пастыря такое высказывание вызвало негодование, но можно себе представить, как часто (практически всегда) подобные проявления языческой психологии не встречают не только укора, но даже возражения или хотя бы пастырского замечания!
Совершенно иной характер у второго из отмеченных выше извращений. Мы уже говорили, что почитание святых догматическими установлениями Церкви не предписывалось и тем более не регламентировалось. Конечно, Церковь никогда не закрепляла за своими святыми каких–либо областей их духовного или материального воздействия, молитвенного или, как в народном понимании, самостоятельного и непосредственного. Локализация и специализация почитания и предполагаемой сферы деятельности целиком является порождением народного благочестия, принимая нередко совершенно уродливые формы. Так, Антипа, священномученик I в. почитается как целитель зубной боли, и его иконы нередко украшаются своего рода амулетами — вырванными и искусственными зубами. Известны пользующиеся доверием у суеверных женщин рекомендации обращаться для преодоления «блудного наваждения» к св. Моисею Мурину, при опасностях водного путешествия — к святителю Николаю, при падеже скота или болезнях — к свв. мученикам Флору и Лавру, а при разных человеческих болезнях — к св. великомученику и целителю Пантелеймону и т.д.
Хотя такая «специализация», свойственная почитанию святых в течение прошлых веков, в наше время с амвонов преподается редко, однако в народном сознании она пустила столь глубокие корни, что даже от молодых людей, только–только переступивших церковный порог, приходится слышать вопросы, какому святителю надо поставить свечку в связи с той или иной житейской ситуацией[30]
Говоря о третьем, наиболее ярком типе агиологического извращения, автор должен с горечью признать, что ему нет нужды трудиться, чтобы обнаружить примеры прямого обожествления, в данном случае опять–таки святителя Николая.
В 1992 г участвуя в Поместном Соборе РПЦ, проходившем в Даниловом монастыре Москвы я вместе с другими участниками Собора молился утром в монастырском храме, причем стоял около помещенной у правой стены храма иконы святителя Николая. На моих глазах перед иконой кладет земной поклон средних лет мужчина, размашисто крестится и довольно громко молится: «Святитель ты наш Николае, бог ты наш (!!!), прости меня, грешного, и спаси нас всех»! Когда он повторил эту «молитву» несколько раз, я не выдержал и, наклонившись к коленопреклоненному новоявленному язычнику, попытался кратко объяснить непристойность такой «молитвы» в устах православного христианина, на что последовало направленное против Христа богохульство.
Православной Церкви в лице ее богословов, епископата и всего духовенства следовало бы вести непримиримую борьбу с остатками языческого политеизма, особенно в современную эпоху. Но печальный исторический опыт показывает, что эта борьба если и велась, то в недостаточной степени. Как на Востоке, так и на Западе большинство представителей духовенства уступало народному благочестию и не только терпело, но даже поощряло его болезнетворные извращения, не обращая внимания на бесчисленные случаи обожествления святых в сознании и молитвенной практике верующего народа. Более того, духовенство нередко и само поддавалось этому же неблагочестию, а скорее — злочестию.
Церковь легко мирилась с загрязнениями, извращениями и нарушениями чистоты церковного учения. Между тем следовало бы не забывать об элементарной истине: объем человеческого сознания ограничен и частичное заполнение его каким–то содержанием неизбежно сопровождается вытеснением из него иного содержания. Так, увлечение искусством почти всегда приводит к снижению деловой активности в технической, научной или какой–то другой деятельности. Влюбленность снижает интенсивность человеческого внимания и даже любви к другим объектам. Точно так же молитвенная активность, обращенная к святым, естественно приводит к уменьшению, охлаждению, а то и полному исключению душевной обращенности к Богу.
VII. КРЕСТОПОЧИТАНИЕ
Знак (знамение, знамя) креста, по–видимому, самое древнее зримое, наглядное изображение из всех, вошедших в обиход Христианской Церкви. Простота, осмысленная символичность, а самое главное — глубокая значительность способствовали его быстрому распространению среди христиан.
Вероятно, уже с I в. по Р.Х. во времена гонений, крест служил условным знаком церковной принадлежности (в греко–язычных местностях — наряду с изображением рыбы, о чем подробнее см. в главе «Иконопочитание»).
Изначально крест изображался только схематично; изображение на нем Распятого стало появляться значительно позже, в период развитого иконопочитания, а знак креста уже в первые послеапостольские (а может быть, и апостольские?) десятилетия служил предметом благоговейного созерцания и почитания в местах обитания и молитвенных собраний христиан.
Значительность креста обусловлена величайшим событием в истории человечества, обусловившим каждому христианину возможность спасения, — добровольными страданиями и смертью на кресте Господа Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи человечества и Своей любовью освободившего всех Своих последователей от наказания за грехи, т.е. от смерти и вечных мучений.
Именно с этой основной идеей связано одно из древнейших применений крестного знамения — начертание креста на могильных плитах, а также установка креста в качестве могильного памятника. Другое, более житейское применение креста
впервые имело место перед победой римского императора Константина Великого над Максенцием. Согласно преданию, в ночь перед сражением Константин во время молитвы (или, может быть, в сонном видении) увидел на небе большой сияющий крест с надписью «Этим знамением победишь». Император не замедлил приказать удалить с древков знамен и значков изображения римских орлов и водрузить на их место кресты. Как известно, последовавшая победа обеспечила Константину возможность объединить империю, раздробленную незадолго до того императором Диоклетианом и, таким образом, стать ее единодержавным владыкой. В 313 г. Миланский эдикт императора Константина даровал империи веротерпимость, а вскоре христианство стало государственной религией.
Другим событием, способствовавшим популяризации крестопочитания, явилось обнаружение св. Еленой, матерью Константина Великого, подлинного Креста, на котором за три столетия до того был распят Господь. Согласно общепринятому преданию, она, отправившись в Палестину, при помощи местного епископа Макария отыскала все три креста, являвшиеся орудиями казни Самого Христа и обоих распятых с Ним разбойников. Крест, освященный пребыванием на нем Божественного Страдальца, был выявлен исцелением положенного на него расслабленного (по другой версии предания — воскрешением только что умершего) человека. Крест тогда был «воздвигнут», т.е. поднят для созерцания его множеством собравшихся. Ежегодное воспоминание об этом событии утвердилось в Восточной и Западной Церквах как праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста, отмечаемый 27 сентября. Накануне этого дня, в конце бдения крест выносится на середину храма и совершается (практически только духовенством) троекратное поклонение кресту с пением: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим»[31]
Знак креста имеет в церковной жизни поистине универсальное значение. Народу и отдельным лицам преподается крестообразное благословение, а каждый православный христианин при молитве общественной и частной несчетное число раз осеняет себя крестным знамением. Крестным знамением осеняются Святые Дары священником или архиереем в момент совершения таинства пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы; по окончании литургии крест преподается каждому молящемуся для лобызания. Крест нательный надевается на крещаемого, и его следует носить в течение всей жизни.
Ношение православными священнослужителями наперсного (четырехконечного) креста было введено императором Павлом I в качестве награды за усердное и многолетнее служение, а в 1896 г. только что вступивший на престол император Николай II предоставил право ношения серебряного («осьмиконечного») креста всему священству.
Погружением креста совершается водоосвящение.
Крест водружается на куполах храмов, часовен; он же и на христианских могилах.
Крестопочитание не знает конфессиональных барьеров, оно свойственно почти всем христианским вероисповеданиям.
Обрядовые различия, существующие между католической и православной практикой, не имеют сколько–нибудь принципиального значения: как известно, католики изображают на себе крест, совершая горизонтальное движение рукой слева направо без какого–либо перстосложения, а православные, наоборот, складывают при этом пальцы правой руки определенным образом, считая, что собранные в щепоть первые три пальца символизируют догмат троичности Бога, а отжатые к ладони остальные два пальца — две природы Иисуса Христа, Божественную и человеческую. В Русской Православной Церкви пальцы благословляющей руки складываются так, что образуют начальные и конечные буквы слов: I(ису)с Х(ристо)с.
В изображении распятого на кресте Спасителя между православной и католической традициями также есть различие: православные иконописцы и скульпторы изображают ноги прибитыми ко кресту каждая отдельным гвоздем, католические — обе ноги одним.
Эти традиционные различия не должны нарушать общехристианского отношения ко кресту как к знамению нашего спасения, отношения, прекрасно отображенного в одном из крестопоклонных песнопений: «Крест — красота Церкви, Крест
— верных утверждение, Крест — Ангелов слава и демонов ярость».
Но и этот атрибут христианской жизни не избежал превратного искажения не столько в сфере народного благочестия, сколько в некоторых богослужебных текстах и целых чинопоследованиях, посвященных крестопочитанию. Так, например, к кресту обращаются как к одушевленному существу: «Радуйся, живоносный Кресте!» и т.п.
Однако крест и крестное знамение для нас священны и чудодейственны не сами по себе, а только силою распятого на кресте за нас Христа Спасителя. От Него крест заимствует освящение и благодатную силу.
Отцы Церкви, предостерегая против бездумного, механического использования креста (что, к сожалению, широко распространено в среде русских православных людей), постоянно указывали на необходимость сознательного к нему отношения. Так, Псевдо–Дионисий в книге «О церковной иерархии» утверждает: «употребление (Креста), соединенное с молитвою и верою, прогоняет всякий страх и трепет Св. Леонтий Кипрский в «Слове против иудеев» пишет: «мы, кланяясь Кресту, не дерево, но Самого Христа почитаем». Св. Иоанн Златоуст в «Беседе 54 на Евангелие от Матфея» со свойственной этому великому отцу исчерпывающей ясностью говорит: «Не просто подобает начертывать его (крест) перстом только, но прежде всего добрым произволением — со многою верою».
Мудрый иерарх нашей Церкви митрополит Стефан Яворский в своем знаменитом труде «Камень веры», приводя святоотеческие свидетельства, комментирует их: «Знамение Честнаго Креста не по естеству и не по существу своему творит чудеса, но потому, что образует страсть Христову и распятого Иисуса… ибо когда творим крестное знамение, вспоминаем страсть и смерть Христову, а страстию и смертию Христовою просим помощь Божию во всех нуждах наших…»[32]
VIII. ИКОНОПОЧИТАНИЕ[33]
Психологическую основу иконопочитания можно, по–видимому, усмотреть в известной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Это чаще всего безотчетное предпочтение зрительного восприятия не должно вызывать удивления, ибо, по уверению психологов, зрением воспринимает человек более восьмидесяти процентов всей получаемой информации.
Кроме того, общеизвестно, как возрастает значение портретов и фотоснимков близких нам людей в их отсутствие. Особенно это касается тех, кто ушел от нас навсегда; изображение помогает нам воссоздать в душе облик дорогого человека и тем смягчает боль и горечь разлуки, временной или пожизненной. Неудивительно, что чувства, питаемые к изображенному человеку, в какой–то степени переносятся на изображение, которое приобретает в нашем сознании свойства реликвии. Если же изображаемое лицо обладает в наших глазах ореолом святости, то реликвия, в данном случае изображение (по гречески — «икона»), приобретает значение святыни. То же самое можно сказать и о других предметах, чувственное восприятие (созерцание, осязание) которых сопряжено с воспроизведением в сознании священного объекта. Такими предметами могут быть не только изображения, но и останки (мощи), место погребения, вещи, принадлежавшие чтимому лицу или бывшие у него, в употреблении.
Вероятно, в этом исключительном значении для человека зрительных впечатлений надо искать психологическую причину настойчивого желания узреть Бога, желания, которое, как мы знаем из Священного Писания, овладевало столь многими, начиная от Моисея (Исх 33:18–23) и кончая учеником Христовым Филиппом, который просил: «Покажи нам Отца, и довольно для нас» (Ин 14:8).
Бог ответил на это вековечное стремление человечества к зрительному Его восприятию, послав нам Сына Божьего (Ин 3:16), Который явил никогда до этого не виданного Бога (Ин 1:18). Изображение (икона) Сына Божьего приобрело исключительно важное значение с уходом Спасителя из материального мира, с Его вознесением, ибо, как писал вскоре после того апостол Павел, «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор 5:16).
Между изображением, портретом, фотоснимком обыкновенного человека и изображением прославленного святого, Божьей Матери и тем более Господа Иисуса церковное сознание усматривает существенное различие. Икона (или, как часто на Западе и в Западной Руси, — статуя) есть не только изображение, но и освященный предмет, через который молящемуся преподается благодать Божья, сообщается святость, идущая, кто бы ни был изображен на иконе — Господь Иисус Христос, Его Пресвятая Матерь, кто–либо из числа апостолов или других святых — от Бога, Господа нашего, единственного Источника всякого освящения, всякой святости[34]
По общераспространенному в православии убеждению, через освящение, т.е. приобщение святости, освященными и, следовательно, почитаемыми предметами могут становиться и становятся не только изображения (иконы или скульптуры), но, как упоминалось, и другие предметы, имевшие отношение или хотя бы соприкасавшиеся с заведомо освященным предметом, который в данном случае оказывается промежуточным звеном в процессе освящения, передатчиком святости. Так, освящается вода при погружении в нее креста, а окропление этой освященной («святой») водой сообщает освящение иконе, сосудам, пище, жилищу и практически — любому, потребному и годному для использования в добрых целях предмета.
Таким образом, при лобызании святой иконы не только находит себе внешнее выражение любовь к изображаемому лицу, но и происходит освящение через прикосновение с освященным предметом, будь то животворящий крест, чаша для Святых Даров, икона, предмет священного облачения или другой, ранее освященный предмет. Весьма ярким и своеобразным примером освящения через материальные объекты могут служить исцеления больных, на которых падала тень апостола Петра (Деян 5:15), а в других случаях возлагались платки и опоясания апостола Павла (Деян 19:12). Можно заметить, что как тень, так и одежда человека по своей конфигурации в некоторой мере воспроизводят его силуэт и потому могут рассматриваться как своего рода изображения — иконы!
Конечно, согласно учению, этот процесс освящения, т.е. сообщение святости от одного освященного предмета к другому должен сопровождаться молитвой — актом отнюдь не материальным, а духовным. Отношение к освящению как к духовному акту, совершающемуся в результате действий только механических, свойственно языческой магии и должно быть чуждо христианству, так как Христос учил нас Богу поклоняться «в духе и истине» (Ин 4:24). К сожалению, этот завет Христов, хотя и сохраняется в церковном вероучении, на практике постоянно нарушается: освящение людей в таинствах, обрядовые действия, представляющие собой внешнее выражение актов освящения, хотя и сопровождаются произнесением установленных Церковью молитвословий, однако часто не затрагивают ума и сердца ни объектов таинства или обряда, ни субъекта (т.е. того, кто их совершает).
Что касается совершаемых в православии обрядовых действий, через которые, при сопровождении их молитвенным обращением к Богу, происходит преподание благодатного освящения, то они весьма разнообразны. Наиболее употребительны поклоны, предваряемые обычно осенением себя крестным знамением. Очень часто вслед за поклоном («поясным» или «земным») следует лобызание (целование) иконы, креста или другого освященного предмета (например, священнослужители целуют край престола, кресты, нашитые на отдельных предметах облачения). К освящающему предмету (ко кресту, к иконе, чаше и др.) нередко прикасаются не губами, а лбом или какой–либо частью тела, особенно когда с ней связываются болезненные ощущения. В последнем случае почитание лица, изображенного на иконе, сочетается с молитвой об исцелении.
В некоторых православных церквах молящиеся прикасаются кончиками пальцев сначала к иконе (или к другому объекту почитания), а потом ко лбу, как бы перенося на себя благодать, источаемую от иконы или другого ранее освященного, а теперь освящающего (сообщающего освящение) предмета.
Широко практикуется помазание елеем, предварительно освященным осенением его крестным знамением (благословением) с произнесением соответствующей молитвы, что включается обычно в праздничную вечерню. Нередко елей для помазания берется из лампады, горящей перед праздничной или особо чтимой иконой, — считается, что само использование его в возженной перед святыней лампаде уже сообщает ему освящение.
Освящающее воздействие благодати через материальные ее носители, т.е. через освященные предметы было хорошо известно ветхозаветному человечеству, в том числе и обладавшему истинным боговедением Израильскому народу. Освященные предметы, носители благодати, вызывали благоговение, чувство, родственное страху, но, в отличие от физиологического и бытового страха, включающее элемент радостного возбуждения, доходящего нередко до восторженного ликования. Такими объектами являлись для израильтян гора Синай, на которой получено было Моисеем Божественное Откровение, ковчег Завета, где хранились скрижали Завета, скиния, а со времен Соломона — Иерусалимский Храм с его утварью и убранством. Однако в самой скинии, равно как и в Храме, при всей их святости было место наиболее освященное — Святое святых.
Стоит отметить, что если в христианской Церкви употребление священных предметов сопряжено с многочисленными «табу», особенно по отношению к мирянам, т.е. ко всем, не являющимся носителями сакрального облагодатствования (запреты касаться престола, евхаристической утвари и многие другие), то в Израиле эти запреты охватывали много более широкую область религиозной жизни: нельзя было входить во «Святое святых» (только первосвященник входил, и притом только раз в году — Лев 16:2; Евр 9:7), нельзя было употреблять в качестве обычной пищи хлебы предложения (Исх 19:30; Мф 12:3–4), прикасаться к ковчегу Завета (2 Цар 6:6–8), существовали и другие, довольно многочисленные обрядовые и бытовые запреты.
Категорический запрет не только почитания, но даже создания каких–либо изображений, преподанный Израильскому народу в тексте второй (в западном христианстве часто составляющей заключительную часть первой) заповеди, навсегда предопределил отсутствие чего–либо, напоминающего иконопочитание, в Израиле, в иудаизме, а позднее — в исламе. Целенаправленность этого запрета ясна: единобожию Израиля предстояло в течение многих столетий подвергаться столь могучему влиянию со стороны языческой идололатрии окружающих народов, что надо было устранить возможность возникновения любых, даже мельчайших поводов для отклонения от почитания истинного Бога, а таким поводом легко могло стать любое изображение человека, животного, даже растения и т.п.
Единственным известным исключением следует считать фигуры херувимов, изготовленные по провозглашенному Моисеем повелению Божьему и помещенные во Святое святых над ковчегом Завета (Исх 25:18–21; Евр 9:3–5). Может быть, именно уникальность этих фигур, невидимых для любопытного глаза (вспомним, что только первосвященник мог созерцать их при своем ежегодном, но однократном посещении этой таинственной, сугубо священной части скинии, а позднее — Храма) должна была напоминать рядовому израильтянину недопустимость создания чего–либо, предназначенного для постоянного сакрального созерцания.
Следует помнить, что запрет на изображения действовал как в Израиле, так и в позднейшей, современной Христу Иудее, что заставляет признать апокрифичность широко распространенного предания об изображении евангелистом Лукой Пресвятой Девы Марии: любая попытка создать нечто подобное в иудаистской среде либо была бы отвергнута изначально самим художником как нечестивое нарушение Закона Божьего, либо привела бы к негодованию его соплеменников, негодованию, опасному по своим последствиям.
Несостоятельность этого апокрифического предания подтверждается количеством приписываемых кисти евангелиста икон Богоматери: их около двух сотен, что значительно превышает физические возможности одного человека, занятого в основном врачебной (Кол 4:14), миссионерской (он — спутник апостола Павла, см. Деян 16:13; 20:5–6; 27:1–2) и литературной деятельностью (апостол Лука, как известно, автор не только Евангелия, носящего его имя, но и новозаветной книги «Деяния Апостолов»).
К тому же иконы, приписываемые святому Луке, весьма разнообразны по манере исполнения, одни из них носят явно черты византийского, другие (особенно многочисленные) — древнерусского стиля, некоторые — позволяют без труда установить наличие западного влияния.
Можно сокрушаться, что этот апокриф преподносится со многих амвонов священниками, которым лень и равнодушие к духовному состоянию паствы позволяют насыщать проповедь не Словом Божьим, не нравственным поучением, не правилами и установлениями Святой Церкви, а подобного рода измышлениями. Для спасения душ они совершенно бесполезны, но бездарные проповедники охотно к ним прибегают: можно, не напрягая мысль, в сотый раз повторить не затрагивающие ни ума, ни сердца выдумки и тем заполнить минуты, по установившемуся неписаному правилу отводимые для проповеди.
Более достоверным следует признать предание о происхождении нерукотворного образа Спасителя, которое известно в двух вариантах.
Согласно варианту, который называют «восточным», у Эдесского царя Авгаря было полотенце с изображением лика Спасителя, возникшим в тот момент, когда Господь приложил его к Своему лицу.
Вторая версия, распространенная преимущественно в Западной Церкви, говорит о женщине по имени Вероника: пожалев Христа, который нес крест, обливаясь кровавым потом, она дала Ему полотенце («плат»). Когда Спаситель, отерев лицо, вернул плат Веронике, она увидела на нем изображение (можно сказать — отпечаток) лика страдающего Господа.
Обе версии представляются в известной мере заслуживающими доверия, не только потому, что Авгарь — историческая личность, и не потому, что обстоятельства возникновения изображения на плате Вероники кажутся естественными, ибо сопряжены с историческими фактами, но также потому, что сверхъестественный характер возникновения изображения подтверждает и подчеркивает отмеченную выше невозможность создания изображения обычным, естественным путем, с применением красок и кисти.
Как известно, нерукотворный образ Спасителя в Православной Церкви уникален: его сразу можно узнать по плату, который изображается на холсте или доске вместе с ликом Спасителя; другие иконы Спасителя многообразны, но ни одна из них не носит особого наименования, как свойственно буквально всем иконам Богоматери (названия топографические: Владимирская, Казанская и др., или житейски–бытовые, иногда весьма трогательные: «Утешение в скорбях и печалях», «Скоропослушница», «Нечаянная радость» и многие другие).
Общеизвестное отрицательное отношение древнего Израиля к изобразительному искусству вполне объясняет то, что ни в Ветхом, ни в Новом Заветах практически невозможно обнаружить какое–либо обоснование иконопочитания. Как мы видели, необходимое условие иконопочитания — убежденность в возможности сообщения благодати, сакраментального воздействия освящения через посредство материальных предметов — свойственно было не только евреям, современникам Моисея и Аарона, не только нескончаемому потоку паломников, устремлявшихся в единственный для всего мира Храм — жилище истинного единого Бога Яхве («Сущего»), но и ученикам Христовым, всем слушателям Его проповедей. Поэтому Спаситель говорил о таком освящающем действии, о передаче его от одного предмета к другому как о чем–то само собой разумеющемся, имеющем к тому же некую иерархию степеней освященности. Именно о таком процессе освящения, облагодатствования мы читаем в Евангелии от Матфея, где описано стремление Христа исправить нарушение иерархии освященности, которое допускали книжники и фарисеи: «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: «если кто поклянется жертвенником, то ничего; если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: дар^или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; и клянущийся небом клянется престолом Божиим и Сидящим на нем» (Мф 23:16–22).
В первых двух приводимых Спасителем примерах — низшие по иерархии освященности объекты (золото, освященное храмом, и дар, освященный жертвенником); в последующих двух примерах — высшие, а именно: Сам Бог, освящающий храм, котором Он обитает, и небо, именуемое здесь (и во многих других местах Священного Писания) престолом Божьим.
В контексте нашего изложения важнее всего для нас факт освящения материального предмета, сообщения ему от другого освящающей благодати, Источник коей вовсе не материален: это Сам Бог
Подобные взаимодействия духовного с материальным в процессе освящения (иначе — облагодатствования) пронизывают собой все богослужение, тайнодействия и обряды Православной Церкви в полном соответствии с апостольским указанием: «Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божий» (1 Кор 6:20).
Но и Сам Христос, как мы знаем из Евангелия, Свое благодатное воздействие на окружающих, в частности исцеления, часто осуществлял не только через словесное волеизъявление, но и через разнообразные способы физического воздействия: прикосновение (Мф 8:3,15; 9:29; Мк 3:10), помазание «брением из плюновения» (Ин 9:6; ср. Мк 7:33).
То же мы видим и в действиях апостолов, не только прикосновение которых (Деян 3:7; 9:17–18), но, как уже упоминалось, даже тень оказывала благотворное, исцеляющее действие (Деян 5:15).
Эта благодатная практика затем распространилась в Церкви и на святые иконы. Их почитание было узаконено на VII Вселенском Никейском Соборе в 787 г. и на Константинопольских торжествах 843 г.
VII Вселенский Собор, как известно, происходил в разгар упорной борьбы иконопочитателей с иконоборцами. Так как основные доводы иконоборцев базировались на внешнем сходстве почитания икон (и особенно скульптурных изображений) и идолопоклонства, то в вероучительных творениях иконопочитателей и в соборных определениях особый акцент делался на духовной стороне иконопочитания. Подчеркивалось, что объектом почитания является не материал, из которого изготовлена икона, не дерево, не гипс, не полотно, не краски, а сам объект изображения, т.е. прежде всего Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь, святые. Тем самым иконопочитание отмежевывалось от грубого идолопоклонства, когда обожествлялся сам почитаемый и создаваемый для почитания предмет — статуя или картина, от идолопоклонства, ярко охарактеризовано в псалме: «Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них» (Пс 134: 15–18).
Людям было очень нелегко перейти от представлений о языческих богах — распутных, хитрых, жестоких — к высочайшему понятию о едином, невидимом, нематериальном Боге–Творце, Вседержителе, Который, будучи «Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих… Сам дая всему жизнь и дыхание и все» (Деян 17:24–25).
Доступнее для просвещаемых евангельским светом язычников было почитание Христа как конкретной Личности, Богочеловека, облеченного плотью и кровью, жившего когда–то среди людей, свидетельство о чем сохранялось в церковном Предании, устном, а потом в письменном[35] Естественной поэтому представляется потребность запечатлеть облик Иисуса Христа.
Уже в катакомбах II и III вв. мы видим изображения Христа в виде юного доброго Пастыря.
Еще более древними следует считать символические рисунки рыбы — слово «рыба» на греческом языке состоит из начальных букв слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Изображение рыбы служило для христиан опознавательным знаком в условиях враждебного языческого окружения.
Дорогие сердцу христиан изображения облегчали восприятие и усвоение Священной истории Ветхого и Нового Заветов. Они постепенно распространялись в быту, неизбежным оказалось их внедрение в храмы. Созерцание икон во время богослужений создавало благоприятные психологические условия для того, чтобы молящийся испытал чувство благоговения перед теми, кто на них изображен, — т.е. Христом, Его Пречистой Матерью (с III Вселенского Собора, т.е. после 431 г почти повсеместно почитаемой как Матерь Божья) и святыми (особенно в местах их подвижничества и прославления). Это благоговение целиком относится к «первообразу» (VII Вселенский Собор).
Церковные торжества 843 г (часто называемые Константинопольским Поместным Собором) окончательно утвердили догматизированную в Никее VII Вселенским Собором в 787 г. практику иконопочитания, вплоть до XV–XVI вв. не вызывавшего противодействия в обществе. Однако в глубине западного общества зрел внутренний протест против официальной Церкви, который и привел в конце концов к движению Реформации. Этот протест в немалой степени был порожден многочисленными явлениями обрядоверия и суеверия, связанными с извращенными формами почитания икон, мощей и реликвий. Бесконечные споры о сравнительном достоинстве тех или иных святынь — икон, статуй, мощей, разорительные паломничества к местам их нахождения, многочисленные случаи раскрытия и разоблачения обманных действий, связанных с почитанием реликвий и изображений, наконец, открытая торговля святынями, все это уже во времена Джона Виклифа (+1384) и Яна Гуса (+1415) вызывало не только протесты отдельных наиболее духовных и просвещенных представителей духовенства и мирян, но и появление обличительной и сатирической литературы, нередко имевшей резко антицерковный и особенно антиклерикальный характер[36]
Все это были предвестники Реформации, которая хотя и представляла собой длительный исторический процесс, куда были вовлечены десятки и сотни тысяч, а впоследствии и миллионы христиан, однако в историческом сознании твердо сопряжена с именами Жана Кальвина (+1564) и Мартина Лютера (+1546), в особенности со знаменитым выступлением последнего в Виттенберге против торговли индульгенциями (1517). С негодованием воспринимая повсеместное суеверное обожествление статуй, икон и реликвий, ревнуя о духовности богопочитания («Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» — Ин 4:24), протестанты впали в крайность: воодушевленные благой целью побороть языческий элемент в психологии иконопочитателей, они отказались от почитания икон вообще, разделив отвергнутые семь столетий назад взгляды иконоборцев. Пытаясь опереться на те же тексты Священного Писания, которые брали в свое время на вооружение иконоборцы VIII–IX вв., они так же игнорировали упоминавшиеся выше слова Священного Писания, исключающие возможность смотреть на всякое духовное изображение, икону или скульптуру как на неприемлемый для христианина предмет идололатрии; изучая Ветхий Завет, они обходили молчанием упоминание о сооруженных по повелению Божьему херувимах, осеняющих ковчег Завета (Исх 25:18–22), равно как и воздвижение Моисеем медного змия, один взгляд на которого избавлял от мучительной смерти. Приведенные нами выше случаи исцелений при осенений тенью апостола Петра также не убеждали их.
В странах, где победила Реформация, храмы протестантских конфессий — лютеранские, реформатские, пресвитерианские, позднее баптистские, методистские и другие — поражают православного посетителя полным или почти полным отсутствием художественного убранства.
А почти одновременно с этим процессом на Западе, религиозное искусство достигает высокой степени совершенства на славянском Востоке. Сохраняя явные следы византийских истоков (Феофан Грек, +1405), русское православное искусство уже в XIV–XV вв. сложилось в живописную школу, отличавшуюся своеобразием, глубокой одухотворенностью и высоким мастерством. Работая в монастырском уединении, такие гениальные мастера, как Андрей Рублев (+1430), Дионисий (+1503), позднее Симон Ушаков (+1686) и многие другие их современники явились яркими выразителями русской религиозности. Имена большинства живописцев остались неизвестны — они были в основном монахами и смотрели на свой труд как на послушание, даже не делая попыток художественной самооценки.
Излюбленным сюжетом был лик Божьей Матери — эти изображения были распространены в сотнях вариантов, почти каждый из которых имел свой прототип, пользовавшийся особо широким почитанием. Анонимно присвоенные этим прототипам (и соответственно вариантам изображений Божьей Матери) наименования можно разделить на две группы: наименования по населенным пунктам, обычно сравнительно крупным (Казанская, Владимирская, Тихвинская, Смоленская), и наименования, в той или иной мере отражающие сюжетные особенности данной иконы («Нечаянная радость», «Взыскание погибших», «Утешение в скорбях и печалях» и многие другие).
Иконы Спасителя являют собой не меньшее разнообразие, но, за исключением Нерукотворного Образа, они не группируются по прототипам и, естественно, не имеют особых наименований. Чаще всего Спаситель изображается в виде Царя, сидящего на троне (обычно в этом случае говорят: «образ Господа Вседержителя»)[37]
Кроме того, Спаситель изображается страдающим на кресте (это, пожалуй, наиболее частый случай) и в качестве Второго Лица Святой Троицы восседающим рядом с Богом Отцом (так называемая «Новозаветная Троица»). Изображение Распятого имеет, естественно, наиболее реалистический характер: иконописец должен был заботиться о том, чтобы лик и все тело отражали душевные и физические страдания Богочеловека; другие изображения писались, как правило, в условной манере: чертам Спасителя полагалось придавать выражение серьезного спокойствия, мудрости и величия. Эти черты в еще большей степени свойственны Лику Бога–Отца (Саваофа), чьи изображения появились в России в XVI–XVII вв.
Московский Собор 1667 г. осудил и запретил какие–либо изображения Бога–Отца. Под это запрещение подпадали также иконы «Новозаветной Троицы», где изображаются восседающие рядом Бог–Отец и Сын Божий, а Дух Святой витает над Ними в виде голубя.
Так или иначе ни на православном Востоке, ни в древней Руси такого рода изображения не были в употреблении и, по–видимому, даже не писались. Можно предположить их западное происхождение, ибо там уже в XIV–XV вв., в эпоху раннего Ренессанса, изображения (главным образом не иконы, а художественные произведения духовного содержания, не имеющие сакрального назначения, т.е. картины) Бога–Отца и (много реже) Святой Троицы очень часто встречались в частных собраниях, в общественных зданиях, много реже — в храмах (вспомним творения Микельанджело и его современников первой половины XVI столетия). Какие же основания имел Собор 1667 г. для запрещения изображать Бога–Отца? Эти основания заложены как в Священном Писании, так и в Священном Предании. «Бога не видел никто никогда, — говорит евангелист Иоанн, — но — единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:18; ср. 1 Ин 4:12). Только поэтому VII Вселенский Собор счел возможным разрешить изображение Сына Божьего, Который, «приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп 2:7), стал доступен чувственному созерцанию.
Что же касается сущности Божьей, вне раскрытия ее в Личности Богочеловека, то она остается сокрытой и недоступной не только для зрения, но и для разума, ибо Бог — Тот, Который «обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим 6:16).
Все имевшие место, в том числе описанные в Библии явления Бога людям были именно «явлениями», т.е. человеческими впечатлениями и переживаниями, возникавшими по воле Божьей, под Его воздействием: Бог открывал Себя так и в той степени, как Ему было угодно, но сущность Его, так сказать, истинный Лик Божий был и остается сокрытым, непостижимым, недоступным ни человеческому представлению, ни воображению. «Человек не может увидеть Меня и оставаться в живых» (Исх 33:20).
С наибольшей категоричностью эта истина выражена в кратком высказывании Спасителя: «Бог есть дух» (Ин 4:24), т.е. в Нем нет ничего материального, а, следовательно, нет ничего доступного чувственному восприятию.
Надо полагать, что, осудив попытки изобразить Бога–Отца, упомянутый Московский Собор тем самым подверг осуждению и побуждения иконописцев, бравшихся за решение недоступной для человека задачи — изобразить неизобразимое. В самом деле, в основе этих побуждений (не говоря о меркантильно ремесленных) можно усмотреть прежде всего недостаток благоговения; работая над «ликом» Саваофа, иконописец забывал идущий из глубины тысячелетий призыв псалмопевца «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом» (Пс 2:11).
Кроме того, здесь, несомненно, имело место искони свойственное человеку стремление увидеть свое божество воплощенным, материализовавшимся, зримым и осязаемым: зримое божество не внушает того трепета, того благоговейного ужаса, какое вселяет Бог, недоступный чувственному восприятию.
В своей крайней модификации эта ложно направленная пытливость, стремящаяся вместо возвышения грешного человека к Богу умалить Бога до некоего средства выполнения человеческих устремлений, эта тенденция к профанации Святого, Великого, Непостижимого, Надмирного нашла себе выражение в сотворении израильтянами золотого тельца и его обожествлении (Исх 32:3–4, 7–8).
Господь по Своей беспредельной любви к грешным людям, к миру, который весь во зле лежит (1 Ин 5:19), пошел навстречу этому извечному стремлению низвести Бога на землю, этой потребности в чувственном Его восприятии, «отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16) и совершилась чудесная «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим 3:16).
Тем самым недоступный Бог, в Лице Сына и Слова Божьего, Второго Лица Святой Троицы, стал Человеком, доступным для зрения, слуха, осязания и, как это утвердила Церковь на своем VII Соборе, также доступным для изображения.
Даже символическое, употребительное в иконописании изображение Духа Святого в виде голубя имеет некоторое библейское основание, ибо голубь при нисхождении Духа Святого на Иисуса Христа был видим и Самим Христом, и Иоанном Крестителем, а возможно, и кем–то из стоявших тогда на берегах Иордана иудеев[38]
Для попыток представить людям зрительное восприятие Того, на Кого «не смеют чини Ангельские взирати» и Кого «невозможно человеком видети» (ирмос 9–й песни воскресного канона 6–го гласа), Московский Собор Русской Православной Церкви не нашел оснований и с полным основанием эти попытки запретил. Приходится лишь сожалеть, что это соборное запрещение подверглось пренебрежению и даже забвению.
Нельзя сказать, что допустимость изображения Бога–Отца Саваофа никак не обосновывается. Из популярной богословской литературы и из уст учителей Закона Божьего можно было узнать, что подобные изображения имеют символический характер: якобы седина обозначает вечность, озабоченность лица — мудрость и т.д.
Однако зрителям, в большинстве своем в символике не разбирающимся, навязывается вполне реалистический, конкретный образ старца с тем или иным выражением лица, облаченного в одеяния явно восточного покроя. Какого соблазна, поношения святости Божьей, бесчисленных кощунств можно было бы избежать, если бы руки иконописцев не дерзали покушаться на вторжение во Святое святых, на изображение Неизобразимого!!!
Во время своих путешествий по некоторым странам Востока, а также Греции, автору этих строк довелось посетить многие православные храмы Иерусалимского, Антиохийского и Константинопольского патриархатов. Лишь в одном из них я с удивлением увидел небольшую икону «Новозаветной Троицы», лежащую на аналое в боковом приделе. Такого рода изображение для православного Востока столь нетипично, что я спросил, откуда в храме эта икона. Мне ответили, что икона была когда–то подарена каким–то русским великим князем! Остается сказать, что изображение явления Бога Аврааму в виде трех странников вполне канонично: Богу было угодно явить Себя в этом образе, имевшем глубокое символическое значение и не претендующем на реалистическое отражение Личности. Эта икона, известная под названием «Ветхозаветная Троица», никогда Церковью не запрещалась, с древнейших времен имеет и в России, и на православном Востоке повсеместное распространение.
Дополнительным свидетельством того, что создание и почитание икон Бога Саваофа и «Новозаветной Троицы» — сравнительно позднее явление (XVII в.) может служить отсутствие в требниках чинопоследований освящения таких икон: есть чин освящения икон Спасителя, Божьей Матери, святых, но нет чина освящения изображений Бога–Отца, что естественно, если сопоставить древность требника как богослужебной книги и упоминавшееся выше определение Московского Собора 1667 г.
Степень почитания святых икон столь же многоразлична, как и степень почитания святых людей.
В самом деле, все иконы можно подразделить на особо чтимые и обыкновенные, почитание которых не выходит за пределы элементарного, оказываемого всякой святыне. Икона становится святыней общего уровня, когда священник окропит ее святой водой, сопроводив это чтением содержащейся в требнике соответствующей молитвы. Нередко практикуется одновременное освящение множества одинаковых или даже однотипных икон (изображающих, например, одного и того же святого, хотя бы и в разных позах или в разной обстановке).
На этом уровне святость иконы и степень ее почитания не зависят ни от материала, из которого икона изготовлена, ни от ее художественной ценности, ни от древности, ни от каких–либо иных внешних технологических или исторических факторов. Все это полностью соответствует букве и содержанию известного канона, принятого VII Вселенским Собором в порядке утверждения иконопочитания.
Иначе обстоит дело относительно икон, которые слывут как особо чтимые, часто называемые «чудотворными». Само это именование указывает на признак, которым такие иконы выделяются из множества других: это чудотворения, благотворные последствия которых были кем–то испытаны и получили более или менее широкую известность. Примечательно, что свойства чудотворения приписываются в народном сознании не только изображенному на иконе лицу, но и самой иконе, чем она и выделяется среди множества других, изображающих даже то самое лицо!
Следует отметить, что даже точным копиям иконы, пользующейся широким признанием в качестве чудотворной, свойства чудотворения, как правило, не приписываются. Например, однотипные иконы, известные под названием «Владимирская икона Божьей Матери», очень часто имеются в храмах и в частных домах, но чудотворной считается только одна, находившаяся в послереволюционные годы в условиях музейного хранения и экспонирования.
Сказанное относится и к другим чудотворным иконам, подавляющее большинство которых представляет собой изображения Богоматери, чаще всего с Богомладенцем на руках. Чудотворные иконы иного тематического содержания — редкое исключение.
В отличие от обыкновенных, чудотворными оказываются, как правило, иконы старые, древние, высокого художественного уровня, сравнительно больших размеров.
Из сказанного следует, что особое почитание таких икон, неизбежно сопровождаемое сравнительно низкой оценкой других, обычных икон, иногда даже пренебрежением к ним, находится в явном противоречии с неоднократно упоминавшимся выше каноном VII Вселенского Собора, допускающего почитание иконы лишь с условием, чтобы честь, оказываемая иконе, «восходила бы на первообразное», т.е. на изображенное лицо.
Каждое исполнение просительной молитвы, или молитвенного прошения является чудом Божьим. Молиться, как известно, можно с успехом и в условиях отсутствия какой–либо иконы (например, в пути, работая за станком, в поле, в тюремной камере, на операционном столе и т.п.), можно и предстоя кресту или иконе. Господь слышит нас, где бы и в каких бы условиях мы ни молились. Именно поэтому призывы к постоянной молитве обращены к нам со страниц как Ветхого, так и Нового Заветов.
«Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душе моя, Господа!» (Пс 102:22); «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5:17).
Совершение чуда, т.е. исполнение молитвы прежде всего зависит от веры молящегося: «если сколько–нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк 9:23). Если у того, кто устами произносит молитву, нет в сердце веры, нет сердечного и в то же время сознательного обращения к Богу, то перед какой бы, даже самой чудотворной «иконой он ни молился, молитва останется бесплодной. Ведь даже вкушающий Тело и Кровь Господне «ест и пьет осуждение себе», если ест и пьет «не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор 11:29), т.е. без должного осознания великого таинства и без благоговения перед ним. То же можно сказать и о молитве без веры, без устремления ума и сердца к Богу, без которого молитва не имеет значения и силы, да и по существу не является молитвой.
Поэтому чудотворной может стать каждая икона, перед которой люди молятся с искренней верой, с глубоким чувством, с любовью к Тому, к Кому молитва обращена, и к тому, о ком она совершается.
Если случаи исполнения таких усердных молитв сохранялись в благодарной человеческой памяти, становились известными окружающим и наконец всей Церкви, то эта известность все более распространялась не только на случаи исполнения совершаемых перед ней молитвословий и личных молитвенных воздыханий, но и на саму икону — о ней распространялась слава как о чудотворной.
Примечательно, что прославление иконы как чудотворной всегда носит спонтанный характер и осуществляется в недрах народного благочестия, не требуя решения органов церковного управления, т.е. официальной канонизации, необходимой, как известно, для причисления кого–либо к лику святых.
В остальном почитание чудотворных икон во многом схоже с почитанием святых людей. Каждая такая икона имеет календарную дату (некоторые даже не одну за год) ее особого чествования, обычно нахождения («явления»), первого проявления ее чудодейственной силы, оказания помощи (выздоровление, победа в сражениях, защита от нападения или разорения).
О событиях, связанных с такими проявлениями чудотворной силы той или иной иконы, составлены сказания, по характеру восхвалений, воссылаемых Божьей Матери и самим ее иконам, очень напоминающие житийные восхваления. В честь икон Богоматери возведено множество престолов и храмов, что еще более сближает иконопочитание с почитанием святых.
Отмечая крайности иконопочитания, далеко выходящие за скромные пределы установлений VII Вселенского Собора, необходимо одновременно сказать о многих положительных сторонах этого явления, делающих святые иконы и их почитание дорогими для каждого приверженца «исторических» христианских конфессий, для каждого православного и католика.
Особой общецерковной ценностью как дидактические , наглядные пособия обладают жанровые иконы, воспроизводящие библейские события, сюжеты праздников, а также жития святых. Созерцая такую икону, молящийся легко восстанавливает в памяти или даже впервые познает события Священной истории (например, Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста) или подробности житий (например, широко распространенные иконы с «клеймами», окаймляющими по периметру основное изображение, занимающее центральную часть иконы).
Большое значение имеет иконопочитание для развития искусства церковной живописи (а на Западе также скульптуры, находящей там свое законное место во многих храмах). Великие творения Феофана Грека, святого Андрея Рублева, Дионисия, Ушакова и многих других корифеев русского иконописного искусства могли возникнуть только в условиях православного благочестия, включающего истовое, благоговейное иконопочитание.
Но самым важным, самым существенным аспектом иконопочитания является стремление поставить в центр духовных впечатлений, представлений и переживаний прежде всего Самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Итак, созерцая Его Лик, изображенный столь крупным планом, что занимает почти всю площадь иконы («Нерукотворный Спас»), молящийся возносится мыслью к своему Господу как к Божественному Учителю вечной истины и добра, а преклоняя колена перед Распятием, испытывает чувства сострадания и благодарности к Тому, Кто «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Ис 53:5).
Икона Святой Троицы (в частности кисти Андрея Рублева) помогает нам прикоснуться к тайне «Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы», а взор, устремленный на любую из бесчисленных икон Богоматери, раскрывает пред нашим духовным оком не только ее любовь к Божественному ее Сыну, но и любовь Божью, избравшую скромную девушку из Назарета орудием спасения рода человеческого.
Остается заметить, что не все христиане испытывают потребность в иконах как в молитвенном пособии. Не только многочисленные члены протестантских Церквей, не только христиане, жившие в века, предшествовавшие распространению иконопочитания, но и многие отцы–пустынножители древних и новых времен обходились практически без икон и даже, как например, св. Серафим Саровский, советовали молиться с закрытыми глазами, устраняя тем самым всякие внешние впечатления.
Однако для большинства христиан предстояние перед Распятием или иконой содействует молитве, помогает сосредоточиться, отвлечься от внешних, чаще всего суетных помех, будь то окружающие люди или предметы, будь то воспоминания или другие нарушающие молитвенное состояние помыслы.
IX. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: ВЕРОУЧЕНИЕ И РУССКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Создавая свой замечательный труд, анонимно изданный «Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви», митрополит Московский Филарет (Дроздов) самой Церкви усвояет следующее определение: «Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами»[39]
Многие богословы–экклезиологи (Аквилонов, Катанский, Голубинский и др.) с давних времен справедливо обращали внимание на отсутствие в этом определении упоминания об Иисусе Христе, Создателе и Главе Церкви (Мф 16:18; Еф 5:23), как на кардинальный недостаток определения, делающий его односторонним и неполным.
Иное, много более глубокое и онтологически всеобъемлющее определение дает апостол Павел, когда учит о Церкви как о Теле Христовом (Рим 12:3–8; 1 Кор 12:4–30; Еф 1:22). Апостол рисует яркую картину, придающую его словам жизненную наглядность.
В самом деле, важнейшим критерием ценности любого члена человеческого тела является степень его пригодности для выполнения той или иной потребной для жизни всего организма функции, на что и указывается в приведенных текстах применительно к разнообразию назначения и деятельности каждого из членов христианской общины.
Сопоставляя определения — катехизическое и апостольское, легко заметить, что первое из них по существу не является вероучительным. Оно указывает на вполне доступные опытному рассмотрению свойства образующих церковную общину ее членов: каждый из них должен удовлетворять определенным требованиям, а именно — исповедовать (открыто соглашаться, признавать за истину) церковное вероучение, участвовать в церковных таинствах, занимать свое место в системе иерархических взаимоотношений, действующих в общине и во всей Церкви в целом. Выполнение этих условий отнюдь не является предметом веры, т.к. легко поддается реализации, установлению и проверке. Даже если член Церкви в глубине души с ее вероучением не согласен, но никому об этом не заявляет, в благодатность таинств не верит, но внешне в них участвует, наконец авторитету иерархии не придает никакого значения, но против нее не выступает, он обычно продолжает иногда в течение всей жизни оставаться членом видимой Церкви, т.е. Церкви как организации, отвечающей катехизическому определению. Примеров этому — бесчисленное множество.
Совсем иначе обстоит дело с пониманием Церкви как Тела Христова.
С момента крещения[40] человек включается в Тело Христово, т.е. вступает в невидимую, таинственную сочлененность с Самим Христом, а также с Его Церковью в целом и с каждым ее истинным членом в отдельности. Эта сочлененность, или связь имеет духовный характер и далеко не всегда может быть внешне удостоверена.
Так, крещеный человек в экстремальных обстоятельствах может быть лишен возможности причащаться Святых Тайн Христовых (например, находясь в заключении), возможности открытого исповедания своей веры, общения с представителями церковной иерархии, но если он, осознавая себя христианином, общается с Богом в молитве, а по возможности и в чтении или слушании Слова Божьего, то он продолжает оставаться членом Церкви, ибо усыновление Богу, даруемое в крещении, неотъемлемо, и христианину нужно только его реализовать, прежде всего общением со своим Господом и Спасителем.
Конечно, прекрасно и радостно, когда члены таинственного Тела Христова активно и открыто выражают и проявляют свою к нему принадлежность, участвуют в общественном богослужении, причащаются, живут под духовным руководством достойных пастырей Церкви. Но даже тогда когда стадо Христово разобщено, когда тот или иной христианин лишен церковного общения, он все же имеет основания осознавать свою принадлежность к этому «стаду», а стоя на молитве — ощущать, что одновременно с ним к небу обращаются взором и устремляются сердцем миллионы его братьев и сестер во Христе.
Итак, желаемое сочетание внешнего и внутреннего отнюдь не является законом: очень часто крещеный человек, живущий в вере во Христа, в уповании на Него и в общении с Ним и, следовательно, принадлежащий к Телу Христову, по тем или иным причинам не участвует внешне в жизни Церкви как организации. Сплошь и рядом имеет место и обратное явление: крещеный человек, соблюдающий церковные установления и даже активно, вплоть до священнослужения включительно, внешне участвующий в церковной жизнедеятельности, может быть тем, про кого Христос говорил: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф 15:8). Можно ли считать такого человека принадлежащим к Телу Христову? Несмотря на всю его «церковность», надеяться на это трудно.
Никео–Константинопольский Символ веры, составляющий неотъемлемую часть Священного Предания нашей святой Церкви, усвояет ей свойства единства, святости, кафоличности (соборности)[41] и апостоличности: «верую во едину, святую, соборную и Апостольскую Церковь». Все эти свойства, несомненно, присущи Церкви как Телу Христову, и являются предметом веры, что вполне соответствует тексту Символа.
Что касается видимой, доступной чувственному восприятию деятельности Церкви, то она является скорее объектом знания.
В самом деле, любой, даже совершенно неверующий человек, способен без особых затруднений понять и усвоить структуру церковной иерархии, богослужебные чинопоследования, порядок совершения и даже значение обрядов и тайнодействий, изучить множество библейских текстов. Все эти знания, воспринимаемые лишь разумом и памятью, не делают человека членом Тела Христова. Не может быть и речи о принадлежности к «народу святому», к «царственному священству» к «людям, взятым в удел» (1 Петр 2:9), тех, кто не имеет живого, духовного общения со Христом, хотя бы он, будучи крещен (чаще всего в младенчестве), соблюдал внешнюю принадлежность к Церкви как к организации, не говоря уже об отступниках или даже о тех, чье отношение к Богу не идет далее снисходительного «признания» или «неотрицания».
Говоря о Церкви в катехизическом значении этого слова, мы, ее члены, с горечью вынуждены признать фактическое отсутствие в ней единства, первого из катехизических ее свойств. Даже если говорить только о православии, приходится констатировать расхождение интересов и целей между грекоязычными Поместными Церквами, возглавляемыми Вселенским, т.е. Константинопольским Патриархом, с одной стороны, и славянскими Поместными Церквами — с другой, ибо последние, естественно, тяготеют к Русской Православной Церкви, численно, территориально и экономически намного превосходящей все остальные Поместные Церкви.
Не говоря о других расхождениях и противоречиях, уже такого раздвоения православного мира оказывается достаточно, чтобы в течение почти сорока лет делать невозможным созыв «Великого Всеправославного Собора», необходимость которого почти все Церкви признают, но до сих пор оказываются не в состоянии хотя бы предварительно договориться ни о повестке дня, ни о составе, ни о месте, ни о процедуре намеченного Собора.
Вторым свойством Церкви Никео–Константинопольский Символ называет святость.
Классическое богословие кафолических Церквей, признавая очевидный факт всеобщей греховности членов Церкви, утверждает, однако, святость Церкви в целом как видимого учреждения. Что возможно и должно считать проявлением и признаком святости? Не существует, как известно, догматического определения святости. Известно, однако, что источником всякой святости является Сам Бог: «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев 19:2; 1 Петр 1:16), — так вещал Господь через Моисея народу Израильскому. Единственным Человеком, обладающим полнотой святости, христианский мир благоговейно признает Иисуса Христа и преклоняется перед Ним как пред Богочеловеком, сиянием и образом Бога–Отца (Евр 1:2), единосущным Отцу по Божеству и единокровным нам по человечеству (Ин 1:14; 1 Тим 2:5; 3:16). Святость, как и «всякий дар совершенный» (Иак 1:17), сообщается как отдельным людям, так и Церкви в целом от Бога–Отца через Сына Его, силою и действием Его Святого Духа (Еф 1:16), ибо где «двое или трое», тем более множество людей собираются во Имя Христово, там Он среди них (Мф 18:20), что опять–таки совершается действием Святого Духа.
Однако дарования Святого Духа преподаются не автоматически, а лишь по вере, искренней и сердечной. Так, подходящий ко святому причастию только тогда получает через принятие Тела и Крови Христовой единение со Христом и освящение, если «рассуждает» об этом великом таинстве, т.е. верует в него (1 Кор 11:29). То же можно сказать и о всей Церкви. Ее соборы и другие действия внешнего характера, например административная (управленческая) деятельность епископата и пресвитериума, только тогда благодатны, когда совершаются лицами, удостоенными благодати рукоположения и творящими дело с чистой совестью и чистыми руками.
Сколько соборов поместных (и даже вселенских) оказались безрезультатными, а многие даже впоследствии осужденными той же Церковью, которая их созывала и решения которых сама же принимала, считая их богодухновенными и обязательными для всей Церкви!
Таков был многочисленный Вселенский Собор епископов, состоявшийся в Ефесе в 449 г., а потом признанный недействительным и прозванный «разбойничьим». Таков был Собор 879 г. в Константинополе, который Западной Церковью считается законным и даже вселенским, а Восточной отвергнут, главным образом, потому, что его определения благоприятствовали западным тенденциям.
Таким был так называемый Стоглавый Московский Поместный Собор Русской Православной Церкви, в 1551 г. утвердивший двуперстное совершение крестного знамения и ряд других обрядовых особенностей русского Православия, спустя столетие той же русской Церковью отмененных (реформа патриарха Никона), что привело к отходу от Церкви «старообрядцев», подвергавшихся до 1917 г. тяжким преследованиям со стороны церковных и гражданских властей. Однако Церковь и тут проявила непоследовательность: Поместный Собор 1971 г отменил, наконец, все «клятвы» и «прещения», наложенные на старообрядцев опять–таки Собором 1^68 г и другими. Таков был, наконец, Львовский Собор Русской Церкви 1946 г под давлением Советской власти принявший поистине чудовищное решение о внезапной ликвидации униатства, т.е. об уничтожении Церкви, уже в течение многих веков не имевшей даже канонического общения с Русской Православной Церковью и вдруг оказавшейся в нее насильственно включенной! Последствия такого силового «решения» конфессиональной проблемы хорошо известны: команда из Москвы не превратила униатов в православных — наоборот, пятьдесят лет насильственного «воссоединения» были годами резкого усиления в Западной Украине, а отчасти и в Белоруссии прокатолических настроений. Униаты же, до Львовской «унии наоборот» считавшие себя по характеру богослужения и по укладу церковной жизни близкими к православию, круто развернулись в сторону Римско–католической Церкви. Перемена эта проявилась в усилении конфессиональной розни, которая, в свою очередь, вызвала множество насильственных действий, недопустимых для людей, считающих себя христианами.
Православной Церкви в лице ее земного руководства недоставало смирения и любви к своему Главе и в те времена, когда методами, мало чем уступающими инквизиции, преследовались «жидовствующие», «стригольники», «староверы» и передовые православные люди, как например Максим Грек, и в современную эпоху.
Очень сложный комплекс представлений и суждений возник в русском православном богословии вокруг понятия «соборность». Сам термин является производным от прилагательного «соборный». Этот неудачный перевод греческого слова «кафолики», войдя в русский текст Символа веры, оказался источником многих, часто взаимно противоречивых суждений и определений. Само выражение «кафолическая Церковь» употреблялось уже в древности и в значении «вселенская Церковь» и охватывало более широкий круг понятий, чем выражение «экуменическая Церковь» — близкое по смыслу, но имеющее более определенный географический оттенок.
Наряду с термином «соборная» к Православной Церкви издавна применяли слово, прямо заимствованное с греческого, «кафолическая»[42]
Слово «соборность» большинством русских людей понимается как принцип совместности принятия решений и претворения их в жизнь. К сожалению, приходится признать, что этот высокий принцип в нашей Церкви практически находится в пренебрежении. Не только Вселенские Соборы, канонически именуемые высшим органом управления Церковью, не собираются с 787 г но и Поместные Соборы, в России не собиравшиеся в течение более двух столетий (синодальный период), являют собой весьма печальную картину парадной торжественности при очень скудном деловом содержании: весь ход работы Соборов и принимавшиеся ими решения предварительно разрабатывались церковной элитой, а в недавние времена при патриархах Алексии I (1944–1970), и особенно Пимене (1971–1990), неофициально согласовывались с Советом по делам религий.
В настоящее время как Поместные, так и Архиерейские Соборы работают в более свободной обстановке. Реальным носителем «соборной» церковной власти является Священный Синод с возглавляющим его патриархом. Но и на заседаниях Синода издавна установилась практика, имеющая мало общего с принципом соборности; различные проблемы обсуждаются почти исключительно пятью–шестью постоянными членами Синода; временные члены органа, действительно решающего в рабочем порядке текущие вопросы церковной жизни, назначаются патриархом в порядке очередности на очередное полугодие, они предпочитают хранить молчание, и их активность сводится к участию в пении молитв до и после каждого заседания, к обязательному подписанию принятых на этих заседаниях документов и к участию в совместной трапезе, где соборность проявляется, наконец, в более широких пределах.
Вся деятельность Православной Церкви, в особенности ее управленческие функции, имеют ярко выраженный иерархически–дисциплинарный характер: судьбы каждого священника и дьякона зависят от воли правящего архиерея данной епархии, судьбы архиереев — от волеизъявления Синода и, естественно, от воли патриарха, что является большим шагом вперед по сравнению с недавним прошлым, когда назначения, смещения и перемещения архиереев производились не иначе как по негласной инициативе или, по крайней мере, после утверждения Советом по делам религий при Совете Министров СССР
Последнее из упоминаемых в Символе веры свойств Церкви, ее апостоличность, обладает тремя гранями, первая из которых — исторический факт, вторая — стоящая перед Церковью задача, имеющая как основная цель Церкви постоянный, непреходящий характер; третья грань — сакраментальная преемственность, которая осуществляется из поколения в поколение через таинство рукоположения.
Церковь имеет апостольское происхождение, так как ученики Христовы, Его апостолы, были .первыми ее членами со дня создания, т.е. со дня Пятидесятницы, когда посланный Сыном Божьим от Отца Дух Святой превратил общество учеников в Церковь, т.е. в Тело Христово.
Апостольский характер носит вся деятельность Церкви, посланной в мир для продолжения дела Христова, дела спасения мира через веру в Христа, через следование за Ним. Это великое поручение Церковь должна выполнять, проповедуя Евангелие всей твари (Мк 16:15), уча соблюдать заповеданную Христом любовь к Богу и к людям (Мф 22:38–39), вводя их в Царство Божье через таинство крещения (Мф 28:20).
К сожалению, и здесь Церковь далеко не отвечает своему высокому предназначению, отраженному в усвоенном ею именовании «апостольской». Православная Церковь, в частности Русская, заботится чрезмерно об омовении рук (Мф 15:20) и чаш (Мф 23:25), т.е. о тщательном соблюдении бесчисленных обрядовых предписаний и обычаев, о том, что «входит в уста» и о многом другом внешнем, что не может осквернить человека (ст. 10) и повредить его спасению, но очень мало учит тому, что составляет «суд, милость и веру» (Мф 23:23).
Апостолы и Сам Господь Иисус Христос учили проповедников Слова Божьего применяться к возможностям восприятия этого Слова (Мф 12:11,13; 1 Кор 9:19–22), добиваясь уразумения, а Церковь, следуя «преданиям старцев» (Мк 7:3,8–9), затрудняет уразумение и усвоение Слова, преподнося его на малопонятном, а для многих и совсем непонятном церковнославянском языке, на недопустимость чего есть в Священном Писании прямое указание (1 Кор 14:18).
Просто поразительно, как христианские Церкви легко поддаются искушению пренебречь прямыми указаниями Господа и Учителя, особенно когда оказываются перед соблазном создать между Богом и человеком непреодолимую преграду, в данном случае — восстановить преграду, возведенную человеческим грехом, существовавшую до Христа и Им разрушенную. В Римско–католической Церкви веками, вплоть до нашего времени, Слово Божье и почти все богослужение звучали на латинском языке, еще более недоступном для западных прихожан, чем для жителей России церковнославянский, а в Армяно–григорианской Церкви до сих пор служба совершается на древнеармянском языке, понятном только для священнослужителей.
Сторонники употребления славянского языка приписывают ему какую–то особую благодатность, забывая (или, точнее, предпочитая забывать), что одним из признаков одухотворения учеников Христовых и создания Церкви был дар языков, необходимый для выполнения их апостольской миссии. Если тому или иному языку или наречию приписывать большую благодатность, чем другим, то не следует ли нам читать в храмах России Слово Божье на греческом и древнееврейском языках, которые имеют шанс считаться наиболее благодатными, ибо оригинал Слова Божьего был написан именно на этих языках?
Характерным для Церкви апостольских времен являлось возвещение Евангелия, Радостной вести о Христе пострадавшем, умершем и воскресшем для спасения грешников, народам, Христа еще не знавшим и даже о Нем еще ничего не слышавшим. Это благовестие составляло первичную и на первых порах важнейшую часть апостольской деятельности.
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви велась вплоть до Октябрьского переворота в довольно широком масштабе. Русские миссионеры успешно трудились на Алтае и в Карелии, в Японии и в Пермском крае. Такие подвижники, как св. Стефан Великопермский, просветитель Алтая архиепископ Макарий переводили Библию на местные языки и совершали на них православное богослужение, не утруждая себя ненужными и нелепыми вопросами о степени «благодатности» того или иного языка.
После 1917 г. миссионерская деятельность Церкви прекратилась. Церковь находилась в состоянии угнетенности, униженности — а в 60–х гг. стояла перед вполне ощутимой угрозой уничтожения. Образно выражаясь, за десятилетия следовавших одна за другой попыток удушения Церковь научилась обороняться, но утратила навыки наступления. Когда во второй половине 80–х гг. положение изменилось к лучшему и Церковь получила значительно большую свободу действия, она оказалась к новой ситуации неподготовленной. Для духовного просвещения своих соотечественников, закосневших во мраке неверия миллионов потенциально православных христиан у Церкви не оказалось ни кадров, ни опыта, ни разработанной методики, ни литературы, ни материальных ресурсов. Церковь на всех ступенях своей структуры за семьдесят лет притеснений и гонений получила навык пастырской работы только в ограниченной среде пожилых прихожан, преимущественно женщин, в большинстве своем невысокого культурного уровня. Естественный повышенный интерес к Церкви, к ней в целом как к социальному феномену, на протяжении почти трех поколений искусственно выключавшемуся за скобки общественной жизни, — этот интерес привел к порогу Церкви массы россиян. Но что Церковь была в состоянии им дать, не располагая ни пастырскими, тем более миссионерскими кадрами, ни литературой, ни помещениями, ни сколько–нибудь достаточным количеством денег? Церковь сумела предложить только формальный обряд. Заповедь Христа — «идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28:19) — исполнялась Церковью только отчасти: Церковь могла крестить (и то «с грехом пополам», ибо массовое крещение выливалось чаще всего в беспорядочное, шумное, отнюдь не благочестивое действо), но не могла научить.
В результате подавляющее большинство крещеных в конце 80–х — начале 90–х гг. живет, не делая из своего формального вступления в Церковь никаких выводов, в частности — в храмах не появляется совсем или почти.
Пройдут, вероятно, многие десятилетия, прежде чем в Церкви хоть сколько–нибудь умножится число людей духовно живых, знающих Христа, сознающих себя членами Его Церкви и чувствующих свою обязанность исполнять Его заповеди любви и правды. Надо, однако, помнить, что судьбы Церкви, как и всего человечества, в воле Божьей, а «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф 3:9), тем более мы можем верить и надеяться, что Он привлечет к Себе избранных Своих и, как в день Пятидесятницы, вновь и вновь станут исполняться пророческие слова: «Будут все научены Богом» (Ин 6:45; Ис 54:13).
Третья грань апостоличности Церкви, как мы уже говорили, — благодатная преемственность в таинстве хиротонии (рукоположения). Через возложение рук епископа посвящаемый получает от Бога духовную способность тайнодействия, т.е. совершения, в свою очередь, всех таинств, из которых только само таинство священства (хиротонии) остается прерогативой епископов — непосредственных преемников апостольских полномочий.
Кроме упоминаемых в Символе веры вышеприведенных свойств, Церковь знает за собой еще два свойства, которые, хотя Символом веры не упоминаются, однако прочно утвердились в сознании большинства церковных людей, о них говорится как в катехизической, так и другой богословской литературе. Прежде всего, назовем «непогрешимость» Церкви.
Это весьма претенциозное слово может рассматриваться в двух аспектах, первый из которых напрямую связан с понятием греха как нарушения воли Божьей, — речь идет о нравственной непогрешимости, под которой понимается неспособность Церкви совершать что–либо нравственно–отрицательное, злое, порочное.
Кто же является конкретным носителем непогрешимости? Все единогласно считают, что это не могут быть отдельные личности. В самом деле, «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 3:23), пишет апостол Павел, и в полном соответствии с этим утверждением в одной из молитв, читаемых на вечерне в день Пятидесятницы, Церковь признает, что «нет ни единого кроме (без) скверны», а в молитве на заупокойной ектений, обращаясь к Спасителю Иисусу Христу, говорит: «Ты еси един кроме греха».
Но, признавая греховность, точнее, способность согрешать, своих членов, Церковь склонна замалчивать, а по возможности и оправдывать поступки тех же отдельных лиц, когда они совершаются в порядке исполнения ими церковно–служебных, церковно–административных обязанностей.
Так, канонизируя в 1988 г. Максима Грека, РПЦ одновременно канонизировала и митрополита Московского Макария, который отказал Максиму в ходатайстве перед царем об освобождении из тяжких условий монастырского заключения. «Узы твои целуем яко во святых», — ответил митрополит несчастному узнику, одному из самых просвещенных православных деятелей того времени, неутомимому «правщику» богослужебных славянских книг, но ходатайствовать за него отказался и ничего не сделал, чтобы облегчить участь ученого благочестивого страдальца.
Но бессердечие, проявленное к Максиму Греку, — ничто по сравнению с кострами, на которых сжигали в Москве и Новгороде еретиков сразу же после Собора 1504 г Протесты против этого зверства, звучавшие из глубины приволжских лесов со стороны «заволжских старцев», в т.ч. Вассиана Косого (из рода бояр Патрикеевых) и святого Нила Сорского, были оставлены без внимания, и в истории нашей Церкви появилась страница такая же печальная, как и та, где записаны деяния инквизиции на Западе. Полтора столетия спустя количество таких страниц умножилось — на костер повели уже не еретиков, а православных людей, коими были старообрядцы. Но и заглядывая в глубь веков, мы находим подвергшихся запоздалому прославлению великих страдальцев, принявших гонения отнюдь не от язычников, а от своей же Церкви. Такова судьба святого Иоанна Златоуста, который, будучи осужден Поместным Собором в Дубе, при пособничестве церковных властей (архиепископ Александрийский Феофил и др.) был византийским императором Аркадием дважды отправлен в ссылку. Великий подвижник скончался на Кавказе в конце 407 г. после тяжелейших испытаний.
Можно ли считать, что Церковь не несет ответственности за все эти и многие другие злодеяния? Допустимо ли, как это обычно бывает в церковных кругах, все объяснять «ошибками», заблуждениями и хотя бы даже грехами отдельных церковных деятелей? Ведь, наверное, принятие соответствующих решений и приговоров сопровождалось традиционными для соборов словами: «Изволися Духу Святому и нам!»
Кроме аспекта нравственного, непогрешимость, приписываемая Церкви, имеет еще другой аспект, который можно назвать вероучительным, имеющим преимущественно догматический характер[43]
Уверенность в вероучительной непогрешимости Церкви может быть обоснована обещанием Христа послать Своим ученикам Духа Утешителя, Который наставит их на всякую истину (Ин 15:26). Однако ни в этих словах Спасителя, ни в описании евангелистом Лукой события Пятидесятницы, мы не находим указания на конкретного носителя этой непогрешимости.
Римско–католическая Церковь со сравнительно недавнего времени, а именно с 1870 г когда состоялся 1 Ватиканский Собор, признала такого рода непогрешимость за римским первосвященником в тех случаях, когда он провозглашает вероучительные истины «ех cathedra», т.е. в качестве земного главы Церкви, унаследовавшего это высочайшее звание на земле и соответствующие полномочия от апостола Петра.
В православии такая безошибочность или, пользуясь утвердившейся терминологией, «непогрешимость» приписывается церковным сознанием церковным соборам, в первую очередь вселенским. Хотя соответствующее учение не догматизировано, однако православный человек (как и католик) смотрит на Вселенский Собор как на воспроизведение и продолжение события Пятидесятницы, как на церковное собрание, где действием Святого Духа осуществляется обетование Иисуса Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20).
Понимание вероучительной непогрешимости Церкви как дарованной содействием Святого Духа безошибочности соборных деяний резко противоречит истории самих соборов, многие решения которых или отменялись более поздними соборами, или были оставляемы в нарочитом пренебрежении.
Соответствующие примеры уже приводились выше: принятие в 451 г. Халкидонским Вселенским Собором догматических определений, начисто опровергающих принятые всего два года ранее определения так называемого «разбойничьего» Ефесского Собора, оказавшиеся под спудом определения Московского Собора 1551 г. («стоглавого») и др.
Существует и в текущем столетии широко распространился взгляд на народное благочестие как на некое орудие промысла Божьего, придающее Церкви вероучительную непогрешимость. Согласно этому взгляду, хранителем и гарантом истины являются в Церкви не римский первосвященник, не церковная иерархия и не Соборы, хотя бы даже «вселенские», а «народное благочестие», т.е. общественно–церковное сознание, якобы предотвращающее утверждение и тем более господство в Церкви ересей и лжеучений.
В качестве примера обычно приводится судьба объединительных решений Ферраро–Флорентийского Собора 1438 г. На этом соборе, как известно, произошло каноническое объединение Восточной и Западной Церквей, находившихся в разобщении с 1054 г. Но объединительное решение Собора, принятое всеми его участниками, за исключением одного представителя Восточной Церкви, не было реализовано, т.к. уже в 1453 г. т.е. спустя всего пятнадцать лет, Константинополь пал жертвой мусульманских полчищ, что на много столетий ослабило и изменило структуру восточного христианства, сместив его центр из Византии в Россию.
Но непосредственной причиной того, что единение, достигнутое во Флоренции, осталось лишь на бумаге, явился его формальный, лишенный внутреннего содержания характер. Восточные участники Собора не могли идти на предложенный западной стороной компромисс сколько–нибудь искренно и подписывали предложенные им определения только потому, что участвовавший в Соборе император Константин надеялся на помощь Запада агонизировавшей Византии и оказывал на иерархов соответствующее давление. Возвратясь на родину, восточные отцы постарались сразу же забыть о соборных делах и решениях, в чем им очень помогло развитие политических событий: в условиях разразившегося турецкого нашествия ни духовенству, ни тем более несчастному населению было не до церковных проблем!
Ни в этом случае, ни в каких–либо других миряне в своей массе не могли и не могут быть носителем, тем более гарантом правоверия. Наоборот, как показывает исторический опыт Церкви, именно миряне оказываются той питательной почвой, на которой нередко, особенно при отсутствии или даже недостатке просветительного и организующего пастырского и богословского руководства, пышным цветом расцветают обрядоверие, суеверие, начетничество, буквоедство, религиозный национализм и фанатизм, т.е. все те болезни, в условиях которых народное благочестие оборачивается злочестием, чему примеров мы в русском православии видим предостаточно.
Изучая опыт церковной истории, нам следует сделать возвышенный и радостный вывод, что гарантом вероучительной непогрешимости Церкви, как и каждого из ее членов в отдельности является, конечно, не папа римский, не Соборы и не так называемый «глас народа», а Сам Божественный Основатель и Глава Церкви, Господь Иисус Христос, действием Духа Своего Святого не допускающий как Свою Церковь, так и многих ее членов впадать в заблуждения, устраняющие возможность единения с Ним, пребывания в Нем (Ин 16:1–6), спасения, т.е. унаследования жизни вечной.
Все лжеучения, ереси охватывали сознание, сердца и умы отдельных христиан, церковных общин и даже Поместных Церквей по одной основной глубинной причине — по недостатку любви к Тому, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). Если человек не любит Господа Иисуса, он обрекает себя на заблуждения и на отчуждение (1 Кор 16:22) от Источника света и истины.
Наоборот, устремление ко Христу, усердная обращенность к Нему, деятельное исполнение Его воли, одним словом, активная любовь к Нему предотвращает впадение в заблуждение, и тогда исполняются богослужебные слова: «Свет Христов просвещает всех», — всех, кто желает этого света и раскрывает для него свой ум и сердце.
При этом сохраняется свобода, необходимая для творческого мышления (2 Кор 3:6,17), сохраняется возможность «разномыслии», не выходящих за пределы любящего преклонения перед Христом как перед своим Господом и Спасителем (Ин 20:28; Деян 16:31). Такие разномыслия (1 Кор 11:19) не развращают, не обедняют духовно «разномыслящих» христиан, а наоборот способствуют духовному развитию христианина и всей Церкви в целом, отнюдь не препятствуя спасению. Именно поэтому спасение остается возможным для христиан разных конфессий, но лишь для тех, которые любят Иисуса Христа и тем самым оказываются исполнены Святым Духом (Рим 8:9).
Нам остается рассмотреть еще одно великое свойство Церкви, убежденность в реальности коего является предметом веры, основанной, однако, не только на церковном самосознании, не только на церковно–историческом опыте, но и на однозначном заверении самого Спасителя: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18).
Эти слова Христовы лежат в основе учения о неодолимости Церкви, о ее вечности, не нарушаемой даже неизбежным концом материального мира: Церковь земная, странствующая и воинствующая преобразуется тогда в Церковь небесную — торжествующую, неколебимую. Неодолимость не принадлежит к числу свойств Церкви, перечисляемых в девятом члене Никео–Константинопольского Символа веры, однако она недвусмысленно провозглашается в том же Символе, там, где говорится о бесконечности Царства Христова: «Его же Царствию не будет конца».
Достаточно взглянуть на насчитывающую два тысячелетия историю Церкви, чтобы убедиться, что слова Христовы исполняются в полном объеме.
Ни притеснения, ни гонения, ни казни, ни глумление не могли сокрушить Церковь, не могли отторгнуть от тела Христова верных избранников Божьих (Мф 24:13).
Не имея успеха в открытой борьбе против царства света и правды Божьей, враг рода человеческого сеял разделение, отчуждение и вражду между христианами, побуждая восставать друг против друга, подстрекая к религиозным войнам, к жестоким преследованиям одних христиан другими (Ин 16:2–3), однако вопреки его стараниям христиане разных вероисповеданий все более осознают свою общность во Христе и стремятся достигнуть единения в любви, заповеданной их Божественным Учителем (Ин 17:21).
Наконец, самым универсальным и, может быть, самым мощным оружием дьявола в богоборческой деятельности, является грех во всех его разнообразных видах и обличьях, от обманчиво–прельстительных и до откровенно безобразных и ужасающе страшных; но и здесь, в яростной борьбе между добром и злом, благодать Божья не оставляет грешных, но любимых Богом людей, привлекая их ко Христу и спасая покаянием, верой, надеждой и любовью, возвещаемыми Словом Божьим и даруемыми Духом Святым через Церковь в ее проповеди и таинствах.
Заключение
Цель пришествия в земной мир Сына Божьего Иисуса Христа — спасение людей (Ин 3:16). Для этой цели Ему угодно было создать Церковь (Мф 16:18) как Свое таинственное Тело, то есть соделав ее Себе столь же близкой, как Его собственное Тело.
Он любит Церковь как Свое Тело (Еф 5:29–30) и каждого христианина как члена этого Тела. В отличие от членов физического тела каждый член Церкви — личность, имеющая столь великую ценность в очах Божьих, что за нее пострадал и умер Сын Божий, для нее Он воскрес, о ней Он ходатайствует вечно пред Отцом Небесным (1 Тим 2:5).
В спасении, совершаемом Христом, Бог открывается нам как Любовь (1 Ин 4:12), и в ответной любви к Нему (ст. 19) наиболее совершенным образом осуществляется спасение христианина, его единение с Богом (ст. 16).
Указание на любовь к Богу как на путь к Нему, как на наше спасение преподано Богом уже через Моисея (Втор 6:5), а Иисусом Христом возведено в степень самой великой, самой главной заповеди (Мф 22:37–38).
Одним из основных, может быть, наиболее распространенных заблуждений, в которое впадаем мы, христиане, является подмена любви к Богу любовью к Церкви. При этом мы любим Церковь не как Тело Христово, любим не ее святую сущность, а внешний, доступный нашему чувственному восприятию облик, любим как общественную организацию в ее внешнем обличий, с ее установлениями, архитектурой, живописью и музыкой, с ее схоластикой, педагогикой.
Церковь есть орудие, инструмент любви Божьей, и нам следует, в первую очередь, любить не инструмент, а Того, Кто этот инструмент для нас создал, хранит и употребляет для нашего спасения.
Нам следует постоянно испытывать благодарность Богу за созданную и дарованную нам Церковь и молиться за нее, чего мы, как правило, не делаем; мы молимся о чем угодно, но очень мало о Церкви. Мы забываем, что она пока еще не торжествует, а воинствует, борется и страдает — порой побеждает, но нередко терпит поражения.
Между тем Церковь в лице своих деятелей чрезвычайно склонна к несправедливому триумфализму, самоуспокоенности и зазнайству.
Церковь не хочет замечать свои «болячки». Уверенные в своей неодолимости как Тела Христова церковные люди легкомысленно распространяют эту уверенность и на церковную структуру, в которой, кроме Божественного одухотворения, со всей силой проявляет себя и действует человеческое начало, подверженное искушениям, грехопадениям и отпадениям. В современных условиях Церкви надлежит не превозноситься, а учиться смирению и кротости, следуя примеру Того, Кто по слову пророка «…трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис 42:3).
Нашей Православной Церкви, как и всякому отдельному христианину, необходимо, говоря словами молитвы Ефрема Сирина, «зрети своя прегрешения и не осуждати брата своего», в частности и христиан, к ней не принадлежащих. Только уподобляясь в смирении, терпении и любви своему Господу и Спасителю, Церковь способна сохранять Ему верность и исполнять Его завет: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16:15).
Библейско–богословский институт
Попечители:
митрополит Сурожский Антоний, архиепископ Михаил Мудьюгин, епископ Сергиевский Василий, епископ Диоклийский Каллист, епископ Оксфордский Ричард Харрис, академик Н.И.Толстой, профессор Л.Л. Оболенский, профессор Брюс Мецгер, каноник Майкл Бурдо, священник Ион Селле
Библейско–Богословский Институт (ББИ) продолжает традицию открытого христианского образования, заложенную Общедоступным Православным Университетом, основанным протоиереем Александром Менем. ББИ сочетает в себе особенности конфессионального и светского учебного заведения. Он ориентирован на мирян, открыт межконфессиональному диалогу и свободным дискуссиям.
ББИ готовитспециалистов с высшим образованием в области богословия и религиоведения. Акцент делается на изучении современной библеистики. Предусмотрены также специализации по кафедрам философии и богословия, истории Церкви и христианской культуры.
У истоков Общедоступного Православного Университета стоял протоиерей Александр Мень, замечательный пастырь и проповедник, занимавшийся активной христианско–просветительской деятельностью. Его публичные лекции по библеистике, истории религиозного пути человечества и Церкви, религиозной философии и богословию заложили основу Университета. Первый учебный год начался 8 сентября 1990 года лекцией "Христианство" прочитанной отцом Александром. Наследующий день, в воскресенье, он был убит по дороге к своему храму Продолжать начатое дело пришлось его ученикам. В 1993 году работу Университета благословил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 1995 году на основе разработанных в Университете программ был зарегистрирован Библейско–Богословский Институт.
Сейчас в ББИ на пяти курсах обучается около 150 студентов. Преподавание ведут 37 высококвалифицированных специалистов. Среди них сотрудники Российского Библейского Общества Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Российской Академии наук, преподаватели Санкт–Петербургской и Московской Духовных Академий и зарубежные специалисты.
Первый курс представляет собой общедоступный лекторий, открытый для всех людей, независимо от возраста, образования и вероисповедания. Приемные экзамены не проводятся. После цикла "Введений" (в Библии, православное богослужение, историю Церкви, церковные искусство и литературу и т.д.) слушатели, желающие систематизировать свои знания и продолжить образование на старших курсах, сдают экзамены и зачеты. На втором курсе наряду с общими предметами преподаются основы христианской педагогики и другие дисциплины, необходимые будущему катехизатору Выпускники курсов катехизаторов сейчас успешно трудятся в школах, колледжах и институтах, проводят катехизацию в храмах. Зачисление на 3 курс проводится по результатам экзаменов за первые два курса и собеседования.
Одной из важнейших задач Института является подготовка и издание современных учебных пособий, новых переводов книг Священного Писания нарусский язык, и другой литературы. Уже в 1995 г вышли в свет: новый перевод Послания ап. Павла к Римлянам (с приложениями), учебники побогословиюиконы и основному богословию, книга Дж. Пауэлла" Полнота человеческой жизни", сборни к современных христианских песен и сборник учебных программ. Готовятся к изданию другие переводы из Библии, оригинальные курсы лекций преподавателей Института, труды Александра Меня и работы ведущихзападныхученых. На 1996 г. намечен выход первого номеражурнала "Христианство, культура, образование", издаваемого ББИ.
Библиотека насчитывает свыше 3000 наименований книг и журналов — это преимущественно издания по библеистике, истории Церкви, богословию, философии и христианской культуре. Большую помощь в пополнении книжного фонда оказывают западные христианские организации, включая ведущие издательства Eerdmans и Zondervan (США), SPCK (Великобритания). Тем не менее книг, особенно учебников, катастрофически не хватает. Институт будет благодарен за любую помощь в приобретении необходимой литературы.
В рамках ББИ работаетнаучно–методический семинар "Христианство, культура и образование". А семинар по христианской антропологии вызывает серьезный интерес не только у богословов, но и у многих педагогов.
Организация научных конференций, семинаров и встреч является одной из форм участия Института в жизни Вселенской Церкви. Связи с российскими и зарубежными христианскими и светскими организациями позволяют лучшим студентам и преподавателям продолжать свое образование в университетах Великобритании, США, Франции и Германии.
Мы надеемся, что осуществление хотя бы части упомянутых программ и проектов внесет вклад в развитие внутриправославного и межконфессионального диалогов и поможет навести мост через пропасть, разделяющую Церковь и общество в России.
Основным препятствием для дальнейшего развития Институтаявляется отсутствие собственного здания с помещениями не только для учебных занятий, но и для библиотеки, офиса и издательства. Многие образовательные и издательские программы находятся под угрозой срыва из–за отсутствия средств.
Мы обращаемся к христианским и светским организациям, благотворительным фондам и всем людям, которые внимательно и сочувственно следят за развитием ситуации в России, с просьбой о поддержке. Беспечность и равнодушие, проявленные сегодня, могут дорого обойтись завтра.
АБ "Инкомбанк”, филиал "Чистые пруды" агентство'Тверское", для Москвы: р/с 100701622, МФО 998736, уч. 5С; для иногородних: р/с 100701622, МФО201791, уч. 83, к/с 502161000 РКЦ ГУ ЦБ РФ.
Россия, 113534, Москва, ул. АкадемикаЯнгеля, 14–10–461, Библейско–Богословский Институт Факс:(7 095)230 2902 e–mail: [email protected]
ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
1* Дж. Пауэлл. Полнота человеческой жизни.
2* Послание апостола Павла к Римлянам (перевод В. Н. Кузнецовой). Апостол Павел в русской библеистике.
3. Библейско–Богословский Институт. *Сборник учебных программ, 1993–94. Сборник учебных программ, 1995–96.
4* Александр Менъ. Урод (Сказка о происхождении человека).
5* Маранафа (Сборник современных христианских песен).
6* И.К. Языкова. Богословие иконы.
7* Архиепископ Михаил (Мудъюгин). Введение в основное богословие.
8. Архиепископ Михаил (Мудъюгин). Русская православная церковность второй половины XX в.
9. Б. Мецгер. Текстология Нового завета.
10. Архимандрит Августин (Никитин). История западных исповеданий.
11. Д.В. Поспеловский. Православная Церковь в истории России.
12. А.Э. Левитин–Краснов. Очерки по истории русской церковной смуты.
13. Э.Л. Лаевская. Искусство Европы первого тысячелетия до н.э. Система художественных культур.
14. Э.Л. Лаевская. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы.
15. КаЪгрин Спинк. Малая сестра Магдалена Иисуса.
* Вышли в свет.