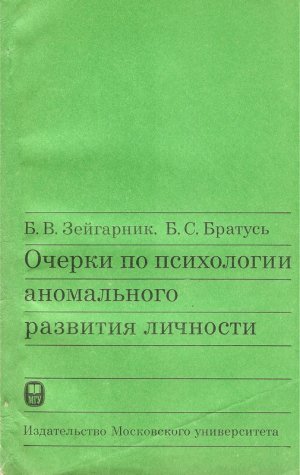
Часть 1
Предисловие
Каждый психолог знает, насколько трудно подойти конкретно к изучению структуры личности, процессов смыслообразования, взаимодействия мотивов и целей, их роли в развитии личности. Все эти моменты предстают в норме, в сложнейшем единстве живой человеческой личности настолько слитными, что до сих пор психология находится в состоянии поиска путей их расчленения, точного анализа и понимания. Здесь во многом могут прийти на помощь исследования богатого фактического материала, которым располагает клиника аномального развития личности. Еще Гарвей писал: «Нигде так явно не открываются тайны природы, как там, где она отклоняется от проторенных дорог». Патопсихология — одна из отраслей психологической науки — призвана исследовать нарушения психологической деятельности, проникать в их внутреннюю природу, выделить существующие здесь закономерности и сопоставить, соотнести их с закономерностями нормального развития личности. Разработка этих задач крайне важна не только для построения общей теории личности, но и для решения многих насущных прикладных задач (восстановление нарушенной трудоспособности, коррекция отклонений в поведении, вопросы воспитания).
В данную книгу вошли (некоторые частично опубликованные) работы, посвященные обсуждению как общих проблем психологии личности, — соотношение распада и развития психики, соотношение биологического и социального, нормы и патологии и др., так и более частных вопросов изучения аномального развития — природа подконтрольности поведения, анализ нарушений механизмов целеполагания и др. Содержание книги не претендует на исчерпывающую полноту охвата рассматриваемых проблем; главным было наметить и обосновать некоторые принципиально важные, с точки зрения авторов, аспекты и подходы, которые, разумеется, нуждаются в дальнейшем уточнении и развитии. Жанр «очерков» оказался наиболее удобным, поскольку позволил, с одной стороны, коснуться достаточно разнообразного круга вопросов и, с другой стороны, выбрать при анализе свой, наиболее приемлемый в каждом случае аспект рассмотрения. Представленные очерки отражают единое направление исследований. Они объединены общей методологической основой (теорией деятельности) и общей задачей — поиском новых возможностей познания психологической природы личности.
В этой книге Б. В. Зейгарник написаны очерки I, II, III, V, VI, Б. С. Братусем очерки IV, VII, VIII. Помимо данных собственных исследований, авторы при написании книги опирались на результаты работ сотрудников, аспирантов и студентов факультета психологии МГУ, которым они выражают искреннюю благодарность.
Очерк I. Значение патопсихологических исследований для теории психологии
Исследования в области патологии психической деятельности имеют большое значение для многих общетеоретических вопросов психологии. Остановимся на некоторых из них.
Один из них касается роли личностного компонента в структуре познавательной деятельности. Современная психология преодолела взгляд на психику как на совокупность «психологических функций». Познавательные процессы — восприятие, память, мышление — стали рассматриваться как различные формы предметной, или, как ее называют часто, «осмысленной» деятельности субъекта. В работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович и др. показано, что всякая деятельность получает свою психологическую характеристику через мотивацию. Следовательно, роль мотивационного (личностного) фактора должна быть включена в характеристику всех психических процессов. П. Я. Гальперин (1959), создавший теорию поэтапного формирования умственных действий, включает в качестве первого этапа формирование мотива к решению задачи. Все эти положения советской психологии нашли свое отражение в общетеоретических установках. Однако их часто трудно экспериментально доказать, имея дело со сформировавшимися процессами. Это легче сделать в генетическом аспекте (исследования Гальперина, 1959; Запорожца, 1949; Эльконин, 1971). Такая возможность представляется и при анализе различных форм нарушения психической деятельности.
Нарушение личностного компонента проявляется при исследовании любой формы психической деятельности, так как болезнь, особенно психическая, прежде всего поражает мотивационную сферу человека, его эмоциональные проявления, его ценностные ориентации. Особенно четко выступают эти нарушения при исследовании мышления (Зейгарник, 1958). Многие авторы по–разному их обозначают: разноплановость мышления, искажение уровня обобщения (Зейгарник, 1965), резонерство (Тепеницина, 1965; Мансур Талаат Габрнят, 1973), тенденция к актуализации неупроченных в прошлом опыте свойств и связей (Поляков, 1974). Однако все они являются прежде всего выражением измененного личностного компонента деятельности. Об этом писал еще Ф. Энгельс в своем труде «Диалектика природы»: «Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления; вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путём с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами в особенности со времени гибели античного мира». (Маркс К. Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 49.)
Иначе говоря, ответственным фактором за многие проявления нарушений познавательной деятельности является «мотивационная смещённость» больных. Этот факт имеет принципиальное значение: он доказывает, что все психические процессы являются по–разному оформленными видами деятельности, опосредстрованными, личностно мотивированными".
Другим вопросов общетеоретического значения, для разрешения которого кажется целесообразным привлечение патологического материала, является вопрос о соотношении биологического и социального в развитии человека, вопрос, который сейчас широко дискутируется на многих симпозиумах и конференциях. Привлечение анализа разных форм аномалий личности может оказаться полезным при решении этой проблемы (см. очерк У).
Важной теоретической проблемой следует назвать и проблему соотношения распада и развития психики. Проблема соотношения распада и развития имеет большое значение для теории психологии и психиатрии, понимания специфики строения психической деятельности человека. Некоторые стороны этой проблемы мы рассмотрим в очерке III.
Наконец, исследование патологии личности дает ценный материал и для изучения такого основополагающего методологического вопроса, как вопрос о движущих механизмax развития. Остановимся на этом подробнее.
Именно в решении этой проблемы выступают наиболее четко различные формы редукционизма и разные виды маскировки истинного лика теории. Так, например, теории личности, называющие себя «гуманистическими» (Rodgers, 1947, 1951; Allport, 1953, 1960), а иногда именующие себя даже «марксистскими» (Фромм, 1947), на деле оказываются концепциями, интерпретирующими социальные явления в психологических понятиях, подменяющие социальные причины психологическими. Исходя из этого вопрос о механизме развития личности становится особенно актуальным.
Материал патологии позволяет подойти ко многим теоретическим вопросам психологии личности, таким, как иерархизация мотивов, их опосредованное строение, проблема смены ведущей деятельности, целеобразования. Многочисленные исследования показали различные формы этих изменений. В одних случаях, болезнь меняет строение мотивов, нарушает их иерархизацию, опосредованность (Братусь 1974), в других смыслообразующая функция мотива превращается лишь в знаемую (Коченов, 1970). В ряде исследований показано, что 6oлезненное изменение личности состоит в утере критичности и подконтрольности поведения (Зейгарник, 1949; Кожуховская, 1972; 1973), выявлено порождение новой ведущей деятельности, изменение прежней (Карева, 1976).
Однако сам факт, что патологический материал оказывается полезным при решении вопросов психологии личности не должен означать, что можно прямо и непосредственно выводить закономерности развития здоровой личности из закономерности развития больной. Наоборот, исследования в области патопсихологии постоянно выявляют отличия строения личности у здорового и психически больного человека.
Показано, например, что должны быть особые условия, вызывающие патологические изменения личности. Так, М. А. Карева (1976) установила, что антивитальная деятельность голодания у больных нервной анероксией формировалась далеко не у всех больных, прибегающих к голоданию для исправления своей фигуры. В одних случаях это был психопатический склад личности, в других свою роль сыграло неправильное отношение социального окружения (семьи); существенна также роль возрастного фактора в формировании этой особой деятельности. Материал патологии показал также существование условий, реальных жизненных моментов, при которых разрушительное влияние болезни может быть компенсировано. Так, выявлено, что создание возможности успешного выполнения реальной общественно значимой деятельности часто обеспечивает адекватную личностную направленность, приводит к формированию адекватной самооценки (Поперечная, 1973).
Исследования, посвященные трудовой реабилитации, доказали, что наличие адекватного влияния ближайшего социального окружения (семьи) содействует выработке трудовых установок у больных (Рубинштейн, Зейгарник и др., 1976; Реньге, 1978).
Можно предположить, что некоторые особенности личности, такие, как критичность, возможность опосредования своего поведения, глубина и устойчивость ценностных установок, ориентация, препятствуют разрушительному влиянию многих болезненных состояний (например, при психических травмах) или «отодвигают» их.
Таким образом, накопленный патологический материал показывает структуру изменений личности, условия, при которых выступают эти изменения, и условия, при которых некоторые из нарушений могут быть компенсированы. Тем самым открывается возможность не только разграничения структуры личности в состоянии здоровья и болезни, но косвенно указываются пути и формы нормального развития.
Вместе с тем широкое и плодотворное внедрение психологии в медицинскую практику приводит некоторых исследователей к выводу о том, что патологическое развитие личности, в частности невротическое, может служить моделью развития личности здорового человека. Особенно четко это положение выступает у А. Адлера (1927), который, как известно, считал, что стремление к гиперкомпенсации своего дефекта является основным механизмом развития личности. По существу представители многих зарубежных теорий (Хорни, 1937; Салливен, 1953; частично Роджерс, 1947) переносят закономерности развития невротической личности на развитие здоровой.
В качестве механизма развития личности выдвигается, например, механизм конфликта. Наличие невротического конфликта объявляется краеугольным камнем развития личности. Способы компенсации защиты невротика рассматриваются как модель защитных механизмов и способов компенсации здоровой личности (Отметим, что некоторые представители зарубежной психологии, как, например, Г. Оллпорт, высказали мысль, что психологические исследования личности не должны базироваться на данных, полученных у аномальных субъектов.)
Это происходит потому, что само понятие личности понимается не как продукт общественно–исторического развития, а как некая замкнутая психологическая система, которая подвергается опасности разрушения со стороны внешних и внутренних сил, находится в постоянном конфликте с этими силами и вынуждена все время с помощью сил защиты устранять источник беспокойства. Повторяется та же методологическая ошибка, как при трактовке бессознательного. Последнее, как об этом справедливо писал Ф. В. Бассин (1968), рассматривается ортодоксальным неофрейдизмом не как уровень сознания, а как явление, которое принципиально противопоставляется сознанию, которое находится с ним а антагонистическом отношении.
Не случайно, что при решении многих практических вопросов психологии (профориентации, профотбор, психодиагностики) используются методы, апробированные на невротиках или даже больных шизофренией. Анализ компенсаторных возможностей здоровой личности, ее установок, ценностных ориентаций, мотивов деятельности проводится с помощью шкал, опросников, устанавливающих по существу клинические симптомы (тревожность, шизоидность, агрессивность и пр.), либо критериев конституционального предрасположения (экстраверсия, интраверсия, астения и пр.). Такой подход не случаен. Любая научная дисциплина имеет свой путь развития. Патопсихология за рубежом (она имеет разные названия: клиническая, медицинская психология, даже психопатология) развивалась путем постепенного отпочкования не от общей психологии, а от психиатрии, психотерапии, т. е. медицинских дисциплин (точно так же, как американская социальная психология по существу выросла из положений топологической теории личности К. Левина). При таком подходе предмет патопсихологии как предмет психологической отрасли знаний остается не раскрыт, не обозначен; происходит подмена понятий психологии понятиями клинической психопатологии.
Иным путем идет советская патопсихология. Она развивается как ветвь, как область психологии, исходя из теории деятельности, рассматривающей личность как продукт социально–общественного развития, как систему устойчивых иерархизованных мотивов (Леонтьев, 1975). Как указывает П. Я. Гальперин, субъект действия не следует смешивать с личностью и, «чтобы быть личностью, нужно быть субъектом сознательным, общественно–ответственным субъектом» (1976, с. 143). Иной подход реализуется в советской психологии и при анализе компенсаторных механизмов и «мер защиты». Они не рассматриваются в качестве антагонистических по отношению к окружающей действительности, в качестве средств, защищающих человека от вредностей окружающего мира, они рассматриваются как средства саморегуляции и опосредования.
Другой причиной выдвижения постулата о том, что конфликт объявляется механизмом развития личности, является недостаточное разделение, смешение понятий конфликта и противоречия.
В советской психологии подчеркивается диалектическое положение о том, что борьба противоположностей, противоречия между ними играют роль ведущей силы развития. Однако, как указывает Л. И. Анцыферова (1978), борьба противоположностей может означать не только конфликт, но и их взаимодействие, ведущее к гармоническому развитию личности. Но даже в тех случаях, где нет полного гармонического развития, борьба противоположностей не должна сближаться с невротическим конфликтом. Невротический конфликт является особым видом противоречия, его извращенной формой, он приводит к порождению, искаженной деятельности, разрушает создавшуюся до болезни структуру личности, лишает опосредованности и подконтрольности.
Конечно, конфликтные ситуации бывают и у здорового человека, больше того, они могут привести к невротическим реакциям. Но, во–первых, для этого должны существовать особые условия; не у всякого здорового человека ситуация конфликта приводит к неврозу (большей частью — это психопатическая или, как ее называют, акцентуированная личность). Во–вторых, и это главное, развитие личности человека, заболевшего неврозом, происходит не из‑за невротического конфликта, а вопреки ему, благодаря мерам компенсации, защиты, возможности самоконтроля. Противоречия жизни здоровой личности и конфликты невротика схожи лишь по своему фенотипическому проявлению; генотипически они различны. Выработка мер защиты и способов компенсации носит, как правило, у здоровой личности опосредованный и контролируемый, а не ситуативный характер; даже в тех случаях, когда меры защиты вырабатываются на уровне бессознательного; эти способы связаны с реально функционирующей иерархией мотивов и ценностной ориентацией личности, они служат механизмом порождения реальной деятельности, средством общения с миром. Невротический же конфликт уводит личность от мира, обособляет ее, приводит к аутизму, отчуждению.
Таким образом, схожесть некоторых проявлений здоровой и больной личности не означает ни однородности их внутренних психологических особенностей, ни результатов их действий. Развитие больной личности не дублирует развитие здоровой. Обращение к патологическому материалу не означает поэтому признания его в качестве общей модели развития. Использование патологического материала является методом исследования. Применяя этот метод, позволяющий разрешить многие насущные вопросы, психолог должен держать в фокусе внимания предмет своей науки, ее категориальный аппарат и методологию. Только тогда использование патологического материала оказывается полезным при разрешении важных теоретических вопросов общей психологии, в частности и вопроса о движущих силах развития личности.
Очерк II. Место психологии в медицине (написан совместно с В. В. Николаевой)
Решение вопросов практики является «лакмусовой бумажкой» обоснованности теоретических выводов психологической науки. В области психиатрической практики, где раньше всего были внедрены психологические знания, особенно остро проявляется теперь необходимость в разработке теоретических и методологических проблем психологического исследования. Поэтому, в частности, очерки нашей книги в основном будут посвящены именно этому аспекту.
Обратимся к диагностике, составляющей основу медицинской практики. Установление диагноза означает, конечно, отграничение болезни, но такое отграничение не следует понимать как установление некой «номенклатуры» болезней. Например, дифференциальный диагноз между неврозом и неврозоподобной формой шизофрении предполагает различение структуры измененной деятельности больного, структуры его мотивационной сферы, структуры его познавательной деятельности, установок, ценностных ориентаций. Подобное различение, означающее по существу установление структуры дефекта или аномалии личности, зависит от тех теоретических посылок, на которых основывается исследователь. В одних понятиях расцениваются симптомы невроза в классическом фрейдизме, в других — описываются неврозы в работах неофрейдистов или так называемой гуманистической психологии. Иной подход к неврозам существует в отечественной неврологии и психиатрии. От этих теоретических установок зависят меры профилактики, коррекции и психотерапии.
Практика, в данном случае медицинская, всегда неминуемо заставляет психолога осмыслить свои теоретические позиции, проверить, насколько его концептуальный аппарат и используемые методы могут доставить данные, отвечающие на вопросы, поставленные жизнью.
Проблемы взаимоотношения теории и метода неоднозначно решаются в разных областях науки. Решая задачи медицинской практики, психология использует собственные, психологические методы исследования. При этом для осуществления методологической функции психологии небезразлично, каковы методы, с которыми приходит психолог в медицинскую практику. Положение об относительной независимости конкретного метода исследования от исходной теории, возможно, и верно при изучении явлений физического мира, но неприемлемо при изучении явлений психической жизни человека. История психологии наглядно показывает, что трансформация теоретических концепций психологии влекла за собой коренное изменение конкретных методов исследования психических явлений. Так, метод самонаблюдения, развивающийся в русле «психология сознания» уступил место методу так называемого «объективного исследования поведения» в русле бихевиористического направления в психологии. Структура и логика метода исследования в психологии вытекают непосредственно из тех теоретических позиций, с которых исследователь подходит к пониманию природы психического. Таким образом, теоретические и методологические принципы психологии реализуются через те конкретные методы исследования, с помощью которых она решает задачи практики.
Это положение приобретает особую важность при решении психологических задач, выдвигаемых медицинской практикой. Для иллюстраций этого тезиса обратимся снова к задачам диагностики. Известно, что в настоящее время зарубежная психология широко использует метод измерений способностей при решении задач диагностики нарушений психической деятельности; Теоретической основой такого методического подхода, как известно, является функциональная психология; рассматривающая психику человека как совокупность изолированных процессов, способностей, развитие которых сводится к количественному накоплению определенных психических свойств, носящих врожденный характер. Такая позиция противоречит диалектико–материалистическому подходу к анализу природы психического. Основываясь на положении К. Маркса, что «люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания…»(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 2.) советские психологи (Выготский, Гальперин, Леонтьев, Рубинштейн) показали, что все психические процессы формируются прижизненно по механизму присвоения общечеловеческого опыта в процессе предметной деятельности субъекта, носящей сложный опосредованный характер.
Предметная деятельность, составляющая специфическую человеческую сущность, осуществляющая связь человека с миром, стала объектом изучения в психологии. Такое понимание предмета психологии послужило основой для создания методических приемов и исследования нарушений психики. Если при исследовании измерительными методами выявляются лишь конечные результаты, а вся качественная сторона деятельности испытуемого (процесс работы, мотивы, побудившие человека избрать определенный способ действия, личностные установки) остается за рамками исследования, то психологический эксперимент, базирующийся на положениях отечественной психологии, направлен именно на выявление качественных особенностей психической деятельности субъекта. Если, скажем, речь идет об исследовании нарушений познавательной деятельности, то экспериментальные приемы направляются на то, чтобы выявить, как изменяется у больного процесс приобретения новых знаний, в какой форме искажается возможность использования прошлого опыта, каким образом нарушается процесс целеобразования, как влияют искаженные болезнью мотивы и установки на протекание и строение познавательной деятельности. Если же встает вопрос об исследовании изменений личности больного, то метод ретроспективного анализа жизненного пути больного в сочетании со специальными экспериментальными приемами позволяет установить характер и содержание ведущей деятельности человека до заболевания, выявить преморбидную иерархию мотивов деятельности и то, как она изменялась в ходе болезни.
Качественный анализ деятельности необходим и при решении другого важного раздела медицинской практики — задачи восстановления. В качестве примера возьмем задачу коррекции негативизма больного. Нельзя одним и тем же методом восстановления «снять», например, негативизм подростка и негативизм больного шизофренией. Механизмы этих внешне сходных явлений различны. Негативистское поведение психопатизированного подростка является тем, что Л. С. Выготский называл «симптомом «вторичного обрастания»; оно может быть неудачной компенсацией, проявлением плохой ориентации подростка в мире взрослых, его незащищенности против, возможно, чрезмерных, жестких требований семьи, неадекватным способом самоутверждения, демонстрацией своей самостоятельности. Если негативизм больного шизофренией может тоже являться во многих случаях проявлением мер «психологической защиты», то все же этот симптом обусловлен измененной структурой его личностного смыслообразовання, и в этом отношении он стоит ближе к тем симптомам, которые Л. С. Выготский называл «ядерными».
Устанавливая путем качественного анализа синдрома структуру нарушения деятельности, психолог намечает тот или иной путь психолого–педагогического воздействия, необходимого для коррекции деятельности. Реабилитация и диагностическая работа всегда слиты воедино.
Обслуживая практику медицины, мы не только проверяем правильность своих концепций, адекватность методических приемов, но и разрешаем свои собственные психологические проблемы, вскрываем «белые пятна» психологии. Именно при разрешении практических задач психоневрологической практики выявилось, что одним из таких «белых пятен» является психология личности.
Качественный анализ, возможность ретроспективного анализа жизненного пути человека до болезни (анамнез), с одной стороны, и возможность прослеживания текущей жизни больного человека, с другой, позволяют выявить некоторые условия формирования и развития конкретных форм жизнедеятельности человека и вскрыть закономерности его мотивационно–потребностной сферы. Так, например, исследования некоторых форм деградации личности больных алкоголизмом показали, каким образом ситуативно возникающие мотивы могут при определенных условиях переформироваться в устойчивые патологические влечения; псе более действенными становятся у них потребности и мотивы, требующие малоносредствованных действии (Братусь, 1974). Исследования больных нервной анорексией, проведенные М. Л. Каревой (1975), показали, как при определенных жизненных условиях у девушек–подростков может возникнуть антивитальная деятельность (целенаправленное голодание), «отвязанная от органических потребностей». В ряде работ экспериментально показано, что формирование «аномальной личности» у больных шизофренией происходит вследствие сужения круга мотивов, разрыва их смыслообразующей и побудительной функций (Коченов, 1970; Коченов, Николаева, 1972), Нередко в качестве механизма личностных изменений выступает нарушение подконтрольности поведения, нарушение критической оценки собственных поступков (Зейгарник, 1949; Рубинштейн, 1949; Кожуховская, 1972)
Практика психоневрологической клиники внесла много в понимание познавательных процессов (Поляков, 1974), выявилась роль мотивационного компонента в их строении (Зейгарник, 1962; Тепеницина, 1965; Петренко, 1976; Соколова, 1976).
Интересно отметить, что при анализе патологического материала особенно отчетливо выступает роль возрастного фактора. Так, при искажении содержания ведущей деятельности у подростков не складывается предпосылка для будущей трудовой деятельности (Рубинштейн, Зейгарник и др., 1976; Карена, 1975).
Знание всех обнаруженных закономерностей важно не только психологу, но и педагогу, социологу.
Таким образом, практика психоневрологической клиники, обеспечивая возможность исследования аномалий строения и развития человеческих потребностей, мотивов, направленности, выдвигает тем самым на первый план проблему личности, ее нормального и аномального развития, путей ее социального и трудового восстановления (С. Я. Рубинштейн и ее сотрудников (1976), работы наших аспирантов и дипломников Реньге, Болдыревой, Матуловой, Рыженкова и др. 1978).
Обращение к патологическому материалу позволяет подойти к сложнейшим проблемам, в частности к проблеме соотношения интеллекта и аффекта. Анализ изменений целеобразования, ослабления побудительной силы намерений у больных с грубыми нарушениями передних отделов головною мозга показал, что эта проблема не может быть разрешена вне проблемы сознания (Зейгарник, 1949; Рубинштейн, 1949). Следует отметить, что еще в 1933 г. Л. С. Выготский в своей статье «Проблема умственной отсталости», критикуя К. Левина за его антиисторический подход к проблеме связи интеллекта и аффекта (1927), писал: «Для осуществления этой задачи в нашем распоряжении имеется только путь критических и теоретических исследований тех клинических и экспериментальных данных, которыми располагает современная паука по этому вопросу» (1935, с. 11). К этой же мысли о значении клнннческих данных для общетеоретических вопросов Л. С. Выготский вновь возвращается при анализе психологического строении слабоумия при болезни Инка (Выготский, Биренбаум, Самухин, 1934).
Думается, что привлечение материала аномального развития и строения психики для разрешения многих теоретических вопросов психологии остается актуальным и в настоящее время.
За последние годы психологические проблемы в медицине значительно расширились. Благодаря тому, что наряду с лечением заболевшего человека ставится и проблема профилактики, реабилитации и психотерапии, психологи все глубже проникают в медицину; психология, в частности, внедряется в клинику соматических заболеваний (сердечно–сосудистых, онкологических, почечных).(Вопросы профилактики и восстановления, т. е. направление. которое называется сейчас «социальной» или «реабилитационной» медициной, всегда стояли в центре внимания отечественной медицины. Достаточно напомнить имена В. П. Сербского, И. И. Захарьина, С. С. Корсакова, В. М. Бехтерева, И. И. Боткина, А. Р. Лурии.)
Практика соматической медицины выдвигает перед психологией большой круг исследований, которые, главным образом, сводятся к исследованию психологии личности. Знание личностных особенностей заболевшего человека необходимо клиницисту для определения прогноза заболевания (возможности образования вторичных симптомов), для выбора правильной тактики терапевтических и психотерапевтических воздействий, для решения вопроса о возможности сообщения больному диагноза и для многого другого.
При решении этих вопросов, казалось бы строго медицинского характера, вырисовывается круг чисто психологических проблем: это проблема изменения ведущей деятельности; проблема формирования новой ведущей деятельности, замещающей прежнюю, измененную или распавшуюся в процессе заболевания, иными словами, проблема направленного формирования новых ведущих мотивов, направленного формирования новых целей и ценностных установок, проблема сознания своей болезни, проблема подконтрольности или критичности.
Остановимся вкратце на некоторых из этих проблем.
Всякое тяжелое (особенно хроническое) заболевание ставит препятствия на пути реализации мотивов деятельности. При этом для судьбы человека и для его заболевания небезразлично, какая деятельность фрустрируется — ведущая или подчиненная. Представляет интерес, что именно в момент тяжелого заболевания и выявляется в полной мере, какая по содержанию деятельность была ведущей для человека.
Встает важный вопрос о замещение ведущей деятельности какой‑либо другой, об условиях, необходимых для этого. Возникает проблема защитных механизмов личности, ее компенсаторных возможностей, границах личностной компенсации. Эта проблема мало разработана, хотя актуальность ее очевидна.
Идея личностной защиты, так широко разрабатываемая в западной психологии, в своем наиболее явном психоаналитическом варианте для нас неприемлема. Материал соматической клиники между тем, безусловно, свидетельствует о том, что подобные механизмы (защиты, замещения, опосредования) существуют. Например, широко известен факт игнорирования больными своих тяжелых заболеваний при явной, и, казалось бы, видимой самому больному симптоматике (например, параличи, некоторые проявления онкологических заболеваний, заболевания внутренних органов и др.). В медицинской литературе описана сложная и разнообразная система аргументации и мотивировок, к которым прибегают больные, чтобы лишний раз убедить себя и окружающих в отсутствии болезни. Психологический анализ этих явлений — важная задача психологии личности. Предварительные данные, полученные В. В. Николаевой и ее сотрудниками (1978), показали, что компенсаторные или защитные механизмы тесно связаны по крайней мере с двумя группами явлений: во–первых, с уровнем осознания своей болезни и своего отношения к ней, во–вторых, со структурой деятельности человека (иерархией его мотивов до болезни, степенью, их опосредствованности и т. п.).
Напомним, что еще в 1936 г. терапевт Р. А. Лурия писал о разных уровнях осознания больным своей болезни. Исследования позволяют выделить несколько уровней осознания больным собственной болезни: уровень непосредственно–чувственного отражения (болезненные ощущения), уровень эмоциональный (то, что принято называть переживанием болезни), уровень рациональной переработки фактов, связанных с болезнью, а также уровень мотивационный. Удельный вес каждого уровня различен как на разных стадиях одного и того же заболевания, так и при разных болезнях (Зейгарник, Николаева, 1977).
Осознание болезни связано теснейшим образом со строением мотивационной сферы человека до его болезни, с тем, что А. Н. Леонтьев (1975) обозначает как «одно- или «многовершинность» мотивационной сферы». Так, «одновершинность» мотивационной сферы в сочетании с узостью содержания ведущей деятельности может в некоторых случаях привести при тяжелом заболевании к ипохондрическому развитию личности, создать сложности при построении системы замещающей деятельности. В то же время многовершинность мотивационной сферы создает большие возможности для замещения, построения новой ведущей деятельности. Вместе с тем иногда наблюдается и такое явление: при условии неполного осознания болезни широта, многовершинность мотивационной сферы несет в себе опасность некритического отношения к своему состоянию. Некритичность не позволяет заболевшему человеку овладеть своими многочисленными побуждениями, «пожертвовать» некоторыми из них. Таким образом, возникает проблема формирования контроля за своим поведением, проблема формирования опосредования.
С этими вопросами тесно связана и проблема внезапных ломок личности под влиянием такого экстремального фактора как неизлечимая болезнь. Наблюдения (Николаева, 1977) показывают, что такие изменения нередки у онкологических больных при внезапном узнавании диагноза; столь же резкие перестройки мотивационной личности возможны у больных, перенесших тяжелую операцию на сердце. Исследование психологических механизмов такой перестройки и ее последствий для жизни человека — одна из задач дальнейшей работы в этой области.
Таким образом, в решении вопросов медицинской практики основными в настоящее время являются проблемы изучения личности, ее компенсаторных возможностей, проблема самосознания, подконтрольности поведения. Дальнейшая разработка этих проблем должна лечь в основу реабилитационных и профилактических мероприятий, в системе которых психолог должен найти свое специфическое место — место профессионального психолога.
Очерк III. О соотношении распада и развития психики
Проблема соотношения распада и развития личности всегда привлекала внимание не только медиков, но и психологов. Л. С. Выготский неоднократно утверждал, что для полного освещения проблемы развития и созревания психики необходимы знания данных о ее распаде (1960, с. 364). При этом генетический подход, применяемый к животным, не может быть просто продолжен при анализе развития человека. При переходе к человеку законы биологической эволюции уступают место законам общественно–исторического развития. Продолжая мысль Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьев (1959) подчеркивал, что развитие человека заключается не в приспособлении к окружающей среде, а в усвоении и присвоении всего того, что накоплено человечеством.
Проблема распада и развития должна поэтому решаться в психологии иначе, чем в биологических науках. Однако для конкретной аргументации этого общего положения потребовались многие специальные патопсихологические исследования; на некоторых из них мы остановимся в данном очерке.
Дело в том, что исследованиями в области патологической анатомии и гистологии показано, что при болезнях мозга поражается более всего молодое, т. е. филогенетически наиболее поздно развившееся образование коры головного мозга.
Экспериментальными исследованиями И. П. Павлова и его сотрудников на животных подтверждают положение о том, что при патологическом процессе ранее всего нарушается то, что было приобретено позднее. Так, приобретенные условные рефлексы разрушаются при болезни мозга значительно легче, чем безусловные. Дальнейшими исследованиями в области физиологии высшей нервной деятельности установлено, что поражение более поздних в филогенетическом отношении образований влечет за собой ослабление их регулирующей роли и приводит к «высвобождению» деятельности более ранних.
Из этих данных нередко делается вывод, что при некоторых болезнях мозга поведение и действия человека совершаются на более низком уровне, соответствующем якобы определенному этапу детского развития. Исходя из концепции о регрессе психики душевнобольного человека на более низкий в онтогенетическом отношении уровень, многие исследователи пытались найти соответствие между структурой распада психики и определенным этапом детства. Так, еще Э. Кречмер (1927) сближал мышление больных шизофренией с мышлением ребенка в пубертатном возрасте.
Выступивший на XVIII Международном конгрессе психологов (1966) известный швейцарский ученый Ж. Ажюриагерра тоже отстаивал точку зрения о регрессе психической деятельности душевнобольного человека на онтогенетически более низкий уровень развития.
В основе этих взглядов лежит идея о послойном распаде психики — от ее высших форм к низшим. Материалом, питающим эти представления, были следующие наблюдения: 1) при многих заболеваниях психики больные перестают справляться с более сложными видами деятельности, сохраняя при этом простые навыки и умения; 2) некоторые формы нарушений мышления и способы поведения больных по своей внешней структуре действительно напоминают мышление и поведение ребенка на определенных этапах его развития.
Однако при ближайшем рассмотрении эти наблюдения оказываются несостоятельными. Прежде всего далеко не всегда при болезни обнаруживается распад высших функций. Нередко именно нарушения элементарных сенсомоторных актов создают основу для сложных картин болезни (Лурия, 1969).
Анализ второй группы фактов (соотнесение поведения больных с этапами детства) показывает, что речь идет в этих случаях лишь о внешней аналогии.
Остановимся, например, на нарушениях навыков, поскольку их онтогенетическое формирование выступает особенно четко. Исследования распада различных навыков — письма, чтения, привычных действий — у психически больных позднего возраста выявили их различную структуру при разных заболеваниях. Так, при болезни сосудов головного мозга без очаговой симптоматики наблюдались дискоординация, прерывистость действий и параприксии, неловкость движений, выступавших из‑за огрубевшей и запаздывающей коррекции движения (Рубинштейн, 1965). У больных, страдающих болезнью Альцгеймера (атрофическое заболевание головного мозга), выявляется утеря двигательных стереотипов (письма, чтения), выпадение сложных человеческих умений, обусловленное утерей прошлого опыта. Никаких действенных компенсаторных механизмов у них обнаружить не удавалось, в то время как нарушения навыков у больных сосудистыми заболеваниями мозга выступали «в обрамлении» компенсаторных механизмов (которые, в свою очередь, усложняли картину нарушений).
Следовательно, распад навыков носит сложный и неоднородный характер. В одних случаях его механизмом является нарушение движения, в других — нарушение компенсаторных механизмов, в некоторых случаях — нарушение самой структуры действия. При всех этих формах нарушений навыков не был обнаружен механизм действия, напоминающий этап развития навыков у ребенка.
К этому же выводу приводит анализ различных форм нарушений мышления. Обратимся к формам патологии мышления, обозначенным нами как «снижение уровня обобщения». Больные (в основном с грубыми органическими поражениями мозга) могли в своих суждениях и действиях напоминать детей младшего школьного возраста. В суждениях подобных больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях при выполнении ряда экспериментальных заданий, таких как «классификация предметов», они руководствуются конкретно–ситуационными признаками и свойствами предметов. Обобщенные формы систематизации заменяются конкретными, ситуационными связями (Зейгарник, 1962, 1969).
При поверхностном взгляде мышление этих больных является в известной мере аналогом мышления детей–дошкольников, которые тоже опираются на образно–чувственные связи. Однако при более глубоком анализе вскрывается качественное отличие мышления слабоумного взрослого больного от мышления ребенка. Слабоумный взрослый больной не в состоянии овладеть системой новых связей, установить при выполнении умственных заданий непривычные для него отношения между предметами, достаточно владея в то же время запасом прежних знаний и навыков, которыми он оперирует. Ребенок, не обладая прочным запасом знаний, широким кругом связей, легко образует новые понятия и овладевает новой системой знаний. Круг ассоциаций ребенка в процессе обучения быстро расширяемся, его знания об окружающем мире увеличиваются и усложняются. Хотя мышление маленького ребенка действительно охватывает лишь малую часть явлений, однако в ходе практической жизнедеятельности ребенка оно постоянно совершенствуется благодаря мощной ориентировочной деятельности, общению с окружающими людьми. Ребенок быстро усваивает самые различные знания (о предметах, накапливает и синтезирует их. Даже умственно отсталый ребенок всегда обучаем, в то время как дементный больной практически не обучаем. Таким образом, несмотря на внешнее сходство мышления взрослого слабоумного больного и ребенка, они по своей структуре качественно различаются.
Рассмотрим еще одно сопоставление. Нередко проводится аналогия между тем патологическим состоянием, которое может быть названо «откликаемостью» и отвлекаемостью маленького ребенка.
Больные с «откликаемостью» не в состоянии стойко действовать в направлении намеченной цели. Любой объект, любой раздражитель, не адресованный к больному, вызывает повышенную реакцию с его стороны. Подобная «откликаемость» взрослых больных является отклонением от нормального поведения. В окружающей нас среде имеется множество разнообразных объектов и раздражителей, из которых нормальный психический процесс восприятия отбирает нужные и отвлекается от посторонних, нарушающих стройное течение мысли. У описанных же больных любой объект может выступить в качестве сигнального раздражителя и направить в свою сторону их мысли и действия.
«Откликаемость» взрослых больных может внешне напоминать отвлекаемость детей младшего возраста, которых тоже легко привлекают любые раздражители. Сторонники того взгляда, что болезненные явления представляют собой регресс на более ранние ступени развития, могли бы, казалось, найти в этом феномене подтверждение своим заключениям. В действительности генез отвлекаемости ребенка совершенно иной. В ее основе лежит ориентировочная деятельность т. е. высокая степень бодрствования коры, поэтому отвлекаемостъ ребенка обогащает его развитие, оно дает ему возможность образовать большое количество связей, из которых позднее образуется человеческая целенаправленная деятельность. В. отличие от этого «откликаемость» является следствием сниження бодрствования коры, она не только не обогащает их умственную деятельность, но, наоборот, способствует в конечном счёте разрушению ее целенаправленности.
И, наконец, можно было бы, казалось, провести аналогию между поведением некритичного больного (например, больного прогрессивным параличом) и беззаботным поведением ребенка. Однако и в данном случае речь опять идет лишь о чисто внешней аналогии. Поведение ребенка в том отношении бездумно, что он не может в силу маленького объема своих знаний предусмотреть результат своих действий. Для него еще не наступают во всей четкости причинно–следственные отношения между явлениями, поэтому его действия кажутся бесцельны–ми. В действительности это не так. Цели, которые преследует ребенок, ограничены, они не включены в более общую сложную цепь отношений. Однако эта ограниченная цель у маленького ребенка все же существует, всякое его действие обусловлено потребностью (пусть элементарной), и в этом смысле оно всегда мотивировано, целенаправленно.
Иначе обстоит дело у взрослых некритичных больных. Как показывают наш экспериментальный материал и клинические наблюдения, действия таких больных недостаточно обусловливались личностными установками и намерениями. Их действия не регулировались поставленной целью. Критическая оценка своих действий отсутствовала. Эти формы нарушения поведения лишь внешне напоминают структуру поведения ребенка на определенном этапе его развития.
Таким образом, психологический анализ клинического материала показывает, что структура поведения и мыслительной деятельности взрослого больного не соответствует структуре поведения и мышления ребенка. Ни одна из болезней не приводит к повторению особенностей, свойственных развитию психических процессов по этапам детства.
Этот вывод, полученный на основе конкретных патопсихологических исследований, согласуется с общими положениями отечественной психологии. А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия неоднократно подчеркивали, что материальным субстратом высших психических функций являются не отдельные корковые участки или центры, а функциональные системы совместно работающих корковых зон. Эти функциональные системы созревают самостоятельно при рождении ребенка, а формируются в процессе его жизнедеятельности, постепенно приобретая характер сложных, прочных межфункциональных связей. А. Н. Леонтьев предлагает (вслед за А. А. Ухтомским) обозначать нх как «функциональные органы» (1559).
Эти положения коренным образом меняют наши представления о сущности развития психики: психические процессы и свойства личности не являются (в отличие от психики животных) результатом созревания отдельных участков или зон мозга. Они складываются в онтогенезе и зависят от образа жизни ребенка.
Болезнь протекает по биологическим закономерностям, которые не могут повторить закономерности развития психики. В тех случаях, когда она поражает наиболее молодые, специфически человеческие отделы мозга, психика больного человека не принимает структуру психики ребенка на ранней стадии ее развития. Тот факт, что больные утрачивают возможность думать и рассуждать на более высоком уровне, означает лишь, что ими утрачены более сложные формы поведения и познания, но подобная утрата не означает возврата к этапу детства. Распад не является негативом развития. Разные виды патологического процесса приводят к качественно различным картинам распада.
Очерк IV. О роли биологического в изменениях психики
Проблема, соотношения биологического и социального, физиологического и психологического неизменно остается одной из центральных и острейших проблем психологической теории.
Правда, не во всех областях психологии степень этой остроты одинакова. При решении целого ряда вопросов общей психологии многие особенности человека как индивида практически не учитываются. Например, для исследования константности восприятия принципиально не важно, будет ли испытуемый толст или худ, обладать здоровым желудком или страдать язвой, будет холериком или сангвиником и т. д. Вся эта в широком смысле биология человека смело (и совершенно справедливо для многих конкретных задач) выносится за пределы исследования.
В совершенно ином положении находится психолог, поставивший целью изучить природу отклонений в развитии личности, отклонении больших и совсем малых, не выходящих за рамки «психопатологии обыденной жизни». Клиническая практика ежедневно показывает, что при рассмотрении многих психологических феноменов реальной жизни необходимо учитывать возрастные особенности, присущий человеку темперамент, склад его нервной системы.
Кроме перечисленных факторов на психологические процессы оказывают воздействие и множество других. В качестве примера ограничимся упоминанием лишь некоторых из них.
Прежде всего, это всякая длительно и тяжело протекающая болезнь, не обязательно душевная, при которой обычно поражается сам субстрат психики—мозг, но и любая тяжелая соматическая болезнь, инфекция, т. е. то, что может привести к общему ослаблению организма, к повышению раздражительности, утомляемости, эмоциональной лабильности и т. п. Это создает в конечном итоге тот физиологический фон, который может способствовать возникновению как отдельных невротических реакций, так, порой, и более серьезных отклонений в психике. Помимо этого общего фона каждая хроническая болезнь сопровождается нередко и особыми психологическими симптомами.
Широко известно, например, не только по специальной, но и художественной литературе, что больным туберкулезом (чахоткой) в поздних стадиях бывает свойственно повышенное самочувствие, лихорадочная работоспособность, склонность к легкой эйфории, что не соответствует тяжелому, иногда безнадежному, положению больного. Такую эйфорию некоторые клиницисты ставят в связь со своеобразным оглушением, вызванным отравлением вследствие недостаточного газообмена.
Совершенно иная картина наблюдается при хронических заболеваниях печени. Печень играет огромную роль в обмене веществ и, в частности, в обезвреживании различных ядов. Уже одно поступление желчи в кровь (холемия), что имеет место при желтухе, сопровождается целым рядом изменений психики: подавленностью, тоскливым настроением, угнетением интеллектуальных функций. Нелишне в этой связи напомнить и о таких известных, ставших житейскими, определениях, например «желчный характер», которые отражают многовековой опыт наблюдений, устанавливающих связь между заболеваниями печени и особым складом характера (Гиляровский, 1938).
Собственно говоря, любая тяжелая болезнь способна производить то или иное влияние на психику. И даже если это влияние малозначимо, его не всегда можно отбросить при анализе конкретного человека.
Упомянем теперь о влияниях другого рода, которые, несмотря на их серьезную значимость (в особенности для изучения аномального развития), до сих пор полностью игнорируются большинством исследователей психики. Дело в том, что, говоря о роли биологического, как правило, ограничиваются процессами, замкнутыми в организме человека, тогда как более полное и современное понимание требует рассмотрения человека как составляющей части грандиозной системы природы, испытывающей ее всестороннее влияние, которое не может не сказываться определенным образом на функционировании психики.
В качестве примера здесь можно указать на роль различного рода явлений космического происхождения.
Уже давно люди отмечали связь между теми или иными изменениями не только физического, но и психического состояния (фон настроения, работоспособность, эмоциональные реакции и т. д.) и резкой переменой погоды, скачками атмосферного давления, циклами лунной и солнечной деятельности и т. п. Однако эти многочисленные эмпирические наблюдения долгое время не привлекали серьезного научного внимания. Лишь сравнительно недавно они стали обобщаться, что привело к созданию новых разделов науки — космической биологии, гелиобиологии и др. Часть основания этой ветви наук по праву принадлежит выдающемуся советскому ученому А. Л. Чижевскому. Уместно будет поэтому обратиться прежде всего к его суждениям. «Космос или точнее, космоземной окружающий нас мир, — писал A. JI. Чижевский, — представляет собой источник бесконечного количества сигналов, непрерывно бомбардирующих нас со всех сторон. Не доходя до сознания, они могут явиться причиной ряда ощущений, вызвать «беспричинное» чувство бодрости или угнетения, склонить организм к болезни или к выздоровлению, способствовать или мешать творческой работе и т. д., то есть создают среду, в которой цветет или увядает, радуется или печалится, волнуется или успокаивается творит или бездействует, выздоравливает или умирает человек. Мы говорим здесь о среде жизни, создаваемой силами окружающей природы. Только наше малое знание создает иллюзию свободы, независимости от этих сил» (1974, с. 157).
В настоящее время получены, например, многочисленные факты, устанавливающие зависимость между характером активности солнца, магнитными бурями и числом аварий на производстве, несчастных случаев, дорожных происшествий, изменением ряда характеристик работы операторов, изменением эмоционального состояния и т. д. Особенно сильно влияние космических моментов может сказываться на состоянии душевнобольного, людей, ослабленных длительной соматической болезнью, людей с повышенной реактивностью нервной системы (Ягодинский, 1975; Агаджанян, 1977; и др.).
Следует, однако, заметить, что подобные факты (как, впрочем, и большинство других, иллюстрирующих роль биологического в развитии человека) пока остаются совершенно нераскрытыми с собственно психологической стороны. Перед нами лишь констатация некоторой корреляционной зависимости двух рядов — биологического (в данном случае космобиологического) и психологического. Раскрыть природу соотнесения этих рядов — задача необходимая не только с точки зрения требования творческой полноты наших представлений о человеке, но и позиций сугубо практических, поскольку речь идет об объективно существующих влияниях на психику, игнорирование которых означало бы не что иное, как подчиненность их «капризам», могущим обернуться порой самыми серьезными последствиями.
Как же отнестись ко всем этим многочисленным и многообразным влияниям биологической природы на психические процессы?
В задачу очерка не входит детальное рассмотрение различных точек зрения на эту проблему, и потому мы ограничимся лишь перечислением основных из них.
Обозначим сначала крайние точки. Согласно первой, все основные особенности и способы развития психики предопределены биологическими факторами — врожденными или приобретенными. Такой точки зрения не столь уж редко придерживаются психиатры, ссылаясь при этом на определенные клинические факты. В самом деле, если мы сравним олигофренов или больных шизофренией, которые выросли в совершенно разных социальных условиях, то обнаружим, что, несмотря на разницу окружения и воспитания, у них будет налицо сходство ряда основных психологических черт. Из этого и делается вывод о том, что главным в продуцировании этих черт явились соответствующие нарушения нервной системы, головного мозга.
Другая крайняя точка зрения состоит в том, что особенности психики целиком и полностью определяются качеством воспитания и обучения. Этого взгляда в основном придерживаются психологи, изучающие нормальное психическое развитие. Они опять‑таки опираются на определенные экспериментальные и жизненные данные, показывающие главенствующую роль организации предметной деятельности для регулирования тех или иных психологических образований. Как на примеры, нередко ссылаются здесь на случаи, когда дети самых отсталых и примитивных племен, получив волен обстоятельств соответствующее обучение, ничем не отличались от образованных людей европейской культуры и, наоборот, различные случаи социальной депривации, дефицита воспитания и в особенности так называемых «Маугли», которые ярко свидетельствуют о непоправимом уроне, даже о невозможности собственно человеческого развития вне общения, вне специальной организации деятельности ребенка. Согласно представлениям этой точки зрения, формировать можно все и у всех, важно лишь выяснить, как адекватно организовать процесс формирования заданного качества.
Эти две точки зрения, как мы говорили, крайние, и немногие авторы обозначают себя на этих позициях. И поэтому самой популярной и распространенной является средняя между двумя позициями. Согласно ей, в психическом развитии равноопределяющую роль играют и биологические н. социальные моменты, Последние, как правило, превалируют, не заглушая, однако, большего или меньшего звучания первых.
Сторонники этой точки зрения рассматривают человека как существо биосоциальное, в котором диалектически сочетаются в единстве биологическое и социальное. По справедливому суждению А. Н. Леонтьева, несмотря на апелляцию к «диалектичности», эти взгляды остаются в рамках теории двух факторов формирования психики — наследственности (биологический фактор) и среды (фактор социальный). Решительно критикуя эту теорию в ее явном и скрытом виде, А. Н. Леонтьев пишет: «Необходимо с порога отбросить представления о личности как о продукте совокупного действия разных сил, из которых одна скрыта, как в мешке, «за поверхностью кожи» человека (что бы в этот мешок ни сваливали), а другая лежит во внешней среде (как бы мы эту силу ни трактовали — как силу воздействия стимульных ситуаций, культурных матриц или социальных «экспектаций»). Ведь никакое развитие непосредственно невыводимо из того, что составляет лишь необходимые его предпосылки, сколь бы детально мы их ни описывали» (1975, с. 172).
Целиком разделяя эту позицию, мы хотим вернуться к вопросу о том, каким образом относиться не в общем методологическом плане, а в конкретных исследованиях к тем несомненным влияниям, которые оказывают на психику пол, возраст, конституция, болезни, словом, все то, что относят к биологическому в человеке.
Прежде всего необходимо, по–видимому, внимательнее и строже отнестись к самому представлению о биологическом применительно к человеку. В это представление иногда в явном, а чаще в скрытом виде привносится (по аналогии с жизнью животного) понятие инстинкта, инстинктивных форм поведения. Между тем для человека — именно как особого, уникального биологического вида — важнейшей характеристикой является отсутствие инстинктов в строгом смысле слова, т. е. «наследственно в самом строении организма закрепленного отношения к определенным объектам внешней среды» (Гальперин, 1976). По меткому определению Гердера, человек — «первый вольноотпущенный природы», поскольку животное ограничено и предопределено в способе своего существования (Небезынтересно, что это усматривалось естествоиспытателями уже много веков назад. Вот, например, отрывок из сочинения римского врача Клавдия Галлена (II в. н. э.): «Всякое животное, не наученное никем, обладает ощущением способностей своей души и тех сил, которыми наделена каждая часть его тела… Можно сказать, что сами части тела обучают животных способу их применения… Возьми, если хочешь, три яйца: орла, утки, змеи, согревай их умеренно и затем, разбив скорлупу, ты увидишь, как среди животных, которые вылупятся, одно будет стараться пустить в ход крылья, еще не умея летать, а другое — извиваться и стараться ползти, хотя оно еще мягко и не умеет этого делать, и после того, как ты всех трех вырастишь в одном доме, отнесешь их на открытое место и дашь им свободу, орел поднимется ввысь, утка полетит к какому‑нибудь болоту, а змея спрячется в земле… Гиппократ говорил: «Природа животных обходится без обучения.» Поэтому в конце концов мне кажется, что животные выполняют некоторые искусные действия скорее по инстинкту, чем по разуму» (Галлен, 1971, с.57,58)), а человек лишен этой предопределенности и потому универсален. Именно поэтому человек должен был сам формировать себя, создавать культуру, мир собственно человеческих предметов и отношений, мотивов и чувств. За все, происходящее в этом мире, следовательно, ответственны в конечном итоге мы — как человечество, его многовековая история и мы — люди его составляющие как личности, наделенные свободой и ответственностью (в отличие от животных) за свое поведение.
Только имея в виду как исходный пункт отсутствие в человеке инстинктивных форм поведения, можно построить подлинно человеческую психологию и указать в ней место биологического, точнее органического, ибо, как справедливо замечает П. Я. Гальперин (1976), термин «органическое» является здесь более подходящим, поскольку не содержит в отличие от понятия «биологическое» указания на «животное в человеке», а ориентирует прежде всего на имеющиеся анатомо–физиологические предпосылки в возможности, которые играют бесспорно роль в развитии человека, роль, наглядно проявляющуюся в аномалиях этого развития.
Важную роль для разрешения проблемы соотношения внутреннего и внешнего, для преодоления теории двух факторов (равно как в варианте конфронтации этих факторов, так и их конвергенции) сыграли фундаментальные работы С. Л. Рубинштейна. Исходя из положения С. Л. Рубинштейна внешние причины действуют через посредство внутренних условий (1957). Согласно этой формуле, поведение не рождается непосредственно внутри человека, прямо от его внутренних свойств и задатков. (С другой стороны, оно не определяется прямо и непосредственно характером внешних воздействий. Внешние причины приводят к тому или иному эффекту, лишь преломляясь через всю сложность и многообразие внутренних условии.
Вопрос о соотношении биологического и социального был предметом специальных экспериментальных исследований особенностей человеческого слуха, проведенных под руководством А. Н. Леонтьева. Эти исследования подвели к следующему общему выводу: «…биологически унаследованные свойства составляют у человека лишь одно из условий формирования его психических функций, …условие, которое, конечно, играет важную роль… Другое условие — это окружающий человека мир предметов и явлений, созданный бесчисленными поколениями людей в их труде и борьбе. Этот мир и несет человеку истинно человеческое. Итак, если в высших психических процессах человека различать, с одной стороны, их форму, т. е. зависящие от их морфологической «фактуры» чисто динамические особенности, а с другой стороны, их содержание, т. е. осуществляемую ими функцию и их структуру, то можно сказать, что первое определяется биологически, второе — социально. Нет надобности при этом подчеркивать, что решающим является содержание (1965, с. 207).
Можно ли пользоваться приведенными выводами в исследованиях личности, анализе ее нормального и отклоняющегося развития? На наш взгляд, да, но при некотором их уточнении.
Прежде всего здесь говорится о соотношении биологического и социального в психике, т. е. речь идет не о двух, а о трех реальностях: биологической, социальной психической. Сузим картину, возьмем прежде соотношение двух реальностей — биологической и психологической, а затем уже вернемся к третьей — внешней, социальной реальности.
Собственно человеческая, сложно организованная психика может сформироваться и успешно функционировать в каждом отдельном человеке лишь при определенных биологически условиях, куда входят и требования к определенному содержанию кислорода в крови, обеспечения питания мозга, и необходимость для нормальной жизнедеятельности определенного количества солнечных излучений, и согласная деятельность отделов нервной системы, и многое другое. Существует огромное количество этих параметров, звеньев, содружество которых создает «на выходе» условия, необходимые для протекания психических процессов. Степень здоровья человека определяется запасом его прочности, стойкости в отношении пагубных влияний, т. е. тем, насколько легко и надежно защитные силы гасят, компенсируют эти влияния, не допуская искажения условий работы психики. Что же касается больных, то, по мнению А. Л. Чижевского (1974), их следует рассматривать как системы, находящиеся в состоянии неустойчивого равновесия. Все это создает «на выходе» перебои, искажения основных физиологических условий протекания психических процессов, что не может не сказаться на качестве этих процессов.
Итак, психическое всегда действует, протекает, разворачивается в рамках определенных биологических условии. Для постоянства и «самостоятельности» логики развития психики (т. е. ее относительной независимости от перипетий жизнедеятельности организма) необходимо обеспечение нужного диапазона этих условий, их постоянство и устойчивость. Причем надо ясно осознавать, что эти две реальности нигде прямо не пересекаются друг с другом, не переходят одна в другую. Их можно различить, с одной стороны, как класс условий, а с другой — как процесс, протекающий в рамках этих условий. Даже при психической болезни всегда «поражается» не сама психическая деятельность, а ее мозговой субстрат. (Поляков, 1971). Лишь позднее, в ходе жизни человека с больным мозгом появляются те или иные нарушения психической деятельности (Рубинштейн, 1944).
Вернемся теперь к роли третьей реальности — реальности внешней, социальной— миру предметов и явлений, общениями борьбы, в котором живет человек. Эта реальность, окружающий социальный мир, является формообразующей, «ответственной» за содержание психических процессов, является основной специфической детерминантой формирования собственно человеческой психики. Но при этом следует помнить, что реальность социальная, воздействия социального мира прямо не переходят в реальность психическую. Здесь мы можем применить приведенную выше формулу С. Л. Рубинштейна — внешние причины действуют, преломляясь через внутренние условия. Но эти внутренние условия не есть соединенные в одну совокупность биологические и психологические особенности индивида. «Внутреннее» это собственно душевная, психическая реальность. Однако конкретные психические процессы этой реальности, в свою очередь, постоянно протекают в рамках условий, определяемых биологической природой.
Формула «внешнее через внутреннее» описывает в основном аспект воздействия на психику внешних, социальных причин. Для того чтобы выделить другой важнейший аспект — созидательную активность психики, личности человека, в частности ее преобразующие влияния как на социальные, общественные процессы, так и на характер собственного развития, — А. Н. Леонтьев (1975) предложил следующую формулу: «внутреннее действует через внешнее и этим само себя изменяет». На наш взгляд, обе эти формулы (каждая из которых подчеркивает разные моменты) достаточно полно отражают реальное движение личности, постоянное кольцевое взаимодействие, взаимосозидание внутреннего и внешнего, бытия и сознания.
В это взаимодействие биологическая природа человека входит не как самостоятельный компонент или составляющее звено, а лишь как необходимое условие протекания, разворачивания внутренних психических процессов. Отсюда понятно, что изменение существенных физиологических параметров может изменить характеристики протекания и формирования сложных психических процессов. Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что биологическое не причина, не фактор развития психики, но его необходимое условие. Здоровье есть постоянство и оптимум этих условий, болезнь — большее или меньшее их искажение. Особенно пагубным являются психические болезни. Рамки условий при неблагоприятном течении здесь настолько суживаются, что образуют как бы сходящийся коридор, воронку.
Это накладывает резкие разграничения на свободу психического развития и может создать впечатление, что биологическое непосредственно продуцирует, производит ту пли иную аномалию или дефект личности. Однако сами по себе эти рамки, сколь бы узкими и ограниченными они ни были, не формируют психики, не наполняют ее содержанием и смыслом. Они, повторяем вновь, составляют класс условий, в которых разворачивается собственно психологический процесс — процесс формирования аномалий личности.
Исходя из представленного подхода, задача выяснения влияния биологической природы на психику перестает быть только теоретической и отвлеченной. Она требует конкретных решений, а именно анализа того, как, по каким механизмам изменение физиологических параметров приводит к возникновению тех или иных особенностей хода психических процессов и как это последнее может сказываться на личности человека, на его реальной жизни.
В данной части очерка мы попытаемся показать, как изменение физиологических параметров может влиять на протекание психических процессов. Рассмотрим действие такого свойства нервной системы, как инертность, на характер деятельности человека. Наиболее удобной моделью для анализа здесь является эпилепсия.
Описания личности и поведения больных эпилепсией широко представлены в психиатрической литературе. Большинство авторов со времен Э. Крепелина отмечают, что при длительном и неблагоприятном течении эпилепсии у больных появляются определенные, не свойственные нм ранее черты. Они делаются крайне эгоцентричными: собственное здоровье, собственные мелочные интересы — вот что все более становится в центр внимания больного. Появляется придирчивость к окружающим, стремление поучать, ханжество и угодливость, но, наряду с этим, нередкая злобность и возможность брутальной агрессивности (это сочетание Э. Крепелин передает с помощью следующего образа: «с Библией в руках и с камнем за пазухой»). Многие авторы отмечают особую педантичность эпилептиков, навязчивое стремление к строгому порядку и ряд других черт.
Нередко авторы ограничиваются попыткой установить прямые корреляции между типом болезненного процесса и теми или иными изменениями личности. Обнаруживается, что качество очага эпилепсии в головном мозгу есть прямая причина эгоцентризма или мелочной педантичности. Однако такого рода корреляции вряд ли могут объяснить особенности личности, они лишь ставят проблему, решать которую — дело дальнейшего исследования. Здесь уместно привести слова Л. С. Выготского, который писал в свое время по поводу педологических диагнозов типа: ребенок аномален, потому что его отец — алкоголик. «Но какими же бесчисленными связями, посредствующими звеньями, переходами связана эта причина с этим следствием… какая пустота зияет в истории развития, если исследователь прямо и непосредственно сводит первое и последнее звено длинной цепи, опуская все промежуточные звенья, какая вульгаризация научного метода» (1936, с. 36).
Рассмотрим формирование одной из типичных черт эпилептического характера, а именно педантичности и аккуратности, поскольку здесь, пожалуй, наиболее выпукло отражаются нарушения деятельности больных.
В первых стадиях болезни названные качества могут не обнаруживать в себе какого‑либо специально патологического оттенка. Они являются даже известного рода компенсацией первичных, идущих от биологических особенностей болезни дефектов. Например, только при помощи тщательного и последовательного выполнения всех элементов стоящего перед ним задания больной может компенсировать тугоподвижность мыслительных процессов и прийти к правильному решению. Экспериментально это убедительно показано в работах Б. В. Зейгарник (1962, 1969) .
Однако последовательное выполнение отдельных элементов задания всегда требует хотя бы на время отвлечения от конечной цели всей деятельности. И, чем труднее для больного выполнение данного элемента задания, тем больше это отвлечение, пока, наконец, само выполнение отдельного действия не становится самоцелью. Эти изменения значительно усугубляются и нарастающим в ходе болезни интеллектуальным снижением, в основе которого лежит органическое поражение мозга.
Приведем несколько поясняющих примеров из истории болезни. Больные эпилепсией иногда становятся чертежниками, переплетчиками и выполняют эту работу медленно, но чрезвычайно тщательно. Работа чертежника само по себе требует известного смещения внимания с реального предмета на четкое проведение линий. Здесь больные и находят себя. Одни из них — бывший инженер, который ранее, по его словам, «не переносил черчения», так говорит теперь о своей работе чертежника: «Я не люблю, как другие, лишь бы как сделать… Предпочитаю начертить па миллиметровочке цветным карандашом, по лекалу провожу кривую. Девушки чертят от руки, а я считаю, что нужно точнее».
Второй больной — мастер по ремонту холодильников, получает пенсию, ремонтирует холодильники на дому. Делает работу чрезвычайно медленно. Не только устраняет основную поломку, но обычно после этого тщательно разбирает весь мотор, просматривает все детали, затем долго собирает его. Если заметит царапину на ручке или дверце — обязательно закрасит их. Очень любит, когда говорят об его аккуратности и тщательности. Несколько раз отказывался брать деньги за ремонт, говоря: «не из‑за денег стараюсь» (данные Л. А. Шустовой).
Наконец, последний больной, находящийся в исходной стадии болезни, часами собирает на полу разный мусор и аккуратными рядами складывает его у себя на кровати.
Приведенные примеры говорят о разных степенях сужения в ходе болезни поля ориентировки больных. Само по себе это сужение свойственно не только больным эпилепсией. Как подчеркивают В. М. Коган и Э. А. Коробкова, это специфическая черта всех больных, страдающих текущими органическими заболеваниями (например, сосудистого или травматического генеза). Сужение поля ориентировки не позволяет таким больным сразу охватить все существенные элементы ситуации, они вынуждены переходить «от одновременного (симультанного) восприятия, к замедленному последовательному, а затем как бы возвращаться к началу для синтеза всего воспринимаемого» (1967, с. 32). Такой процесс неизбежно ведет к конкретности восприятия, к трудностям выделения главного из второстепенного, к переключаемости внимания. Обычно таким больным доступны лишь те виды деятельности, где требования к широте охвата и быстроте ориентировки невелики (они могут работать граверами, лекальщиками, часовщиками, но не шоферами или диспетчерами).
Все перечисленные нарушения ориентировки в полной мере свойственны и больным эпилепсией. Однако здесь процесс значительно усугубляется нарастающей инертностью, тугоподвижностыо нервных и психических процессов. Этот дефект является характерным для эпилепсии как болезни, именно он создает особые искаженные условия протекания психической деятельности. (Давая характеристику нейродинамическим нарушениям, свойственным неблагоприятному течению эпилепсии, Д. Г. Иванов–Смоленский пишет: «Замыкательная функция коры резко ослаблена, образование новых условных реакций на простые и, особенно, на сложные раздражители происходит с трудом и в неустойчивой форме. Упрочивание условных связей замедленно, то же относится и к концентрации (специализации) условного возбуждения. Длительная реакция носит тонический характер или склонна к инерции. Образование, упрочивание и концентрация различных форм условного торможения (дифференцировки, сигнального тормоза, угасания, запаздывания) по сравнению с нормой происходит также крайне медленно. Вместе с тем переделка упроченной положительной условной связи в тормозную и наоборот оказывается крайне затруднительной, что тем более относится к сложным динамическим стереотипам условных связей. Все это ярко свидетельствует о патологической инертности как раздражительного, так и тормозного процессов (1974, с. 248)).
Причем важно учитывать, что это искажение касается не условий протекания одной какой‑либо деятельности, но всех деятельностей сразу, всех душевных процессов данного человека.
Понятно поэтому, почему со временем больным эпилепсией становятся труднодоступными не только сложные виды деятельности, но и прежде отработанные, автоматизированные действия (навыки). Чтобы понять, к каким последствиям это приводит, достаточно вспомнить значение автоматизированных действий в психической жизни.
«Только благодаря тому, что некоторые действия закрепляются в качестве навыков и как бы спускаются в план автоматизированных актов, — пишет С. J1. Рубинштейн, — сознательная деятельность человека, разгружаясь от регулирования относительно элементарных актов, может направляться на разрешение более сложных задач» (1946, с. 533). При эпилепсии происходит, напротив, дезавтоматизация, которая «засоряет» сознание больных, переключая его на выполнение того, что в норме является лишь вспомогательной технической операцией.
Намеченная схема напоминает по виду процесс, обратный обычному ходу развития и обучения, поскольку при появлении всякой новой деятельности входящие в ее состав звенья вначале формируются как отдельные сознательные действия, а затем могут превращаться в операции. Здесь мы наблюдаем как бы обратное: операции, т. е. способы выполнения каких‑либо действий, дезавтоматизируются и сами становятся действиями, направленными на достижение сознательной пели.
Следует особо отметить, что в данном процессе (превращение операции в действие) нет ничего специфически «патологического» — он достаточно часто случается и в обычной, «нормальной» деятельности. Как отмечает А. Н. Леонтьев, «достаточно, однако какого‑нибудь отклонения от нормального осуществления этой операции, и тогда сама эта операция, как и ее предметные условия, отчетливо выступает в сознании» (1965, с. 297). Более того, процесс осознания самого способа выполнения действия чрезвычайно важен. Он помогает сознательно проверить все звенья предварительно отработанного действия, найти ошибку в выполнении или примерить способ выполнения к новым изменившимся условиям.
Что же тогда делает этот процесс злокачественным при эпилепсии?
В норме овладение какой‑либо операцией, ее последовательная отработка (если даже она идет с трудом, встречая на пути препятствия и требуя от человека полной сознательности и напряжения), как правило, не становится сама по себе самостоятельным мотивом, они лишь промежуточная цель, соподчиненная какому‑либо дальнему мотиву. Поэтому и смысл отработки лежит вне ее, он лежит в системе куда более широких отношений. Так человек овладевает операцией переключения скоростей не ради ее самой, но чтобы научиться управлять автомобилем. В свою очередь, умение управлять автомобилем займет разное место в иерархии других деятельностей, например, в зависимости от того, кем собирается быть данный человек — профессиональным шофером или шофером—любителем.
Качественно иное происходит при эпилепсии. Как уже говорилось, вследствие нарастающей инертности, дезавтоматизация захватывает не одну какую‑нибудь деятельность больного, но равно все его деятельности, что вызывает значительную перегрузку сознания, вынужденного вникать в каждую техническую подробность выполнения действия. В результате такой технической подробности любая операция может стать сама по себе сознательной целью, а затем и сознательным мотивом деятельности больного. «Деятельность» как основная единица психики перемещается и замыкается в узком кругу того, что в норме является «действием» или «операцией», т. е. единицами вспомогательными.
Вместе со смещением мотива из широкого поля деятельности на выполнение узкого действия происходит и соответственное смещение смысла деятельности, ибо «каков мотив деятельности, таков и смысл для субъекта его действий» (Леонтьев, 1966). Происходит то, что можно было бы обозначить как «сокращение смысловых единиц деятельности». Сложная опосредованная деятельность теряет смысл для больного, главным же становится выполнение отдельных, ранее вспомогательных действий, которые теперь, в свою очередь, становятся смыслообразующими для более мелких и примитивных действий.
Перенесение мотива из широкой деятельности на выполнение узкого вспомогательного действия можно показать и экспериментально, как будет указано в очерке V (при исследовании больных методом пресыщения).
Из общей психологии известно, что чем более опосредована деятельность, тем более она осознана, тем сложнее и разнообразнее способы удовлетворения человеческих потребностей. Именно ясное осознание цели, всех возможных путей к ней, дает возможность человеку по своему усмотрению пользоваться теми или иными действиями, сознательно управлять своим поведением.
При эпилепсии деятельность, обедненная до уровня того, что в норме служит вспомогательным действием, становится чрезвычайно мало опосредованной. Она лишена гибкости, стереотипна, жестко закреплена на одних и тех же способах удовлетворения. Если учесть, что выполнение такой «редуцированной» деятельности несет для больных определенный личностный смысл, то становятся понятными многие неадекватные поступки больных эпилепсией. Так, например, больные не терпят малейших нарушений заведенного ими порядка. Один из больных (упомянутый выше мастер по ремонту холодильников), который, в общем‑то, любит своих детей, буквально истязает свою малолетнюю дочь за пятно на скатерти или измазанное платье. Другой больной ударил свою жену за то, что она случайно изменила порядок расположения вещей в его комнате. Подобных примеров — множество в историях болезни эпилептиков, но уже из сказанного видно, что в ходе болезни аккуратность, педантичность становятся не просто компенсацией (пусть и неудачной), но определенным отношением к миру, определенным восприятием мира, определенной социальной позицией, т. е. чертой характера, чертой личности.
Механизм образования патологической педантичности описан здесь, конечно, схематично. В данном анализе не учитывались, например, существенные различия между формами болезни и другие особенности клиники эпилепсии. Однако те закономерности, которые мы наблюдали при формировании патологической педантичности, достаточно типичны и для образования других черт больных эпилепсией.
В основе их формирования также лежит переход от «широкой» к «узкой» деятельности, жесткое закрепление на одних и тех же способах выполнения, «сокращение смысловых единиц деятельности».
Возьмем, например, такую характерную черту, как злопамятность больных, которая, по видимости, противоречит сведениям о существенных нарушениях памяти и мышления при эпилепсии (Зейгарник, 1962; Петренко, 1976). Как же при дефектах памяти больные оказываются способными прочно и надолго запоминать?
Нельзя разрешить этот парадокс, исходя лишь из неврологических особенностей болезни. Необходимо обратиться к анализу психологической структуры деятельности при эпилепсии.
Описанное редуцирование деятельности, точнее, превращение некогда вспомогательных действий в самостоятельные деятельности, неизбежно меняет смысловое отношение к миру. То, что для здорового является пустяком, а иногда и вовсе незаметной деталью, для больного имеет прямой, нередко внутренне аффективно насыщенный смысл. Вот почему больной может долго помнить и мстительно сохранять в себе воспоминания о некогда полученной обиде, о которой нередко не знает сам виновник, «оскорбитель», поскольку и не предполагает, что его действия были истолкованы как обидные. Так, немецкий психиатр Г. Груле приводит слова одного эпилептика: «Вы не думайте, что мои способности или, скажем, граница моего разума, или рассудочные мои функции пострадали таким образом, что я не помню, как вы, когда меня увидели 26 ноября 1901 года в половине четвертого днем на улице Гёте в первый раз, обошлись тогда со мной, если позволите так выразиться, достаточно неблаговидно и оскорбительно на меня посмотрели» (Груле; цит. по: Гиляровский, 1938, с. 350). Понятно, что на месте больного нормальный субъект мог бы легко объяснить происшедшее рассеянностью профессора или какой‑нибудь яругой причиной, не придав ему сколько‑нибудь важного значения. Надо быть больным эпилепсией, т. е. иметь все присущие ему искажения структуры деятельности, чтобы этот эпизод преобразовать в своем восприятии в смертельное оскорбление и накрепко запомнить все его самые мельчайшие детали.
Или такая широко известная черта больных эпилепсией, как постоянная забота о своем здоровье. Само ее возникновение вполне понятно, ведь эпилепсия — тяжелое прогрессирующее заболевание. Судорожные припадки, особенно в начале болезни, вызывают целую гамму тягостных переживаний. По мнению М. Ш. Вольфа (1969), к ним следует в первую очередь отнести навязчивый страх перед припадком и его последствиями; реакцию стыда и боязни «разоблачения»; синдром ожидания «ухудшения» своего состояния; особую установку на получение «немедленного радикального излечения», различные ипохондрические реакции. Естественно, что больные готовы строго выполнять все предписания врача, поскольку они знают, что всякое нарушение режима лечения может привести к появлению новых припадков.
Вначале больные рассматривают заботу о своем здоровье прежде всего как необходимое средство для продолжения привычной им деятельности (работы, учебы, и т. д.). Со временем эта забота уже не подчиняется более дальним мотивам, а становится самоцелью. Наконец, в поздних стадиях болезни для больных нередко становится главным уже не сама по себе забота о здоровье, а тщательное, педантичное выполнение тех или иных врачебных процедур. Известно, что иногда больной эпилепсией способен устроить скандал в больничной палате, если ему вместо привычных таблеток дадут порошки или таблетки иной формы и размера. Все объяснения медицинского персонала, что по составу это то же самое лекарство, могут быть совершенно напрасными. Для больного главным и смыслообразующим становится самый прием таблеток строго определенного типа, т. е. то, что раньше было лишь вспомогательным средством и могло быть поэтому заменено другим, адекватным ему средством. В результате меняется и характер заботы о своем здоровье. Эта забота перестает отвечать объективным требованиям, становится патологической.
Подведем некоторые итоги. Прежде всего анализ изменении личности при эпилепсии подтверждают общие положения, высказанные выше. Мы видели, что сфера психологического развивается по собственным, присущим только ей законам, а не по законам, диктуемым биологическими особенностями болезни. Из этого не следует, что можно игнорировать или умалять значение этих особенностей. Речь идет о том, чтобы найти нх действительное место и роль. Роль эта, по–видимому, заключается в том, что ею определяются (в случаях неблагоприятного течения болезни можно сказать резче, диктуются) как бы все более сужающиеся рамки возможностей нормального течения психических процессов. Вне этих условий невозможно появление специфически патологических черт личности, как невозможна и сама психическая болезнь. Поэтому изменения психики следует рассматривать не изолированно от биологических особенностей болезни, а как постоянно протекающие в особых, не имеющих аналога в норме, условиях, диктуемых болезненным процессом.
Изменить биологические условия болезни — задача не психологическая, а медицинская. Но перед клиникой и психологией стоит и другая важнейшая задача — возвращение больного к активной жизни, его трудовая, социальная, семейная реадаптация. И решение этой задачи немыслимо без широких патопсихологических исследований.
Личность больного человека не просто пассивно приспосабливается к биологическим условиям, но способна преодолевать их. Конечная цель патопсихологического изучения личности и есть нахождение путей преодоления этих условий, путей полноценной компенсации первичных, идущих от болезни симптомов.
В заключение затронем вопрос о том, насколько специфичен психологический процесс формирования аномалий личности, т. е. насколько он отличен по своим внутренним механизмам от формирования нормальной личности.
Поставив такой вопрос, мы сразу сталкиваемся с острой методологической проблемой соотношения нормы и патологии, нормальных и патологических механизмов в развитии личности. Не касаясь здесь различных точек зрения и дискуссий по этому поводу, перейдем сразу к тому выводу, который, как нам кажется, вытекает из проведенного анализа.
Как показывают наши данные, при формировании аномалий личности действуют психологические механизмы, общие и для протекания нормальной психологической жизни (такие, как механизм «сдвига мотива на цель», смыслообразующая роль мотива и др.). «Патология» проистекает не из того, что наряду с этими начинают действовать еще какие‑то специфически патологические механизмы, а из‑за того, что условия работы и протекания общих для любой психологической жизни механизмов искажаются особыми биологическими, физиологическими условиями. (Наш вывод не претендует на принципиальную новизну. Можно сказать, что как и все новое в области человекознания, он есть лишь «хорошо забытое старое». Еще в 1880 г. выдающийся русский психиатр В. X. Кандинский сделал одному автору следующий упрек: «Автор как будто думает, что все принадлежащее к болезненному состоянию является по существу чем‑то другим, отличным от явлений нормальной жизни — как будто болезненное состояние не есть та же жизнь, текущая по тем же самым законам, как и жизнь нормальная, но только при измененных условиях» (1880, с. 646). Этот упрек столетней давности можно смело адресовать и многим современным ученым.)
Это положение диктует иной, чем общепринятый, подход к пониманию аномалий личности. Действительно, если только описывать и исследовать продукты болезненного процесса, то они предстанут резко, качественно отличными от клиники тех проявлений личности, которые признаются нормальными. Отсюда — данные исследований аномалий личности (подавляющее большинство которых направлено на испытание сложившихся форм патологии) нередко трактуются как имеющие весьма ограниченную ценность для общей психологии, как годные разве для гротескного примера извращения психологических функций, но не для понимания сущности человеческой психики. Другим (и теперь более частым) уклоном является, напротив, игнорирование качественных различий нормальных и аномальных проявлений, например, попытки строить общие модели структуры личности из категории психопатологии, сближение противоречий нормальной личности и конфликтов невротика и т. д.
Между тем рассматриваемое нами положение позволяет понять принципиальное единство законов психической жизни в норме и патологии. Это единство не исключает различий конечных продуктов того и другого типов движения психики, трудность, а порой невозможность нх прямого соотнесения. Качественные (а не только количественные) отличия процессов распада и развития выступают здесь как следствие функционирования аппарата психики в особых экстремальных, нередко губительных для него условиях. (Подробнее об этом сказано в очерке III).
Очерк V.
Пути исследования нарушений личности
Вопрос о психологической характеристике изменений личности при различных психических заболеваниях не получил еще своего полного разрешения ни в теоретическом, ни в методическом плане. Несмотря на то, что душевная болезнь поражает в основном личность в целом, меняет систему ее потребностей, установок, эмоционально–волевых особенностей; исследования в области патопсихологии посвящены в основном нарушениям познавательной деятельности, хотя уже работы Л. С. Выготского направляли мысль психологов на то, что именно нарушения аффективно–мотивационной сферы характерны для изменения структуры мышления. Об этом свидетельствуют и работы патопсихологов (Биренбаум, 1934; Зейгарник, 1935; Мясищев, 1935; и др.). Недостаточно разработаны и экспериментальные методы исследования личностных изменений.
Частично такое положение объясняется малой разработанностью проблем личности в общей психологии. Лишь в последнее время начинают проводить исследования, посвященные психологической характеристике формирования личностных особенностей. Работы же зарубежных психологов, посвященные изменениям личности, проводятся в основном с позиций фрейдизма, экзистенциализма и для нас мало приемлемы.
Психологическое строение личности сложно. Оно связано с потребностью человека и его направленностью, с его эмоциональными и волевыми особенностями. Несмотря на то, что последние рассматриваются психологией как отдельные процессы, они по существу являются включенными в строение личности. Личность человека формируется и проявляется в его деятельности, поступках, действиях. В потребностях материальных и духовных выражается связь человека с окружающим миром, людьми. Оценивая человеческую личность, мы прежде всего характеризуем круг ее интересов, содержание ее потребностей. Мы судим о человеке но мотивам его поступков, по тому, к каким явлениям жизни он равнодушен, по тому, чему он радуется, на что направлены его мысли и желания.
Об изменениях личности мы говорим тогда, когда под влиянием болезни у больного скудеют интересы, мельчают потребности, когда у него проявляется равнодушное отношение к тому, что его раньше волновало, когда действия его лишаются целенаправленности, поступки становятся бездумными, когда человек перестает регулировать свое поведение, не в состоянии адекватно оценивать свои возможности.
Клинические формы изменения личности носят разнообразный характер: они могут проявляться в виде изменений эмоций (депрессии, эйфория), в виде нарушений мотивационной сферы (апатия, бездумность), в виде нарушения отношения к себе и окружающему миру (нарушение критики, изменение подконтрольности), в виде нарушения активности (аспоитанность) и т. д.
Из всего сказанного следует, что исследование личности, ее формирования и изменения чрезвычайно сложно и многослойно. Оно может проводиться в разных аспектах и направлениях. Поэтому прежде всего важно наметить такую область исследования личности, которая на данном этапе наиболее разработана в общетеоретическом плане. К таким теоретически наиболее разработанным проблемам относится проблема мотивации и отношения личности.
Не менее важно найти те экспериментальные приемы, которые могут оказаться адекватными в исследовании этой области.
В данном очерке делается попытка наметить некоторые экспериментальные пути для исследования нарушений личности душевнобольных.
Одним из таких путей является наблюдение над общим поведением больного во время эксперимента. Даже то, как больной «принимает» задание или инструкцию, может свидетельствовать об адекватности или неадекватности его личностных проявлений. Ситуация психологического эксперимента всегда воспринимается больным (за исключением глубоко дементных) как некое испытание их умственных возможностей. Нередко больные считают, что от результатов исследования зависит срок пребывания в больнице, или назначение лечебных процедур, или установление группы инвалидности и т. п. Поэтому сама ситуация эксперимента приводит к актуализации известного отношения. Так, например, некоторые больные, опасаясь, что у них будет обнаружена плохая память, заявляют, что «они всегда плохо запоминали слова». В других случаях необходимость выполнения счетных операций вызывает реплику, что они «всегда терпеть не могли арифметику». Любое задание в ситуации эксперимента может вызвать личностную реакцию. Ситуация эксперимента приобретает характер некой «экспертизы» (Зейгарник, 1971). Поэтому наблюдение за больными, выполняющими даже несложное задание, представляет собой интересный материал для суждения об эмоциональной сфере больного.
Так, наш опыт показал, что наблюдение за больными, складывавшими «куб Линка» (методика, направленная на исследование комбинаторики), выявило разную реакцию больных шизофренией и психопатов. Больные с простой формой шизофрении не обнаруживают эмоциональных реакций при складывании «куба Линка». Они несколько пассивно выполняют само задание, допущенные ими ошибки не вызывают эмоциональных реакций. Они не реагируют на замечания экспериментатора, указывающего на ошибку.
Совершенно иначе выглядит поведение больного–психопата. В начале эксперимента его поведение, его способы работы могут быть аналогичными поведению и реакциям больного шизофренией, однако его поведение резко меняется при появлении ошибочных решений: больной становится раздражительным, нередко прерывает работу, не доведя ее до конца. И, наоборот, бывают случаи, когда больные во что бы то ни стало стремятся окончить работу, даже если экспериментатор предлагает ее прекратить.
Наблюдение за поведением испытуемого во время эксперимента важно еще и потому, что сам процесс выполнения задания вызывает неминуемо чувство какого‑то самоконтроля. Больные часто указывают, что им самим «интересно проверить свою память». Нередко бывает и так, что больной в процессе работы впервые осознает свою умственную недостаточность. Фразы: «Я не думал, что у меня такая плохая память», «Я не предполагал, что я так плохо соображаю» — являются нередкими. Естественно, что такое открытке является уже само по себе источником переживания для больного.
Следовательно, само наблюдение за поведением и высказываниями больного во время эксперимента может послужить материалом для его личностных проявлений.
Другой методический путь исследования изменений личности — это путь опосредованного выявления изменений личности с помощью эксперимента, направленного на исследование познавательных процессов. Этот путь кажется вполне правомерным и оправданным, ибо познавательные процессы не существуют оторванно от установок личности, ее потребностей, эмоций. Касаясь мотивов и побуждений мышления, С. Л. Рубинштейн (1959) отмечает, что это «по существу вопрос об истоках, в которых берет свое начало тот или иной мыслительный процесс». Указывая, что эта проблема требует специального внимания, он подчеркивает, что процессуальный аспект мышления тесно связан с его личностным аспектом.
Приведенные нами исследования в области патологии мышления показали, что некоторые виды нарушении мышления являются по существу выражением той аффективной «смещенности», которая была присуща этим больным. С особым правом это положение относится к таким видам расстройств, которые названы «разноплановостью мышления», «выхолощенностью», «соскальзыванием», встречающихся у больных шизофренией (Зейгарник, 1962, 1969).
Опыт показал, что целый ряд методических приемов, направленных, казалось бы, на исследование познавательных процессов, позволяет исследовать и личностную реакцию больных. Поясним примером. Одна из наиболее распространенных методик, моделирующих мыслительную деятельность человека — это «классификация предметов». Выполнение классификации предметов выявляет «стратегию» мышления испытуемых, содержание их ассоциаций, уровень их знания, степень обобщенности их представлений, актуализируемых при решении этого задания.
При анализе способов выполнения «классификации предметов» больными шизофренией мы могли отметить случайный, бессодержательный характер признаков и свойств предметов, на основании которых они проводили классификацию. Так, например, больной шизофренией объединял в одну группу автомобиль и ложку «по принципу движения», мотивируя, что «когда мы едим, мы движем ложку ко рту»; другой больной объединил кастрюлю со шкафом, потому что «у обеих вещей есть отверстия». Следовательно, классифицируя предметы, подобные больные руководствовались не содержательными, а чисто формальными признаками, не отражавшими жизненные реальные отношения между предметами и явлениями.
Описывая подобные нарушения мышления у больных шизофренией, Ю. Ф. Поляков (1974) объясняет это тем, что у них происходит актуализация «слабых» или «латентных», признаков, нарушена ориентировка в «системе отражения прежнего опыта».
При этом естественно возникает вопрос о том, почему у больных шизофренией столь облегчена актуализация случайных связей, не отражающих истинное отношение вещей и предметов?
Еще И. М. Сеченов указывал на то, что ассоциации человека носят направленный характер.
Процесс актуализации не является каким‑то самодовлеющим процессом, не зависящим от строения и особенностей личности. Наоборот, есть все основания думать, что процесс оживления того или иного круга представлений, ассоциаций связан, как и всякий психический процесс, с установками, отношением и потребностями личности.
Поэтому нам представляется возможным говорить о том, что облегченная актуализация незначимых бессодержательных связей является проявлением той «осмысленной смещенности», которая присуща этим больным. Больной шизофренией, выполняющий на обобщенном уровне классификацию предметов, может одновременно с этим отстаивать, что ложку следует объединить с «транспортом по принципу движения», именно потому, что его измененное отношение к окружающему допускает эту мотивировку.
Такой подход вовсе не означает, конечно, выведения патологии мышления из нарушений эмоциональной сферы. Однако следует напомнить, что мыслительная деятельность человека, здорового или больного, не может быть оторвана от его потребностей и стремлений. Сама стратегия мышления определяется до известной степени отношением личности, отношение личности включается в систему программирования мышления.
Анализ «стратегии» мышления будет неполным, если не будет учтена личностная направленность мыслящего субъекта. Ибо, говоря словами Л. С. Выготского, «как только мы оторвали мышление от жизни и потребностей, лишили его всякой деятельности, мы закрыли сами себе всякие пути к выявлению и объяснению свойства и главнейшего назначения мышления — определять образ жизни и поведения, изменять наши действия» (1956, с. 47). Поэтому правомерно ожидать, что измененные установки больного находят свое проявление в измененной стратегии мышления, отсюда выполнение экспериментального задания, направленного, казалось бы, на исследование мыслительной деятельности может давать материал для суждений о личностных установках больного.
Само моделирование познавательной деятельности человека включает в себя моделирование его личностных компонентов.
Весьма полезным оказалось и применение прожективных методик. Сущность прожективных методик заключается в том, что испытуемому предлагается задание, не предусматривающее определенных способов решения. Задание дается не с целью получения отдельных результатов, а для того, чтобы испытуемый проявил себя, свое отношение к ситуации, свои переживания, особенности личности и характера. Личность, по выражению Омбредана, отражается, «как объект на экране», отсюда и название методик — «прожективные». Результативная сторона действия испытуемого не имеет значения, поскольку в прожективных методиках нет проблемы правильного и неправильного решения. Иногда этот метод называют еще «клиническим подходом к психике здорового человека» (Лягаш, Пишо и др.).
Проективные методы используются за рубежом в двух аспектах. Во–первых, с целью установления индивидуальных характерологических особенностей, во–вторых, с целью выявления «вытесненных комплексов», «скрытых переживаний». Эта линия смыкается с психоанализом. Результаты, полученные посредством этих методик, трактуются в понятиях «бессознательных мотивов», «вытесненных комплексов».
Одна из проективных методик, предложенная Морганом и Мерреем, получила название тематического апперцепционного теста (ТАТ). Она состоит из отдельных картинок, на которых изображены ситуации с более или менее неопределенным содержанием. Испытуемому говорится, что он должен по картинкам составить рассказы.
При интерпретации высказываний испытуемых Меррей исходит из того, что рассказы испытуемых следует рассматривать как символическое отражение их переживаний, взглядов, их представлений о прошлом и будущем. Происходит отождествление испытуемого с «героем» картинки.
В исследовании Н. К. Киященко (1965) инструкция была изменена: испытуемым говорилось, что речь идет об исследовании восприятия, им не задавались вопросы, а предлагалась «глухая инструкция»: «Я вам покажу картинки, посмотрите на них и расскажите, что здесь нарисовано». Только после выполнения задания ставился вопрос, что дало испытуемому основание для того или иного описания.
Данные, полученные Н. К. Киященко, показали, что здоровые испытуемые подходили к заданию с общей направленностью на выяснение содержания картинки. Интерпретация сюжета картины проводилась с опорой на позу и мимику изображенных персонажей. Как правило, при выполнении этого задания здоровые испытуемые выявляли свои отношения к изображенным событиям и лицам.
Совершенно иные результаты получены Н. К. Киященко при исследовании с помощью модификации методики ТАТ у больных шизофренией (простая форма). В отличие от здоровых людей у больных этой группы отсутвутствует направленность на поиски содержательной интерпретации.
В ответах больных имеется лишь формальная констатация элементов картин: «двое людей», либо человек в кресле», «разговор двух людей», либо формально обобщенная характеристика: «отдых», «минута молчания». Больные не выражают, как правило, своего отношения к изображенной ситуации.
Особенности восприятия больных шизофренией при предъявлении картинок ТАТ не были связаны со снижением уровня обобщения. Их описания не базировались на конкретных представлениях, наоборот, они сводились к формально–бессодержательной характеристике.
Резюмируя, можно сказать, что применяемые в клинике экспериментальные пробы, требующие обобщения, выделения существенного, сравнения актуализируемых связей, составления рассказов и т. д., всегда включают в себя актуализацию личностных компонентов, мотивацию, отношения субъекта (Зейгарник, 1943, 1949, 1962, 1971; Рубинштейн, 1949; Тепеницина, 1965; Соколова, 1976; Петренко, 1976; и др.).
Еще одним путем исследования изменений личности является применение методик, направленных непосредственно на выявление эмоционально–волевых особенностей больного человека, на выявление его измененного отношения к ситуации эксперимента.
Эта группа методик взяла свое начало из результатов исследований аффективно–волевой сферы. С. Л. Рубинштейн указывал, что «результат исследования, вскрывающий какие‑либо существенные зависимости исследуемой области явлений, превращается в метод, в инструмент дальнейшего исследования (1959, с. 38). Так случилось и с рядом приемов, примененных в школе К. Левина для исследования аффективно–волевой сферы.
Несмотря на то, что методологические позиции К. Левина для нас мало приемлемы, его экспериментальные методы оказались полезными. Хотя в теоретическом плане К. Левин говорил лишь о динамическом аспекте исследования личности, однако при объяснении экспериментальных факторов он учитывал предметное содержание деятельности. Еще в 1926 г. он писал, что нельзя за математическими рассуждениями отвлекаться от предметного психологического рассмотрения. Этот принцип был особенно четко реализован в исследовании «уровня притязания», проведенном учеником К. Левина Ф. Хоппе (1930).
Разработанный Хоппе метод, широко применяемый в разных областях психологии, позволил экспериментально подойти к изучению процесса целеобразования. Во многих работах (Эскалона, Фестингер, Аткинсон), в которых ставится вопрос о зависимости уровня притязаний от трудности задания, проблема соотношения уровня притязаний и уровня достижения, влияния валентности успеха и неуспеха на формирование уровня притязаний по существу вводится предметный план цели.
Методика состояла в следующем: испытуемым предлагается ряд заданий (от 14 до 18), отличающихся по степени трудности. Все задания нанесены на карточки, которые расположены перед испытуемыми в порядке возрастания нх номеров. Степень трудности задания соответствует величине порядкового номера карточки.
Задания, которые предлагаются испытуемому, могут быть по своему содержанию весьма различны в зависимости от образовательного уровня и профессии испытуемых.
Дается следующая инструкция: «Перед вами лежат карточки, на обороте которых написаны задания. Номера на карточках означают степень сложности задания. Задания располагаются по возрастающей сложности. На решение каждой задачи отведено определенное время, которое вам неизвестно. Я слежу за ним с помощью секундомера. Если вы не уложитесь в определенное время, я буду считать, что задание вами не выполнено, и ставлю минус. Если уложитесь в отведенное вам время — ставлю плюс. Задание вы должны выбирать сами». Таким образом, испытуемый был поставлен в ситуацию выбора цели. Экспериментатор может по своему усмотрению увеличивать или уменьшать время, отведенное на выполнение задания, тем самым произвольно показать, что задание выполнено правильно, либо, ограничивая время, опорочить результаты. Только после оценки экспериментатора испытуемый должен выбрать другое задание.
Анализ экспериментальных данных показал, что выбор задания (по степени трудности) зависит от успешного или неуспешного выполнения предыдущего. Испытуемые всегда начинают работать с определенными притязаниями и ожиданиями, которые изменяются в ходе эксперимента. Совокупность этих притязаний, которые перемещаются с каждым достижением, Хоппе называл «уровнем притязаний человека». Переживание успеха или неуспеха зависит, таким образом, не только от объективного достижения, но и от уровня притязания, который связан с теми целями, которые ставит человек. Хоппе писал, что у каждого человека существует «идеальная» цель, к которой он стремится, и конкретная цель, которой соответствует данное действие, переживание.
В экспериментах Хоппе было выявлено, что испытуемые выбирают сложные задания после успеха, но если нарастание уровня притязаний из‑за структуры задания невозможно, то деятельность прекращается. После ряда неудач, если потеряна малейшая возможность прийти к успеху, испытуемый выбирает легкое задание.
Хоппе объясняет эти особенности наличием тенденции «поддерживать» уровень «Я» как можно более высоко. Из этой общей тенденции, с одной стороны, рождается стремление реализовать успех при решении наиболее трудных задач, с другой стороны — страх перед неудачами, который заставляет понижать уровень притязаний и прекращать действие после единичного успеха, если нет надежды на успех при более высоком уровне притязаний. В целом преобладает тенденция довольствоваться маленьким успехом, чем прекратить действие после неудачи, сохранив уровень притязаний.
В работах, посвященных исследованию уровня притязаний у психических больных, показано, что динамика уровня притязаний зависит от многих факторов: от самооценки, отношения к ситуации эксперимента к экспериментатору и т. п. (Меерович, Кондратская, 1936; Зейгарник, 1965; Бежанишвили, 1967; Калита, 1974; и др.). При этом особенности уровня притязаний всегда сопоставлялись с характером деятельности больных во многих других методиках, содержание деятельности испытуемого служило критерием тех или иных выводов о тактике целеполагания испытуемого.
Исследование уровня притязаний показало, какую большую роль играет содержательная сторона экспериментальных заданий. Так, у больных эпилепсией уровень притязаний выявляется отчетливо, если им предлагались задания манипулятивного моторного характера. Уровень притязаний у этих больных не удастся выявить в случае, если им предлагаются задачи, требующие интеллектуального напряжения (Зейгарник, 1957). В другом исследовании показано, что уровень притязании у детей–олигофренов выявить не удается, если им предлагаются арифметические задачи, где они обнаруживают свою несостоятельность, но он выявляется ил другом экспериментальном материале (вырезание из бумаги фигурок разной сложности).
Адекватным приемом для исследований личности особенностей явились эксперименты ученицы К. Левина А. Карстен (1927). Если в опытах исследования уровня притязаний па первый план выступала направленность на осуществление или приближение к более высокой (идеальной) цели, то в опытах А. Карстен цель была частной. Методика была направлена на выявление возможности удержания и восстановления побуждения. Эти опыты, известные под названием «опыты на пресыщение», заключались в следующем.
Испытуемому предлагается выполнить длительное монотонное задание, как например, рисовать черточки или кружочки (при этом перед испытуемым лежит большая стопка листов). Дастся инструкция: «Чертите, пожалуйста, черточки, кружочки вот так: (экспериментатор чертит несколько одинаковых черточек или кружочков)». Если испытуемый спрашивает, сколько же ему надо чертить, экспериментатор отвечает абсолютно бесстрастным голосом: «Сколько вам захочется, вот перед вами лежит бумага».
Исследования, проведенные А. Карстен (1927), показали, что вначале испытуемые довольно аккуратно выполняют предложенное им задание; однако, спустя короткое время (5—10 мин), они начинают незаметно для себя менять задачу, изменяется внешняя структура задания (черточки или кружочки становятся меньше или больше), либо темп, ритм работы. Иногда испытуемые прибегают к «сопроводительным» действиям: они начинают напевать, посвистывать, постукивать ногами. Эти варианты свидетельствуют, по мнению Карстен, о том, что побуждение к выполнению задания начинает иссякать, наступает феномен «психического пресыщения».
Спустя некоторое время (обычно 20—30 мин), когда учащаются вариации, а их проявление приобретает выраженный («грубый») характер, дается новая инструкция: «Это монотонное задание вам было предложено для того, чтобы исследовать вашу выдержку. Продолжайте, если хотите, вашу работу». Новое осмысление задания часто приводите тому, что вариации становятся реже, менее выраженными, а иногда и совсем исчезают. Об этом свидетельствуют как спонтанные высказывания, так и самоотчет испытуемых. «Я хотел посмотреть, кому скорее надоест. Вам (т. е. экспериментатору) или мне», или «Я хотел проверить себя, как долго я могу заниматься этим скучным делом». Следовательно, у здоровых испытуемых образуется новый мотив для выполнения действий, этот мотив начинает соотноситься с дополнительными мотивами. Побуждение к действию вытекает из более отдаленных мотивов.
Методический прием опыта на пресыщение оказался продуктивным для исследования мотивационной сферы больных. Так, выявилось, что у умственно отсталых детей обнаруживается «полярность» реакции. С одной стороны, выявляются грубые вариации, длительные паузы, временные уходы от работы при длительной выдержке и выносливости, а с другой — дети–олигофрены быстро бросают надоевшую работу, не привнося в нее никаких вариантов, не изменяя ее (Соловьев–Элпидннский, 1935). Эти данные говорят о том, что олигофрен лишен возможности находить новые, дополнительные мотивы для продолжения деятельности.
Интересные данные мы получили у больных эпилепсией. Они не только длительное время выдерживают монотонное задание, но и мало варьируют его. Мы имели возможность наблюдать больного, который выполнял монотонное задание, чертил черточки в течение 1 ч 20 мин, не обнаруживая тенденции к вариации (Зейгарник, 1965).
Если для нормальных испытуемых монотонная работа не представляет никакого самостоятельного интереса и для ее продолжения требовалось привнесение более общего мотива, то для больных эпилепсией само по себе аккуратное и тщательное проведение черточек было достаточно действенным мотивом и имело определенный смысл.
Показательной оказалась такая реакция больных эпилепсией на вторую инструкцию. Если у здоровых людей, взрослых и детей вторая инструкция придавала новый смысл всей экспериментальной ситуации, то у больных эпилепсией, так же как и у детей–олигофренов, такого переосмысления не наступало. Таким образом, приведенные данные показали, что исследование процесса «пресыщения» является удачным методическим приемом для исследования изменения процесса смыслообразования.
Опыты «исследования на пресыщение» вызвали ряд модификаций. Так, Л. С. Славина (1969) изучала с его помощью, при каких условиях сознательно поставленная цель может выступить в качестве мотива, который преодолевает явления пресыщения. Оказалось, что предъявление цели позволяет ребенку выдержать монотонное задание, но при одном условии—предъявление цели должно предшествовать актуализации положительной потребности.
Данные проведенных экспериментов, особенно эксперимента по выявлению уровня притязаний, показали, что в своей деятельности человек научается разводить идеальную цель (т. е. перспективную) и реальную. Именно умение разводить идеальную и реальную цели является залогом правильного развития личности. Как указывает Братусь, неумение разводить разноплановые цели является характерной особенностью психопатических личностей (см. очерк IV).
Несколько слов о принципах построения таких методик, образцами которых может служить метод исследования уровня притязаний, психического пресыщения и др.
При построении подобных методических приемов главное внимание должно быть обращено на то, чтобы искусственно созданная ситуация эксперимента возможно глубже способствовала формированию отношения больного. Как мы говорили выше, любая экспериментальная ситуация вызывает отношение испытуемого (поэтому и возможен путь опосредованного исследования его личностных реакций); однако если при исследовании познавательных процессов мы стараемся, чтобы применяемые методические приемы представляли собой модели познавательной деятельности человека, помогающие выявить качество и уровень его умственной работоспособности, то методические приемы, направленные на исследование личности, должны представлять собой модели неких жизненных ситуаций, вызывающих обостренное отношение испытуемого.
Особенно плодотворным оказался еще один аспект: анализ личностных изменений по данным историй болезни. Как известно, описания, содержащиеся в историях болезни психически больных, психический статус, данные анамнеза, катамнеза, дневник, являются ценным материалов, который недостаточно используется психологами, а между тем квалификация многих описываемых клиницистами фактов в понятиях современной психологической науки могла бы во многом помочь анализу структуры потребностей; мотивов, столь измененных у многих больных (шизофрения, эпилепсия, хронический алкоголизм).
Остановимся на этом подробнее.
За последнее время в патопсихологии применяется еще один метод — психологический анализ данных, содержащихся в истории болезни больных шизофренией, хроническим алкоголизмом, эпилепсией, нервной анорексией и рядом других заболеваний.
Начальный этап подобных исследований — тщательное знакомство с историями болезни группы больных, выбранной для изучения.
История болезни в психоневрологической клинике представляет собой особый не только медицинский, но и психологический документ. В ней, помимо сугубо медицинских данных, по возможности подробно собраны сведения, характеризующие жизненный путь больного человека,
типичные для него способы действия, общения, разрешения конфликтов, круг его интересов, их изменение в течение болезни, а ретроспективно и до болезни, его взаимоотношения в семье, на работе. (Следует признать, что, к сожалению, сказанное является справедливым далеко не для всех историй болезни, а лишь для наиболее полных, составленных по всем правилам психиатрического искусства.)
Так или иначе, для врача–психиатра важна любая деталь, мелочь из жизни пациента, так как она помогает ему составить целостное представление о данном больном и сопоставить это представление с опытом психиатрии, отнести его к определенной нозологии, определенному типу психического расстройства или дает основание представить этот случай как казуистический, открывающий новый ряд (тип) душевных страданий. Это очень сложная работа, опирающаяся не только на научные знания, но и на особое искусство, тонкую интуицию, которая столь характерна для хороших психиатров.
Конечно, история болезни, взятая из архива психиатрической клиники, не являет собой связного изложения развития и изменения образа больного наподобие художественного произведения, рисующего нам образ героя. История болезни — прежде всего оперативный, рабочий документ, и сведения, помещенные в нем, по своей сути редко могут быть развернутыми и полными. Но именно эти отрывочные сведения пунктирами намечают сложный рисунок психического расстройства, документально раскрывают драму душевной болезни и борьбы с ней, и потому тщательное знакомство с историями болезни необходимо и его отсутствие ничем не может быть восполнено.
Нельзя, однако, составить представление об особенностях личности и характера, минуя непосредственное общение с человеком, не посмотрев, как раскрываются его качества в специальных экспериментах. Поэтому знакомство с историями болезни должно дополняться опытом общения и экспериментами с большими выбранной нозологии или группы.
Следующей задачей данного этапа исследовании является составление подробных, достаточно типичных для этой группы больных, историй протекания личностных изменений, в которых, в отличие от медицинских историй болезни, представлены не отрывочные сведения, а связный, документированный конкретными клиническими и экспериментальными фактами рассказ о возникновении и развитии интересующих нас особенностей психики.
Может возникнуть возражение, что в работах психиатров уже есть систематизированные истории болезни, в которых, порой с художественной яркостью, дано описание развития и становления болезненных симптомов. И они, безусловно, ценны для психолога и должны служить образцами составления историй болезни. Но даже на этом этапе исследования, где психолог многому учится у психиатра, не следует избегать различий в профессиональном мышлении психологами психиатра, в их апперцепции, восприятия исследуемого материала. Нередко для психиатра важно показать течение определенного болезненного симптома на фоне своеобразных изменений личности, тогда как для психолога главным выступает все, относящееся к развитию и становлению личности, а не своеобразие болезненной симптоматики. Поэтому материал, извлекаемый психологом и психиатром из одного первоисточника — истории болезни, редко бывает одним и тем же, что объясняется разными плоскостями психиатрического и психологического анализа. Таким образом, психолог не может подменять психиатра при составлении нужных ему клинических описаний.
После того как типичные истории интересующих личностных изменений составлены, необходимо тщательно нх сопоставить, «синтезировать» все те основные «осевые» моменты, через которые проходит большинство изучаемых случаев (при алкоголизме, например, это определенные этапы изменения круга общения, интересов; при нервной анорексии — последовательность смены способов борьбы «за похудание» и т. п.). Речь идет о тех моментах, которые являются общими для всей изучаемой группы клинических явлений; хотя, разумеется, в каждой конкретной истории болезни эти моменты могут быть выражены в большей или меньшей степени, выступать явно или, напротив, в неявном, стертом виде.
Восстановление, «синтезирование» единой, наиболее типичной внешней логики развития интересующего нас феномена и должно явиться конечным выходом, продуктом данного этапа анализа. Лишь после этого можно переходить ко второму этапу — квалификации полученных данных в понятиях современной психологической науки.
В рамках отечественной психологии основополагающими для характеристики личности являются понятия деятельности и тесно связанные с ним понятия потребности, мотива, личностного смысла (Выготский, 1965; Леонтьев, 1959; Рубинштейн, 1959).
Опираясь на теоретические разработки общей психологии, психолог на этом этапе должен уметь вычленить различные виды деятельности исследуемых больных, дать психологическую характеристику их строения, структуры.
Но даже тщательное изучение отдельных деятельностей недостаточно для характеристики личности. Необходимо раскрыть существующие между ними отношения. Как подчеркивает А. Н. Леонтьев (1975), именно иерархические отношения деятельностей наиболее полно характеризуют личность, именно они образуют ядро личности. Поэтому важнейшим пунктом этого этапа исследования должно быть построение гипотезы об определенном соподчинении, иерархии деятельностей больного человека.
В последней работе А. Н. Леонтьева (1975) выделены еще некоторые основополагающие параметры личности: широта связей человека с миром, степень их иерархизированности, общая их структура. «Конечно, — замечает А. Н. Леонтьев, — эти параметры еще не дают дифференциально–психологической типологии, они способны служить не более чем скелетной схемой, которая еще должна быть наполнена живым конкретно–историческим содержанием» (1975, с. 224). Думается, патопсихология сумеет применить эту важную теоретическую схему в своих исследованиях. Опыт такого применения может быть полезен в общей психологии, иллюстрируя теоретические построения живым, конкретным материалом, который профессионально квалифицирован, переведен на «язык» психологии.
Психологическая квалификация данных клиники душевных заболеваний имеет существенное значение и для психиатров, способствуя сближению, соотношению понятий обеих наук. Известно, насколько продуктивным для развития науки является подключение к ее исследованиям категорий и выводов других наук (Достаточно назвать классическое исследование Л. Пастера, который применил к изучению солей виноградной и винной кислоты опыт кристаллографии, что привело к ряду важных открытий к возникновению и дальнейшем стереохимии); в данном случае, к анализу психопатологических явлений подключается категориальный аппарат, выработанный современной психологией, что может продвинуть разработку целого ряда проблем психиатрии, например, установление содержательных научных критериев степени деградации взамен бытующих интуитивных оценок типа «более (менее) выраженное снижение уровня личности».
Однако при всей своей значимости, этап психологической квалификации клинических данных не является конечным для анализа изменений личности.
Сделав «перевод» описания явления с языка клинического на язык психологии, мы по сути еще остаемся в рамках феноменологического подхода, хотя понятно, что возможности применения языка научной психологии значительно перспективнее для решения многих задач, чем возможности оперирования образным языком существующих клинических описаний. Напомним, что сущность явления раскрывается лишь, когда известны пути его формирования. «Познать предмет, — указывает Ю. М. Бородай (1972), — значит вскрыть реальный механизм его образования; значит, узнать, как, почему и из чего он «делается», т. е. раскрыть реальный путь и способ его естественного «производства», а в идеале и искусственного «воспроизводства» в условиях эксперимента. Собственно психологическая сущность может быть раскрыта, если мы узнаем, по каким психологическим закономерностям возникает данное явление, что движет этим процессом, какие психологические составляющие его образуют.
Нельзя надеяться получить ответы На эти вопросы путем простого «подстрочного» перевода описательного текста драмы болезни (пусть это будет даже описание «динамики» — последовательности событий), поскольку внешне наблюдаемые факты и события, как и их определённая последовательность, не указывает прямо на психологические закономерности, реализующие поведение человека. (В противном случае отпала бы необходимость в научной психологии личности, в особом психологическом способе анализа человеческой жизни). Поэтому встает новая задача – создание собстственно психологической «модели» формирования данного клинического феномена. Разумеется, первоначальная гипотеза всегда предшествует исследованию, но лишь после прохождения всех описанных стадий можно выдвинуть достаточно полное и аргументированное представление.
Итак, вслед за сбором и первичной обработкой клинического и экспериментального материала — этап «синтезирования» типичной истории развития интересующего нас феномена; за психологической квалификацией наблюдаемых состояний, их последовательной смены — рассмотрение внутреннего движения процесса, его собственно психологических закономерностей и составляющих.
О необходимости подобного направления хода анализа клинических данных писал еще Л. С. Выготский. В его книге «Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства» (1936) дан целый ряд тонких рекомендаций для исследований, в котором центр тяжести должен быть перенесен с внешних событий (с равным успехом констатируемых психиатром, педагогом или родственником больного) на изучение и установление внутренних психологических связей. Надо идти от внешнего к внутреннему, от того, что дано, к тому, что задано, от феноменалистического анализа явлений к определяющим их внутренним причинам.
Важно подчеркнуть, что такого рода работы — специфическая pa6oтa патопсихолога, малодоступная для представителя смежной профессии, например психиатра, который обычно не владеет столь глубокими знаниями законов общей психологии, соответствующими методами и стилем мышления. Психиатр–клиницист, что мы уже отмечали, по роду своей профессии, чаще должен оперировать образными представлениями конкретных больных. Картина изменений личности составляется для него не из абстрактных рассуждений, а из ряда фактических наблюдений за отдельными случаями. Психолог же располагает средствами членения целостных образов на отдельные деятельности, мотивы, потребности, эмоции и т. д., средствами соотнесения этих единиц между собой и тем самым получает возможность перейти к усмотрению внутренней (т. е. собственно психологической) механики строения личности. (Видимо, поэтому (что наблюдается не столь уж редко) психиатр–клиницист, который по одному внешнему виду, даже жесту пациента тонко понимает его душевное состояние, может при этом оказаться малоспособным к теоретическому мышлению. И, напротив, ученый–психолог часто обладает весьма посредственным даром видения людей.)
При этом психолог может ставить перед собой разные общие задачи и конкретные цели, ради которых он строит ту или иную «модель» данного клинического феномена. В одних случаях это может быть задача выявления механизмов формирования доминирующей патологической потребности (обширный материал здесь дает изучение наркоманий), в других — проблема взаимоотношения «биологического» и «психологического» (скажем, на примере влияния нарастающей инертности на характер деятельности у больных эпилепсией), в третьих — выделение первичных и вторичных нарушений психики (например, в ходе аномального развития ребенка) и т. д.
Выполнение такой задачи, построение в каждом случае своей гипотезы, «модели» формирования клинического феномена, помимо теоретического, несомненно, имеет практическое, прикладное значение, прежде всего в разработке важнейшей проблемы трудовой и социальной адаптации людей с отклонениями психики, поскольку успешное продвижение в этой области немыслимо без квалифицированного психологического анализа тех явлений, которые подлежат коррекции.
Какое место занимает описанный подход в ряду других методов исследования личности?
Большинство существующих методов, независимо от их конкретного построения и способов обработки полученных результатов, объединяет направленность на изучение уже сложившегося психического явления. Констатируя наличие определённой черты личности, выясняя характеристику ее психологических составляющих, эти методы оставляют в стороне проблему возникновения психологического феномена. Между тем согласно принципу, провозглашенному Л. С. Выготским, к психологическим явлениям нельзя подходить как к «готовым», сложившимся, формам, для того чтобы понять нх природу, их следует изучать в развитии, в становлении. Мысль о том, что природа предмета раскрывается в изучении истории его развития, достаточно известна в философии. Гегель писал, что целое — это Werden, т. е. весь процесс становления, а результат — только конечная точка этого процесса, поэтому познавание сути явления закрыто для того, кто хочет иметь дело только с результатом процесса.
Реализация этого основополагающего принципа в исследованиях личности пока что явно недостаточна, хотя потребность в такого рода исследованиях налицо. В самом деле, если эксперимент есть определенным образом построенное испытание и регистрация ответа на него, то ясно, что всякая вариация характера испытания приведет и к некоторому изменению реконструируемого ответа. Поле эксперимента неограничено, как и природа исследуемого явления, и, бесконечно варьируя условия эксперимента, мы получаем все новые и новые факты, которым в психологии уже не счесть конца. Однако эти факты ни взятые вместе, ни в отдельности не могут составить психологию личности как предельной целостности, как субъекта психической жизни. Путь создания такой психологии лежит в изучении самого процесса формирования личности, ее качеств, а не в одном лишь испытании и анализе различных сторон «готового» продукта этого процесса.
Сказанное не умаляет значения лабораторного эксперимента; мы лишь хотим подчеркнуть, что этот метод не является единственным в научном изучении природы личности. Как и любой метод, он имеет свои ограничения и область применения. Самое тонкое экспериментирование не может заменить необходимости теоретической работы, призванной проанализировать процесс становления данного феномена и построить гипотезу о его психологической природе. Эксперименты, в свою очередь, совершенно необходимы, поскольку могут подтвердить или опрокинуть наше построение, могут служить контрольными «срезами», диагностирующими промежуточные результаты постоянно идущего процесса психической жизни. Заметим, что простая констатация и статистическое сопоставление промежуточных результатов, «срезов» развития составляет содержание большинства так называемых лонгитюдинальных (продольных) исследований личности, поэтому не следует смешивать их принципы с описанным выше подходом к анализу клинических данных.
С известным основанием можно утверждать, что психологический анализ становления и развития — это не еще один метод познания психического, а ведущий метод, поскольку он прямо направлен на раскрытие сущности предмета: метод, без которого все другие — лишь «выхватывание» частей без попытки понять целое.
Исключением могут служить эксперименты, созданные на основе теории П. Я. Гальперина (1959, 1966) о поэтапном формирований умственных действии. В этих экспериментах, точнее специально организованных способах обучения, непосредственно контролируется процесс формирования заданного качества и тем самым раскрывается его психологическая сущность. Вряд ли, однако, можно формировать качество личности в условиях лабораторного эксперимента. «Экспериментом» здесь является реальная жизнь человека, который формирует, проявляет себя, как личность. Поэтому нельзя раскрыть природу личности, не обратившись к клинике нормального и аномального развития личности.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в данном очерке перечислены лишь некоторые из возможных методических подходов к проблеме аномалий личности и что исследование столь сложной проблемы может и должно проводиться в разных аспектах и направлениях.
Часть 2
Очерк VI. Соотношение критичности и опосредования (написан совместно с И. И. Кожуховской)
Развитие и созревание личности проявляется во многих аспектах. Одним из важнейших индикаторов процесса созревания личности является возможность опосредования своего поведения. Еще в 1927 г. Л. С. Выготский, высказав положение о том, что развитие высших психических функций человека определяется не законами биологической эволюции, а законами исторического развития общества, подчеркивал неоднократно опосредованный характер психических процессов. Эти идеи Л. С. Выготского были продолжены и разработаны его ближайшими сотрудниками и учениками. Исследования А. Н. Леонтьева (1959), П. Я. Гальперина (1959, 1976), А. В. Запорожца (1960), А. Р. Лурии (1963) и др. показали, что все сложные формы психической деятельности являются продуктом усвоения общественно–социального опыта и обладают опосредованной структурой.
Однако сам процесс опосредования не является однозначным и однослойным. Проблема опосредования может разрешаться в разных аспектах. Один из них касается строения психических процессов, где деятельность опосредована, обнаруживается на уровне овладения своими операциями. Так, например, стремление к улучшению запоминания материала приводит к выделению и оперированию знаками — символами (Выготский, Леонтьев). В данном случае опосредование приобретает характер «вспомогательной» деятельности для совершения другой деятельности — деятельности запоминания.
Исследование больных с нарушением познавательной деятельности выявило, что больные утрачивают возможность опосредовать процесс запоминания, что они не в состоянии увязать понятие, обозначенное словом, с любым, более конкретным (Биренбаум, 1935; Зейгарник, 1962; Петренко, 1978).
Проблема опосредования можете быть также отражена и при разрешении вопроса о целеполагании (Левин, 1927; Тихомиров, 1976). И, наконец, процесс опосредования может быть включен в структуры личностных образований. В этом случае опосредование выступает как один из важнейших индикаторов личности.
Подчеркивая важнейшую роль деятельности в формировании личности, А. Н. Леонтьев пишет, что иерархические отношения между мотивами «определяются складывающимися связями деятельности субъекта, их опосредствованиями» (1975, с. 203). Опосредствование связано, с одной стороны, с сознанием мотивов деятельности, перспективных целей, с другой стороны — с критичностью, с правильной оценкой своего «Я» и других, с возможностью регуляции своего поведения.
Указывая, что личность представляет собой «относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных мотивационных линий», А. Н. Леонтьев (1972) подчеркивает, что деятельность человека на психологическом уровне является единицей жизни, опосредованной психическим отражением, образом, реальная функция которого состоит в том, что он ориентирует «в предметном мире». Естественно, что подобная ориентация не может актуализироваться без учета контроля.
О механизмах контроля говорит и Гальперин, когда пишет, что «действует не сознание, а личность, которая регулирует свои действия на основе сознания» (1976, с. 143; курсив мой — Б.3.); и далее, говоря об общественном сознании, он вновь подчеркивает, что оно (общественное сознание) «составляет важнейшую, ведущую структуру в системе управления человеком своим поведением» (там же, курсив мой. — Б. 3.).
Таким образом, основным радикалом развитой личности является возможность опосредования своего поведения, возможность его регуляции, умение увидеть свои ошибки и, главное, уметь их исправлять. Не случайно в Основах уголовного судопроизводства СССР предусмотрена ответственность человека за свои поступки; она предусматривается в том случае, если человек осознал все значение своих действий и мог руководить ими. Следовательно, критичность является неотъемлемым компонентом, без которого нельзя опосредовать свое поведение. Поэтому правомерно предполагать, что изучение опосредования и зрелости личности можно изучать через анализ критического отношения человека к себе и окружающему, через анализ контроля. При этом следует отметить, что понятия критичности и контроля и литературе часто не разграничиваются. Это понятия родственные, по не однозначные. Критичность — это устойчивое психическое состояние человека, которое, как и любое, другое психическое состояние, является, говоря словами С. Л. Рубинштейна (1973), непосредственно динамическим эффектом деятельности человека. Контроль же представляет собой конкретное проявление этого состояния и связан с осознанием своих отдельных действий и поступков в реальной ситуации. Иными словами, состояние критичности является существенным компонентом деятельности человека, контроль же связан с его действиями, является в известном смысле производным от критичности. В психологической литературе критичность исследуется в основном как контроль в процессе решения задачи, как компонент ориентировочно–исследовательской деятельности, как возможность отличия своих действий от ожидаемого результата. Она связывается с поисковой деятельностью, с механизмом сличения, входящим в структуру мыслительного акта (Тихомиров, 1969). В действительности же критичность выступает как компонент самосознания, позволяющий оценить себя, свои мотивы и поступки. В этом своем значении критичность дает возможность человеку опосредовать не только свои отдельные действия, но и поведение в целом. И наоборот, нарушение критичности приводит к нарушению опосредования, которое принимает вид различных форм неудачных способов компенсации, защиты, нарушения общения.
Поиски экспериментальных путей исследования критичности наталкиваются на трудности, так как у сформированной личности трудно разграничить разные виды ее проявления. Нам кажется, что легче подступиться к данной проблеме в плане ее негативного аспекта — нарушения критичности, используя для исследования материалы и метод патопсихологии. Это целесообразно потому, что многие психические заболевания приводят именно к нарушению личностной сферы человека, к бесконтрольным поступкам. Данный подход облегчается и тем обстоятельством, что психологический эксперимент в условиях психиатрической клиники существенно отличается от любого другого, поскольку он означает для больного проверку его состояния, приобретая, как об этом много раз писалось (Зейгарник, 1927; и др.), характер «экспертизы»: любой больной человек (если он не слабоумен) считает, что от результатов этого исследования зависит в какой‑то мере его «судьба». В одних случаях исследование может выступить как способ анализа своего психического здоровья, в других — как стремление помочь или помешать обнаружению у него дефектов психической деятельности. Возможны и другие трактовки больными смысла экспериментального исследования, но важнее то, что больной всегда выполняет экспериментальные задачи, руководствуясь какими‑то более или менее значимыми для него мотивами, обусловленными позицией больного в лечебном учреждении. Иначе говоря, отношение больного к выполняемой экспериментальной работе мотивировано тем смыслом, который приобретает для него исследование. Поэтому ситуация психологического эксперимента обостренно вызывает контроль, необходимость понимать намеченные цели и предвидеть результат своей деятельности, правильно оценивать свои возможности. «Чем сохраннее личность больного, — указывает С. Я. Рубинштейн, тем более он способен обнаружить какую‑либо позицию в процессе экспертного исследования, особенно при экспериментально–психологическом исследовании» (1970, с. 29). Этот выступающий для больного смысл исследования и обусловливает отношение его к своим ошибкам, к экспериментатору и его замечаниям, а следовательно, и опосредованность своего поведения.
Прежде чем перейти к конкретному анализу некоторых нарушений критичности, необходимо остановиться еще на одном аспекте — роли чувств, эмоций, переживаний как регуляторов поведения. Они становятся таковыми лишь в том случае, если у субъекта сохранена критичность. При отсутствии критичности чувства не только не регулируют, но могут стать дезорганизаторами поведения, нарушается опосредованность действий. Из обыденной жизни можно привести не один пример описания такого явления, когда под влиянием аффекта человек временно теряет контроль над своим поведением, допускает необдуманные поступки в общении с другими людьми и даже действует во вред себе и своим дальнейшим жизненным планам. Однако в норме, по мере угашения аффекта, критичность восстанавливается. В патологии же нарушение возможности регулировать свои действия, связанное с проявлением болезненного аффекта, нередко становится устойчивым модусом поведения. Так, например, импульсивные реакции у психопатов самого различного склада представляют чрезвычайно частые и устойчивые явления; вязкость аффекта больного эпилепсией занимает значительное место в структуре изменения подконтрольности его поведения. В том и другом случае нарушения критичности больных носят своеобразную структуру, типичную для каждого из этих состояний. В целом регуляция и последующий контроль у психически больных носят совершенно иной характер, о чем справедливо пишет П. Я. Гальперин, указывая, что при такого рода заболеваниях «человек не способен оценивать свои действия, действия других людей и объективные события так, как это делают здоровые люди, не может пользоваться объективно общественными критериями всех этих явлений, поскольку не может правильно управлять своим поведением. Он остается субъектом, но уже не является личностью и не отвечает за свое поведение» (1976, с. 142).
В патопсихологии проблема критичности изучалась в основном в связи с изменением структуры деятельности у больных с поражениями лобных долей мозга (Зейгарник, 1943; Рубинштейн, 1949; Лурия, 1947; Лебединский, 1967; и др.). Клиническая практика показывает разные аспекты этого нарушения: а) регуляция познавательных процессов; б) отношение к болезненной симптоматике; в) аспект сознания (бессознательного); г) оценка своей личности и др.
Мы остановимся на двух аспектах исследуемой проблемы. Один из них дает возможность проследить, каким образом нарушение критичности изменяет процесс мыслительной деятельности, структуру его отдельных компонентов. Второй касается отражения нарушения критичности в самосознании, оценке своей личности, своего «я».
В данном очерке мы подвергнем анализу нарушение критичности к своим суждениям, интеллектуальным действиям и высказываниям — аспект, наиболее разработанный в патопсихологической литературе и описанный как «некритичность мышления» (Зейгарник, 1962). При выполнении умственных заданий, принципиально доступных больным, обнаруживалась особая группа ошибок, которую можно было охарактеризовать как «бездумную», неадекватную инструкции манипуляцию предметами. Так, в опыте на классификацию предметов больные, лишь бегло взглянув на карточки, начинали раскладывать их по неадекватным группам, не проверяя себя. Больные не сличали своих действий с заданной целью, не корригировали хода решения задачи и не соотносили полученные результаты со своими возможностями.
Нарушение критичности могло также выступать в виде нарушения отношения к своим ошибкам. В этих случаях хотя действия больных не носят характера манипуляций и выступают в виде целенаправленных действий, они все же свидетельствуют о некритичности суждений, которая выражается в игнорировании коррегирующих замечаний относительно допускаемых ошибок, подсказок экспериментатора. Приведем краткие иллюстрации подобных нарушений.
Больная С. (диагноз — шизофрения с вялым непрерывным течением). Классифицируя предметы, отказывается отнести ласточку в группу «животный мир», объясняя: «Она ведет совершенно другой образ жизни, ей свойственны и другие условия, ее приучить нельзя, она размножается по–другому, в воздухе может парить».
Э.: Но ведь она живое существо?
С.: Ну пусть тогда пойдет в животный мир, если вы так хотите, но я хотела бы иначе.
Больная В. (диагноз — хронический алкоголизм II степени). При укрупнении групп на III этапе «классификация предметов» объединяет моряка, пароход, двух рыб и лебедя в группу «море».
Э.: Проверьте, правильно объединили?
В.: Сейчас посмотрю, вы хоть говорите, когда неправильно (при этом беззаботно хохочет). Голубь летает и даже много, но он отдельно.
Э.: Какой голубь? Мы ведь говорим о том, почему вы отнесли лебедя в группу «море».
В.: Голубь, лебедь… все равно. Лебедь отдельно, он между небом и землей летает.
Э.: Будьте внимательны, не допускайте ошибок.
В.: Хорошо (и сразу образует группу «в небесах», куда относит самолет к ласточку).
Э.: Вы же самолет отнесли к транспорту!
В.: Да. Но я передумала, пусть будет с ласточкой.
Больная М. (диагноз — органическое поражение головного мозга с психическими расстройствами). Классифицирует предметы, объединяет дерево, метлу, куст, потому что «метлу из березы делают».
Э.: Именно поэтому вы и объединили эти карточки?
М.: (подумав)… нет, метла отдельно, а деревья будут вместе. Метлу лучше с лопатой, это инструмент для уборки.
Мы привели только три примера разных оценок больными своих ошибок, показывающих разнообразные формы критичности: некоторые больные сами исправляли свои решения; другие — только после наводящих вопросов экспериментатора; третьи — отстаивали свою правоту, но после беседы с экспериментатором все же исправляли допущенные ими ошибки; часть же больных спорила, не соглашалась с предложениями экспериментатора или вынужденно «уступала», но не обнаруживала истинной критичности.
Таким образом, выступившая градация оценки больными допущенных ошибок при выполнении задания могла расцениваться как индикатор сохранности критичности.
В этой связи возникает вопрос о том, имеется ли зависимость между нарушением контроля и типом ошибок. Представлялось интересным проследить, какие именно ошибки допускают больные в своей работе, какие из них поддаются коррекции экспериментатора и какие ошибки остаются некоррегируемыми.
Был проанализирован характер допущенных больными (шизофренией, органическими поражениями головного мозга и хроническим алкоголизмом) ошибок при выполнении ряда экспериментальных заданий (Кожуховская, 1973). Из проанализированных 156 ошибок 90 были скоррегированы, 66 оказались некоррегируемыми. С некоторой долей схематичности можно было разделить допущенные больными ошибки на следующие группы: связанные с конкретностью суждении; связанные с «разноплановостью» суждений и, наконец, связанные с бездумными, ситуационно возникающими суждениями, за которыми не стояла никакая аргументация (манипуляция). Обнаружилось, что в основном не поддавались коррекции ошибки, связанные с «разноплановостью» суждений (53 из 66) т. е. с тем видом нарушений суждении, который связан с нарушением мотивационной сферы (Зейгарник, 1962). Подобное сопоставление обнаруживает и некоторую нозологическую характеристику. Слабая доступность коррекции наблюдалась чаще всего у больных шизофренией (параноидная форма). Именно эта группа больных спорила с экспериментатором, удивлялась, почему последний «навязывает» свой способ выполнения задачи. Выявилось «принципиальное» несогласие больных с коррегирующими замечаниями экспериментатора.
Другие же больные (например, с алкогольной деградацией), допускавшие ошибки по типу манипулирования, могли «уступить» экспериментатору, согласиться с предложенным решением, однако в дальнейшей работе они допускали аналогичные ошибки. Среди испытуемых, исправлявших свои ошибки, чаще оказывались больные с разными органическими нарушениями мозга.
При исследовании некритичности к суждениям, действиям и высказываниям, естественно, встал вопрос, не связан ли данный вид нарушения с уровнем обобщения у больных. По результатам исследования (Кожуховская, 1976), оказалось, что это не так: ошибки могли выступать как в простых, так и в сложных заданиях. Тот факт, что коррекции не поддавались ошибки типа «разноплановости» и что они выступали в основном у больных шизофренией, позволяет допустить, что некритичность суждений больных связана с изменением нх мотивационной сферы. Смыслообразующая функция мотива больных либо оказывалась неустойчивой, либо не направляла деятельность больных. Для некоторых же больных выполнение экспериментальных проб вообще не являлось значащим, у них не выявлялось потребности в достижении положительных результатов своей работы. Однако, как указывает А. Н. Леонтьев, «деятельности без мотива не бывает; «немотивированная» деятельность — это деятельность, не лишенная мотива, а обладающая субъективно и объективно скрытым мотивом» (1972, с. 104). Действительно, нарушение подконтрольности в приведенных случаях связано не с пассивностью (как это бывает со свободной манипуляцией при классификации), а с искажением его мотивов. Психологический анализ жизненного пути, отраженного в историях болезни больных, исследование нх самооценки, уровня притязаний в определенной деятельности обнаружили, что больные руководствовались во всех своих действиях мотивами неадекватными. Об измененной мотивации этой описываемой группы больных свидетельствуют многие факты их биографии.
Очерк VII. Об одном механизме целеполагания
Уровень притязаний, типичные для данного человека особенности выбора жизненных целей составляют существенную характеристику динамической стороны личности. Разного рода нарушения этой стороны нередко весьма типичны для аномального развития личности. Можно, например, с полным основанием думать, что ключ ко многим превратностям жизни людей, страдающих неврозами и психопатиями, надо искать именно здесь — в способах реагирования на успех и неуспех, в особенностях целеполагания.
В многочисленных экспериментальных исследованиях уровня притязаний основное внимание обычно уделяется особенностям реакций испытуемого на успех и неуспех, зависимости притязаний от материала предложенных заданий, от отношения испытуемого к ситуации опыта, к оценкам экспериментатора и т. п. Делаются попытки классифицировать полученные данные, связать их с высотой самооценки испытуемого, сравнить кривые графика уровня притязаний при различных психических отклонениях.
Значение и несомненная продуктивность этих исследований состоит не в констатации внешних атрибутов уровня притязании и совершенствовании методических приемов, а в усмотрении внутренних механизмов притязаний тактики и стратегии личности. (См. очерк VI). Противоречие между экспериментатором и теоретическим осмыслением его данных не должно выступать, поскольку исследование уровня притязаний берет начало из школы К. Левина, непреходящее значение которой состоит в тонкой психологической интерпретации результатов опыта, в мастерском применении экспериментального метода как инструмента, но отнюдь не самоцели психологического познания. В этой связи представляется полезным проанализировать некоторые исходные понятия, введенные в первом, остающемся, пока наиболее глубоким, исследовании уровня притязаний и целеполагания — исследовании Ф. Хоппе (1930).
Начнем с самого понятия уровня притязаний. Ф. Хоппе пишет, что человек приступает к работе с некоторыми притязаниями и ожиданиями, которые в течение действия могут меняться. Совокупность этих сдвигающихся то неопределенных, то точных ожиданий, целей или притязаний относительно своих будущих достижений Ф. Хоппе предложил называть уровнем притязаний. Судя по обстоятельствам, уровень притязаний может колебаться между целью «извлечь из действия максимум достижений» и полным отказом от какого‑либо достижения (Хоппе, 1930). Уровень притязаний рождается, как об этом говорил Хоппе, из двух противоположных тенденций: с одной стороны, тенденции поддержать свое «я», свою самооценку максимально высоко, а с другой стороны—тенденции умерить свои притязания, чтобы избегнуть неудачи и тем самым не нанести урон самооценке. Образующиеся в результате конфликта двух тенденций колеблющиеся психологические волны уровня притязаний выполняют по крайней мере две важнейшие психологические функции. Во–первых, они регулируют конкретную тактику целеполагания, являясь необходимым инструментом приспособления к меняющимся условиям среды. Во–вторых, они по возможности охраняют человека от нанесения вреда его самооценке, чувству собственного достоинства. Подробнее мы рассмотрим эти функции ниже.
Важно заметить, что только в результате борьбы, конфликта двух названных тенденций возникает определенный, свойственный данному человеку уровень притязаний, с присущими ему переживаниями успеха и неуспеха, но не наоборот — будто из самих по себе переживаний успеха и неудачи непосредственно рождается уровень притязаний. Поэтому, в частности, выраженные аффективные реакции на успех и неуспех, которые столь часто констатируют, например, при психопатиях, не должны быть главными объектами психологического рассмотрения. Надо попытаться проанализировать более глубокие, основные составляющие притязательных механизмов.
Обозначенный конфликт между тенденциями «поднять» притязания на максимальную высоту и .«опустить» нх, чтобы избежать неудачи, хотя и является главным для возникновения уровня притязаний, однако еще не прямо задает «рисунка» конкретных притязаний. Этот рисунок опосредован по сути всей сложной структурой личности, всей совокупностью, иерархией мотивов и целей данного человека. Нельзя думать, что уровень притязаний, который мы констатировали на основании результатов лабораторного эксперимента или клинического наблюдения, сформировался непосредственно в ходе данного опыта или в рамках наблюдаемой нами ситуации. Здесь, как правило, выявляется привычная, уже так или иначе сложившаяся тактика целеполагания, выработанная предшествующей жизнью человека. Изменения уровня притязаний, подчеркивал Ф. Хоппе, становятся полностью понятными только тогда, когда мы обращаемся к крупным личностным целям, к целям, которые далеко выходят за пределы выполнения отдельных заданий (Хоппе, 1930).
Но если отвлечься от наиболее общих, «вершинных» личностных устремлений, роли которых мы еще коснемся, и рассмотреть цели, возникающие при выполнении отдельных заданий, в ходе экспериментального (или поставленного самой жизнью) испытания, то и здесь необходимо различать не один, а по крайней мере два вида целей: реальную цель — ту, которую, по мнению человека, он может, по всей вероятности, достичь в данных конкретных условиях, которая непосредственно вытекает из структуры задания, и идеальную цель. Последняя понимается Ф. Хоппе как широкая, всеохватывающая цель, превышающая временные, реальные цели; это цель, которую в идеале хотел бы достичь испытуемый в предлагаемой работе, которая, хотя сию минуту может не являться актуальной, но всё же стоит «за» соответствующей отдельной цельью. (Хоппе, 1930).
Между реальной и идеальной целями в конкретной деятельности может устанавливаться большее или меньшее расхождение. Это можно проиллюстрировать на примере любой деятельности. Скажем, лектор, приступая к выступлению перед незнакомой ему аудиторией, имеет некоторую идеальную цель полностью подчинить себе внимание слушателей и глубоко заинтересовать их предметом своего рассказа. Однако на деле оказывается, что аудитория утомлена предыдущими лекциями, нет возможности сколько‑нибудь сосредоточить внимание слушателей, многие из которых откровенно посматривают на часы, материал лекции им малопонятен и т. п. Приходится тогда ставить реальные цели (говорить крайне упрощенно, сократить выступление даже за счет важных смысловых кусков, найти возможность пошутить, чтобы хоть как‑то расшевелить аудиторию и т., п.), которые могут весьма расходиться с идеальной. Предположим, что в какой‑то момент лектору удалось все же привлечь внимание и заинтересовать слушателей, и тогда открывается возможность поставить более высокую реальную цель, в большей степени приближающуюся к идеальной. Таким образом, временная, реальная цель способна подниматься до высоты идеальной, если предшествующие успехи делают это возможным, и, напротив, конкретные условия могут приводить к необходимости ставить реальные цели, глубоко расходящиеся с идеальными.
Именно от умения развести во времени эти два вида целей во многом зависит уравновешенность уровня притязаний. Причем это умение не указывает прямо на среднюю (или как ее часто называют адекватную) самооценку, оно может маскировать порой высокие притязания и обостренное честолюбие. Поэтому если человек, следуя экспериментально или жизненно созданной логике успехов и неудач, после неудач плавно снижает свои притязания, а после успехов нерезко их повышает, то это еще не значит, что в нем нет стремления к высокой самооценке и что он удовлетворен тем положением, в которое поставлен данными обстоятельствами. Также и уровень притязаний с резкими колебаниями — подъемами после успехов и падениями после неудач — не указывает прямо на особо завышенную самооценку (что охотно приписывается психопатам, для которых типичен именно такой график уровня притязаний), а всего лишь на неумение развести идеальную и реальную цели.
Итак, за временными реальными целями, как правило, стоит более высокая идеальная цель. Динамика, изменение временных реальных целей может вообще появиться только при наличии некоторой, превышающей эти временные, идеальной цели. (Если бы это было не так, то человек не стремился бы к выбору новых целей и заданий, а довольствовался только повторением одних и тех же успехов, реализацией уже раз достигнутого). Все это говорит об определенной взаимосвязи целей, целевой структуре, где общая идеальная цель во многом направляет, определяет зону выбора целей реальных, конкретных. В зависимости от условий протекания деятельности, от особенностей данной личности эта структура может быть разветвленной, обладать более или менее жесткой связью между целями и т. п.
У людей в норме обычно вырабатывается умение различать, разводить в текущей деятельности разноуровневые цели, способность встать в некоторую как бы отстраненную позицию наблюдателя по отношению к возникшей ситуации, будь то ситуация экспериментальная или жизненная. Однако в практике психолога встречаются люди (чаще психопатического склада), которым это разведение в нужной мере не удается, которые не умеют примириться с часто возникающей необходимостью разделить реальную и идеальную цели. Вместо выработки временных целей они стремятся сразу, минуя необходимую стадию проверки, примеривания, к реализации идеальной цели. В своем поведении они порой напоминают малыша, описанного A. В. Запорожцем, (Пример взят из лекций по детской психологии, прочитанных профессором Л. В. Запорожцем (1965) на факультете психологию МГУ), который неутомимо прыгал на одном месте, безуспешно пытаясь таким образом достать привязанную ниткой к потолку конфету. На предложение подумать, как можно действовать иначе, малыш отвечал: «Думать некогда, достать надо».
Подобное строение притязаний встречается не только во многих случаях выраженного развития психопатий или неврозов. Оно может встречаться и определять различные стороны динамического развития личности, ее стиля жизни и при других душевных аномалиях, а также некоторое время (например, в подростковый период) сопутствовать и относительно благополучному ходу развития. Речь будет идти в основном о психопатическом складе лишь потому, что здесь данное нарушение является наиболее характерным. Патопсихология вообще, на наш взгляд, не должна стремиться только к «обслуживанию» отдельных нозологий и четко выделенных клинических форм; цель ее — усмотрение общих механизмов, могущих обнаружиться в самых разных вариантах личностного развития.
Описанное строение притязаний (в основе которого мы видим недостаточное различение разноуровневых целей) приводит, как показывают наблюдения, к весьма пагубным психологическим последствиям, извращая две основные функции уровня притязаний — функцию регуляции конкретной тактики целеполагания, ориентации в быстро меняющихся условиях реальной жизни и функцию защиты самооценки своего «Я». Остановимся сначала на нарушениях первой функции.
Известно, что процесс решения трудной задачи (не только интеллектуальной, но, что важнее для психологии личности, жизненной) состоит обычно из трех этапов. Этапа непосредственных решений, когда человек пытается сразу найти нужный выход: затем после ряда неудач начинается трудный этап более глубокого осознания ситуации, поиска адекватных путей выхода, который, наконец, приводит к нужному принципу, к третьему этапу — собственно решению. Здесь же процесс решения встающих перед человеком задач нередко ограничивается первым этапом или не до конца пройденным вторым этапом, что, естественно, не приводит к нужному выходу и серьезному успеху. Своеобразный вид приобретает и кривая уровня притязаний. Потерпев первые две–три неудачи в решении трудных задач, люди психопатического склада вместо того, чтобы несколько снизить свои притязания, выбрать задачу полегче, нередко впадают в отчаяние, хватаясь за заведомо легкие цели. Это унижение оказывается, однако, на деле «паче гордости» потому, что стоит им даже в малом прийти к успеху (например, решить несколько простых задач), как они вновь полны самоуверенности и желания удовлетворить свое тщеславие выбором наиболее престижных целей. Эти скачки притязаний наглядно выявлены во многих экспериментальных исследованиях людей психопатического склада, в особенности страдающих выраженными клиническими формами психопатий (Меерович, Кондратская, 1936; Бежанишвнли, 1967; Зейгарник, 1971; Гульдан, 1976; и др.).
В результате подобной тактики действий все время как бы «проскакивается» та зона, где лежат максимально трудные, требующие напряжения, но все же посильные для данного человека цели (Братусь, 1977). Поэтому, несмотря на нередко внешнюю активность, люди такого типа обычно малопродуктивны и неспособны показать свои подлинные возможности. Они могут порой подавать блестящие надежды, Которые, к удивлению многих окружающих, по прошествии времени совершенно не оправдываются. Человеку с ломаной кривой уровня притязаний часто не могут помочь достигнуть серьезного успеха даже самые благоприятные задатки. Они не реализуются в таланты, ибо талант — это умение работать, умение, которое в данном случае явно отсутствует. К каким весьма серьезным последствиям это может приводить, показывает следующее наблюдение.
Юноша — назовем его условно К. — в 16 лет поступил университет, выдержав труднейший конкурс. Юноша этот несомненно выделялся своим дарованием среди сокурсников, из которых многие уже прошли службу в Советской Армии, несколько лет перед этим работали и поначалу с трудом втягивались в учебу. Наш юноша схватывал все буквально на лету, к некоторый занятиям, например, по иностранному языку, мог вовсе не готовиться и все же отвечать из «хорошо» и «отлично».
Но прошло время, бывшие производственники стали заниматься основательно. Учебный материал был таков, что требовал усидчивости, регулярного труда. И здесь все увидели, что К. сначала постепенно сравнялся, а затем все заметнее стал отставать от сокурсников. Притязания у К. оставались по–прежнему очень высокими: ему нравилось (он уже привык) ходить в «выдающихся», слышать похвалу. Но теперь, чтобы соответствовать этому уровню, явно надо было менять свое поведение: реализация несомненных задатков и способностей требовала усидчивости и серьезных занятий. Но перемены этой не случилось. К. по–прежнему занимался урывками: иногда, например, он вдруг тщательно готовился к какому‑нибудь семинару и хорошо выступал на нем, вызывая одобрение преподавателя. Но такие успехи в целом играли отрицательную роль, потому что после них К. был полон гордости и надолго забрасывал учебники. К концу третьего курса встал вопрос о его отчислении за академическую неуспеваемость. Но и это не смогло изменить прежнего стиля, хотя никто не сомневался, что серьезными занятиями он сумел бы наверстать упущенное. Однако К. продолжал утверждать себя, «спасать» свои высокие притязания другими, более легкими способами. Он, например, пошел на прием к декану — ведущему специалисту в своей области — и заявил: «Вы напрасно думаете меня отчислять. Знайте, что через некоторое время я буду сидеть в вашем кресле, я буду деканом…»
Прошло время. Ему уже за тридцать. Он давно не учится, живет случайными заработками. Говорят, что последнее время он стал много пить. Внешне он по–прежнему самоуверен, собирает книги по специальности, говорит, что вскоре будет вновь восстанавливаться на факультете. Но подробный разговор с ним легко обнаруживает, что К. остался прежним, он ставит нереальные задачи вместо реальных, спасает свою самооценку довольно легкими и дешевыми приемами, обвиняет во всем не себя, а обстоятельства (кстати, поначалу очень для него благоприятные). Под конец разговора он спрашивает о своем бывшем сокурснике: «Неужели Р. стал доцентом? А ведь на первом курсе он меня слушал с открытым ртом…»
…Когда думаешь о людях, подобных К., всегда становится грустно и искренне жаль неиспользованных талантов, умелое развитие которых принесло бы и пользу людям, и счастье их обладателям.
Описанное строение уровня притязаний, кроме того что оно не обеспечивает полноценного приспособления, ориентации в меняющихся условиях, ведет к искажению и второй функции уровня притязаний, а именно к нарушению самооценки, своего «я». Ведь психически уравновешенный человек защищает свою самооценку уже одним тем, что может легко разводить идеальную и актуальную цели. Потерпев поражение, он способен отнести его к неудаче в выполнении именно данной актуальной цели, а не к краху своих высоких идеальных притязаний своего «Я». «Всякое поражение неприятно, но это не конечное отступление. В моих силах сделать, чтобы в будущем, в идеале я добился здесь успеха» — примерно так начинают восприниматься тогда неудачи. Лишь при этих условиях не только могут сохраниться, несмотря на трудности и поражения, прежние притязания и порой высокая самооценка, но они становятся и необходимым, важным двигателем развития личности. Самолюбие и притязания требуют обязательного преодоления неудач, если не сразу, то через определенное время, когда разовьются и укрепятся соответствующие способности и задатки. Таким образом, вырабатывается крайне нужное в жизни умение более пли менее объективно оценивать возникшую ситуацию, увидеть ее не только в актуальной сиюминутности, но и в развернутой временной перспективе и найти возможность постановки посильных реальных целей, успешное выполнение которых приблизит в будущем к идеальной.
Люди же психопатического склада, мало дифференцируя разноуровневые цели, видят в каждой ситуации как бы непосредственное испытание своего «Я» и потому так зависят от внешних оценок, болезненно реагируют на экспериментально и жизненно вызванные успехи и неуспехи. У них часто отсутствует умение стать в позицию отстранения не только по отношению к своим актуальным потребностям, к текущей деятельности, но и по отношению к себе самому, ко всей ситуации в целом.
Случается норой, правда, что психопаты могут трезво и даже не без самобичевания и самоиронии оценивать себя и свои действия. Но эти оценки высказываются, как правило, относительно уже прошедших действий, либо как зарок не повторять ошибок в будущем. Однако в очередной жизненной (причем не обязательно экстремальной, стрессовой) ситуации, в очередной «захватившей» человека деятельности с удивительным постоянством появляются характерные нарушения. Отсутствие своевременной коррегирующей позиционности, возможности сторонней более–менее непредвзятой оценки всей ситуации в целом сплошь и рядом оборачивается многочисленными малыми и крупными неудачами, промахами, нелепостями, которыми обычно столь богата судьба психопатической личности и которые, по известной формуле К. Шнейдера, либо заставляют страдать других людей, либо самого психопата.
Высказанная здесь гипотеза о недифференцированности реальных и идеальных целей как объяснительного принципа многих феноменов психопатоподобного поведения носит еще предварительный, требующий проверки и уточнения характер. Однако уже сейчас она позволяет предположить единый механизм, лежащий в основе целого ряда накопленных клинических и экспериментальных фактов, рассматриваемых обычно обособленно (например, такие часто встречающиеся характеристики людей психопатического склада, как лабильность самооценки, непродуктивность стиля жизни, неспособность раскрыть свои задатки, скачкообразность кривой уровня притязаний и др.).
Полученные данные могут иметь и общепсихологическое значение, если их рассматривать как основу для выделения существенного критерия полноценного развития личности. До тех пор, пока «хочу и могу», «хотел бы и мог бы», идеальные и реальные цели не разъединены, слиты (точнее — когда связь между этими двумя ориентирами настолько жесткая, что справедливо говорить о слитности), речь может идти лишь о психологической незрелости личности. Этот момент, на наш взгляд, должен привлечь внимание воспитателей и психологов. В жизни любого человека, особенно в период становления его личности, притязания устремляют ввысь, а неудачи, трудности, тянут, к земле. Извлечь правильные уроки из того и другого, избежать трагедии Икара и не погрязнуть в плоской обывательщине — трудное искусство, совершенствоваться в котором надо всю жизнь.
Личностно зрелым можно назвать не того, кто уверенно приспосабливается к среде по законам житейского разума, считая это главным, равно как и не того, кто громко заявляет о своих высоких идеалах, не будучи, однако, в состоянии приложить себя к реальной жизни. Зрелось, как правило, подразумевает достаточно высокие идеальные устремления, но в то же время готовность, добросовестно выполнять самые скромные земные задачи ради этих высоких устремлений. Причем в последнем случае отвлечённые, казалось бы, нравственные идеалы не есть лишь красивые, тешущие самолюбие, но практически бесполезные украшения, обрамления реальных действий; они — необходимое условие, момент, во многом определяющий ход человеческой жизни, его стабильность, его социальную, общественную продуктивность. Достаточно сказать, что возникающие между мотивами конфликты не могут быть полностью разрешены, сняты иначе, как появлением более высокого по иерархическому уровню мотива. «Только идеальный мотив, т. е. мотив, лежащий вне векторов внешнего поля, способен подчинять себе действия с противоположно направленными внешними мотивами», — пишет А. Н. Леонтьев, и далее следует очень важный вывод: «Психологический механизм жизни–подвига нужно искать в человеческом воображении» (1975, с. 209) т. е. в идеальных устремлениях, далеко выходящих за рамки конкретных действий, в умении подчинять свою реальную, земную деятельность этому воображению и идеальным устремлениям.
Итак, на основании анализа понятий, введенных в работе Ф. Хоппе, мы можем утверждать, что изменения притязаний и целеполагания тесно зависят от того, как будет решен в конкретной деятельности нередко возникающий конфликт между реальными и идеальными целями субъекта. Умение своевременно разводить реальные и идеальные цели во многом определяет зрелость, уравновешенность личности, надежную защиту самооценки, рациональную тактику и стратегию целеполагания.
Напротив, слияние, недифференцированность реальных и идеальных целей может приводить к серьезным психологическим и жизненным последствиям, препятствующим полноценному формированию личности. В заключение выскажем некоторые самые общие и сугубо предварительные замечания о возможных истоках такого, назовем его условно, психопатоподобного развития целеполагания.
Важной предпосылкой недостаточной дифференцированности реальных и идеальных целей иногда является, по–видимому, неустойчивость, лабильность нервных процессов, все то, что образует нервность, «взволнованность», легкое подключение вегетативных компонентов эмоций.
Это предположение подтверждается наблюдениями над любым сильно взволнованным человеком. В этих случаях также прослеживаются слияние идеальных и реальных целей, действия по типу «думать некогда, доставать надо», легкая внушаемость, зависимость от внешних оценок и одновременное упрямство, резкие изменения от надежды к отчаянию и т. п. Наклонность к такой «взволнованности» — нередкий спутник становления личности в подростковом и даже юношеском возрасте, когда, кстати сказать, во многих случаях можно легко наблюдать отдельные признаки психоподобного целеполагания. Со временем, когда нервные и психические процессы стабилизируются, состояния выраженной «взволнованности» возникают крайне редко и лишь в связи с. особыми, чрезвычайными обстоятельствами. Однако людей психопатического склада легкая предрасположенность к «взволнованности» может сопровождать порой всю жизнь (часто психопатия собственно и вырастает из «детской нервности»), и для ее возникновения бывает достаточно более чем скромных поводов. В основе такого предрасположения обычно лежат те или иные функциональные неправильности нервной системы, которые закрепляются в пределах анатомически исправного мозгового аппарата (Ганнушкин, 1964).
Конечно, функциональные неправильности нервной системы — временные, возрастные или относительно постоянные, как при психопатиях, не причина, не фактор, а условие, предпосылка определенного развития. Но если это условие становится выраженным и длительно действующим, то оно может отклонить ход психического развития, в частности, помешать выработке полноценного целеполагания.
Другое условие, предпосылка (но опять же не фактор) становления целеполагания — определенные внешние воздействия, воспитание в широком смысле слова. Это условие является несомненно ведущим, главным, как в образовании психопатоподобных отклонений, так и в их преодолении, полноценной компенсации. Как известно, еще Э. Крепелин отмечал, что «можно быть психопатом, но действовать под влиянием своей психопатии нельзя». Человек действует под влиянием стоящих перед ним мотивов, нх соотношения, иерархии. Именно эта содержательная сторона психики определяет прежде всего ход ее развития; поэтому принципиально возможно, что подтверждено конкретным опытом многих людей, такое развитие, которое, несмотря на отягощенные условия, приводит к формированию психологически и социально полноценной личности. Понятно, что найти и проделать путь такого развития дело далеко не легкое и во многих случаях требующее разумной помощи и коррекции. Психологическая помощь в развитии человеческой личности есть одна из идеальных целей нашей науки. Психология пока далека от ее полного осуществления, но должна ставить реальные цели, приближающие к этой идеальной. Что касается обсуждаемой проблемы, то здесь реальными целями могут стать детальный анализ динамических сторон личности, внутренних закономерностей движения уровня притязаний, стиля жизни человека и последующая разработка на этой основе психологически оправданных рекомендаций для педагогики, психотерапии и самовоспитания.
Очерк VIII. О некоторых тенденциях в понимании нормального и аномального развития личности (при написании очерка были использованы некоторые реферативные материалы дипломной работы Л. Ф. Копьева (1978))
Проблема нормального развития личности в зрелом возрасте является, как ни странно, постоянно ускользающей из поля внимания психологов. Ее по преимуществу обрывают юношеским возрастом, хотя за ним следует та взрослая жизнь, которую, согласно пословице, «прожить — не поле перейти».
Между тем, не поняв, что есть нормальная личность, каково ее движение в зрелом возрасте, мы оказываемся бессильными перед рядом насущных, конкретных проблем, например проблемы построения психологических основ коррекции, воспитания личности. Парадокс современных представлений о личности состоит в том, что мы значительно больше знаем (правда, главным образом в плане описательном, феноменологическом) о ее аномалиях, патологических отклонениях и вариантах, нежели о том, что же с точки зрения психологии есть личность нормальная. Те же взгляды на норму и патологию, которые сформулированы на сегодня в рамках зарубежной психологии представляются пока не достаточно обоснованными. Перечислим некоторые из них.
Прежде всего здесь главенствуют негативные критерии психического здоровья, согласно которым норма понимается прежде всего как отсутствие каких‑либо патологических симптомов. Такой подход, в лучшем случае, очерчивает границы круга, в котором следует искать специфику нормы, однако сам на эту специфику никоим образом не указывает. В этом подходе можно усмотреть и логическую ошибку: из того, что наличие того или другого патологического явления говорит о душевном расстройстве, вовсе не следует, что при его отсутствии можно говорить о норме.
Весьма распространенными за рубежом являются также релятивистски–статистические критерии нормы. Они базируются на двух предпосылках: 1) на статистическом понимании «нормального», как «среднего» или наиболее обычного и 2) на точке зрения культурного релятивизма, согласно которому как о норме, так и о патологии, можно судить лишь на основании соотнесения с определенной социальной группой, с особенностями ее культуры; то, что вполне «нормально» в одной культуре, в другой будет выглядеть как патология. Рассмотрение «срединностн» и адаптации к привычному окружению (Хочется согласиться с польским психологом К. Домбровским, который считает, что если мы глубже займемся вопросом адаптации, то окажется, что сама способность всегда приспосабливаться к новым условиям и па любом уровне является чем‑то, свидетельствующим о моральной и эмоциональной неразвитости. За этой способностью скрывается отсутствие иерархии ценностей, эта позиция не содержит в себе элементов, необходимых для положительного развития личности и творчества (Dombrowkl, 1975)), как основы нормальности, также уводит нас от собственно психологических проблем развития личности и по сути примыкает к классу негативных критериев с тем лишь добавлением, что нормальный человек, помимо отсутствия патологических симптомов, должен еще и ничем существенным не выделяться среди своего окружения. Понятие «нормальная личность» оказывается пустым, лишенным какого‑либо положительного содержания.
Чем же в таком случае пытаются заполнить эту пустоту сторонники рассматриваемого взгляда? Достаточно частым является здесь заимствование терминологии, описывающей психопатические отклонения. Степень патологичности субъекта определяется наличием этих отклонений, равно как степень его нормальности — их отсутствием. Эта позиция лежит, как об этом неоднократно писала Б. В. Зейгарник (1969, 1971), в основе многих популярных за рубежом методов исследования личности, которые строят структуру личности, как больной, так и здоровой, из одних и тех же категорий психиатрической диагностики (например, опросники MMPJ, тест невротизма Айзенка и др.). Привлечение математического аппарата, корреляционных и статистических методов не изменят при этом сути дела, поскольку касается прежде всего способов обработки материала, но не тех теоретических оснований, исходя из которых этот материал добывается.
Рассматриваемая схема, в которой психическое здоровье понимается как отсутствие выраженных патологических симптомов и нарушений адаптации (что, по сути, есть апология мещанского взгляда «все как у людей»), мало того что совершенно недостаточна в общетеоретическом плане, является непродуктивной и для решения практических вопросов. Например, как подчеркивает Э. Шобен (Shoben, 1957), конечные цели психиатрии не могут сводиться к ликвидации болезненных симптомов и приведении личности в соответствие с нормами общества, но предполагают также и «возвращение пациента самому себе т.e. приобретение им собственной целенаправленной активности. Вполне понятно, что релятивистско–статистический подход не отвечает и требованию, сформулированному еще 3. Фрейдом, согласно которому психотерапия должна быть каузальной, т. е. ликвидировать не только симптомы, но и их причины. В своей практической (терапевтической) реализации эта схема приводит не более чем к различным способам «модификации поведения», среди них прямому (фармакологическому, электрофизиологическому) воздействию на нервные механизмы, реализующие психическую активность индивида, минуя таким образом уровень личностной регуляции.
Таким образом, релятивистски–статистический подход, несмотря на его значительную популярность, антипсихологичен и по сути обходит вопрос о позитивных психологических характеристиках нормальной личности.
Как реакцию на такую точку зрения можно рассматривать другой подход к проблеме, а именно появление в психологической литературе описательных критериев, с помощью которых пытаются наполнить содержанием понятия «нормы», «психическое здоровье». Так, например, Э. Фромм (Fromm, 1947) пишет, что психически здоровый индивид продуктивен и не отчуждаем; со своими эмоциями он ощущает связь с окружающим миром, со своим интеллектом он постигает объективную реальность; он осознает свою собственную неповторимую личность и чувствует свою связь с ближними. Здесь мы встречаемся с широким привлечением общегуманистических принципов этики и философии, пришедшими на смену статистике и примату «приспособления».
Следует отметить общность взглядов большинства авторов по вопросу о том, какие свойства личности могут быть отнесены к кругу нормальных. Г. Оллпорт (Allport, 1960), проанализировав описания многих психологов, представил их в виде следующего перечня: 1) интерес к внешнему миру, расширение связей «я» с внешним миром; 2) самообъективация, привнесение своего внутреннего опыта в актуально переживаемую ситуацию, способность юмористически окрашивать действительность; 3) наличие «жизненной философии», которая упорядочивает, систематизирует опыт и сообщает смысл индивидуальным поступкам; 4) способность к установлению теплых, душевных контактов с окружением; 5) владение адекватными навыками, способностями и восприятиями, необходимыми при решении практических проблем повседневной жизни; 6) любовь и уважение ко всему животному.
Как можно оценить этот подход?
Прежде всего он представляется необходимым шагом в познании нормальной личности. Если негативные критерии лишь указывают (и то весьма приблизительно) границу между обширными областями нормы и патологии, если статистические и адаптационные критерии определяют нормальность человека как степень отсутствия в нем патологических симптомов и соответствия требованиям окружения, то данный подход пытается выделить, наконец, то позитивное, что несет в себе нормальная человеческая личность.(Речь идет именно о норме развития, а не об идеале. Требования, предъявляемые к норме, здесь высоки, поскольку речь не о чем ином, как о развитии человека.)
Весьма интересным является здесь, на наш взгляд, нередкое единство мнений о характерных чертах такой личности. Стоит обратить внимание на этот факт, поскольку здесь мы встречаемся как бы с «методом компетентных судей», которые независимо друг от друга сходятся в описании интересующего нас феномена.
Вместе с тем описательный подход имеет и свои ограничения. Во–первых, большинство описаний не соотнесено с психологическим категориальным аппаратом и потому не может быть непосредственно ассимилировано научной психологией. Во–вторых, они, как правило, описывают конечный продукт — личность, ничего не говоря о самом главном и ценном для теории к практики — о том процессе, который привел к ее появлению и, разумеется, о тех внутренних закономерностях, что лежат в основе этого процесса.
Когда же речь заходит об этих закономерностях, суждения «компетентных судей» зарубежной психологии обнаруживают все принципиальные разногласия, которые соответствуют разным психологическим концепциям личности. Далеко не в каждой из этих концепций ставится проблема нормального развития личности. Такая проблема не существует вообще для бихевиоризма. Точнее, понятие о нормальности здесь присутствует, но оно понимается как адаптивность, соответствие поведения среде и т. п., со всей ограниченностью этого взгляда, на которую мы указывали выше.
Апофеозом этой точки зрения стала книга Б. Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства» (1971). В ней автор исходит из тезисов бихевиоризма: как поведение животных, так и поведение человека коренным образом зависит от соответствующих внешних стимулов. Если продуманно объединить эти стимулы в особые «подкрепительные программы», то можно добиться любого желаемого поведения: крыса будет дергать за рычаг, регулирующий подачу пищи, голубь — нажимать клювом на клавишу, отпускающую кукурузные зерна, ребенок — учить уроки и вести себя соответственно принятым общественным нормам. Следовательно, понятие свободы, внутреннего выбора, ответственности, которые играют значительную роль во многих описаниях нормальной, зрелой личности, в данном случае оказывается, попросту лишним, не имеющим сколько‑нибудь реального психологического обоснования. Они, по мнению профессора не более чем обветшалый миф, который надо забыть во имя человеческого счастья, которое здесь понимается как удовлетворение с помощью подкрепительных программ: крыса получила сало, голубь — зерно, человек — похвалу (Skinner, 1971).
Такое представление о человеческой личности и ее назначении вызвало резкую критику а отечественной и зарубежной печати, показывающую психологическую, социологическую и философскую несостоятельность подобного взгляда. «Сколько бы ни уверял нас Б. Ф. Скиннер, — писал советский социолог Э. Араб–Оглы, — что свобода, ответственность и достоинство личности — это всего лишь бесполезная тень, в действительности именно обладание ими и выделяет человека из животных. И человек, у которого они были бы ампутированы, сам превратился бы лишь в тень человека, в манипулируемого робота».
Проблема специфики нормального развития фактически не ставилась и в теории психоанализа, поскольку Фрейд не усматривал качественного отличия невротической личности от нормальной и свойства мотивации невротика распространял на нормального здорового индивида. Это такие свойства, как: гомогенность мотивации, ее необходимая генетическая и функциональная связь с сексуальным влечением; бессознательность истинных (определяющих) мотивов поведения человека; гомеостазис т. е. стремление к восстановлению равновесия, как главный принцип функционирования личности, и ряд других.
Со времен Джеймса в психологии бытует старая аналогия психического мира человека с всадником на лошади. Всадник — это «я», (Selbst), то, что воспринимает и ощущает, оценивает и сравнивает; лошадь — это эмоции, чувства, страсти, которыми призвано управлять «я». Воспользовавшись этой аллегорией, Фрейд говорил о всаднике как о сознании, и о лошади, как о бессознательном. Причем сознание находится в безнадежном положении, оно пытается управлять значительно более сильным существом, сильным не только физически, но и своей хитростью, близостью к приводе, умением обмануть прямолинейное сознание, поворачивать в нужном ему направлении, оставляя при этом сознание в неведении относительно этих поворотов. Поэтому, чтобы понять человека, надо изучать его бессознательное, ибо отдельные поступки и целые жизненные судьбы определяются этим конем, а не близоруким наездником. Правда, Фрейд говорил, что идеалом человека был бы для него тот, кто держит в тотальном подчинении свое подсознание. Но сам дух его сочинений оставляет слишком малую уверенность в возможности такового подчинения. Коварство и сила фрейдовской лошади станут особенно наглядными, когда мы вспомним, что к бессознательному Фрейд относил не только инстинкты, влечения, вытесненные импульсы и желания. К бессознательному относятся также и многие инстанции «сверх–я» — моральные установки, образцы и запреты, которые, будучи по тем или иным причинам вытесненными из сознания, продолжают из области бессознательного довлеть над человеком. Учитывая это, можно сказать, что сознание пытается управлять не лошадью, а, скорее, кентавром — существом более сильным и, помимо хитрости, разумным, имеющим свою голову (вытесненные инстанции «сверх–я»), а не только достаточно расплывчатые, диффузные, но мощные импульсы вытесненных желаний. Положение с сознанием «я», «эго» становится вовсе безнадежным, а шансы обуздать кентавра — ничтожными…
Такая точка зрения, критика которой широко дана в отечественной психологической литературе (Рубинштейн, 1957; Бассин, 1968; Ярошевский, 1974; и др.). конечно, не могла удовлетворить и многих зарубежных исследователей, прежде всего тех, кто пытался непосредственно изучать продуктивную здоровую личность. Наиболее ярким здесь стало то направление, которое названо гуманистической психологией (Бюллер, Маслоу, Оллпорт и др.). Особый интерес для нас представляет концепция Оллпорта, которая создавалась в острой полемике с бихевиоризмом и фрейдизмом и является во многом их теоретическим антиподом. Оллпорт, справедливо сетуя на то, что большинство современных концепций личности построено на изучении «чахлых» субъектов, ставит своей целью исследовать здоровую, продуктивную личность, понять ее во всей полноте и уникальности. Остановимся на теории Оллпорта подробнее.
В отличие от Фрейда, согласно которому мотивация человека проистекает из бессознательных сексуальных влечений, Оллпорт развивает положение о функциональной автономии личности. Основные принципы этой автономии следующие. Мотивы «современны», т. е. каковы бы они ни были, они действуют в данный момент, и их направленность может быть функционально не связанной с их историческими «предшественниками» или прежними целями. Характер мотивов в период от детства и зрелости настолько радикально меняется, что мотивы нормального взрослого человека можно рассматривать только как заменители детских влечений, но не как их естественное продолжение и усложнение. Отсюда зрелость личности определяется степенью функциональной автономии, достигнутой ее мотивами. Взрослый индивид демонстрирует зрелость в той мере, в какой он превзошел ранние (детские) формы мотивации (Allport, 1940).
Оллпорт подчеркивает, что функционирование основных мотивов в определяющей части происходит вполне сознательно и здоровый, нормальный индивид всегда знает, что он делает и зачем он это делает. Отсюда — адекватным методом изучения нормальной личности будет прямое выяснение планов, притязаний и надежд данного человека (о которых он всегда может дать отчет), а не установление путем толкования сновидений и результатов прожективных тестов вытесненных инфантильных драм. Таким образом, если у Фрейда «я» подчинено силам бессознательного (лошадь направляет всадника), то у Оллпорта именно сознательное «я» обладает в здоровой личности основной динамической силой и играет определяющую роль в организации и направлении человеческого поведения.
Оллпорт солидаризируется с другими авторами гуманистического направления в полемике с психоанализом и бихевиоризмом, сводящим механизм действия потребностей человека к гомеостазису, «редукции напряжения», к тому, что главное здесь — «уменьшить напряжение», привести систему личности в состояние покоя и удовлетворения.
Исходя из этих представлений Оллпорт выделяет ряд психологических механизмов (сказать точнее — описательных характеристик), которые свойственны нормальной личности. Это следующие так называемые анаболические механизмы: 1) активная позиция по отношению к действительности, изучение и преодоление реальности, а не бегство от нее; 2) доступность опыта сознанию (т. е. способность видеть события собственной жизни такими, каковы они есть, не прибегая к «психологической защите»); 3) самопознание с присутствием юмора; 4) способность к абстракции; 5) постоянный процесс индивидуализации — развития и усложнения внутренней личности, не приводящий, однако, к аутизму; 6) функциональная автономность мотивов; 7) устойчивость к фрустрациям.
В противоположность анаболическим механизмам, обеспечивающим психическое здоровье, Оллпорт приводит список катаболических, патогенных механизмов (опять же, если сказать точнее, свойств). Это: 1) пассивная позиция по отношению к действительности; 2) вытеснения; 3) другие способы защиты «я» (рационализация, реактивные образования, проекции и замещения, всевозможные формы искажения истинного положения вещей в угоду внутреннему равновесию и спокойствию); 4) ограниченность мышления на конкретном уровне; 5) всевозможные формы «закоснения» развития, По мнению Оллпорта (1970), именно эти механизмы, качественно отличные от анаболических, характерны для различных случаев аномалий.
Итак, это концепция, где обозначен целый ряд важных позитивных характеристик такой личности, которые прямо противополагаются ущербным представлениям о человеке в духе бихевиоризма и психоанализа. Однако нельзя обойти стороной и ее существенные ограничения, главным из которых, на наш взгляд, является следующее. Здесь (как и в большинстве концепций гуманистической психологии) в центре внимания стоит личность, заведомо импонирующая как зрелая и продуктивная. «Тот метод, которым Оллпорт имплицитно руководствуется при построении своей теории, — справедливо замечает Л. И. Анцыферова, — это метод обобщения личностных качеств выдающихся, творческих представителей человечества» (1970, с. 171). В результате создается неоправданно оптимистическая картина человека, но главное то, что в этих совершенных образцах, как во всяком готовом продукте, умирает процесс, приведший к его появлению. Здесь нам указывают на вершину (esse Homo), оставляя неизвестным путь к ней, путь, который и есть не что иное, как нормальное развитие личности. Путь этот — общий для людей, а не прерогатива выдающихся. Последние составляют с остальными людьми единую цель движения. Концепции типа оллпортовской, фактически разрывая эту цепь, не в состоянии исходя из своих категорий объяснить природу отклонений от нормального развития личности, отклонений, как серьезных, так и достаточно преходящих, временных. Не случайно поэтому приведенный выше список катаболических, патогенных механизмов выглядит во многом попросту заимствованным из теоретических представлений фрейдизма. Таким образом, концепция Оллпорта лишний раз утверждает дилемму, которая характерна для представлений психологов о норме: с одной стороны, «растворение» здоровой личности в невротической и отсюда невидение специфики нормы, а с другой—абсолютизация здоровой, самоактуализирующейся личности и неспособность объяснить аномальное развитие. В результате понятие нормы как бы повисает в воздухе, не связанное со всем многообразием реальной психической жизни. Задача подлинной теории личности состоит в том, чтобы исходя из своих категорий и принципов объяснить как случаи нормального развития, ведущего к всестороннему и гармоническому раскрытию личности, так и случаи аномалий этого развития.
Создание такой теории требует прежде всего выделения специфических единиц анализа личности, усмотрения движущих противоречий, лежащих в основе развития личности в ходе всей жизни, указания психологических условий и причин их нормального и отклоняющегося функционирования (см. очерк III).
Очерк IX. К проблеме смысловых образований личности
Настоящим камнем преткновения в исследовании личности А. Н. Леонтьев называет вопрос о соотношении общей и дифференциальной психологии. Подавляющее большинство авторов избирает дифференциально–психологическое направление, которое обычно сводится к изучению корреляционных, статистических связей между отдельными чертами личности, выявляемыми посредством тех или иных процедур тестирования, опросников и т. п. При этом «изучение корреляций и факторный анализ, — подчеркивает А. Н. Леонтьев, — имеют дело с вариациями признаков, которые выделяются лишь постольку, поскольку они выражаются в доступных измерению индивидуальных или групповых различиях» и далее «…подвергаются обработке безотносительно к тому, в каком отношении находятся измеренные признаки к особенностям, существенно характеризующим человеческую личность» (1975, с. 164).
Увлечение формализованными методами стало настолько распространенным, что вызывает беспокойство и многих психологов за рубежом. Так В. Метцгер на вопрос о том, как он оценивает прогноз психологии, отвечает: «Прогноз не является очень радостным, потому что как раз среди молодых людей энтузиазм по отношению к новым методам, пришедшим в большинстве случаев из англосаксонских стран столь велик, что часто они, как мне кажется, рассматривают психологию как резервуар для упражнений на статистические и другие методические задачи, так что собственные основания проблем больше не видятся, а метод в известной степени становится самостоятельным» (Metzger, 1972, р. 225). Г. Оллпорт, со свойственной ему остротой и художественностью, так оценивает создавшееся положение: «Галопирующий эмпиризм, который является нашей современной профессиональной болезнью, несется вперед подобно всаднику без головы. У него нет рациональной цели; он не использует рациональных методов, кроме математических, и не достигает никаких значительных заключений». В другом месте он пишет, что увлечение операциональной методологией в психологии приводит лишь к тому, что «личность как таковая испаряется в тумане метода» (цит. по: Анцыферова, 1970, с. 168^-169).
Превалирование этого направления можно отчасти объяснить следующим обстоятельством. Начав отделяться от философии, в рамках которой она раньше только и рассматривалась, психология в стремлении стать точной наукой обратилась прежде всего к опыту дисциплин естественного цикла. Это выразилось, в частности, в заимствовании моделей научного исследования, образцов методологического подхода. Одна из таких моделей, ассимилированных психологией, заключается в том, что последовательное и полное изучение всех отдельных элементов некоторой системы, их взаимных связей приводит к познанию всей системы в целом. Однако, как показал еще И. Кант, это верно на уровне механических систем. На уровне живых систем эта модель не функционирует. Здесь целое определяет части, а не части — целое, как в первом случае. Функция и назначение отдельных частей могут быть поняты только в свете целостного представления. Психология, не учтя этого различения, пошла преимущественно по пути дифференциации целого, анализа частей и их связей друг с другом.
Разумеется, речь идет не о том, чтобы отрицать важную роль дифференциального подхода, его значения для психологии, в особенности ее прикладных аспектов. Речь идет о другом, о том, что в исследованиях этого направления сами но себе методы, полученные с их помощью факты, отдельные взаимосвязи и корреляции нередко начинают рассматриваться как достаточные для построения психологии личности. Между тем, как уже говорилось, корреляционные зависимости измерений отдельных частей могут определить механическую систему, но не живую систему психики, тем более ее высший уровень — личность. Да и сами конкретные методы исследования нуждаются в основаниях, которые не могут быть непосредственно извлечены из них самих, а требуют специального уровня теоретической работы, развития общей психологии личности.
В этой связи особую ценность приобретает развитие ведущей в отечественной науке общепсихологической теории — теории деятельности (Выготский, Леонтьев, Лурия, Запорожец и др.). Это развитие, отмеченное фундаментальными работами в области восприятия, памяти, мышления и ряда других областей, не привело пока что к созданию целостной концепции личности и было ограничено в этом плане лишь общими методологическими указаниями. Однако в последнее время стало появляться все больше исследований как теоретического, так экспериментального и клинического характера, в которых положения теории деятельности не только начали применяться к решению конкретных задач психологии личности, но и послужили толчком к разработке новых способов и направлений в понимании личности.
Одним из таких направлений является изучение смысловых образований личности. Здесь можно выделить исследование смысловых установок, разработку нового поуровневого подхода к проблеме стабилизации деятельности (Асмолов); теоретический и экспериментальный анализ изменения смысловых образований в дошкольном возрасте (Субботский); изучение влияния межличностного общения на смысловые образования (Хараш), изучение природы активности личности (Петровский), исследование нарушений смыслообразовання (Зейгарник, Цветкова, Коченов, Братусь) и др. Попытаемся в этом очерке рассмотреть некоторые общепсихологические аспекты, возникающие в связи с разработкой проблемы смысловых образований личности.
Исходной посылкой из теории деятельности (Выготский, Леонтьев, Лурия и др.) является для нас различение между тем, что человек знает о действительности, и тем, как он к ней относится, различение между сферой значений и смысловой сферой личности. Значение усваивается в ходе обучения и становится достоянием индивидуального сознания в виде обобщенного отражения действительности. Содержание значений зафиксировано в сфере понятий, обобщенных образов действия, предметных и социальных норм. Значения могут так или иначе сознательно контролироваться субъектом, могут изменяться непосредственно под влиянием разных форм научения, в том числе и вербальных воздействий.
Важность этой, но преимуществу познавательной системы связей с миром очевидна (достаточно сказать, что вся наука по сути занимается значениями). Однако главной для понимания сути личности является другая система — система смысловых связей субъекта. Для анализа этой системы предлагается такая единица, как смысловое образование. «Смысл, — пишет А. Н. Леонтьев, — это то, что непосредственно отражает и несет в себе собственные жизненные отношения субъекта» (1975).
Смысловые образования имеют ряд принципиальных отличий от значений. Первое отличие: они существуют не только в осознаваемой, но и часто в неосознаваемой форме; второе — смысловые образования не поддаются непосредственному произвольному контролю и чисто вербальным воздействиям (личность не учат, личность воспитывают); третье — смысловые образования не существуют сами по себе, как мир значений, который может быть отторгнут от нас, представляет собой нечто объективное и заданное. Смысловые образования. как правило, включены в породившую их деятельность и не могут быть исследованы сами по себе вне их деятельностного, жизненного контекста. Если перефразировать слова Флоренского, то можно сказать, что психологию личности должны интересовать не факты, а акты поведения т. е. целостные ситуации, в которых возникают и находят свое проявление те или иные смысловые отношения к действительности. Этот принцип, который разрабатывается и применяется в рамках научно–исследовательских и прикладных работ межкафедральной группы по изучению личности факультета психологии МГУ, получил предварительное название принципа деятельностного опосредования. Самая общая суть его в следующем: для того чтобы исследовать и трансформировать смысловые образования, надо выйти за рамки самих этих образований в мир деятельностей.
До сих пор изучение смысловой сферы шло по преимуществу двумя руслами. С одной стороны, область смыслов объявлялась недоступной научному анализу, нуждающейся лишь в постижении, понимании, сопереживании (крайнее выражение в «понимающей психологии»). С другой стороны, исследователи, отбрасывая все субъективные, неформализуемые моменты, пытались прямо и непосредственно проникнуть в эту область через опросники и тесты, через подачу стимулов и наблюдение соответствующих реакций, т. е. применяли методы, не адекватные объекту изучения, не разделяющие области значений и смыслов. Любопытно в этой связи отметить, что в США, где тестовый подход к личности особенно распространен, стали появляться и получили широкую популярность в последнее время специальные «антитестовые» руководства типа инструкции У. Уайта «Как обманывать в тестах» или книга Ч. Алекса «Как справиться с тестами» (цит. по: Эпштейн, 1979). Это свидетельствует о том, что «объективные» тестовые методы и опросники аппелируют чаще всего к поверхностному слою сознания, к слою значений, к тому, что поддается обучению и произвольному контролю, а не к смысловым образованиям.
У того и другого подхода есть, однако, при всем их различии и нечто общее — стремление подойти к смыслам как к таковым, вне широкого жизненного контекста, который их сформировал и в котором они находят свое проявление и реализацию. На наш взгляд, существенное продвижение в этой области возможно лишь тогда, когда смысловые образования будут изучаться не сами по себе, не как изолированные и оторванные от нх деятельностей, а как включенные в эти деятельности, в целостные ситуации акты поведения, наблюдаемые в реальной жизни (клиника нормального и аномального развития личности) или искусственно созданные в лабораторных условиях. Примером последних могут служить эксперименты типа тех, в которых был получен «феномен Ленина», феномен «горькой конфеты» (Леонтьев, 1975); многие исследования, построенные на принципах целостного патопсихологического исследования, разработанные Б. В. Зейгарник (1962, 1969), С. Я. Рубинштейн (1970); из последних работ — исследования Е. В. Субботского, В. А. Петровского и др. (Асмолов, Братусь и др., 1979). Дальнейшее конструирование и апробация методов, основывающихся на принципе деятельностного опосредования, методов, призванных диагносцировать, а в случаях коррекции и воспитания — изменять смысловые образования, — одна из важных перспектив психологического изучения личности.
Названные системы (познавательная и смысловая) не являются в реальности оторванными друг от друга. Они существуют в единстве, которое составляет конкретную деятельность человека. Так, в любой деятельности мы различаем, с одной стороны, ее целевую структуру, операциональное содержание, поддающееся логическому анализу, требующее для своего осуществления определенных знаний и умений и могущее быть отнесенным к познавательной системе связей; а с другой стороны — мотив, побуждающий к деятельности, за которым лежат те или иные смысловые отношения субъекта. Для того чтобы выяснить содержание, мы должны спросить, что человек делает, и получить в ответ перечень его действий и операций. Для того чтобы выяснить мотив и, особенно лежащие за ним смысловые образования, мы должны спросить, ради чего он все это делает.
Чтобы ответить на этот трудный вопрос, необходимо вспомнить, что смысл всегда порождается отношением меньшего к большему, например, отдельные действия имеют смысл только в свете мотива, ради которого исполняются. Л. Н. Леонтьев (1965) указывал, что личностный смысл — есть отношение мотива к цели. Вместе с тем каждый мотив, привнося смысл в операции и действия соответствующей, подвластной ему деятельности, не является автономным, но входит в определенную иерархию мотивов, где одни мотивы более, другие менее общие, одни несут подчиненную, другие — главенствующую роль. Именно в соотношении с наиболее общими (или как их называет А. Н. Леонтьев — смыслообразующими) мотивами и получают свой реальный смысл те или иные конкретные мотивы. Важно понять при этом, что эти соотнесения никогда не являются случайными, калейдоскопически меняющимися вслед за сменой внешних обстоятельств. Напротив, они относительно постоянны и самостоятельны в своем действии, образуя основу обобщенных смысловых образований, составляющих ядро человеческой личности. Смысловое образование в нашем понимании — это не личностный смысл, т. е. отношение мотива к цели, а отношение мотива более общего к связанным с ним (с ними) мотивам менее общим и соответственно деятельности более общей и широкой к деятельностям менее общим.
Личностные смыслы отнюдь не устраняются при таком понимании, а могут рассматриваться как частный случай смысловой системы, частный случай смыслообразования. Ведь в сущности уже личностный смысл как отношение мотива к цели не является столь однозначным и однородным, как это обычно представляется. В самом деле, внутри каждой деятельности присутствуют служебные цели разной степени общности и направленности т. е. по–разному соотносимые с мотивом деятельности, имеющие по отношению к нему, следовательно, и несколько разный конкретный личностный смысл, по крайней мере разные оттенки сходного по общему звучанию смысла. Можно представить поэтому, что, говоря о личностном смысле, замкнутом в рамках даже отдельно взятой деятельности, мы всегда имеем дело не с однозначным, а с многогранным явлением, с целой подвижной системой родственных смыслов. Отсюда становится понятным и то, почему одним мотивам приписывается смыслообразующая функция, а другим не приписывается (Леонтьев, 1975, с. 202). Личностный смысл, хотя и определяется как отношение мотива к цели, порождается далеко не всеми подобными отношениями, а лишь тогда, когда они становятся разветвленными, внутренне опосредствованными, захватывающими многообразные цели, нными словами, когда есть возможность создания сложной смысловой системы смыслового образования.
При этом важно, что смысловые образования не просто отражают те или иные сложившиеся отношения между мотивами (в частных случаях личностных смыслов — между мотивами и целями), они их одновременно порождают, каждодневно возобновляя их общий рисунок, делая человеческую личность внутренне тождественной самой себе, несмотря на видимые изменения внешней активности и конкретных характеристик поведения.
Итак, смысловые образования рождаются в сложных и многогранных соотнесениях меньшего к большему, целостных ситуациях, актов поведения менее общих к более широкому для них контексту жизни. Поясним сказанное примером. Смысл посещения отдельных лекций для большинства очевиден — он в том, чтобы успешно закончить вуз. Труднее ответить на вопрос, ради чего нужно кончать вуз, и ответы здесь могут быть куда разнообразнее, захватывающие одновременно много взаимосвязанных мотивов: чтобы иметь высшее образование, получить возможность заниматься интересующей профессией, материальные интересы, престижность, поступление в аспирантуру и т. п. И уже совсем нелегко ответить на вопрос, ради чего стоит жить, ведь здесь надо соотнести не что иное, как всю свою жизнь с каким‑то более широким и общим контекстом, тем, что больше нашей жизни и не оборвется с ее физическим прекращением (дети, счастье будущих поколений, прогресс науки и т. п.).
Подчеркнем, что речь идет не о вербальных ответах, а о действительных внутренних ответах, которые даются в результате решения сложной «задачи на смысл» (А. Н. Леонтьев). Без этой работы (а ее отсутствие не столь уж редко) смысловые образования остаются и функционируют в психике неосознанными. Причем чем выше по иерархическим ступеням смысловые образования, тем труднее работа по их осознанию.
Когда же «задача на смысл» все же решена, и речь идет об осознании наиболее общих смысловых образований, то уместно говорить о ценностях личности. Ценность, таким образом, это осознанный и принятый человеком общий смысл его жизни. Подлинная ценность должна быть всегда обеспечена «золотым запасом» соответствующего смысла, в противном случае она девальвируется до уровня простой декларации, более того, может стать бутафорией, маскирующей совсем другие устремления. (Клиницисты, например, хорошо знают, что нередко пылкие уверения люден выраженного истероидного склада в любви к ближнему на деле прикрывают лишь безраздельный эгоизм и самолюбование.) На необходимость рассмотрения этих главных отношений настоятельно указывал В. Н. Мясищев (1956).
Именно общие смысловые образования (в частном случае ценности), являющиеся, по нашему мнению, основными конституирующими единицами личности, определяют главные и относительно постоянные отношения человека к миру, другим людям и к самому себе. Нельзя говорить о нормальном или аномальном развитии личности, не рассматривая этих отношений как с динамической стороны (характер их напряженности, способы осуществления, соотношение реальных и идеальных целей и т. п.), так и со стороны содержательной.
Надо сказать, что если задача изучения механизмов динамической стороны психической жизни принимается большинством психологов без оговорок, то задача изучения содержательной стороны нередко вызывает резкие возражения, которые наиболее часто сводятся к тому, что это предмет философии, этики (Интересно в этом связи отметить, что некоторые ученые–этики, напротив, сетуют на отсутствие психологичности в нх знаниях, на то, что нравственные и моральные категории обычно рассматриваются вне конкретных особенностей личности т. е. безличностно (Момов, 1975)); социологии, но не научной психологии. Однако психологу, занятому конкретным изучением личности, нельзя соглашаться с этим мнением, иначе будет упущена из вида важнейшая детерминанта как конкретных, так и общих свойств личности. Необходимость учета этой содержательной стороны становится, пожалуй, особенно ясной при встречах с аномальным развитием, например невротическим, которое обычно течет в содружестве, а иногда как прямое следствие эгоцентрической ориентации личности. Противоположная же ориентация, как уже давно замечено опытными психологами, создает наилучшие условия развития личности. Например, еще у А. Ф. Лазурского мы 'находим: «В наибольшей степени обеспечивает духовное здоровье личности идеал альтруизма». И еще: «Альтруизм в том или ином виде представляется формой и средством, и показателем наилучшей гармонии между личностью и средой. Здесь извращенных нет» (1923, с. 295; 299). Современные данные лишь подтверждают это суждение (Божович, 1968).
Совокупность основных отношений к миру, людям и себе образует в своем единстве свойственную человеку нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна, когда она становится сознательной, т. е. когда появляются личностные ценности, рассматриваемые как осознанные общие смысловые образования.
Читатель может возразить: какой моралью, а тем более нравственностью, может обладать, например, преступник? Здесь налицо их отсутствие, хотя никто не будет отрицать, что совершивший преступление — личность.
Моральная шкала в нашем понимании включает в себя не только положительные, но и отрицательные с общепринятой точки зрения, ценности, подобно тому, как, скажем, условно выделенная шкала ума должна располагать в себе сравнительными отметками не только для высот ума, но и для его, с точки зрения наблюдателя, ущерба, т. е. глупости. Даже в тех случаях, когда мы говорим об аморальности, речь идет не просто об отрицании морали, а о моральной позиции нам чуждой, извращенной. Известно, что трудности перевоспитания даже малолетних правонарушителей часто кроются не в том, что подросток «не хочет» исправиться или «не понимает», что надо жить честно, а в том, что он порой не может этого сделать из‑за наличия сформировавшейся и ставшей достаточно инертной системы смысловых образований, которая, несмотря на «хотение» и «понимание», продолжает определять прежнее, извращенное, преступное отношение к миру.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Стать личностью — значит занять определенную жизненную, прежде всего нравственную, позицию; в достаточной степени осознать и нести ответственность за эту позицию; утверждать ее своими поступками, делами, всей своей жизнью (В этом смысле наиболее сжатой и яркой формулой личности (а не просто темперамента или характера) является, на наш взгляд, известное восклицание Лютера: «Я на том стою, и не могу иначе». Формула эта подразумевает и определенную позицию, и ее достаточно ясное осознание, и, наконец, готовность постоять за нее, как за нечто главное и неизменное.). И хотя эта позиция выработана и принадлежит субъекту, она интимно личная и глубоко пристрастная, тем не менее по своему объективному значению она принадлежит человеческому обществу, является продуктом и одновременно причиной движения общественных связей. Поэтому точки приложения, истоки личности, ее ценность и, наконец, добрая или дурная память о ней в конечном итоге определяется тем общественным, нравственным значением, которое она действительно являет (или являла) своей жизнью.
Сущность личности, таким образом, не совпадает ни с темпераментом, ни даже с характером. Разумеется, характер неотделим от личности и в широком понимании входит в нее, поскольку реализует прежде всего не случайные побуждения, а генеральную линию мотивов, опосредствующих, в свою очередь, главные смысловые отношения к действительности. Однако эта живая взаимосвязь не означает идентичности. Плоскость характера — это плоскость действования, способов осуществления основных мотивационных линий, и здесь мы обычно говорим о таких параметрах, как сила — слабость, мягкость — твердость, воля — безволие и т. п. Многие, н не без основания, рассматривают силу воли как стержень характера, и это верно, ибо синоним «безвольного» — «бесхарактерный», т. е. человек, не умеющий организовать свои намерения и побуждения, довести их до конца.
Иное дело — личность. Здесь основная плоскость движения — нравственно–ценностная. Личность в узком понимании (ядро личности) — это не способ осуществления позиции, но самая позиция человека в этом сложном мире, которая задается системой общих смысловых образований, в особенности в форме их осознания — личностных ценностей. В более широком понимании — это связная динамическая система смысловых образований и опосредствующих ее главных мотивов и способов их реализации. Не случайно поэтому личность, ее ядро может контрастировать с характером в уровне своего развития и качества.
Отсюда вытекает одни важный вывод. При оценке личности, отнесение ее к нормальной или аномальной, наконец, при ее воспитании, психотерапии следует иметь в виду не только особенности отдельных проявлений, но также и то, как общие устремления и способы их достижения соотносятся с социальными и нравственными нормами общечеловеческого бытия.
Сказанное относится и к тем случаям, когда вопрос о нормальности или аномальности решен клиницистами в пользу последнего. П. Б. Ганнушкин пишет: «Один эпилептоид может прекрасно вести большое дело, другой —тоже эпилептоид — совершить преступление; один параноик окажется всеми признанным ученым и исследователем, другой — душевнобольным, находящимся в психиатрической больнице; один шизоид — всеми любимым поэтом, музыкантом, художником, другой — никому не нужным, невыносимым бездельником и паразитом». В чем же причина таких расхождений? «Все дело, — считает П. Б. Ганнушкин — в клиническом, жизненном выявлении психопатии, которое и является определяющим практическую, главную сторону дела» (1964, с. 171), т. е., на наш взгляд, в том, как, в какой плоскости социального и нравственного бытия найдут приложение одинаковые по своим исходным клиническим характеристикам люди. И в зависимости от выбора этих плоскостей будет решена судьба их личности.
Мы подошли к специфическим функциям смысловых образований, как основных конституирующих единиц личности. Кратко обозначим в этом очерке лишь две функции, наличие которых следует из предложенного выше понимания смысловой сферы.
Во–первых, это создание образа, эскиза будущего, той перспективы развития, которая не вытекает прямо из наличной, сегодняшней ситуации. |
Если ограничиться единицами мотивов как объектом потребностей, более или менее очерченных предметных содержаний, как заранее продуманных планов действий, представляемых в голове их результатов, то возникает вопрос, за счет чего человек способен преодолевать сложившиеся ситуации, что ведет его к постоянному выходу за грань устоявшейся целесообразности (Экспериментальные доказательства существования «надситуатнвной активности» представлены в работе В. А. Петровского (1977)), что ведет его к тому будущему, которого он сам в данный момент отчетливо не представляет?
Между тем это будущее есть главное опосредствующее звено движения личности, без предположения которого нельзя объяснить ни реального хода развития человека, ни его бесконечных потенциальных возможностей. Следует также согласиться с В. В. Давыдовым, который пишет, что построение возможного, должного будущего, это тот момент, который не может быть ни описан, ни тем более объяснен методами естественных наук. «И дело не в том, что они слабы сами по себе — они как раз весьма могучи в своей сфере, опирающейся, как хорошо известно, на тот вид детерминизма, который связан с объяснением явлений и событий на основе их причинно–следственных связей. Благодаря этим связям предыстория — состояние какого‑либо объекта в прошлом — определяет его нынешнее, сиюминутное состояние. Но человек строит свои действия в зависимости от того, что лишь может случиться в будущем — будущем, которого еще нет!» (1978, с. 17). Смысловые образования и являются, на наш взгляд, основой этого, опосредствующего настоящее, будущего, поскольку целостные системы смысловых образований задают не сами по себе конкретные мотивы, а плоскость отношении между ними, т. е. как раз тот первоначальный план, эскиз будущего, который должен предшествовать его реальному воплощению.
Другая, важнейшая функция заключается в следующем. Любая деятельность может быть оценена и регулироваться двояко — со стороны ее успешности в достижении тех или иных целей (целесообразности) и со стороны ее нравственной оценки. Последняя не может быть произведена «изнутри» самой текущей деятельности, исходя лишь из наличных, актуальных мотивов и потребностей. Нравственная оценка необходимо подразумевает иную, надситуативную опору, особый, относительно самостоятельный психологический план, прямо не захваченный непосредственным ходом событий. Этой опорой и становятся для каждого человека общие смысловые образования, в особенности в форме их осознания — личностных ценностей, поскольку они задают не сами по себе конкретные мотивы и цели, а плоскость отношений между ними, самые общие принципы их соотнесения. Лишь на основе этих принципов, имеющихся в том или ином виде и степени осознания у каждого зрелого человека, впервые появляется возможность оценки и регуляции деятельности не с ее прагматической стороны, полноты достигнутых результатов и т. д., а со стороны нравственной, смысловой, т. е. со стороны того, насколько правомерны с точки зрения этих принципов реально сложившиеся в данной деятельности отношения между мотивами и целями, целями и средствами их достижения, насколько в этой деятельности воплощаются общие принципы соотнесения главного и неглавного, сегодняшнего и будущего, наличного и предназначенного.
Вряд ли есть необходимость подробно говорить о значимости изучения этой стороны развития человека. Достаточно сказать, что без перехода к рассмотрению этой стороны психология личности останется на уровне дифференциальных исследований, на уровне констатации индивидуальных различий и не сможет подняться на тот высокий уровень психического отражения, где снимаются эти различия, где человек становится внутренне приобщенным ко всем другим людям, становится не отдельным, а всеобщим. Если рассматривать человека лишь как индивидуальность, то люди действительно предстанут как бесконечно разные миры, становящиеся все более обособленными, особыми, неповторимыми по мере их развития. Через развитие в нравственно–ценностной плоскости, напротив, происходит реальное единение людей, приобщение к той, — по словам А. Н. Леонтьева, — не всегда видимой индивидом подлинной человеческой действительности, которая не обосабливает человека, а сливает его жизнь с жизнью других людей, их благом (1975). Сжато и точно сказано у М. М. Пришвина: «В знании общего дела есть сущность личности, потому что просто индивидуум знает только себя» (1969, с. 32). Психология личности, не приобщенная к этому знанию, законам нравственного мира, будет по своей сути всегда оставаться психологией «знающих только себя» человеческих индивидов.
Вместе с тем нельзя думать, что «целесообразное», «операционально–техническое», «смысловое», «нравственно–ценностное» являются антиподами, антагонистами. Существует сложная диалектика взаимоотношения этих основных сторон, возникающих противоречий между ними, которые становятся движущими в ходе развития личности. О некоторых формах этих противоречий и пойдет речь в следующем очерке.
Очерк X. О движущих противоречиях развития личности
Исходным противоречием в представленном выше понимании личности является противоречие между теми отношениями, которые человек волей обстоятельств, наличных возможностей, слабостей и т. п. осуществляет в реальной жизни, и теми, которые он мог бы осуществлять в идеале человеческого развития. В более широком плане — это общее противоречие между личной (индивидной) ограниченностью каждого отдельного человека и универсальностью, безграничными возможностями, предполагаемыми всеобщей родовой человеческой сущностью. На уровне индивидуального сознания это противоречие обычно отражается как противоречие между «я» реальным и «я» идеальным, между «я» сегодняшним и «я» будущим, как противоречие между бытием и долженствованием.
На наш взгляд, здесь можно высказать следующие общие предположения. Указанное противоречие является необходимым условием развития личности. Оно по–разному решается и преломляется в конкретных судьбах, во многом определяя нормальный или аномальный ход развития. Противоречие это является важнейшим для возникновения и функционирования общих смысловых образований личности. В самом деле, конкретное бытие, со всеми условиями, которое накладывает «принцип реальности», как правило, всегда значительно уже, ограниченнее, нежели мир долженствования и потенциальных возможностей, лишенный преткновения сегодняшнего момента и разворачивающийся в основном в идеальном плане. Смысл, как мы уже подчеркивали, есть всегда отношение меньшего к большему, более узкого и ограниченного поля к полю более широкому, собственно смыслообразующему. Так, в свете наших идеалов, потенциальных возможностей и долженствования смыслообразуется наше бытие.
Разумеется, рассматриваемое противоречие обычно не выступает перед человеком в своей полной индивидо–родовой форме, а, как уже отмечалось, существует как отражение расхождения желаний, идеалов и реальных возможностей, наличных знаний и умений данного человека. В ходе развития и изменения личности на определенных этапах происходит расширение круга связей и отношений, знаний и умении; при других обстоятельствах (например, болезнь, старение, социальные катаклизмы) — их сужение или видоизменения. Соответственно этому меняются и характеристики конкретных действий субъекта. Например, действия, как указывал А. Н. Леонтьев, могут перерастать круг той деятельности, которую они реализуют, и вступать в конфликт с породившими их мотивами (1975). В других случаях несоответствие действий с общими мотивами может быть вызвано, напротив, обеднением наличных возможностей, сужением круга связей с миром. И при той и при другой коллизии могут возникнуть кризисы развития личности, вызванные возникшим несоответствием названных сторон. Разрешение кризиса будет состоять тогда в устранении этого несоответствия, определенной перестройке деятельностей, а вслед за тем — отношений между ними, т. е. смысловой сферы личности.
Подобная внутренняя логика возникновения кризисов и их разрешения (главным образом в одном плане — плане расширения круга связей и отношений) была впервые намечена в рамках теории деятельности применительно к детскому возрасту. Поэтому обратимся прежде всего к некоторым из этих данных.
Исследования А. Н. Леонтьева и его сотрудников (1965) показали, что психическое развитие зависит прежде всего от характера осуществления ребенком ведущего (для данного возраста) типа деятельности. Именно внутри ведущего типа деятельности ребенок овладевает теми навыками, которые необходимы для него на данном возрастном этапе. Одновременно создаются внутренние предпосылки для перехода на новую стадию и появления соответствующего нового ведущего типа деятельности.
Эти идеи были плодотворно развиты Д. Б. Элькониным (1971) в его работе о периодизации детского развития. Он выделяет две группы ведущих типов деятельности. К первой относятся деятельности, внутри которых происходит интенсивная ориентация в человеческих поступках, мотивах и нормах отношений между людьми. При осуществлении этой группы деятельностей происходит преимущественное развитие у детей мотивационно–потребностной сферы.
Ко второй группе относятся деятельности, внутри которых происходит усвоение общественно–выработанных способов действий с предметами и эталонов, выделяющих в предметах те или иные их стороны. При осуществлении этой группы деятельностей происходит «формирование интеллектуально–познавательных сил детей, их операционно–технических возможностей» (Эльконин, 1971, с. 35).
Установлено, что каждый из периодов детского развития характеризуется преобладанием одной из групп деятельности, поэтому можно выделить периоды преимущественного развития мотивационно–потребностной сферы и периоды преимущественного формирования исполнительных средств деятельности, операционально–технических возможностей индивида.
Такое разделение позволяет объяснить так называемые кризисы, переломные моменты детского развития (например, в 3 года, 7 лет и т. д.) тем, что в это время закономерно возникают несоответствия между уровнем развития первой и второй группами деятельности. Эти внутренние противоречия и необходимость их разрешения и являются движущей силой психического развития в детском возрасте.
Приведенные положения являются важными. Они позволяют подойти к пониманию диалектики реальных взаимоотношений «интеллектуально–технического» и «мотивационного», позволяют преодолеть как крайности интеллектуализма (Пиаже), так и абсолютизацию мотивационных компонентов в развитии личности (Фрейд). Полученные данные согласуются и с общей гипотезой об исходном движущем противоречии и его постоянном, ступенчатом преодолении в ходе нормального развития личности. Опираясь на эти авторитетные данные, можно еще раз подчеркнуть наше понимание предмета изучения нормальной личности. Таковым должно являться не описание исключительно явлений этого развития, личности ставшей (как бы мы ее не называли — самоактуализированной, гармонической, продуктивной и т. п.), а выяснение внутренних закономерностей процесса, который ведет к ее становлению. В противном случае мы станем регистраторами бесконечного числа индивидуальных вариаций, которые часто не вскрывают, а напротив, своей феноменологической яркостью лишь маскируют общие психологические корни развития. Следовательно, критериями нормы должно быть не перечисление достоинств личности, а указание общих принципов наилучшего хода развития, возникающих здесь основных противоречий и особенностей их преодоления.
Мы предполагаем, что описанный механизм не является прерогативой детского развития. Представляется, что на материале исследования детского возраста был обнаружен один из общих механизмов, лежащих в основе развития личности в ходе всей жизни. Отсюда вытекает, что описанные в детской психологии противоречия характерны (разумеется, с существенными оговорками и уточнениями) и для развития «взрослой» личности и, следовательно, от особенностей разрешения этих противоречий будет зависеть нормальный или аномальный путь ее развития.
Если до сих пор мы в основном подчеркивали различия систем значения и смысла, то теперь обратим внимание на динамические особенности их взаимоотношения. Эти две стороны (которые, кстати, имплицитно обозначены во многих концепциях личности, скажем, как интеллект и аффект, инструментальное и личностное и т. п.), как уже говорилось в прошлом очерке, не существуют в реальности порознь, а обретают особого рода единство в любой конкретной деятельности человека от примитивной до сложной и разветвленной. Операциональное содержание деятельности, ее целевая структура в большей степени может быть отнесена к системе познавательных связей с миром устоявшихся или приобретаемых знаний и умений. Мотивационная сторона отражает, по преимуществу, те или иные смысловые отношения субъекта. Видимость как бы совершенно особых деятельностей, в которых человек занят лишь техническими операциями, инструментальным приложением своих знаний и умений, и, напротив, деятельностей, сугубо смысловых, где человек погружен в размышление о бытии, возникает нередко как акцептация различных моментов. Например, возникающее серьезное несоответствие предметной стороны деятельности ее прежнему мотиву обращает человека к пристальному анализу своих смысловых ориентиров. Напротив, при мелких повреждениях операционально–технического аппарата внимание сосредотачивается на их исправлении, что в свою очередь, может импонировать как совершенно особая по своему составу деятельность. В том и другом случае перед нами нередко одна и та же деятельность на разных этапах своего движения, с разной представленностью двух основных сторон — мотивационной и операционально–технической. Так, невозможность осуществления прежними, привычными средствами важной для человека деятельности, например, профессиональной (вследствие внезапной потери трудоспособности) или интимно–личной (смерть ближнего) обычно ведет к пересмотру, порой драматическому и мучительному, смысловой, ценностной стороны жизни; тогда как обычные неприятности на работе или препятствия в любви заставляют лишь больше напрягать силы в избранном направлении.
Обычный способ рассмотрения взаимоотношения обозначенных сторон идет как бы «сверху»: демонстрируется, как появление нового мотива задает цели конкретных действий, которые выполняются различными способами, операциями и т. п. Такое рассмотрение вполне правомерно для формирующейся деятельности. Однако сформировавшись, мотивы и соответствующие им, казалось бы, налаженные деятельности не остаются застывшими. Они движутся, изменяются, наконец, могут вовсе исчезнуть из поля. Для того, чтобы понять причины этого, мало принимать во внимание движение «сверху», идущее от изменения иерархии мотивов. Необходимо также учитывать движение «снизу», идущее от изменения способов выполнения действий, от конкретной целевой наполненности данной деятельности. Происходящие здесь изменения нередко исподволь подготавливают переворот, который приводит к смене мотива, замене его иным, более соответствующим новой целевой и операциональной структуре. Целевая структура может, например, так разрастаться и усложняться, что отдельные цели становятся более значимыми для человека, чем первоначальный мотив, в результате чего происходит «сдвиг мотива на цель» (Леонтьев), и то, что раньше было вспомогательной целью, становится самостоятельным мотивом, заступающим на свое место в иерархии мотивов.
Этот путь является весьма характерным для изменений личности в зрелом возрасте, в том числе для изменений патологических. Никто, например, из будущих алкоголиков, разумеется не видит поначалу в выпивке главный смысл жизни, способный затмить и извратить прежние ценности, представления о работе, семье, друзьях. Этот переворот в течение нескольких лет подготавливается преимущественно «снизу», от конкретных изменений целей деятельности, поначалу как бы вовсе не касаясь общих смысловых образований (Братусь, 1974).
Мотив остается зависимым от целевой структуры и тогда, когда цели, напротив, становятся недостаточными, обедненными по сравнению с данным мотивом. И в этих случаях прежний мотив может меняться или угасать, что ведет к соответствующему изменению. смыслового отношения к миру. (В патологическом преломлении подобное мы видели при анализе изменений личности у больных эпилепсией (см. очерк V). Таким образом, мотив, чтобы оставаться в относительной неизменности, должен соответствовать содержанию деятельности, находиться с ним в определенном равновесии.
Исследователи, рассматривающие деятельность, как правило, имеют в виду именно это состояние равновесия, действительно самое удобное для выделения различных структурных единиц, взаимоотношений между ними и т. п. Однако в реальной жизни это равновесие достаточно относительно, оно по крайней мере динамическое, а не зафиксированное и статическое. А. Г. Асмолов и В. А. Петровский (1978) прекрасно иллюстрируют это следующей притчей. Некто похвалялся, что изобрел жидкость, которая все на свете растворяет. Тогда мудрец спросил его: «А в чем же ты собираешься ее хранить?» Так вот деятельность человека (в широком понимании — его жизнь) — это то, что не в чем хранить, несмотря на все выделенные учеными (и имеющие основания в реальности) структурные оболочки. Мы всегда имеем дело с моментом динамического равновесия, которое может нарушиться уже в следующий момент.
Таким образом, можно сформулировать общий принцип: существование и функционирование деятельности подразумевает наличие относительного соответствия ее операционально–целевой, познавательной и смысловой сторон. Возникающие в ходе жизни нарушения этого соответствия ведут к внутренним противоречиям, которые могут быть сняты соответствующим изменением названных сторон.
Сказанное касается и низших по иерархическому уровню деятельностей — и тогда нарушения равновесия, вследствие тех или иных обстоятельств, могут возникать достаточно быстро и демонстративно; и деятельностей, осуществляющих самые общие отношения к миру, — и тогда возникновение противоречий идет медленно и скрытно. Последние процессы и должны привлечь наше внимание, поскольку речь идет об изменении общих смысловых образований, т. е. основных конституирующих единиц личности.
Антропологи, физиологи и медики разделяют жизнь взрослого человека на ряд последовательных фаз, нередко расходясь при этом между собой как в названии, так и в определении сроков соответствующих периодов.
Приведем для примера краткую сводку, заимствованную из работы А. Г. Ананьева (1977).
Возраст от 20 до 25 лет В. В. Бунак называет поздней юностью, примерно тот же возраст (от 21 до 25 лет) Д. Б. Брамлей обозначает как раннюю взрослость. Период средней взрослости, или среднего возраста, Д. Векслер определяет с 20 до 35 лет, Д. Б. Брамлей — от 25 до 40 лет, Д. Биррен — от 25 до 50 лет и, наконец, согласно международной классификации возрастов — от 30 до 60 лет.
Выделяют также период поздней взрослости или зрелости. Д. Б, Брамлей определяет его в 40—55 лет. Д. Биррен — в 50—75 лет. Некоторые авторы относят начало этого периода к значительно более раннему сроку: так, поздняя взрослость или зрелость датируется В. В. Бунаком и В. В. Гинзбургом в 24 —55 лет.
Верхняя граница зрелости и начало старости даны в еще большем диапазоне — от 55 лет (В. В. Бунак, В. В. Гинзбург, Д. Б. Брамлей, Д. Векслер) до 75 лет (Д. Биррен).
Как видно, в приведенной сводке отсутствует стройность и единство мнений. Примечательно, что, чем старше исследуемый возраст, тем больше расхождений в его классификации, неопределеннее и подвижнее называемые здесь рубежи.
Немногим более согласованным между собой выглядят и воззрения тех немногих психологов, которые пытались выделить этапы развития взрослого человека.
Согласно Ш. Бюлер, можно выделить пять фаз развития или — в ее терминологии — самоопределения человека. Первая фаза (16—20 лет) предшествует собственно самоопределению личности; вторая фаза (с 16—20 лет до 25—30 лет) — предварительное самоопределение, проба себя в различных видах деятельности; третья фаза (с 25 — 30 лет до 45—50 лет) — пора зрелости, обретение конкретных жизненных целей; четвертая фаза (с 45—50 лет до 65—70 лет) — завершение профессиональной деятельности, стареющий человек, исчезает активное самоопределение и постановка целей жизни; пятая фаза (о 65—70 лет до смерти) — старый человек, ослабление всех социальных связей обращение к прошлому, желание покоя (Bfihler, 1959). Р. Гаулд, Д. Левинсон, Д. Вейлант выделяют семь периодов взрослой жизни (1977). Э. Эриксон ограничивается здесь тремя периодами, не называя их четных границ (Erikson, 1968). Б. Г. Ананьев (1977) высказывает следующую мысль, что для изучения психологии взрослости необходимо не «округление» дат и выделение обширных периодов, а «сопоставление непрерывного ряда преобразований развития взрослого человека». Исследование должно при этом, «последовательно охватывая возрастные контингенты год за годом», включать в себя всю возможную полноту комплексного подхода (изучение процессов ВИД, психофизиологии, психомоторики, внимания, восприятия, мышления, памяти и др.).
Вместе с тем опрометчиво думать, что относительно фаз развития взрослого человека нельзя высказать каких‑либо определенных суждений. При внимательном соотнесении разных взглядов можно усмотреть пересечение в указании сроков и в характеристиках разных возрастов. Кроме того, картина станет значительно яснее и полнее, если помимо сведений науки (в этой области пока весьма скудных) привлечем богатый клинический, биографический и художественный материал. В известной степени здесь необходим тот подход, этапы которого были намечены в V очерке при описании метода анализа клинических данных, т. е. сбор и сопоставление биографического материала, синтезирование типичных историй движения личности в зрелом возрасте, квалификация полученных таким образом данных в понятиях психологов и, наконец, построение психологических моделей развития. Подобная работа начата только сравнительно недавно, однако уже теперь, обобщая как научные, так и художественные, клинические и биографические источники, можно высказать следующие положения.
За границей юношеского возраста (т. е. возраста, на котором большинство психологов оканчивают историю формирования личности) развитие личности никогда не идет линейно, лишь как накопление и расширение раз выработанных мотивационных устремлений и смысловых отношений к миру. Здесь закономерно возникают определенные и порой достаточно драматические переходы к иным мотивационным путям, к иной смысловой ориентации основных видов деятельности. Эти кризисные периоды не столь резки как, скажем, психологический кризис отрочества, не столь строго «привязаны» к определенным возрастным рамкам: чем старше возраст, тем более стерты эти рамки. Обычно они проходят куда более сглаженно (интериоризированно) и менее демонстративно, чем кризисы детства. Однако общая тенденция к периодическим и достаточно существенным изменениям личности в зрелом возрасте несомненна и подтверждается тысячами наблюдений.
Можно — пока сугубо предварительно — обозначить некоторые возрастные периоды, с прохождением которых чаще бывают связаны личностные сдвиги, например, 40—45 лет, 50—55 лет, наконец, изменения позднего старческого возраста (Братусь, 1977). Это время нередких кризисов личности, тогда как развитие в периодах между обозначенными возрастными рамками происходит более сглаженно. Можно предполагать, однако, что именно в этих периодах происходит постепенное накопление тех противоречий (в частности между операционально–технической и смысловой сторонами деятельности), которые предстанут в более явном виде во время кризиса.
Следует, видимо, особо подчеркнуть, что указанные возрастные рамки являются достаточно приблизительными. Как характер, так и сроки прохождения тех или иных кризисов и периодов могут заметно варьировать прежде всего в зависимости от. конкретных особенностей двух основных условий протекания психических процессов: физиологических характеристик (например, длительная и тяжелая болезнь, гормональные сдвиги и т. д.) и, что наиболее важно — характеристик внешней социальной ситуации (изменение внешних требований, социальных ожиданий и т. д.). Указанные сроки можно рассматривать лишь как нормативные, т. е. достаточно типичные для нормального, не отягощенного болезнями или особыми социальными потрясениями хода развития личности. (Э. Эриксон (Erikson, 1968) различает нормативные кризисы, необходимые и закономерные для поступательного, нормального развития личности, и кризисы травматического или невротического характера. Последние, как мы увидим ниже, имеют целый ряд специальных отличительных черт.)
Для каждого из отмеченных периодов характерна своя феноменология, свои и во многом специфические особенности, сколь‑нибудь полное описание которых заняло бы слишком много места и увело бы от основной линии очерка. Ограничимся поэтому наблюдением, которое приводит клиницист П. М. Зиновьев относительно второго из выделенных нами периодов: «Периодом, когда душевному покою грозит опасность, является возраст за 40 лет. Организм слабеет и начинает заеметно сдавать… Наступает период подведения итогов: старость, о которой раньше не думалось, хотя и не наступила, однако, заставляет человека чувствовать свое дыхание, — невольно появляются мысли о том, что лучший, наиболее работоспособный период жизни уже позади, а сделано так мало. Приходят на память мечты и ожидания юности, начинается сравнение их с достижениями и, конечно, не в пользу последних… Иногда появляются тоскливость, мрачные мысли: жизнь прошла напрасно, ничего не приобретено…» (1927, с. 49).
Разумеется, все детали описанной картины вовсе не строго обязательны для любого, перешагнувшего данный возрастной рубеж. Еще раз подчеркнем, что речь идет о некоторых тенденциях, которые в разных конкретных преломлениях (тесно зависимых от образования, темперамента, места жизни и т. п.) являются нормативными, т. е. достаточно типичными для этого возраста, который можно назвать возрастом предварительных итогов. Так или иначе, здесь нередко прежние мотивы, прежние представления о себе, своих возможностях и перспективах перестают соответствовать на деле изменившимся возможностям, изменившейся внешней социальной ситуации развития, изменившемуся соотношению между пройденным и оставшимся жизненным временем.
Подобные кризисные противоречия обычно осознаются самим человеком как явное расхождение, угнетающее несоответствие между Я–реальным и Я–идеальным, между областью наличного и областью возможного, желаемого. Но задолго до того, как это противоречие станет осознанным и начнутся сознательные поиски выхода, его можно угадать в особенностях конкретного хода деятельности. Подчеркнем, что развитие идет не только потому, что человек «осознал» разлад, принял волевое решение и т. п. Главная причина самого разлада, а уже затем и осознания его — внутренняя логика движения деятельности. И первым признаком такого разлада, созревающего противоречия являются малозаметные изменения прежних отношений к предметам, людям и ситуациям, изменение того, что К. Левин называл характером требования. «Изменение характеров требования, — пишет он, — нередко выступает как первые признаки изменения внутренней ситуации, т. е. прежде чем сам переживающий заметит внутренние изменения собственных наклонностей» (Lewin, 1926, с. 63). Это тонкое и абсолютное наблюдение. Еще задолго до того как начнут осознаваться разочарование в выбранном пути, профессии, человеке, до того, как начнет меняться мировоззрение (в малом и большом масштабе), появляется предвестник — изменение отношений к тому, что раньше казалось важным, значимым, интересным, отталкивающим.
По этому признаку можно угадывать приближение душевного противоречия, так и то новое направление, которое приняла душевная жизнь в ходе разрешения. «Наступление или отсутствие изменения характера требования, — вновь читаем мы у Левина, — часто можно использовать как критерий того, что решение, например, «начать новую жизнь в какой‑либо области» не по видимости только, но в действительности внутренне осуществлено, что оно не только вступило в сферу переживаний, но в то же время сделалось психически действенным как динамический фактор» (Lewin, 1926, с. 63). Иными словами, мало того, чтобы решение стало осознанным и вербализированным (т. е. вошло в систему познавательных связей с миром). Оно станет по–настоящему зрелым и действенным, лишь когда затронет и смысловые образования, т. е. начнет обусловливаться системой смысловых связей с миром.
Таким образом, говоря коротко, процесс происхождения противоречия выглядит так. Вначале появляется изменение прежних отношений, запросов, требований к окружающему миру. Это сигнал (критерий) глубокой внутренней работы. Следующий этап — в той или иной степени осознание происшедшего, обозначение его для себя человеком. И, наконец, последний этап — появление и укоренение нового в мировоззрении, т. е. рождение новых конкретных отношений к миру, новых требований к себе и другим, новых повседневных действий и привычек.
Даже из приведенного далеко не полного описания видно, насколько сложен путь разрешения закономерно возникающих противоречий, путь развития, путь самоизменения. Внутренняя перестройка всегда несколько запаздывает относительно уже свершившегося изменения действительности и всегда опосредована трудной и порой мучительной душевной работой. Если же, наконец, происходит существенное изменение смысловой сферы, смысловых образований и личностных ценностей, это, как правило, означает новый этап развития личности, который в нормальном, поступательном движении этого развития поднимает человека еще на одну ступень, приближая к идеалу полного раскрытия человеческой сущности; в случаях же аномального развития — это уводит человека в сторону, отдаляет от идеала, преграждает путь к нему.
Мы специально отметили этот момент, чтобы подчеркнуть всю сложность и неоднозначность исходов разбираемого процесса, собственно психологическую, а не механическую, формальную логику его внутреннего движения. Однако до сих пор мы в основном не касались особых случаев и затрагивали лишь самые общие аспекты выдвинутой гипотезы. Перейдем теперь к рассмотрению некоторых аномальных вариантов.
Примером дефектного решения неизбежно возникающих противоречий между желаемым и возможным, смысловым и инструментальным может служить развитие пристрастия к алкоголю. Кратко остановимся на некоторых основных этапах этого развития.
Потребность в алкоголе не входит в число естественных потребностей человека, и поэтому сам но себе алкоголь первоначально не имеет побудительной силы для человека.
Вместе с тем согласно установившимся традициям вино является непременным атрибутом определенных событий — свадьбы, праздника, дня рождения и др. Обычно ребенок уже с очень раннего возраста отмечает эту прочную взаимосвязь. Нами было проведено несколько опытов в старшей группе детского сада. Детям предлагалось сыграть во «взрослый» день рождения, свадьбу и т. п. Как правило, довольно точно воспроизводилась внешняя картина соответствующего события с обязательной имитацией «чоканья бокалов», «питья вина», последующими песнями, неверной «пьяной походкой» и т. п. Неслучайно поэтому, что уже в сознании ребенка алкоголь начинает восприниматься как обязательный и по–своему притягательный атрибут взрослой жизни, спутник особого веселья. С этой предварительной установкой большинство людей (в том числе и многие из тех, кто впоследствии станут алкоголиками) впервые знакомятся с действием алкоголя.
Физиологический эффект этого действия не всегда однозначен и может меняться в зависимости от общего состояния организма, тех или иных особенностей нервной системы и т. п. В целом же, однако, общая схема заключается в том, что в начале возникает обычно возбуждение, вызванное борьбой организма с поступившим ядом, затем возможно расслабление и сон. Все это сопровождается нарушением моторики, рассогласованностью движений (сильно пьяному человеку трудно закурить, задуть свечу и т. п.), речевой расторможенностью и т. д.
Привлекательно ли для человека само по себе подобное физиологическое состояние? Можно ли только этим объяснить тягу к алкоголю? Очевидно, нет. Особая привлекательность алкоголя, на наш взгляд, в другом. Она кроется в той, по большей части неосознанной, психологической мотивации, с которой человек прибегает к вину, в тех желаниях и потребностях, которые он пытается удовлетворить с его помощью. Наиболее частым здесь является желание повеселиться, создать приподнятое настроение на свадьбе, дне рождения, встрече друзей и т. п., т. е. в тех случаях, где традиция винопития особенно прочна. Обычно праздника ждут, к нему заранее готовятся, определенным образом настраивают себя, принаряжаются, и т. п. Все это само по себе создает ту особую атмосферу, которая и без вина делает человека радостным и приподнятым. Последующее принятие алкоголя, изменяя состояние организма и нервной системы, создает лишь особый, необычный психофизический фон, на который мощно проецируются психологические ожидания, вся предшествующая психологическая подготовка к данному событию.
Подобную проекцию можно усмотреть не только в употреблении алкоголя (как, впрочем, и многих других наркотических веществ). Существование сходных механизмов подтверждается, в частности, многочисленными опытами с плацебо. Обычно они состоят в следующем. Некоторой однородной группе больных дается якобы одно и то же лекарство: на самом деле одной части больных дается действительно препарат, а другой — плацебо, т. е. таблетка или пилюля такого же вида, как соответствующее лекарство, но приготовленное из нейтрального, индифферентного вещества. Как правило, эффекты действия и в той и в другой группе больных оказываются сходными. Причем идентичность эффектов в двух группах обычно увеличивается, если больные активно общаются друг с другом, делятся соответствующими «симптомами» и т. п. Вообще терапевтический эффект лекарств неотделим от психологии самовнушения, от множества не всегда осознанных тенденций душевной жизни. Так, труднодоставаемое и дорогостоящее лекарство действует всегда эффективнее, нежели общедоступное; одно и то же средство может оказать разное действие в зависимости от того, кем оно прописано — авторитетным специалистом или рядовым врачом. К области внушения (суггестии) можно во многом отнести и рекомендацию опытных врачей (к сожалению, редко выполняемую на деле) не просто назначать лекарство, но и подробно рассказывать больному, когда и как оно должно будет действовать, т. е. подключить к фармакологическому действию механизм психологического ожидания.
Однако важная роль душевной преддиспозиции, психологического ожидания большей частью остается скрытой от сознания человека и потому появление, скажем, эйфорического состояния начинает приписываться алкогольному напитку. Именно в этом «опредмечивании» первоначально содержательно неоформленного состояния и заключается то зерно, из которого вырастает психологическая привлекательность алкоголя. Образуется поначалу робкая, а потом все более уверенная (вплоть до субъективного ощущения необходимости) связь между желанием повеселиться и употреблением алкоголя. Так происходит крайне опасный по своим психологическим и жизненным последствиям кардинальный для первоначального генеза пьянства процесс — большая децентрация искажения в восприятии событий: человек начинает видеть главный источник привлекающего его состояния только в алкоголе.
По тем же принципам (проекция психологической преддиспозиции, актуальных в данный момент потребностей на определенный психофизиологический фон алкоголя опьянения, децентрация в восприятии источников искомого состояния) рождаются и другие «незаменимые» свойства и функции алкогольных. напитков. Так, алкоголь употребляют не только в связи с радостными, но и в связи с печальными событиями, например на поминках. Причем характерно, что в последнем случае, сколь бы ни было сильно опьянение, люди, для которых утрата действительно тяжела, грустят, а не смеются; эйфория захмелевшего на поминках безошибочно оценивается как неуважение к покойному и ссылки на опьянение не принимаются в расчет. Со временем диапазон субъективных причин употребления алкоголя становится все шире — пьют и «для храбрости», и с «обиды», и чтобы «поговорить по душам», и чтобы «расслабиться», и чтобы «взбодриться» и т. д. и т. п. Именно неопределенность действия алкоголя на психику делает его столь универсальным средством для достижения названных состояний. Речь идет о субъективных ощущениях, возникающих в состоянии опьянения. Наивно, например, думать, будто алкоголь действительно является ключом к подлинному общению. Умение говорить друг с другом, преодолевать свою душевную пустоту нельзя получить взаймы у алкогольного опьянения.
Характерно, что вера в действие алкоголя не ослабевает даже в тех случаях, когда его употребление не ведет к ожидаемому результату; неудавшаяся попойка не разочаровывает пьющего человека в алкоголе и воспринимается лишь как частный случай. Надежда же испытать когда‑нибудь искомое состояние толкает ко все новым и новым попыткам. Все это говорит, на наш взгляд, о несостоятельности столь распространенных попыток объяснить психологическое пристрастие к вину лишь условно–рефлекторной связью между событием (выпивкой) и подкреплением (появлением состояния эйфории). Человек ищет в вине значительно большего, чем состояние эйфории; «принцип удовольствия» слишком тривиален для объяснения столь распространенного и тяжелого по своим последствиям явления. Психологические причины надо искать, во–первых, в тех актуальных потребностях, противоречиях, которые человек пытается разрешить пьянством и, во–вторых, в тех психологических и социальных условиях, которые толкают его на этот путь.
Здесь, пожалуй, можно провести условное психологическое разделение между умеренным употреблением вина и началом злоупотребления, бытовым пьянством. Для первого характерна эпизодичность, подчиненность другим мотивам, крепкая связь с породившими употребление событиями (встреча, праздник), нерезко выраженное явление децентрации. Для второго — начала бытового пьянства — психологически характерна все большая децентрация, идеализация алкоголя, отпочкование употребления от исходных ситуаций, активный поиск предлогов, стремление к компаниям пьющих людей, постепенное создание целой «системы самооправдания» — своеобразного «алкогольного мировоззрения».
Так в случаях развития пьянства могут возникать и укрепляться пути особого, иллюзорного разрешения неизбежно возникающих в жизни конфликтов, противоречий между наличным и желаемым, т. е. между операционально–технической, инструментальной и мотивационной, смысловой сторонами деятельности. Если нормальное, продуктивное развитие толкает к реальной деятельности, расширению своих возможностей для достижения конкретных результатов, то развитие пьянства (как и многих других наркоманий) переносит эти отношения в совершенно иной, ирреальный, план. Иллюзорное состояние опьянения начинает восприниматься при этом не как случайный и второстепенный эпизод, а напротив, как вполне важное и необходимое для человеческой жизни дело, так что лишение возможности пить расценивается как самая серьезная утрата и ущерб.
Вновь заметим, что это особое, сверхценное отношение пьющих людей к алкоголю не может быть понято исходя лишь из каких‑то особых, эйфоризующих качеств этилового спирта, как нередко представляется в психиатрической литературе. Психологические причины здесь глубже: они кроются в тех возможностях (как мы уже говорили, иллюзорных) удовлетворения желаний и разрешения конфликтов, которые дает состояние опьянения для длительно пьющего человека, «научившегося» опредмечивать в этом состоянии свои самые разные потребности. Человека в таком состоянии может удовлетворять и свое честолюбие (похвальба пьяного), и обиду (пьяные слезы, угрозы в адрес отсутствующего), и потребность в уважении (сакраментальное «ты меня уважаешь») и многое другое. Таким образом, движущее противоречие операционально–технической и мотивационными сторонами снимается здесь не реальной деятельностной активностью субъекта, а все большим уходом в ирреальный план, который в тяжелых случаях становится главным и более реально значимым для такого человека, чем подлинный мир.
Возникающая в результате хронического злоупотребления алкоголя, бытового пьянства собственно алкогольная болезнь не столько видоизменяет, сколько серьезно усугубляет названные тенденции, внося элементы физической (физиологической) зависимости (абстинентный синдром, симптом потери контроля и т. д.), приводя к энцефалопатии, органическому нарушению (отравлению) мозга. Эти физиологические условия, резко сужая возможности психического функционирования, сглаживают индивидуальные различия и тонкости, делая алкоголиков с самым разным преморбидом сходными в своих проявлениях и рассуждениях. Так завершается один из путей аномального развития, в психологическом генезе которого немалую роль играет выбор дефектного способа разрешения противоречий между возможным и желаемым, инструментальной и смысловой сферами личности,.
Другим примером последствий дефектного решения возникающих противоречий могут служить некоторые случаи невротического развития. Так, в дипломной работе А. Ф. Копьева (1978) было показано, что в возникновении невроза можно достаточно часто усмотреть следующие закономерности.
Реализуемая индивидом и значимая для него деятельность оказывается обреченной на частые неуспехи, например в силу того, что наличный уровень возможностей не соответствует характеру мотива (это может быть обусловлено врожденной или приобретенной слабостью нервной системы, неправильностью предыдущего развития и т. п.). Возникающие неудачи естественно переживаются человеком в виде более или менее тягостных эмоциональных состояний, сигнализирующих об отношениях «между мотивами (потребностями) и возможностью успешной реализации, отвечающей им деятельности субъекта» (Леонтьев, 1975). Нормальный выход из этой ситуации может быть двояким. Либо необходимо найти пути совершенствования операционально–технической стороны деятельности и тем самым достигнуть соответствия между этой стороной и мотивом данной деятельности (С этой точки зрения можно усмотреть рациональное зерно в так называемой поведенческой терапии неврозов, которая при затруднениях в развитии личности направляет все усилия пациента не на мотивационную сферу, а на отработку и совершенствование сугубо конкретных способов и операций деятельности (Wolpe, 1958)) — вслед за этим может произойти и «преодоление» первоначального мотива, когда достигнутые возможности становятся «выше», чем мотив, «требуя» постановки новых задач. Либо, при невозможности по каким‑либо объективным причинам дальнейшего, совершенствования операционально–технической стороны, изменить смысловую ориентацию в том направлении, в котором будет возможно поступательное развитие личности.
Клиника показывает, что осознания этой альтернативы мы не находим при рассмотрении многих видов невротического развития. Один из исследователей предложил даже назвать подобное явление психической скотомой, т. е. островковым дефектом «внутреннего зрения», когда часть психической жизни, причем нередко важная, ключевая, как бы выпадает из поля зрения, не осознается человеком (Stekel, 1921). В результате возникают различные пути аномального не активного, а реактивного преодоления сложившегося противоречия, например, появляются разного рода «защитные» мотивы, толкающие к деятельности, смысл которой сводится к тому, чтобы «законсервировать», оставить прежним сложившееся противоречие. Иначе говоря, данные виды «защиты» — это способы приспособления к возникшему внутреннему противоречию или конфликту, но не преодоления его.
Это приспособление нередко вырастает в целую деятельность, которую правильнее всего назвать «паразитарной». А как следствие этой деятельности, возникает та психическая скотома, о которой писал В. Штекель (1971). (Здесь мы вновь приходим к выводу, что то или иное свойство не предшествует структуре личности, а возникает в процессе определенного хода развития деятельности).
Конечно, возникающая реактивным путем «паразитарная» деятельность при определенных условиях (в ходе самой жизни или специально построенного педагогического психотерапевтического воздействия) может быть психологически дискредитирована, и тогда развитие вновь возвратится в нормальное русло. В тех же случаях, когда «паразитарные», ложно–компенсаторные деятельности начинают занимать все большее место в структуре отношений индивида с действительностью, возникшие противоречия в мотивационной сфере могут найти свое выражение в самых различных невротических симптомах: тревожность, страх, навязчивость, отрицательные эмоциональные состояния и т. п. Отметим, что временно возникающие эмоциональная подавленность или тревожность не являются спутниками невротического аномального развития. Это может быть сигналом о том или ином внутреннем кризисе человека, периоде осознания возникшего противоречия, поисков выхода из него. Знание закономерностей психологии зрелости призвано сыграть в этих случаях важную психогигиеническую роль, стать средством, ободряющим человека в его продвижении вперед. Разумеется, глубокое овладение и умелое применение этих знаний должно входить в компетенцию психотерапевта, в помощи и совете которого нуждаются нередко не только психически нездоровые люди, но в некоторые периоды жизни — и люди вполне здоровые.
Рассмотрим в качестве примера наблюдение, которое польский психолог К. Обуховский (1972) приводит для иллюстрации несоответствия избранного смысла жизни наличным возможностям человека.
Экономист, который в молодости был восхищен идеями Г. Форда об организации промышленного производства и решил стать «директором заводов», долгое время видел себя только в этой роли. Он начал учиться в экономическом институте, сосредоточил свои интересы на экономике, но у него отсутствовала одна существенная черта, необходимая для удовлетворения этой потребности: он был психастеничной, пассивной натурой, большинство проблем решал и реализовал в воображении, в то время как избранная им работа требовала энергии, деловитости, гибкости. За десять лет, прошедших после окончания вуза, он работал референтом поочередно на девяти предприятиях, каждый раз с трудом справляясь со своими обязанностями. Он почувствовал отвращение к жизни, недовольство своими начальниками, считал, что он неудачник, что его эксплуатируют. Он заранее огорчен будущими неприятностями и думает о перемене работы, о другой «более соответствующей ему» работе, несмотря на то, что выполняемая им работа наиболее близка к деятельности, о которой он мечтал прежде, и нет никаких шансов на получение лучшей.
В данном случае перед нами реактивный путь разрешения противоречия между мотивами и средствами деятельности. Здесь имеется первоначальный мотив (стать «директором заводов») и соответствующая ему деятельность (занятие экономикой), для которой, однако, не хватало необходимых «технических средств» (энергии, деловитости, гибкости — стеничности). Как следствие возникает тяжелое эмоциональное состояние («чувство отвращения к жизни», разочарованность), приводящее к актуализации «защитного» мотива, связанного с поисками (в десятый раз!) «более соответствующей» работы. Данная деятельность направлена на приспособление к имеющемуся конфликту (между мотивами и возможностями), а не на преодоление его. Поисками иного места работы этот человек как бы снимает с себя ответственность за несостоятельность в выбранной сфере деятельности. Поиски нового места работы призваны в данном случае «маскировать» истинные причины неуспеха (коренящиеся во внутренних противоречиях деятельности) внешними причинами, связанными с условиями работы.
Подведем некоторые итоги. Проведенный анализ в основном подтверждает высказанные в начале очерка общие предположения, основанные на данных теории деятельности. Переломы и сдвиги в развитии возникают именно тогда, когда налицо несоответствие между наличными возможностями, областью знания и умения и системой смысловых связей с миром. Наличные возможности могут перерастать систему прежних отношений, и подобное расхождение побуждает рождение новых смысловых образований. В то же время всякое новое смысловое образование, возникшее новое отношение к миру необходимо требует приобретения новых знаний и умений.
Восходящим путем здесь будет не просто накопление знаний, расширение своих возможностей, так же как и не само по себе совершенствование смысловых отношений. В гармоническом развитии взрослого человека эти две линии взаимообусловливают и движут друг друга, то расходясь (возникновение противоречия), то пересекаясь (его разрешение) между собой. В точках значительного расхождения и возникают мало изученные до сих пор нормативные кризисы зрелости, которые, разрешаясь, ведут к переходу на другую стадию развития, внутри которой, с одной стороны, преодолевается противоречие предыдущей стадии, а с другой стороны, назревает новое противоречие, в результате чего описанный процесс разворачивается вновь, но уже на другом уровне.
Подобная внутренняя логика была впервые намечена для детского разлития (Леонтьев, Эльконин). Зрелый возраст привносит ряд существенных изменений в действие этого общего механизма. Прежде всего перечень, номенклатура ведущих деятельностей нередко остается постоянной (работа, семья, общение и т. п.), в отличие от детского возраста, где намечены фазы развития личности, при смене которых одна ведущая деятельность сменяется другой. Глубокие изменения происходят внутри самих основных деятельностей взрослого человека, в соотношениях нх между собой. Следующие отличия нормативных кризисов зрелости от кризисов детства в том, что они возникают реже, с большим временным разрывом (7—10 лет), не столь строго привязаны к определенному возрасту и более тесно зависят от «социальной ситуации развития» (Л. С. Выготский). Наконец, они проходят достаточно осознанно и куда более скрытно, интериоризированно, не демонстративно (последним во многом и обусловлена их малая изученность в научной психологии).
Таким образом, нормальная зрелая личность — это не личность, лишенная противоречий и трудностей, а личность, способная принимать, осознавать и оценивать эти противоречия, способная продуктивно разрешать их в соответствии со своими наиболее общими целями и нравственными идеалами, что ведет к все новым и новым стадиям, ступеням развития.
В отличие от нормативных кризисов, аномальное развитие характеризуют дефектные формы разрешения внутренних противоречий. Так, злоупотребление алкоголем ведет к иллюзорным способам разрешения и, как следствие этого, к отходу от реальной действительности, перестройке мотивационных и смысловых устремлений. Для невротического развития достаточно типичны затяжные кризисы, переходящие во внутренние конфликты; нередко появление ложно–компенсаторных («паразитарных») деятельностей, ведущих к еще большей «консервации» сложившихся противоречий и тем самым застою в развитии личности.
Совершенно очевидно, насколько важно с теоретической и практической сторон дальнейшее, более детальное изучение внутренних психологических закономерностей нормального (в нашем понимании, подлинно человеческого — продуктивного и поступательного) развития зрелой личности. Эта задача смыкается и с другой важнейшей задачей психологии личности, которую Л. Сэв (1972) формулирует как задачу обнаружения общих корней и частных психологических форм ограничения расцвета личности и нахождения возможностей уничтожения, там где это зависит от психологии, такого ограничения. Так задачи общей психологии тесно переплетаются с задачами психологии прикладной, в частности патопсихологии, что лишний раз показывает единство психологической науки и в ее назначении познать человеческую душу и найти способы помочь ее развитию и возвышению.