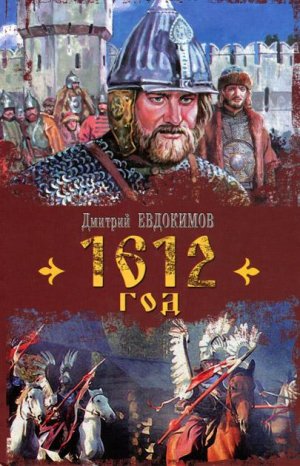
Часть первая
Господин великий голод
Афанасий Иванович Власьев, дьяк Посольского приказа возвращался после долгого заграничного вояжа на родину. Отбыл он из Москвы по секретному царскому указу еще в июне прошлого, 1599 года. Из-за неспокойствия в Ливонии, где шли непрерывные стычки за обладание этой злополучной землей между вооруженными отрядами короля польского Сигизмунда III{1} и его дяди, правителя шведского, будущего Карла IX,{2} Власьев вынужден был добираться в Европу кружным путем, через Архангельск, морем вдоль норвежских и датских берегов, а затем по Эльбе.
В Гамбурге его ждал радушный прием тамошних бургомистров и богатых купцов, желающих иметь привилегии в торговле с Московией. Дьяк охотно обещал, рассказывая, что новый царь мудр, богат и щедр, при восшествии на престол выплатил всем служилым людям по три оклада: один — в память о покойном царе Федоре, второй — для укрепления своего царствования и третий — обычный годовой. По всей земле не велел брать податей, торжественно объявив, что все обширное строительство по украшению и укреплению городов будет вестись за счет царской казны.
А особо жалует государь иноземных людей да пленных немцев лифляндских и литву, находившихся в ссылке во время войны с Польшей, вернул в Москву, а тех, кто захотел служить, взял в службу, назначил поместья и жалованье. Торговым людям — немцам повелел дать по тысяче, иным — по две тысячи рублей и многих пожаловал званием гостя.
Весть о том, что царь Борис охотно берет в службу иностранцев самых разных национальностей и хорошо платит, распространилась так быстро, что к моменту отъезда Власьева в Прагу поезд его значительно увеличился. За его колымагой, отделанной серебром, следовали верхом новый царский лекарь (шестой по счету) Каспар Фидлер со своим братом Константином, преподаватель немецкого и латинского Мартин Бер, пятнадцатилетний ученик купца Исаак Масса…{3}
Из Праги пришлось ехать в Пильзен, где императорский двор укрывался от очередной чумы. Власьев был вправе рассчитывать на хороший прием римского цезаря Рудольфа,{4} благо, что в прошлый свой визит привозил в подарок от покойного царя Федора для вспоможения в борьбе с турками драгоценные русские меха на сумму четыреста тысяч рублей. Но Рудольф, за прошедшие пять лет увлекшийся алхимией и поисками эликсира жизни, аудиенцию дал короткую и больше интересовался коллекцией драгоценностей Ивана Грозного да его посохом, сделанным из цельного рога редчайшего зверя единорога, якобы обладающего исключительной целебной силой. Переговоры пришлось вести с канцлером, который легко разгадал цель визита Власьева — столкнуть Римскую империю с Польшей под предлогом, что поляки не пропускают русские войска, которые Россия якобы готова направить на помощь цезарю для борьбы с Османской империей. Канцлер с министрами ответили весьма любезно, но непреклонно: воевать с Польшей они не будут и что, хотя поляки действительно недруги Австрийского дома, цезарь любит короля Сигизмунда. Короче, довольно прозрачно намекнули, что между империей и Польшей возник союз, что забыли австрийцы прежнюю обиду за брата цезаря Максимилиана, боровшегося за престол с Сигизмундом и плененного коварным шведом.
Несолоно хлебавши отправился дьяк в Краков для переговоров с польским королем. Сигизмунд III, из королевского шведского рода Ваза, все свои помыслы в это время устремил на борьбу за шведскую корону, которую нагло, на его взгляд, узурпировал его родной дядя Карл Зюндерманландский.{5} Боевые действия в Ливонии шли с переменным успехом, и Сигизмунд не скрывал, что был бы рад видеть в России не врага, а союзника. Решено было, что в Москву выедет великое королевское посольство во главе с великим канцлером литовским Львом Ивановичем Сапегой для заключения мирного договора.
В Кракове поезд Власьева еще больше увеличился за счет известных вояк — французов, англичан, шотландцев, немцев, которые выразили готовность предоставить свои шпаги к услугам русского царя, естественно, за хорошую плату.
Власьев глянул в слюдяное окно в задней стенке колымаги: вот они браво гарцуют на своих конях, вид несколько потрепанный, но, безусловно, воинственный. Царь будет доволен: один капитан Маржерет чего стоит!{6} Он рассказывал дьяку, что в Трансильвании в одиночку схватился с целой сотней турецких воинов! Даже если и соврал наполовину, то все равно боец отменный.
Кучер, сидевший на лошади, резко натянул узду:
— Тпрру!
Власьев приоткрыл дверцу колымаги:
— Чего стал?
— Граница, боярин! Переправляться через реку будем!
Поддерживаемый слугами, дьяк осторожно сошел на землю. Вышел на высокий берег реки, не торопясь осмотрелся. Был Афанасий Иванович, как и полагается высокому чину, мужчиной дородным, что подчеркивалось и соболиной шубой необъятных размеров, надетой поверх парчовой ферязи[1] с длинными, до земли, рукавами. Торжественный наряд завершала горлатная шапка, прозванная так потому, что шилась непременно из ценнейшего, переливчатого меха горловой части соболей либо куниц. Формой она напоминала ведро, с той лишь разницей, что расширялась от головы кверху. Лицо дьяка было широким и румяным, как блин, глаза серые, небольшие, но проворные, так и ввинчивающиеся в собеседника. Главным украшением лица была светло-русая окладистая борода, доходившая до груди.
Нетерпеливо постукивая коротким, но на высоком каблуке сапожком из золоченого сафьяна, Афанасий Иванович наблюдал, как холопы ухватисто сколачивают плоты будущего моста, поскольку старый унесло весенним паводком.
Возле дьяка, чуть поодаль, спешились иноземцы. К нему подошел капитан Маржерет, или Маржере, как называл он себя на французский лад. Сняв широкополую шляпу с петушиным пером и махнув ею в полупоклоне, капитан обратился к дьяку на ломаном немецком:
— Правду ли говорят, что перед нами уже Московия?
— Это Русь, Россия, — сердито поправил Афанасий Иванович. — Московия — это небольшая область вокруг Москвы. У вас часто по ошибке русских называют московитами. Это все равно что у вас всех французов называть парижанами. Понятно говорю?
— Йа, йа, — закивал Маржере, вглядываясь в простиравшиеся перед ним леса.
В этот солнечный майский день от них исходило светло-зеленое сияние.
— Так много леса! — воскликнул он изумленно. — Сколько дичи, зверья должно быть здесь!
— Хватает, — улыбнулся Власьев. — И дичи и зверья. Особенно волков да медведей! Не боишься?
— О-о! — возмутился капитан, хватаясь за шпагу. — Жак де Маржере не боится даже встретиться со львом!
— Что ж, скоро увидим, — опять улыбнулся Власьев. — Любимая царская забава — глядеть на единоборство ловчих с медведем. Храбрецов царь жалует щедро…
— Один на один с медведем? — изумился капитан. — С каким же оружием?
— Только с рогатиной.
— Ро-га-тина, — старательно выговорил незнакомое слово Маржере.
— Да, это копье с очень широким, в две ладони, жалом.
— Однако действительно не каждый смельчак решится на такое!
— Тем более что медведя несколько дней не кормят и специально дразнят перед боем, чтобы привести в ярость.
— Как в кровожадном Риме, — пробормотал Маржере.
— Что ж, правители, как правило, любят жестокие шутки, — покачал головой Власьев, впрочем, тут же спохватился и добавил: — Однако наш нынешний царь Борис медвежьи забавы не одобряет.
Слуги тем временем принесли из обоза скамейку, обитую красным сукном, отороченным по краям серебряным шитьем. Дьяк грузно сел, а старший слуга налил из сулейки,[2] висевшей на серебряной цепочке у него на шее, ковш прозрачного меду и с поклоном подал Власьеву.
Маржере, чтобы не мешать, отступил на несколько шагов и, увидев, что дьяк, вкушая прохладный напиток, не склонен продолжать далее беседу, повернул к своим ландскнехтам.
Они расположились чуть поодаль весьма живописной группой на свежей весенней травке. Это были славные ребята, рыцари без страха и упрека, всегда готовые прийти на помощь тому, кто, естественно, больше заплатит. Несмотря на благородное происхождение, большинство этих рыцарей не брезговали и разбоем. Впрочем, в то время война и разбой мало чем отличались друг от друга: в том и другом случае больше всего страдало ни в чем не повинное мирное население.
— Что узнал нового, Якоб? — спросил Маржере краснощекий шотландец Роберт Думбар, говоривший, как и все ландскнехты, на чудовищной смеси языков, которые все перепутались у них в головах за время скитаний по Европе в поисках наживы. — Скоро мы получим звонкие русские монеты?
Думбар прочно, как в кресле, сидел на рослом, как раз подходящем ему по весу, голландском битюге и многозначительно подбрасывал в огромной ручище пустой кожаный кошелек.
Маржере широко улыбнулся, показав ряд желтоватых, но еще крепких зубов.
— Что, спешишь расплатиться с той паненкой, с которой ведался вчера вечером в стоге сена у трактира? — насмешливо произнес он.
Вся ватага загоготала, а Думбар с показным благочестием сложил ладони под пышным двойным подбородком:
— Видит Бог, я отдал этой прекрасной даме свой последний талер.
И в знак доказательства он снова подбросил пустой кошель.
— Брось трепаться! — воскликнул, хохоча, англичанин Давид Гилберт. — Ты же свой последний талер пропил еще в Ливорно! Так что ничего не досталось бедной шлюхе, кроме твоих пощечин!
Думбар, выпучив глаза, схватился за шпагу:
— Как ты смеешь оскорблять прекрасную даму!
Гилберт в ответ тоже потянул шпагу из ножен.
— А ну прекратите! — прикрикнул на них Маржере. — Вы же знаете, поединки в России строжайше запрещены, даже между иностранцами! Наш дьяк об этом предупреждал еще в Праге, когда подписывали контракт.
— Мы еще не в России, так что я бы успел покрутить этого жирного каплуна на своем вертеле! — проворчал Гилберт, отходя в сторону.
Видно, ландскнехты побаивались своего капитана. Высокого роста, с длинными жилистыми руками, Жак Маржере в остальном, казалось, не выделялся среди своих товарищей. Во всяком случае, по одежде. Тот же испанский вамс[3] из потертого серого бархата, украшенный жестким кружевным воротником, на который падали длинные волосы, широкие, под цвет вамса, штаны, присборенные у колен голубыми лентами, высокие сапоги со шпорами, сверху — темно-синий суконный плащ, подбитый мехом. Однако его лицо, несмотря на легкомысленную, клинышком, бородку и усы а-ля Генрих IV,{7} умело внушать почтение самым отчаянным головам зловещим, если не угрюмым, выражением черных глаз, хищным оскалом зубов из-под длинного орлиного носа. Лоб и левую щеку прорезал глубокий сабельный шрам, который легко багровел, когда капитан начинал сердиться.
Впрочем, капитан, как и всякий вспыльчивый человек, был отходчив. Вот и сейчас его улыбка вновь сделалась добродушной. Он продолжал подтрунивать над Думбаром:
— Должен тебе сказать, Роберт, что мой друг Мишель Монтень, с которым я имел удовольствие сражаться за нашего Генриха Наваррского, писал в своей замечательной книге «Опыты» о таких, как ты, забияках: «Поглядите, из-за какого вздора такой-то вверяет свою честь и самую жизнь своей шпаге или кинжалу; пусть он поведает вам, что повело к этой ссоре; ему не сделать этого, не покрывшись краской стыда, до того все это выеденного яйца не стоит…»
— Я тоже читал Монтеня и восхищаюсь его мудростью! — раздался ломающийся басок подошедшего к ландскнехтам студента Мартина Бера.
— О, наш ученый собрат! — насмешливо произнес Маржере. — Вы и сейчас не расстаетесь с книгой?
— Это тетрадь. Мне ее дал наш юный друг Исаак Масса. Здесь русские слова, которые необходимо выучить в первую очередь, чтобы не оказаться в этой варварской стране подобно немому.
— Похвальное дело, — одобрил Маржере. — Я буду благодарен, если вы и меня обучите этому языку. В каких выражениях русские приветствуют друг друга?
— Челом друже! Здорово шедши? — старательно выговаривал студент, заглядывая в тетрадь.
— А как по-русски «барышня»? — вдруг спросил задремавший было на коне Думбар.
— «Дефка».
— Если я скажу: «Мачка, мне надость дефка!» — меня поймут? — под дружный смех товарищей продолжил Думбар.
— Поймут, но рассердятся. В России не принято в гостях говорить о таких женщинах. И вообще здесь нет публичных домов, — нравоучительно заметил студент.
— А как же быть неженатому мужчине, вроде меня? — возмутился Думбар.
— Поститься, — не без лукавства ответил Бер, фарисейски возведя очи горе.
По мосту, пробуя крепость перекрытий, проскакали вооруженные слуги Власьева, затем, поскрипывая, медленно двинулась и его повозка. Иноземцы заняли место в длинной процессии.
Когда караван проехал приблизительно милю от границы, спутники увидели на высоком холме справа от дорога вооруженный отряд. Маржере невольно взялся за рукоять шпаги, мимоходом глянув на пистолеты, притороченные к седлу: «Не разбойники ли?» — но тут же успокоился, увидев, что русские радостно приветствуют отряд.
— Нас встречают, — шепнул Бер. — Таков обычай.
Повозка остановилась у холма. К ней подскакал всадник и, спешившись, ждал, когда из нее выйдет Власьев. Затем, сняв шлем с высоким шишаком, наклонил голову:
— Поздорову ли ты ехал, Афанасий Иванович?
Власьев вгляделся в лицо встречающего и воскликнул:
— Князь Пожарский? Дмитрий Михайлович? Рад, что над тобой вновь воссияла милость государя.
Упомянув царское имя, дьяк тут же вспомнил о ритуале, не торопясь снял свою высокую шапку. Впрочем, на его бритой голове, которая странно контрастировала с пышной бородой, оказалась еще одна шапка — круглая тафья[4] из бархата. Дьяк степенно поклонился и завел речь в привычном речитативе:
— Здоров ли великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея России самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, низовые земли, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и всея северныя страны повелитель, государь Иверские страны, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств государь и обладатель и прочее.
Князь Пожарский поклонился в ответ:
— Его царское величество Борис Федорович, всея России самодержец и прочее, здоров и прислал меня сюда, чтобы принять тебя, Афанасия Власьева, и вместе с вашими людьми снабдить провиантом, лошадьми и всем необходимым и доставить в Москву.
После того как приличия были соблюдены, дьяк вновь надел свою высокую шапку, а князь — боевой шлем, и беседа потекла более свободно.
— Так, значит, князь Дмитрий, ты снова во дворце?
— Да, вот сподобился царской милости — получил звание стольника.
— А сколько в стряпчих проходил?
— Семь лет.
— Да, да, как же — помню. Ты ведь службу начинал еще при покойном Федоре Иоанновиче…
Князь Дмитрий Пожарский, родившийся в Москве, в вотчинном подворье, что у Сретенских ворот, подобно всем отпрыскам знатных москвичей начал службу во дворце, как только исполнилось ему пятнадцать лет, получив первый придворный чин — «стряпчего со платьицем». Это означало, что каждое утро князь должен был присутствовать при пробуждении и одевании государя.
Был сын Иоанна Грозного тих и незлобив,{8} любил церковное богослужение, за что языкастые москвичи прозвали его «звонарем». Приверженность царя старым обычаям делала одевание его длинной и нудной процедурой. Долго решалось, какого цвета подать шелковую рубашку и парчовые порты. Чаще всего Федор Иоаннович выбирал красный цвет. Затем к рубахе долго примерялись воротники, обшитые жемчугом, называемые «ожерельем». Поверх рубахи надевался ферязь — кафтан, сшитый из атласа, с длинными рукавами, достигавшими пола, и со стоячим воротником, украшенным золотом, серебром и драгоценными каменьями. Он назывался «козырем».
Далее следовал становой кафтан из легкого шелка, без воротника и с короткими рукавами. Сверху кафтана надевался опашень из бархата, обшитый кружевами из жемчуга и драгоценностей. На плечи возлагались золотые бармы[5] в виде широкого откидного воротника. Затем царя обували в сафьяновые, обшитые золотом сапоги и опоясывали широким поясом, разукрашенным самоцветами.
Наконец наступал черед шубы из бобра либо из горностая, покрытой сверху бархатом или парчой. Без шубы царь не выходил из дворца даже в летнее время. На бритую голову царя надевалась сначала бархатная тафья, а поверх — тяжелая шапка Мономаха.
В таком виде царь отправлялся в церковь в сопровождении бояр, ведших его под локотки. Стряпчие могли перевести дух, но ненадолго: ведь по возвращении из церкви царя следовало переодеть к обеду, после трапезы уложить спать, а вечером снова нарядить для выхода в церковь.
Все это было не по нутру юному Дмитрию, с детства мечтавшему о службе на поле брани. И когда начали формировать войско для посылки к южным границам, на так называемую украйну, то есть окраину Российского государства, Пожарский упросил воеводу Бутурлина взять его в поход. Годы, проведенные на границе, сделали его закаленным воином, но мало способствовали продвижению в придворной иерархии.
— Так сколько тебе минуло? — спросил Власьев.
— Двадцать два, — произнес князь, гордо откинув голову.
Своей статью князь напоминал былинных богатырей — высок, широк в плечах, пояс туго обвивает узкую талию. Ярко-голубые глаза смотрят прямо, не моргая, мягкая и пушистая, еще юношеская бородка открывает резко очерченные, полные губы. Шелковая епанча[6] с червчатым[7] отливом, подбитая лисьим мехом и застегнутая у ворота двумя жемчужинами, распахнута, показывая серебристую кольчугу с большой позолоченной бляхой на груди. Наряд богатыря довершали два длинных кинжала за поясом да сабля, висевшая с левого боку.
— Кое-кто из княжат, что поближе к трону, в семнадцать стали стольниками, — продолжал Власьев. — Хотя твой род подревнее некоторых.
— Мы, Пожарские, из Рюриковичей! — гордо воскликнул князь. — Мы ведем род от великого князя владимирского Всеволода Юрьевича…{9}
— Знаю, — кивнул дьяк. — Род знатный, если бы не опала… Я ведь начинал служить при Иоанне Васильевиче. Помню, что сначала дед твой Федор, по прозвищу Немой, отличившийся при взятии Казани, чем-то не угодил царю и был сослан на нижние города, потом отец твой Михаил, по прозвищу Глухой, во времена опричнины лишился родовой вотчины…
— Я потерял отца, когда мне было всего десять лет, — глухо ответил Дмитрий. — Остался старшим в семье. Если бы не мать…
— Так, говорят, и опала на тебя из-за матушки, Марии Федоровны?
— Верно сказывают. Хоть я вместе с другими князьями подписал прошлой зимой постановление Земского собора об избрании Бориса царем, кто-то донес ему, будто мать моя не одобряет его худородность. А царь Борис доносы любит…
Дьяк быстро оглянулся, не слышит ли кто из слуг:
— Тише ты! Снова в опалу хочешь?
— Хорошо царица, Мария Григорьевна, вступилась. Взяла мать к себе верховой боярыней, мамкой к царевне Ксении. Так что снова ласкают ее, да вот и меня заодно. Хотя мне милей дворца служба в поле.
— Еще успеешь навоеваться, — проворчал Власьев. — Да ты, никак, прихрамываешь?
— Татарин поганый стрелой в коленку угодил во время стычки на украйне. Нога зажила, но короче стала. Так что и я уже получил прозвище. Дед — Немой, отец — Глухой, а я — Хромой.
— Без прозвища как вас, Пожарских, разберешь? — ухмыльнулся дьяк. — У тебя два родных брата да еще сколько двоюродных да троюродных. Есть еще ведь один Дмитрий?
— Да, мой троюродный брат Дмитрий Петрович. Ему прозвище Лопата дали, за что, правда, не знаю. Разве что нос очень широкий, лопатой.
— Давай я тебя с нашими гостями познакомлю, — напомнил дьяк князю о делах.
По очереди подходили чужеземцы, каждому из которых Пожарский крепко жал руку, пристально вглядываясь в лицо, чтобы лучше запомнить. Жак де Маржере представлял своих подчиненных:
— Давид Гилберт. Роберт Думбар. Роман Орн. Михаил Желебовский. Андрей Лега.
— Лихие, видать, вояки! — обратился Пожарский вновь к дьяку. — Аль Борис уже своим воинам не доверяет?
— У них военное ремесло познатнее нашего, — невозмутимо ответил Власьев. — Строю лучше обучены и огневому бою. Так что ты меньше гордыни проявляй, а больше присматривайся. Оно полезнее будет. Где ночуем?
— Верст через десять, у села Красного, стоянка оборудована. Там и обед готовится, и баня.
— Баня — это хорошо! — мечтательно почмокал губами дьяк. — Сколько месяцев, почитай, по-нашему, по-русски, не парился. Все в каких-то лоханях мылся. Тьфу! Одна мокрота.
Несколько новых, свежесрубленных изб ожидали гостей у околицы большой деревни.
Из маленького оконца брусяной[8] избы валил густой дым.
— Пожар? — опасливо поинтересовался Думбар.
— Нет, это и есть баня! — рассмеялся толмач Заборовский. — Идите смелее.
Раздевшись в предбаннике, гости робко, гуськом стали пробираться в жаркое полутемное помещение.
— Дверь быстрей закрывайте, пар выпустите! — прикрикнул на них Афанасий Иванович, уже лежавший на полке рядом с каменницей.[9] — Эй, малец, плесни еще!
Густой пар заставил иностранцев кашлять и протирать глаза под задорные шутки русских. А малец, к их ужасу, вдруг схватил березовый веник и начал что было силы хлестать нежное и полное тело дьяка, который не только не возмутился, но, напротив, начал издавать зычное уханье, выражая большое удовольствие.
Невозмутимым остался лишь Мартин Бер, который сидел рядом с дьяком и повторял, как ученик, его могутные выкрики:
— Чеши мне хребет! Похвощи меня! Щелоку! Здоров ты парившись.
Наконец кумачовый от жары дьяк с воплем выскочил из мыльни и прямо с берега речки ухнул в воду. Его место на полке занял Пожарский, затем, когда и он убежал к реке, мужественно подставил под веник свою покрытую шрамами спину капитан. Ему неожиданно понравилась жаркая баня, чего нельзя было сказать о Думбаре, с которым произошла комическая история. Пока остальные парились, Думбар, слегка ополоснувшись, быстро оделся и отправился по берегу вдоль реки, откуда, как уловил его чуткий слух, раздавался задорный девичий смех.
Когда он выглянул из-за кустов, то увидел, что недалеко от берега плещутся девушки, видно выскочившие из расположенной неподалеку деревенской бани.
— Русалки! И какие красивые! — жарко прошептал ловелас и подался вперед.
Девушки заметили бравого вояку и со смехом начали брызгать в него водой. Думбар, притворно рассердившись, сделал вид, что собирается войти в воду. «Русалки» с визгом отступили, и вдруг одна из них погрузилась в воду с головой.
Подруги всполошенно закричали, не зная, как помочь девушке, видимо попавшей в водоворот. Тогда Думбар, не мешкая, решительно бросился в воду, в несколько мгновений настиг девушку и с ней на руках вышел на берег.
— Моя нимфа, — нежно произнес толстяк, не обращая внимания на потоки воды, стекавшие с его некогда щегольского костюма.
Он потянулся к девушке губами, та послушно подставила свои, но… кто-то из подруг крикнул что-то предостерегающее, и девушка, выскользнув из объятий героя, бросилась бежать. Думбар, разгоряченный, несмотря на купанье, бросился было за ней, но услышал сверху смех. Это прибежали на крики девушек его товарищи.
— Наш донжуан и здесь нашел себе пассию! — воскликнул Гилберт.
Девушка издалека что-то прокричала.
— О чем она? — растерянно спросил Думбар у толмача.
— Она назвала тебя своим ангелом-хранителем!
— Ну зачем уж так возвышенно! Я предпочел бы более земные проявления благодарности.
В избе их ждали свежеструганые столы, на которых стояли только солонки, перечницы да флаконы с уксусом.
— Не густо, — обеспокоенно сказал Думбар шедшему за ним следом Гилберту. Он неожиданно почувствовал зверский аппетит, заставивший его на время забыть свою нимфу.
— Пища русских хоть груба, но обильна, — сказал Заборовский, правильно понявший красноречивый вздох толстяка. — Голодным из-за стола не выйдешь!
Тем временем дьяк неторопливо занял место в переднем углу, по правую руку сел молодой князь, рядом с ним пригласили сесть капитана. Остальные иноземцы расселись следом за Маржере, не чинясь, меж ними и толмач. По левую руку от дьяка заняли свои места служилые люди строго по старшинству.
Слуги внесли большой хлебный каравай и поставили перед дьяком. С благоговением его понюхав и перекрестив, дьяк начал заниматься, с точки зрения иностранцев, странным делом: отламывать от каравая внушительные куски и передавать их через слугу поименно:
— Это тебе, князь Дмитрий Михайлович! Отведай хлеб-соль!
Пожарский встал, поклонился и принял с благодарностью. Понимая, что в чужом доме надо и действовать по чужому уставу, Маржере и остальные гости сделали то же самое.
Затем двое слуг внесли внушительных размеров братину,[10] наполненную хмельным медом, и ковш с закругленной рукоятью. Дворецкий, зачерпнув из братины полный ковш, подал его дьяку. Тот встал и, взяв ковш, торжественно провозгласил здравицу государю, назвав все его титулы. Потом по очереди выпил каждый из присутствующих.
Не торопясь, слуги расставили перед каждым из пирующих небольшие оловянные миски, а по центру стола — большие блюда с двумя, а то и с четырьмя ручками, так что вносили их по двое — четверо слуг. На них — различное холодное мясо, нарезанное тонкими ломтями, чтобы можно было брать руками, — баранина, яловина,[11] свинина, заячьи тушки, лосятина, куры и утки. Рядом ставились блюда с овощами: редькой, солеными огурцами, квашеной капустой, грибами, чесноком.
Одна за другой появлялись братины с медами белым и красным, обарным и ягодным, а также с пшеничным вином[12] добрым и боярским. Была даже греческая мальвазия.
— Ты не очень нажимай, — шепнул Гилберт Думбару, засунувшему в рот сразу ползайца и пытавшемуся пропихнуть его внутрь с помощью доброго глотка ягодного меда, очень ему понравившегося и вкусом и цветом, а главное — крепостью. — Это ведь только начало. Говорят, у русских принято подавать по сорок-пятьдесят блюд.
Действительно, слуги продолжали таскать из поварни одну ведерную кастрюлю за другой. За холодными мясными закусками пошли мясные кушанья вареные — шти, уха и рассол, которые хлебали по двое-трое человек из одной мисы. Меж ухами подавали пироги с мясом, рыбой, горохом и крупами. Затем появились кушанья жареные — печеные и сковородные: гусь с кашей, бараньи ножки, начиненные яйцами, свиные головы под студнем с чесноком и хреном.
Хозяин тем временем произносил здравицу за здравицей, перейдя от царствующего дома к присутствующим, понуждая пить снова и снова. Если кто-то, на его взгляд, плохо ел, он выбирал кусок от стоявшего перед ним опричного[13] блюда и, положив на миску, посылал со слугой. Тот, кому предназначался кусок, должен был встать, поблагодарить за хлебосольство и обязательно съесть, изображая на лице удовольствие, чтобы не обидеть хозяина. Маржере, которому был послан огромный жирный кусок окорока, попытался было с брезгливостью отказаться, но предостерегающий взгляд Заборовского заставил его подчиниться.
Хуже пришлось Мартину Беру. Бедный студент, боясь опьянеть, оставил очередной ковш с медом нетронутым, но получил тут же от все подмечавшего хозяина объемистую чашу с водкой, которую вынужден был выпить стоя и залпом, «полным горлом», как посоветовал ему Афанасий Иванович, после чего вскоре впал в буйное веселье и начал горланить лихую студенческую песню. Думбар, гогоча как жеребец и часто икая, пытался подпевать.
Власьев, понимавший латынь, улыбался, однако, когда студент начал орать совсем непристойное, покачал головой и сказал дворецкому:
— Зови гусельников, пусть споют что-нибудь наше.
В избу вошли и глубоко поклонились, правой рукой коснувшись пола, двое скоморохов, одетых поверх исподнего в шубы, вывернутые мехом наружу, в масках и колпаках. Один держал в руках гусли, другой — гудок.[14] Полилась старинная песня:
Капитан, уснувший было, от унылого речитатива, спросил у толмача:
— О чем поют эти люди?
— О нашем покойном государе Иване Грозном.
— Жестоком? — поправил Маржере.
— Он не со всеми бывал жесток, — не согласился толмач. — В песне поется о его справедливости и щедрости, проявленной к разбойнику.
— Вот как? — удивился капитан. — Значит, народ хранит о нем добрую память? Жалеет? А правда ли, что жив его сын, царевич Димитрий?
Толмач испуганно отшатнулся:
— Нет, нет!
Власьев, слышавший разговор, пронзительно взглянул на капитана:
— Откуда у тебя такая весть? Иезуиты нашептали? Им бы этого очень хотелось.
Маржере гордо выпрямился, насколько было возможно после стольких ковшей меду, и закрутил ус:
— Я с иезуитами не якшаюсь! Я — гугенот и воевал с католиками. А слышал просто пьяную болтовню какого-то шляхтича в краковской харчевне.
— Враки все это! — строго сказал Власьев. — Истинно известно, что царевич покололся сам во время приступа падучей и похоронен в Угличском соборе.
Он перекрестился, потом зыркнул глазом на скоморохов:
— Что пристали? Давайте еще, да повеселей!
Гусельник и гудочник ударили по струнам и громко запели:
— Это, видать, веселая песня! — заметил Маржере. — О чем она?
— Вроде той, что пел ваш студент. О пьяном веселье, — насмешливо ответил толмач.
Мартин Бер, будто услышав, что говорят о нем, вдруг снова заорал какую-то песню, вызвав очередной взрыв хохота Думбара и неодобрительный взгляд дьяка.
Взмахом руки он велел дворецкому внести молочный кисель и фрукты, вываренные в сахаре, что означало окончание пира.
…Пожарский ехал то впереди со своим вооруженным отрядом, то останавливался, пропуская мимо себя длинный обоз, медленно тянущийся по узкой дороге с тесно обступившими ее вековыми соснами и елями. Неожиданно лес распахнулся, и путники увидели город, состоящий в основном из церквей да деревянных изб, разбросанных как попало по ровной, чуть заболоченной местности.
— Смоленск! — громко возвестил князь и, пришпорив коня, устремился к Днепру, где уже была готова переправа — широкий, крепко сколоченный мост, ведущий к крепости, расположенной на левом, очень отлогом берегу, прорезанном глубокими оврагами. Впрочем, сама крепость была построена чуть далее, на крутых холмах.
«Этот замок кажется неприступным! — заметил про себя Маржере, подъехав к стенам высотой более чем в три копья. — Орешек покрепче бургундской крепости Жан-де-Лоне, которую мы брали под знаменем герцога де Вогренана!»
Кое-где кирпичные стены были еще не достроены, и поэтому бросалась в глаза толщина их основания — никак не меньше трех сажен.[15]
— Таким стенам никакие пушки не страшны, — сказал Гилберт, заметивший интерес капитана к фортификационным сооружениям.
Ворота гостеприимно распахнулись, и путники въехали внутрь просторной крепости. Строители-каменщики работали сразу в нескольких местах — и на стенах, и на кладке башен, и на строительстве собора в центре крепости.
— По повелению государя нашего Бориса Федоровича строится каменная крепость вместо прежней, деревянной, — объявил Власьев иностранцам. — Ведь Смоленск не зря называют город-ключ. Ему держать границу от лихих людей.
Строителями веселым зычным голосом командовал высокий мужчина с окладистой, короткой бородой, в темном суконном кафтане и поярковом колпаке.
— А это наш зодчий Федор Конь, — не без похвальбы продолжал Власьев, — не смотрите, что по-мужицки одет. Мастер знаменитый. Белый город строил — третью крепостную стену вокруг Москвы. Стена знатная, из белого камня, а шириной — на лошади проехать можно. Маржере слушал очень внимательно, а когда дьяка позвали к воеводе, выскользнул следом из гостевой избы и отправился вновь осматривать стены и башни.
— Башня от башни отстоит на двести сажен, — бормотал он про себя, отмеривая длинными ногами расстояние снова и снова. — Всего башен, четырехугольных и круглых, тридцать восемь, каждая шириной девять-десять сажен, — значит, общая окружность крепости около мили…
Он остановился у самой большой башни «Орел», пытаясь подсчитать количество бойниц.
За этим занятием его застал Гилберт, тоже вышедший прогуляться.
— Эй, куманек! — довольно фамильярно окрикнул он кагана. — Не боитесь, что русские примут вас за шпиона? Вон тот бугай с бердышом уже подозрительно к вам приглядывается…
Капитан, обычно столь находчивый и властный, неожиданно смешался:
— Интересуюсь, да! Может, нам с вами придется эту крепость защищать?
Гилберт ухмыльнулся еще шире:
— Помилуйте, капитан, от кого? От поляков? Они вроде сейчас нападать на русских не собираются. Однако, думаю, гетман литовский Лев Сапега дорого бы дал за сведения о новой крепости.
— Не понимаю, о чем вы…
— Уж так и не понимаете? Полно, капитан! О чем вы перекинулись словечком с гетманом, когда мы собирались выезжать из Кракова? Неужели забыли, как за вами пришли его люди, когда мы закатили прощальную пирушку?
Маржере в ярости схватился за шпагу.
— Вот это не надо! — в притворном испуге взмахнул руками Гилберт. — Вы же сами говорили, что дуэли в России запрещены!
— При чем здесь дуэли? — хищно оскалил зубы Маржере, оглядываясь по сторонам, не видят ли их посторонние. — Я вас просто проткну, как тряпичную куклу…
— Полно, голубчик, — став серьезным, сказал Гилберт. — Вы думаете, только польские военачальники интересуются русскими секретами?
Маржере удивленно поднял брови:
— Вы хотите сказать, что…
— Вот именно. К польским грошам вы сможете прибавить звонкие английские шиллинги. Если, конечно, будете регулярно сообщать то, что сочтете полезным.
— Кому, не вам ли?
— Именно. Пока я рядом. Если же мне придется срочно отбыть, сообщу другой адрес.
— Однако какой вы негодяй! Русские взяли вас на службу, чтобы вы их защищали с оружием в руках, а вы…
— А что делать, куманек! — притворно вздохнул Гилберт. — Старость не за горами, и если сам не позаботишься о себе, придется околевать с голоду в придорожной канаве. Помните, наш студент перевел нам русскую поговорку. Как это? «Ласковый теленок трех коров сосет».
— Двух, Гилберт, только двух!
— А трех все же лучше!
И два пройдохи, расхохотавшись, обнялись за плечи, чтобы идти к гостевой избе, где ждал их Думбар с вожделенным жбаном меда.
…Все ближе и ближе Москва. Миновали город Можайск со стоящей рядом небольшой крепостью Борисов, являющейся миниатюрной копией смоленской. Последняя остановка — царская вотчина — Вяземы, где по повелению Бориса воздвигался новый великолепный собор.
Царское село Вяземы не случайно названо «порогом Москвы». Уже через несколько часов кавалькада путников въехала на Поклонную гору и смогла любоваться золотыми куполами церквей великого города, сверкающими как алмазы в царской короне.
Дьяк Власьев, поспешно выйдя из своей колымаги, осенил себя широким крестным знамением, повернувшись лицом к возвышающейся над Кремлем златоглавой колокольне Ивана Великого, затем отвесил поясной поклон, коснувшись правой рукой земли, и прошептал:
— Здравствуй, матушка-Москва!
Стоявший поодаль Маржере заметил слезы на щеках дьяка и вздохнул, невольно вспомнив свой родной Париж, где не был уже более пяти лет. Окинув еще раз панораму города, он негромко сказал стоящему рядом Гилберту:
— Москва, пожалуй, не уступит самым большим столицам мира.
Кортеж, возглавляемый Пожарским, начал спускаться с Поклонной горы. Миновали Дорогомиловскую ямскую слободу, переправившись через узкую в этом месте Москву-реку, мимо стен Саввинского монастыря поднялись к земляному валу, огороженному частоколом мощных бревен.
— Скородом![16] — не без торжественности указал на стены толмач. — Это значит — быстро выстроенная! Хотя еще называют Скородум. То есть быстро задуманная.
— Почему такое странное название? — не удержался от вопроса любознательный капитан.
— Эта крепостная стена вокруг Москвы была сооружена меньше чем за год, для защиты посадов от татарской конницы.
— Давно?
— В лето тысяча пятьсот девяносто первое. В тот год, когда преставился угличский царевич. Татары в очередной раз грозились напасть на Москву, вот Борис Федорович, тогдашний правитель при государе Федоре Иоанновиче, приказал построить.
— Конницу такая стена удержит, — прикидывая высоту вала частокола, заключил капитан. — Но от огненного боя сгорит.
— Это ведь только первая стена, — усмехнулся толмач. — Но она защищает город со всех сторон. Далее идет стена Белого города.[17]
— Белый город?
— Да, назван Белым потому, что стена сложена из белого известняка. Строил тот самый Федор Конь, которого мы видели в Смоленске. И это еще не все. К Кремлю примыкает Китай-город, и, наконец, сам Кремль, где царская резиденция и казна, огорожен тремя стенами. Он практически неприступен, потому что вдобавок с двух сторон его защищают реки Москва и Неглинная, а с третьей — глубокий ров. Впрочем, скоро увидите.
У Никитских двухарочных ворот с двумя высокими островерхими башнями движение замедлилось, поскольку проехать могли не более двух всадников одновременно. Под сводом ворот Маржере поднял голову и увидел массивные решетки, готовые опуститься в любую минуту.
За воротами проезд несколько расширился. Иноземцы жадно смотрели по сторонам, замечая за высокими деревянными заборами вычурные бочонки теремов богатых хозяев. Улица была вымощена брусом, поверх которого продольно постланы доски. Навстречу все чаще стали попадаться всадники, повозки, даже сани, и возничему колымаги Власьева пришлось пустить в дело тулумбас,[18] медным звоном заставлявший встречных уступать дорогу.
У высоких стен Белого города еще одна воротная башня с такими же массивными решетками. Стражники с алебардами, предупрежденные передовым отрядом, молча пропускали гостей. Богатые терема попадались все чаще.
— Здесь раньше, при Иване Грозном, стояли опричники, — показал толмач на высокие трехъярусные брусяные дома за мощным забором.
Внезапно улица окончилась, и за поворотом путники увидели широкий луг, а за ним высокую, с зубцами, красную стену с высокими башнями. За стеной едва виднелись зеленые крыши дворцов и купола церквей.
— Кремль! — догадался Маржере.
У реки Неглинной, протекавшей вдоль стен, свернули влево, к крытому арочному мосту с высокими двухъярусными армадами. Здесь шла оживленная торговля пряниками, сладостями, белой рыбой; на берегу реки женщины полоскали белье. Чуть дальше, в курядном ряду,[19] торговали живой домашней птицей. Всполошенное кудахтанье и кряканье перебивалось пронзительными криками торговцев. За прилавками курядного ряда шел широкий, но, видимо, мелкий пруд,[20] через который можно было перебраться по длинному, в шестьдесят сажен, свайному мосту. За ним виднелось необыкновенно высокое круглое здание, напоминавшее пузатую бутыль. Из-под суженной крыши шел дым.
— Что это? На церковь вроде не похоже? — удивился Бер.
— Пушечный двор![21] — лаконично бросил толмач.
Миновав Воскресенский крытый мост,[22] где также раздавались бойкие крики торговцев пряниками, кавалькада приблизилась к массивным каменным воротам, соединявшим стены Кремля и Китай-города. Наконец колымага дьяка, а за ней все всадники въехали на Красную площадь. У иностранцев зарябило в глазах от изобилия ярких красок. Прямо перед ними, на противоположной стороне площади, парил в голубом небе девятиглавый Покровский собор,[23] от сказочной красоты которого захватывало дух. У кремлевской стены, отгороженной от площади глубоким рвом, расположились восемь миниатюрных деревянных церквушек. Возле них толпились священники, монахи, богомольцы, юродивые. Справа, у высокого крыльца Земского приказа, в ожидании решения своих дел стояли просители. А по всей площади шли торговые ряды. Слева возвышалось длинное, во всю площадь, каменное трехъярусное здание Гостиного двора, где располагались лавки заморских купцов, а из подвалов доносился кислый винный запах.
Думбар тревожно раздул ноздри:
— Разрази меня Бог, если это не мальвазия.
Вслед за колымагой Власьева всадники подъехали к широкому, в шестнадцать сажен, трехарочному мосту, ведущему в Кремль через ворота во Фроловской[24] башне. Мартин Бер остановился было возле монахов, торговавших красиво украшенными рукописными книгами в богатых переплетах из телячьей кожи с серебряными застежками, но окрик сопровождавшего поезд призвал его поспешно потрусить за остальными.
На узкой улочке Кремля громкий звон тулумбаса заставил всадников прижаться к стене Чудова монастыря, пропуская пышно украшенный каптан,[25] который везла шестерка аргамаков, запряженных цугом. Возница, сидевший верхом на передней лошади, ударяя в тулумбас, каждый раз вопил:
— Дорогу боярину Федору Никитичу Романову!{10}
Бежавшие впереди и рядом с капитаном прислужники, одетые в ярко-красные суконные кафтаны, бесцеремонно отпихивали зевак в стороны.
На Ивановской площади у подножия колокольни Ивана Великого толпился разнообразный люд. Здесь были и дворяне, и купцы, и крестьяне в серых сермягах и поярковых колпаках. Меж ними сновали ярыжки с медными и глиняными черницами на шеях, предлагая написать прошение в один из многочисленных приказов, расположенных в длинном унылом двухэтажном здании, находящемся слева от колокольни.
Здесь процессия остановилась, потому что Афанасий Иванович Власьев отправился за распоряжениями в Посольский приказ. Внимание иностранцев приковала, естественно, сама колокольня.
— Я такой высокой башни нигде не видел! — признал Маржере, задрав голову и придерживая шляпу рукой.
— Она сначала не была такой высокой, — объяснил Заборовский. — Верхняя часть, вот от того венца, достроена по повелению царя Бориса. Там, наверху, день и ночь — караульные, смотрят, не появился ли враг с какой-нибудь стороны. И если возникла опасность, бьют вот в этот колокол. Такого большого нет нигде в мире!
Действительно, рядом с колокольней стояла деревянная башенка, внутри которой висел колокол, поражавший своими размерами.
— Весит больше двух тысяч пудов! — продолжал толмач. — Чтобы раскачать язык этого гиганта, требуются усилия двадцати четырех человек. С первым ударом колокола начинают звонить другие на всех семнадцати башнях Кремля, и горожане тут же узнают об опасности. Звонят в этот колокол и по большим праздникам, а также при въезде иностранного посольства.
Из Посольского приказа показался Власьев и начал давать распоряжения. Он попросил Пожарского проводить иностранных воинов в стрелецкую слободу, за Москву-реку, где для них уже были приготовлены квартиры, Мартину Беру и молодым купцам было приказано отправляться в Немецкую слободу, в Заяузье, а лекарей Власьев попросил подождать, — возможно, что их сегодня захочет увидеть сам государь…
Дьяку Власьеву было велено явиться в царские покои незамедлительно, сразу после вечерней молитвы, в первом часу ночи,[26] хотя обычно в это время государь делами не занимался, а предавался семейным утехам.
После коронования Борис Федорович не захотел жить в комнатах покойного государя, поэтому приказал к прежнему дворцу пристроить новый, деревянный. Конечно, каменный был бы и красивее и прочнее: никакой пожар не страшен, и оборону держать, в случае надобности, надежнее, но Борис посчитал, что для здоровья деревянный, из бруса, полезнее.
А здоровье в последние годы стало его тревожить все более. Несмотря на то что и пятидесяти еще не исполнилось, чувствовал он себя дряхлым стариком, и его чаще стали тревожить мысли о смерти. Слишком много пришлось пережить этому человеку, прежде чем он добился самого заветного в своей жизни — царского стола.
Стольник ввел Власьева в горницу и, пятясь, молча удалился. Дьяк был поражен видом царя, которого не видел почитай год. Некогда круглое, даже румяное лицо Бориса резко осунулось, пожелтело, скулы стали более заметными, выдавая его татарское происхождение. Щеки и борода были покрыты редкими рыжими волосами, и лишь усы, по-казацки загибающиеся вниз, были по-прежнему густыми. Черные глаза, всегда казавшиеся большими, стали огромными, в пол-лица, и выражали не, как прежде, доброту и участие, а глубокую скорбь. Чувство пронзительной жалости охватило в общем-то весьма нечувствительного дьяка, и он молча грохнулся перед царем ниц.
Голос Бориса остался, однако, прежним — глубоким и бархатным, как бы обволакивающим собеседника:
— Ну, полно тебе, Афанасий Иванович, передо мной чиниться. Садись, рассказывай про свое заморское путешествие.
Дьяк послушно поднялся с мягкого персидского ковра и сел на обитую алым бархатом скамеечку против царского трона. Маленькие разноцветные стекла окон пропускали мало света, поэтому в горнице горели свечи. Только сейчас дьяк разглядел, что поодаль, за столиком с шахматами, сидит Семен Никитич Годунов.{11}
Хоть и приходился он государю дальней родней, но дьяк знал, что жалует его Борис более ближних. Будучи главой сыска, отличался Семен Никитич по части наушничества, умело потворствовал доносительству слуг на господ, детей на отцов, жен на мужей. Сухонький, маленький, в непомерно большой горлатной шапке и в столь же непомерно большой бобровой шубе, в которой и не видно было его тщедушного тела, Семен Никитич говорил тихим, пришепетывавшим голоском, раздувая и без того болезненную подозрительность государя, видевшего вокруг себя изменников.
Сейчас он улыбался дьяку, как можно приветливее растягивая узкие губы, но Афанасий Иванович поневоле почувствовал липкий страх: «Не донес ли кто на меня напраслину?»
— Из грамот твоих знаем мы о переговорах с цезарем Рудольфом и польским Жигимонтом,{12} — продолжал тем временем Борис. — Надо сделать так, чтобы, когда польское посольство прибудет в Москву, были здесь послы и от короля шведского. Глядишь, испугаются и посговорчивее будут, уступят нам Ливонию. А шведы, испугавшись нашего союза с ненавистным им Жигимонтом, признают за нами Нарву. Как мыслишь?
Дьяк склонил голову, выражая восхищение хитроумности государевой. Что и говорить, был Борис Федорович не столько воином, сколько политиком, умел плести интриги не только в своем, но и в иноземных дворцах.
Внезапно Борис жалобно застонал и ухватился руками за высокий, обшитый жемчугами ворот рубахи.
— Вот опять удушье проклятое! — прохрипел он.
— Я врача тебе привез отменного, батюшка государь! — заторопился сказать дьяк.
— Где же он?
— Здесь, на твоем подворье! Известный лекарь, проверенный. На моих глазах одного купца от водянки излечил.
— Что медлите? Зовите его сюда!
Уловив повелительный жест государя, карла, крутившийся у его ног, принес из поставца графин венецианского стекла с каким-то питьем. Сделав несколько глотков и сморщившись, — видать, питье было горьким, Борис пожаловался:
— Меня сейчас лечит капитан шотландской роты Габриель. Славный вояка, но врач… Больше мастер мне голову брить да кровь лошадям пускать. Вот сделал какое-то питье, горькое, а легче не становится.
В горницу вошел, кланяясь и прижав широкополую шляпу к груди, Каспар Фидлер, одетый в черный кургузый камзол с отложным белым воротником и такие же кургузые штаны черного цвета, худые кривые ноги обтягивали белые чулки.
— Что он бормочет? — нетерпеливо перебил его речь Борис.
— Приветствует твою милость, — пояснил дьяк.
— Потом! Пусть сделает что-нибудь!
Фидлер подошел ближе, пристально поглядел на царя и, повернувшись к младшему брату, что стоял поодаль и держал в руках кожаный сундучок, рукой подозвал его. Достав из сундучка какой-то флакон, с поклоном подал его государю.
— Что это? — подозрительно спросил Борис.
— Говорит, надо понюхать из сего сосуда, — перевел дьяк. — Очистит мозги.
Борис поднес открытый врачом флакон к носу и осторожно вдохнул. Запах был столь резким, что он закашлялся, а из глаз потекли слезы.
— Он что, отравить меня захотел! — закричал было Борис. Но, неожиданно почувствовав облегчение, вдруг улыбнулся: — Лучше стало! Ай да лекарь, дай Бог тебе здоровья!
Фидлер тем временем решительно расстегнул белое парчовое, отделанное золотом верхнее одеяние государя, а также ворот рубахи, осторожно прощупал взбухшие на шее вены, потом приник ухом к рубахе, вслушиваясь в удары сердца, наконец крепко взял царя за запястья рук и, покачав головой, что-то сказал, полуобернувшись к дьяку.
— Что он говорит? — капризно спросил Борис.
— Спрашивает, не испытываешь ли ты удушья, особенно ночью, во сне?
— Испытываю. Из-за того плохо сплю, — хрипло, с испугом сказал Борис. — Откуда он узнал? Не колдун ли?
— Говорит, что узнал по твоим жилам. Бывает, что сердце колотится?
— Бывает, — согласился Борис, глядя на медика со все возрастающим уважением.
Фидлер произнес еще несколько фраз, потом отошел и поклонился.
— Болезнь у тебя серьезная, государь, — перевел Власьев. — Лечить надо долго, настоями из трав и драгоценных каменьев.
— Каких трав?
— Говорит, что будет подбирать.
— Ты ему скажи, что в царском саду растут все аптекарские травы, пусть посмотрит.
— Ему нужна трава по названью конурат. Растет лопушками, ягоды воронова цвета с отливом, собой низка, как капуста. А пока он готовит снадобье, ты должен постоянно носить при себе большой, величиной с лесной орех, алмаз, отгоняющий дурные ночные видения. И нюхать настой из сухого листа шиповника, тот, что он давеча тебе давал.
Фидлер с братом, пятясь, удалились, оставив государю флакон, из которого он периодически вдыхал запах.
— Видать, знатный лекарь, — заметил повеселевший Борис. — Может, и поможет мне излечиться. Ну, а еще кого к нам привез, рассказывай.
— Воинов…
— Это я знаю. Читал, — кивнул государь.
— А еще хироманта знатного, — оглянувшись на дверь, тихо произнес дьяк. — Астролога, что по звездам судьбу человека предсказать может. У цезаря его сманил за большую мзду.
Глаза государя загорелись.
— Поместить его в Тайницкую башню, чтоб никто его не видел! А мы ночью придем к нему посмотреть на его ведовство!
Борис расслабленно смежил веки и дал знак рукою, отпуская дьяка. Власьев поднялся, однако, вместо того чтобы уходить, напротив, подошел к царю вплотную и тихо, с потаенной дрожью произнес:
— Не вели казнить, батюшка государь…
— Чего еще?
— В Польше по корчмам слух пошел. Будто там объявился царевич Угличский…
Бориса будто ударили. Он вскочил, отшвырнув ногой карлу, игравшего у его ног с котенком.
— Что? Какой царевич? Спустя девять лет, как его схоронили?
— Бают, что будто подменили его.
— Врут! — с силой воскликнул Борис. — Его мамка Волохова, что с малолетства с ним была, предана нашему роду, глаз с него не спускала, пока…
Он поперхнулся было, но продолжал:
— Пока не зарезался сам, играя в тычку. Пятнадцать дней тело его лежало в соборе, чтоб каждый проститься мог. Видели его и дьяк Вылузгин, и митрополит Гевласий, и князь Василий Шуйский. И тайные мои лазутчики там были, что Дмитрия знали… Нет, это проклятый Жигимонт выдумал, чтобы рознь в народе нашем посеять.
— И бояре тоже, — раздался из угла голос притаившегося было Семена Никитича.
— Бояре? — повернулся к нему всем телом Борис и, замахнувшись посохом, зловеще произнес: — Что знаешь? Говори!
— Немцы служилые доносят из Царева-Борисова, будто свояк твой, Богдашка Бельский,{13} как крепость построил, на пиру похвалялся, что теперь-де Борис царь на Москве, а он, Богдашка, царь в Борисове.
— Пустое брешет! — раздраженно отмахнулся Борис. — Что, ты его не знаешь? Пусть и торчит там, на украйне, на веки вечные!
— А еще доносят служилые немцы, — тем же шипящим от ненависти голосом продолжил Семен Никитич, — жалобился Богдашка на неблагодарность государеву: деи, он, Бельский, посадил Годунова на престол. А тот нет чтобы править вместе, вдвоем, убрал своего заступника из Москвы.
— Этот заступник сам норовил на престол сесть, — криво ухмыльнулся Борис. — Так что передай: Москва, мол, слезам не верит! Жалобщик нашелся… Царевич-то тут при чем?
— А притом, — с затаенной злобной радостью закончил наушник, — что, когда совсем опьянел Богдашка, стал калякать, что есть, мол, справедливость Божья. Жив сын Иоаннов, убили другого, а он, Бельский, к спасению царевича тоже руку приложил. И тот-де благодарнее Бориса будет…
Огромные глаза Бориса начали вдруг выкатываться из орбит, он побагровел и снова схватился обеими руками за ворот так, что посыпался жемчуг.
Власьев и Годунов переглянулись, не зная, звать ли на помощь. Однако царь, не поднимая глаз, сделал отрицательный жест рукой.
Мысли липкие и страшные зашевелились в его голове. Он заговорил, вроде бы не обращаясь ни к кому:
— Ах, Богдашка, Богдан. Бог дал мне тебя как вечный крест. Связаны мы с тобой страшной тайной много лет.
…Почти год провел Иоанн Васильевич в суровом посту и глубокой молитве после гибели старшего сына. Каялся во всех грехах, велел по всем церквам поминать души тех безвинных, что были убиты им самим или по его приказу. Но к весне 1584 года вновь взалкало его грешное тело. Однажды вечером попытался изнасиловать невестку свою Ирину, жену блаженного Федора. Помешал случайно увидевший слуга, которого тут же зарезали по приказу царя. Но понял он, что знают о его не содеянном еще грехе родной брат Ирины Борис и его свояк, двоюродный брат жены Бориса, — Богдан Бельский. Все чаще на них с ненавистью останавливался мутный глаз царя. Что это значит, хорошо знали оба.
И тогда они решились. Выбрали час, когда во дворце все после обеда спали, остались с государем наедине, благо предложил он сыграть в любимую игру — шахматы. Повалили разом могучего старика навзничь и удушили подушкой. Когда судороги прекратились, Борис поднял подушку и, глядя на посиневшее, искаженное судорогой лицо любимого государя, скомандовал Бельскому:
— Беги, Богдаша! Кричи, что царь Иоанн Васильевич от внезапного удара преставился.
Так повязала их страшная тайна. Видит Бог, что Борис всегда дружески относился к свояку, несмотря на его строптивый, баламутный нрав и непомерное честолюбие. Он спас его через несколько дней, когда при коронации Федора науськанная боярами московская чернь потребовала его крови. Удалось убедить толпу, что Бельский будет сослан. Действительно, последующие годы тот провел воеводой в Нижнем Новгороде.
Вернувшись в Москву после смерти Федора, снова стал показывать свой характер. Ему, царю Борису, не хотел оказывать знаки уважения. Грубил, спорил чуть не до драки на потеху знатным боярам Мстиславским да Шуйским. Пришлось вновь отослать его на строительство новой крепости. Уезжал с почетом — со своим двором и войском. Так нет, не успокоился, змея.
Борис наконец поднял тяжелую голову и, не оборачиваясь на угол, где притаился Семен Никитич, сказал твердым голосом:
— Доставить в Москву. И не как знатного боярина, а — в оковах. Посмотрим, что он скажет на дыбе…
…при царе Борисе учинены были выезжим немцам, которые выехали с посланником, с Офонасьем Власьевым ис цезарские земли поместные и денежные оклады.
700 чети, денег 80 рублев, капитан Яков Маржерет.
…Давид Гилберт, Роберт Думбар, по 400 чети, 35 рублев.
…Яков Гок… 30 рублев.
Выписка из архива Посольского приказа
Проводив капитана и его воинов в Заречье, в стрелецкую слободу, где их определили в иноземный отряд царских телохранителей, князь Пожарский вернулся в Кремль, чтобы повидаться с любимой матушкой. На царском подворье увидел друзей, тоже стольников — князей Никиту Хованского и Ивана Хворостинина.{14} Они несли службу по охране дворца.
Дородный Никита Хованский, самый старший из друзей, приходился свояком Дмитрию — был женат на его сестре Дарье. Весельчак-балагур, любитель хорошего стола и доброй охоты, Никита слыл и бывалым воином. Успел отличиться в походе против шведов под командованием отца Ивана — знаменитого воеводы, думного боярина Андрея Ивановича Хворостинина. Теперь он с нетерпением ждал какой-нибудь новой военной кампании, чтобы самому стать воеводой.
Дмитрий спешился у ворот, поскольку стольникам не полагалось быть верхом на царском дворе, и, отдав поводья своего вороного стремянному Семену Хватову, подошел к приятелям, склонившись в полушутливом поклоне:
— Как здоровы, князья, будете?
— Князь Дмитрий! — громогласно возвестил Хованский. — Как ты приехал, здоров ли?
— Уже слышали о твоей удаче, — мелодичным капризным тенором поддержал Хворостинин. — Дьяк Власьев тебя в приказе нахваливал. Ублажил ты его волюшку! Жди теперь от государя новой дачи где-нибудь здесь, близ Москвы!
Дмитрий досадливо отмахнулся:
— По мне ли такая честь. Я бы лучше с тобой, князь Никита, в Ливонии за наши исконные города сабелькой помахал.
— Будет, будет война! Чует мое сердце! — радостно ответил Хованский. — Сумеешь свою доблесть показать. Как, не ослабела рука?
— Каждый день со своим дядькой Надеей на палках бьемся, — серьезно ответил Дмитрий, показывая свою правую руку, сжав могучий кулак.
— Силен, силен, — благодушно хлопнул его по плечу Никита. — Такой рукой одним ударом любого пополам развалить сможешь.
— А мне ваши воинские забавы огорчительны, — прежним капризным голоском заявил Хворостинин. — Сказывают, будто государь собирается послать отроков за границу учиться. Хочу челом бить. Может, отпустят в италийские земли. Там учатся все лучшие польские дворяне.
Хованский перекрестился:
— Что ты мелешь, Иван! Там же паписты. Сразу начнут в свою веру обращать! Что скажет твой батюшка? Мало он, видать, бивал тебя в детстве. Иначе запомнил бы, что учиться латинскому — грех!
Сам Никита не сумел одолеть даже и славянскую грамоту, несмотря на усилия домашнего дьяка. Не раз князь Дмитрий расписывался за него при получении жалованья.
— Ты же знаешь, что патриарх наш воспротивился воле государевой, чтобы здесь, в Москве, открыть школу с иностранными учителями.
— Университет, — поправил Хворостинин.
— Вот-вот! Сказал: не нужно нам, чтобы крамолу заносили. И так уж этих иноземцев развелось — что солдат, что купцов…
— Тише ты, — предупредил его Дмитрий. — Не забывай про государевы уши.
Никита не успокаивался:
— Смотрю я на тебя, Иван. Всем ты взял, красный молодец, да и только. А все тебя в смуту тянет! Светские стишки, сказывают, начал слагать, будто скоморох какой! Княжеское ли это дело?
— Не стишки, а сатиры, — поправил князь Иван. — Подобно древним эллинам.
— Сатиры? — переспросил радостно Дмитрий, сам хорошо знавший античную литературу. — Неужто взаправду? А ну, прочти!
— Тьфу, и ты туда же! — сплюнул Никита. — Сатанинское то дело — вирши слагать.
Хворостинин, довольный, что нашел человека понимающего, не заставил себя упрашивать и прочел звонко, чуть завывая:
Люди сеют землю рожью,
А живут будто все ложью!
— Не слышит тебя наш патриарх Иов!{15} — воскликнул, снова крестясь, Хованский. — Проклял бы тебя за окаянство твое! Это кто же живет ложью?
— Все живут ложью! — накаляясь обличительным гневом, заявил Иван воинственно. — На словах песни и пляски осуждают, а сами на гульбищах что вытворяют? Не веришь? Сходи посмотри на монахов Чудова монастыря! Тут рядом. Погрязли в пьянстве, прелюбодействе!
— Успокойся, Иван! — угрюмо заметил Дмитрий. — Наша с тобой забота — воинское дело. Русь от недругов охранять. А души пусть спасают церковники.
Увидев краем глаза, что вокруг них начинает крутиться какой-то ярыжка, Дмитрий решил прервать жаркий спор:
— Ну, здорово бывайте, друже! Мне пора.
— Куда?
— Матушку хочу навестить. Она на царицыном дворе.
Оба князя с уважением поклонились:
— Передай своей матушке, Марии Федоровне, низкий поклон, — сказал Никита. — И нас не забывай. Приходи к нам в воскресенье обедать. Чай, Дарью давно не видел! И детушек наших.
Поблагодарив за приглашение, Пожарский отправился через двор к следующим воротам, ведущим в покои царицы. Узнавший князя слуга выскочил на крыльцо:
— В саду твоя матушка. Ступай туда.
В закатных лучах солнца цветущий яблоневый сад царицы, казалось, был покрыт розовой кипенью. Здесь и звуки, и запахи казались особо чистыми. Где-то вдалеке звенел девичий смех. Князь нерешительно направился туда по извилистой дорожке, усаженной шиповником. За поворотом показалась веселая лужайка, посреди которой на скамеечке, обитой бархатом, сидела княгиня Пожарская. Она вязала. Чуть в отдалении несколько девушек качались на качелях.
— Матушка, здорова ли ты? — склонился Дмитрий перед княгиней.
Княгиня радостно вскочила и нежно обняла сына.
— Какой ты у меня большой и красивый.
— Ну, полно, матушка, — засмущался Дмитрий.
Сейчас, когда они стояли рядом, было видно, как похожи мать и сын — оба статные, голубоглазые, с правильными прямыми чертами лица, с горделивой осанкой головы.
Княгиня Мария Федоровна была из старинного и независимого рода Беклемишевых. Издавна в этом роду почитались грамота и культура древних. Ее дед, Иван Берсень,[27] прозванный так современниками за колючий язык и неуступчивый нрав, был не только близким к великому князю придворным, имевшим даже свои палаты в Кремле, но и известным книгочеем. Он сдружился с философом и писателем из Афона Максимом Греком, приехавшим в Москву по приглашению великого князя Василия III для перевода греческих книг, оставленных ему в наследство матерью Софией Палеолог.
Вокруг Максима Грека и Ивана Берсеня сплотились люди вольнодумные, открыто осуждавшие неграмотность переписчиков церковных книг, распущенность нравов попов и монахов. Говорились злые слова и о великом князе, в государственных делах зело слабом.
Узнав от доносчиков о том, что говорят про него, великий князь не пожалел высокого гостя, заточил Максима Грека в дальнем монастыре, а Ивану Берсеню отрубил его непокорную голову на льду Москвы-реки, спустив тело в прорубь. Осталось в память москвичам лишь название одной из башен Кремля — Берсеневская.
Марья Беклемишева, выйдя замуж за Михаила Пожарского, принесла в его дом в качестве приданого библиотеку деда, состоявшую из книг как церковных, так и гражданских, преимущественно переводов греческих и латинских авторов, рано овдовев, княгиня всю свою заботу перенесла на детей, особенно выделяя Дмитрия, который в десять лет стал главой рода Пожарских. В его воспитании ей помогал свояк Надея из обедневшей ветви Беклемишевых, ставший дядькой молодого князя. Дмитрия обучали не только военному искусству и умению вести хозяйство, но и Священному Писанию, истории и риторике. Так что к пятнадцати годам, когда Дмитрий впервые оказался на царской службе, он выделялся среди сверстников образованностью, что, впрочем, никак не сказалось на его карьере.
Только теперь, когда княгиня стала мамкой царевны, Дмитрий получил чин стольника. Но мать, конечно, мечтала о большем — увидеть сына воеводой, а может, даже и в боярском чине, сидящим в думе государевой.
— Ну, князюшка, как порученье государево выполнил?
— Сказывают, дьяк Власьев доволен моей службой.
— Ты старайся ему угодить. Хоть не родовит дьяк, да близок к царю-батюшке!
Дмитрий досадливо повел плечом:
— Не люблю я, ты знаешь, чиноугодничества. Мне бы лучше подальше отсюда службу нести…
Мать ласково потрепала волосы на его голове:
— Ах ты мой гордынюшка! Нелегко тебе будет в жизни…
О сапог князя неожиданно ударился сафьяновый мячик.
Он наклонился, чтобы поднять его, а когда выпрямился, увидел, что перед ним стоит запыхавшаяся царевна Ксения.
Дмитрий с поклоном подал мячик царевне, невольно задержав взгляд на лице девушки, вспыхнувшем румянцем смущения. Царевна Ксения была хороша на диво — огромные черные, как у отца, глаза, толстая, в руку, темная коса, нежнейшая кожа…
— Беги, Ксения! Ты знаешь, негоже царской дочери показывать свое лицо посторонним, — с притворной сердитостью сказала княгиня. — Еще сглазят!
Ксения поспешно прикрыла лицо широким рукавом и стремглав бросилась прочь.
— А мячик?! — растерянно воскликнул Дмитрий и, усмехнувшись, кинул мячик в стайку девушек, стоявших поодаль.
— Хороша? — спросила княгиня.
Дмитрий согласно кивнул, глядя вслед удалявшейся статной красавице.
— Заневестилась наша царевна, — вздохнула Мария Федоровна. — Ждем вот принца заморского, королевича шведского Густава, да всякое про него говорят. Ох, чует мое сердце, неладный брак это будет… Ты дома-то еще не был?
— Нет еще. Немцев проводил — и сюда.
— Привет передавай невестушке, скажи, днями заеду, по внукам соскучилась.
Усадьба Пожарского располагалась рядом со стенами Варсонофьевского монастыря у Сретенских ворот и шла вниз к Трубе, где расселились его посадские люди, занимавшиеся разными ремеслами. Огороженная высоким острым тыном, усадьба в случае неспокойства могла вполне служить крепостью. Парадные ворота с двумя башенками над крышей были украшены образом Николая Чудотворца.
Сейчас массивные двери были распахнуты, — видно, что князя ждали с нетерпением. Приехавший раньше дядька Надея встречал его при въезде:
— Заждались мы тебя, князюшка!
У ворот толпилась дворня, радостно загавкали, признав хозяина, широкогрудые, рыжие в черных подпалинах гончие псы — Протас и Разгильдяй. По мосткам, проложенным через широкий двор, Дмитрий подскакал прямо к высокому красному крыльцу.
Здесь, склонившись в полупоклоне, ожидала его княгиня.
— Здоров ли, Дмитрий Михайлович? Как доехал?
— Слава Богу. А ты здорова ли, Прасковья Варфоломеевна?
Князь обнял жену, расцеловал, потом, чуть откинувшись, пристально оглядел ее. Княгиня в честь приезда супруга была одета в парадный, красного сукна опашень с вызолоченными серебряными пуговицами от верху до низу, с широкими прорезями, начинающимися от плеча, сквозь которые было видно не только широкие накапки[28] летника, но и расшитые золотом запястья рубахи. На голове, поверх отороченного золотом волосника,[29] — белый платок, подвязанный под подбородком, концы которого, согласно последней моде, были густо унизаны жемчугом.
Хотя брови княгини, опять-таки в соответствии с требованиями света, были густо чернены горелой пробкой, а щеки покрыты густым слоем белил, это не могло испортить ее истинно русской красоты — прямой небольшой нос, влажные, чуть полуоткрытые губы, обнажающие ровный ряд белых зубов, ярко-голубые глаза.
Она чуть отстранилась, пропустив князя вперед. Хотя его уже ждал уставленный яствами стол, Дмитрий садиться не стал, а поспешил пройти крытой галереей, расположенной вдоль дома, в следующую его часть, повернутую углом к основному строению, где находилась детская.
Здесь он подхватил на руки заревевшего было от неожиданности пятилетнего Петра и высоко подбросил его вверх, так что мальчонка тут же закатился от смеха и крепко обнял отца за шею.
Прижимая Петра к себе, Дмитрий шагнул к широкой, просторной колыбели, висевшей посреди комнаты. Там пускал пузыри, пытаясь засунуть ногу в рот, второй сын, Федор. Князь склонился над ним, пощекотал его по животу. Малыш заагукал, улыбаясь во весь беззубый рот, и потянулся к золотой массивной серьге, украшающей правое ухо князя. Не удержавшись на шее отца, шлепнулся в колыбель и Петр. Началась веселая кутерьма, на которую с улыбкой умиления смотрели княгиня и сбежавшиеся мамки княжат. После обильной трапезы, где и хозяйка и слуги старались угостить князя самыми его любимыми блюдами, супруги остались одни в верхней светелке. Большие окна, изузоренные разноцветной слюдой, едва пропускали свет, так что пришлось зажечь свечи. Пышная постель на двух стоящих рядом широких лавках была покрыта красным бархатным покрывалом, отделанным по краям серебром. На подушках были надеты атласные наволочки, тоже красного цвета.
Князь устало присел на постель, княгиня — рядом, робко поглаживая его сильную руку. Дмитрий повернулся к жене:
— Параша, рада моя.
Они поженились семь лет назад, когда князю исполнилось пятнадцать, столько же и Прасковье. Поместье ее родителей располагалось по соседству с Мугреевом, родовой вотчиной Пожарских. До свадьбы жених и невеста не видели друг друга, за них все решили мать Дмитрия Мария Федоровна да родители Прасковьи. Но брак оказался удачным, муж и жена относились друг к другу с любовью и уважением. Рука Дмитрия мягко потянула кончик платка, затем сняла шапочку, освободив заструившиеся золотом густые волосы Параши…
Уже совсем к ночи супруги, как положено по обычаю, отправились в мыльню. Не стесняясь наготы, парились от души, со смехом окатывая друг друга холодной водой из шаек. Потом Прасковья, сделав отвар из лечебных трав, долго распаривала раненую голень супруга.
В первом часу дня[30] отправились на заутрене в церковь Ризоположения, что рядом с монастырем. Усердно осеняя себя крестным знамением, супруги, однако, внутрь церкви не пошли, вызывая понимающие ухмылки соседей. Вернувшись домой, хозяин выслушал отчет ключника Данилы о том, как велось хозяйство.
— Отсеялись в деревнях вовремя, — рассказывал Данило. — Однако запасов хлеба осталось мало, дай Бог, чтоб урожай выдался. А тут еще напасть…
— Что случилось? — встревожился князь.
— Да соседи наши иск вчинили, вроде как будто ты ихнюю землю захватил…
Дмитрий, не терпевший несправедливость, нахмурился.
— Это им так не пройдет. Ладно, идем, покажешь хозяйство.
Чуть заметно прихрамывая, Пожарский обошел все дворовые постройки, заглянул и на скотный двор, где были коровы, телята, свиньи, овцы и птица, остался доволен — все в чистоте и порядке, похвалил за сметку зардевшуюся княгиню. Оглядел и огород, особенно грядки из соломы, где дружно взошли ростки огурцов и дынь.
После обеда княжеская дворня, как и все москвичи, погрузилась в сон. Однако самому князю отдохнуть не пришлось: прискакал гонец из Кремля, звал Пожарского дьяк Афанасий Власьев.
Дьяк принял стольника ласково, еще раз поблагодарил за службу, сказал, что подписан указ о даче Пожарскому в кормление новой усадьбы здесь, под Москвой.
— Что хмуришься? Аль не рад царской милости?
— Премного благодарен, — склонил голову князь. — Да как бы не случилось, как с моими родовыми землями.
— Расскажи, — потребовал Власьев.
— Да это вроде не по части Посольского приказа.
— Посольский приказ по указу государя имеет право затребовать любое дело.
— Сосед мой, князь Иван Васильевич Сницкий, пока я был в отъезде, подал челобитную через своего человека Ивашку Алексеева в Холопий приказ, будто я сманил его холопов…
— А это не так?
— Конечно, неправда! Эти холопы поселились в моем имении еще до отмены Юрьева дня, есть грамоты. А глава Холопьего приказа князь Никита Романович Трубецкой да дьяк Истома Евской, видать за мзду, взыскивают с меня девятьсот тридцать рублей.
— Ладно, разберусь, — пообещал дьяк и продолжил: — Посылает меня государь-батюшка по срочному делу в Ливонию. Ты вроде о службе военной грустил? Так вот, проводишь меня до северной границы да и останешься послужить: там нынче шведы балуют. А когда мне время настанет возвращаться, проводишь меня домой. Как?
Дмитрий, хоть и жалко было, что так недолго дома пробыл, радости, однако, не скрывал и только спросил:
— Когда прикажешь собираться?
— Дня через три, как грамоты будут готовы, — ответил дьяк.
Через несколько дней Власьев вновь вызвал Пожарского, с довольным видом объявил, что государь велел отменить непредвиденный иск, возложил на Трубецкого и его дьяка опалу, а подьячего, что взял от Сницкого взятку, велел бить смертным боем.
— Теперь, когда ты спокоен, пора в дорогу!
На этот раз их путь лежал через Тверь, Торжок, Новгород — Псков, к границе с Ливонией, где с переменным успехом шли схватки между отрядами шляхтичей и шведов. Снова мерно покачивался в седле князь Дмитрий, правой рукой придерживая поводья, левой опираясь на рукоять отцовской сабли, выкованной из булатной стали. Рядом — дядька Надея Беклемишев, из-под шишака[31] торчат лохматые густые брови, почти скрывающие маленькие глазки. Нет-нет да приложится к сулее с медом, что болтается на могучей шее. Дядька тоже рад, что они снова в походе, что будет где получить воспитаннику боевые навыки. Сзади цокают копытами лошади боевых холопов князя, несущих с ним государеву службу. Те в душе мечтают вернуться в родные суздальские земли, где ждут их жены и дети. Но что делать, такова их служба. И к другому хозяину теперь не перейти — отменил Борис Годунов, еще когда правителем был, Юрьев день, когда крестьяне имели право уйти от одного помещика к другому. Да и найдешь ли хозяина лучше? Князь Дмитрий строг, но справедлив, зря не обидит, да и хозяйство при нем крепче стало, от голода никто не пухнет…
Выехав на пригорок, князь придержал коня, повернул его в сторону проезжающего обоза. Вот колымага дьяка в сопровождении пеших и конных слуг. Афанасий Власьев махнул рукой, показывая, что до привала еще ехать и ехать.
Набирает силу думный дьяк Власьев при новом государе. Хотя по-прежнему числится главой Посольского приказа дьяк Василий Щелкалов, однако все самые важные дела Борис стал поручать Власьеву. Видно, не забыл царь, что после смерти Федора на Земском соборе стакнулся было Щелкалов со старой московской знатью, предложил не избирать царя, а передать правление государством боярской думе. Правда, увидев, что патриарх Иов крепко за Бориса стоит и мелкопоместное дворянство тоже за него, переметнулся обратно хитрый дьяк, ан поздно. Если раньше Годунов, не стесняясь худородности Щелкалова, публично его отцом родным называл, то теперь кончилась милость царская. Того и гляди, в опалу попадет.
Афанасию Власьеву то, конечно, на руку. Еще более упрочилось его положение с той поры, как он привез с чужеземцами лекаря Фидлера, дающего царю пусть недолгое, но облегчение, да хироманта, тайно живущего в царском дворце.
Дьяк поневоле перекрестился, вспомнив ту страшную ночь, когда он сопровождал царя к предсказателю. Хиромант был горбуном с хилой бороденкой, в высоком остроконечном колпаке, разукрашенном звездами. Но сверкающие желтизной глаза его обладали дьявольской силой, казалось, они отбирали всю твою волю. Он как бы пригвоздил взглядом дьяка к полу, тот так и остался стоять в углу, плохо соображая, что происходит, и переводил слова предсказателя ослабевшим, будто не своим голосом.
— Что он бормочет? — выкрикнул в испуге Борис, не в силах отвести свои глаза от лица хироманта.
— Говорит, что видит перед собой великого мужа, достойного быть правителем всего мира. Однако злая судьба преследует тебя. Все, что ты ни задумаешь хорошего, обернется противоположной стороной…
Старец взял правую руку Бориса и узловатым пальцем с длинным ногтем повел по линиям руки.
— Счастлив в семейной жизни, но не любим подданными… Бог любит тебя, но и дьявол тоже… Линия жизни…
Внезапно старик вскрикнул и закрыл глаза сухонькой ладошкой.
— Что, что? — встревоженно воскликнул государь.
— Я еще посмотрю по звездам, может, это ошибка…
— Какая ошибка?
— Линия жизни на руке показывает, что тебе осталось жить и царствовать всего пять лет…
Дьяк снова перекрестился, вспоминая, как побелело и без того бледное лицо Бориса, как судорожно схватился он за посох, будто собираясь то ли ударить хироманта, то ли бежать от него без оглядки…
И к дьяку вернулась родившаяся тогда липкая мысль: а что, если старик предсказывает верно? Кто станет царем? Неужто малолетний Федор сумеет удержать власть? Вряд ли… И что станет с ним, с Афанасием Власьевым? Не пора ли оглядеться вокруг, поразмышлять?
Кто тянет руку к царскому державному яблоку? Федор Романов или Федор Мстиславский? А может, «принц крови», как называют его в Европе, Василий Шуйский? Кому быть царем на Руси? А может, уния с Польшей, как предлагает Жигимонт?
Власьев закряхтел даже, досадуя на обступившие его мысли. Ох, дьяк, потребуется все твое хитроумие, чтобы вовремя оказаться рядом и быть полезным будущему властителю… А пока будем верой и правдой служить царю Борису, выполняя его приказы, сталкивая между собой Жигимонта и дядю его, Карла Зюндерманландского, чтобы вернуть России Ливонию…
…Отряд Пожарского остался ждать дьяка Власьева на псковской границе, неся обычную сторожевую службу. Ясные летние дни протекали спокойно. Изредка дорога покрывалась клубами пыли: то ехали либо русские, либо иностранные гости[32] с заморскими товарами. Неожиданно быстро возвратился из Нарвы дьяк. Видно было, что он крайне раздосадован своей поездкой. Попросил Пожарского проводить его в Псков, к местному воеводе Андрею Голицыну. По дороге с негодованием рассказал Дмитрию о коварстве шведского Карла, обещавшего, чтобы заручиться поддержкой русских против поляков, вернуть государю порт Нарву, который был при Иване Грозном торговыми воротами Руси на Балтийском море. Зная об этой договоренности, Афанасий Власьев еще зимой, находясь в Любеке, снарядил два корабля с товарами в Нарву. Но до Нарвы они не дошли, были схвачены кораблями шведского королевского флота. Попытки Власьева объясниться с комендантом Нарвы ни к чему не привели: комендант отнекивался, однако было ясно, что шведы ждут от русских более решительных действий против поляков, а может, уже слышали о предстоящем визите польского посольства в Москву.
— Ну, ничего, мы им покажем! — злобно сверкал глазами Власьев. — Не хотите добром, не надо. Все равно Нарва будет наша!
Обосновавшись в хоромах воеводы Голицына, дьяк приказал Пожарскому вернуться на границу и ожидать тайного лазутчика из Нарвы. Тот не заставил себя ждать.
Однажды под вечер дозорные услышали со стороны границы конское ржание. Однако на дороге никого не было. Дмитрий выехал вперед, зорко поглядывая по сторонам. Ржание повторилось, на этот раз из березовой рощицы, что виднелась слева от дороги. Князь пришпорил коня и помчался туда.
— Вот горячая голова, — ругнулся дядька Надея, поспешно бросившись вдогонку. — Вдруг засада!
Когда он подскакал к опушке, то успокоился, увидев, что к князю подъехал одинокий всадник. Был он в зеленом охотничьем костюме, широкополая, с пером, тоже зеленого цвета, шляпа скрывала черты лица незнакомца.
— От Фласьева? — спросил он Дмитрия.
— Да, Афанасий Иванович наказывал ждать! — ответил Пожарский.
— Фласьев?
— Да, да, Власьев меня прислал, сказал, что кто-то должен передать бумаги.
Гость вздохнул с облегчением и, мельком глянув на маячившего на опушке Надею, спешился. Пожарский сделал то же самое. Теперь, когда они стояли друг против друга, Пожарский хорошо разглядел немца. Тот был такого же высокого роста, как и князь, но дороден, если не сказать толст, волосы ярко-рыжие.
Незнакомец указал на свой охотничий костюм:
— Хитрость. Пусть комендант думает, что я поехал стрелять оленей. А я вроде бы заблудился, отстал — и сюда. Но времени нет, иначе спохватятся. Вот три свитка. Один — Фласьеву, второй воеводе Голицыну, а третий… — лазутчик понизил голос до шепота, — самому государю, в руки. Страшная тайна!
Он приставил палец к губам и, воровато оглянувшись, свистящим шепотом продолжал:
— А на словах передай Фласьеву: Конрад Буссов ждет приказа. Как только русские воины подойдут к Нарве, мы откроем ворота. Все лифляндские дворяне хотят служить государю. Мы пфуй на шведского Карла! Но пусть не задерживается приказ. Иначе наши головы могут полететь. У Карла есть свои лазутчики. Надо спешить.
Он взобрался на коня, низко нахлобучил шляпу и тихо, как тать, скрылся в глубине чащи. Только Пожарский сел на лошадь, как услышал сзади хруст веток. Оглянувшись, снова увидел Конрада Буссова.
Тот приблизился вплотную и вдруг спросил:
— А что, правду говорят, что государь смертельно болен?
— Да нет, когда уезжали, был жив-здоров.
— Слава Богу! А то у нас на площади какой-то бродяга кричал, что Борис помирает. Я приказал его на всякий случай повесить!
…Борис действительно занемог. Когда Власьев привез ему бумаги из Нарвы, то застал его лежащим в постели.
— Силы меня покидают, дьяк! — тоскливо сказал приблизившемуся с поклоном Власьеву. — Неужто хиромант ошибся и мне жить осталось меньше пяти лет?
— Живи вечно, царь-батюшка! — воскликнул Афанасий Иванович, прослезившись. — Если надо, прикажи, еще лекарей доставлю, самых лучших.
— Это, пожалуй, дело! — оживился Борис. — А то Фидлер этот все травами меня потчует. Может, какие другие средства есть?
Он нюхнул из флакона и, опершись на подушки, спросил:
— Так что лазутчик наш верный из Нарвы сообщает?
— Говорит, что лифляндские дворяне откроют ворота, как наше войско подойдет.
— Эва, войско! — вздохнул Борис досадливо. — Войско — это значит война со шведами. А нужно ли нам это сейчас? Вдруг Жигимонт с ним сговорится, все-таки дядя, родная кровь. Возьмут да ударят вместе!
Власьев, склонив голову, молчал и думал про себя, что Борис — мастер интриги плести, а как дело до военных действий доходит, так робеет.
— Нет, наше дело их между собою сильнее стравить, — продолжил царь. — Тогда им не до Ливонии будет. Отпиши лифляндцам, чтобы еще подождали немного.
Выйдя из дворца, Власьев нашел Пожарского, поблагодарил его за службу и сказал:
— Выполню теперь твое желание послужить на границе. Будет на то царев указ. Возвращайся в Псков, под начало Голицына. Ты ему глянулся. Порезвись на просторе!
— Так что, вправду снова война со шведами будет? — обрадовался князь.
Власьев с сомнением покачал головой:
— Переговоры покажут. Ждем в Москву и польских и шведских послов. Царь-батюшка хочет миром Ливонию вернуть…
…Капитан царской гвардии Жак де Маржере неторопливо спустился на своем бело-пестром коне с крутого берега Замоскворечья к мосту, соединявшему стрелецкую слободу с Кремлем. Этот единственный мост в черте города, перекинутый через Москву-реку, представлял собой упругий настил из досок, прикрепленных к баржам, поставленным поперек течения. Поскольку никаких ограждений настил не имел, то в бурную ненастную погоду, как, например, сегодня, переправляться было небезопасно, так как доски находились в непрерывном качкообразном движении, и вдобавок холодные волны то и дело перехлестывали через край.
Многие из всадников предпочитали не рисковать и, спешившись, вели за узду своих лошадей. Но бравый капитан лишь покрепче сжал коленями крутые бока своего Буцефала[33] и уверенно направил его на шаткие доски. Конь, всхрапывая и косясь на шипящие волны, осторожно вышагивал по настилу.
Маржере ласково потрепал его за холку:
— Привыкай к опасности! Иначе какой же ты боевой конь? И потом — не мочить же мне мои новые сафьяновые сапоги?
Не раз обласканный царской милостью за прошедшие полгода, капитан действительно выглядел на редкость импозантно. Давно забыты были дырявый плащ и потертая куртка, в которых Жак прибыл в Россию. Теперь на нем щегольской плащ из алого французского сукна, подбитый соболиными брюшками, камзол и штаны из золотой парчи, шелковая рубаха щедро отделана брабантскими кружевами, которые поставляет ему голландский негоциант Исаак Масса, тот самый ловкий малый, что учил его в дороге сюда русским словам.
Грех жаловаться, любит государь иностранных воинов. Ему, капитану Маржере, командиру пятисот всадников, положено годовое жалованье в восемьдесят рублей да выделено поместье в семьсот четвертей,[34] что приносит хороший доход. На кормление вдобавок выделяется каждую осень по двенадцать четвертей[35] ржи и столько же ячменя. Его сотники Давид Гилберт и Роберт Думбар получили жалованье по тридцать пять рублей и поместья по четыреста четвертей.
И это при поистине сказочной дешевизне и изобилии съестных припасов. Огромного барана, например, продают за десять копеек, а жирного цыпленка можно приобрести за одну москву.[36]
Помимо жалованья государь постоянно дарует отличившимся гостинцы в виде денег и отрезов парчи, бархата, атласа или тафты для пошива платья. Нередко видные чиновники и военачальники получают и личные подачи государевы. Так называются кушанья, которые доставляются отмеченному лицу домой с царского обеденного стола. Вот и ему, Маржере, не раз доставляли из дворца жареного лебедя с вареными грушами, блюдо, которое, как заметил царь Борис, особенно нравилось сухопарому капитану.
За такую любовь капитан и его всадники готовы жизни положить, если понадобится… Жак Маржере тряхнул головой, отгоняя внезапное видение — кривую ухмылку Давида Гилберта. Да, бывает, что по вечерам капитан, оставшись один в комнате, при свете свечи аккуратно поверяет свои дневные наблюдения бумаге. Сообщает он не только о быте и нравах, но и о том, что слышал любопытного во дворце, новое об укреплениях крепостей, их вооружении.
Каждую записку он делает в трех экземплярах. Один экземпляр вручается толмачу Заборовскому, он упорхнет в Польшу, к гетману Льву Сапеге.{16} Второй — для Гилберта, через английских купцов уплывает к графу Солсбери, канцлеру королевы Елизаветы. И третий через Исаака Массу попадет в Голландию, а оттуда — в Париж, в руки его любимого короля Генриха.
Маржере спешит успокоить свою совесть: если понадобится, то в критический час его шпага будет верно служить государю Борису!
…На левом берегу Москвы-реки, перед мощными каменными воротами, соединяющими стены Кремля и Китай-города, его встретил резкий запах рыбьего рынка. Маржере подъехал к барке, пришедшей с низовьев Волги. Какой только рыбой, не виданной в Европе, здесь ни торгуют — осетрина, белуга, стерлядь, белорыбица. А вот рыбья икра — кавиар, которую итальянцы покупают, не жалея никаких денег. Капитан решил было прислать сюда слугу, чтобы купить осетра или белугу к обеду, но потом передумал: ведь сегодня ему предстоит долгожданное свидание, и еще неизвестно, в котором часу он вернется. При мысли о возлюбленной капитан почувствовал жаркое колотье сердца.
…Ранним летним утром царский поезд отправился в загородное поместье Вяземы. Огромную, пышно отделанную золотом карету, в которой находились царь Борис Федорович и царица Мария Григорьевна, дочь печально известного царского палача Малюты, сопровождала пышная процессия. Здесь был весь «двор» — и думные бояре, и родовитые князья, и московская знать. Кто в своих колымагах, кто верхом. Царицу сопровождало много жен и дочерей боярских, ехавших верхом по-мужски, в одинаковых широкополых белых шляпах и длинных и широких разноцветных платьях из тонкого сукна.
Маржере, гарцевавший со своими всадниками вдоль процессии, лихо подкручивал ус и исподтишка оглядывал русских женщин, радуясь столь редко предоставляемой возможности увидеть их лица открытыми. Достаточно опытный в амурных успехах, он несколько даже растерялся, не зная, которой из них отдать предпочтение.
Впрочем, и сам капитан со своей импозантной внешностью не остался незамеченным красавицами. Во всяком случае, одна из них, на великолепном белом аргамаке, в белой шелковой поволоке,[37] отделанной золотым шитьем и драгоценными каменьями, в кокошнике, сверкающем на солнце сотнями розовых жемчужин, проскакала совсем рядом с капитаном и, будто невзначай, хлестнула своим арапником по крупу его коня, так что тот от неожиданности встал на дыбы, и только опытность всадника не позволила ему грохнуться наземь.
Красавица вроде бы от смущения закрыла лицо широким рукавом, однако так, что хорошо были видны ее черные смеющиеся глаза. Закипевший было от бешенства Маржере тут же оттаял и широко заулыбался, показывая ровный ряд желтоватых зубов.
Во время дальнейшего путешествия он уже не спускал взгляда с черноглазой красавицы, и, когда в Вяземах царский поезд остановился, Маржере, решительно оттолкнув слугу, сам помог сойти даме с лошади, за что был вознагражден нежным пожатием маленькой, но крепкой руки.
Впрочем, на этом все и кончилось, поскольку незнакомка с другими дамами удалилась вслед за царицей на лужайку у реки, а капитан должен был вернуться к своим прямым обязанностям — охранять государеву особу. Царь Борис чувствовал себя неважно, и прогулка не принесла долгожданного облегчения. От тряски в карете ему вдруг стало хуже, и он потребовал, чтобы его немедленно на носилках отнесли во дворец. Маржере сопровождал государя со своими телохранителями в Москву, и ему даже не удалось узнать имени прелестной незнакомки.
Царь тем временем чувствовал себя все хуже, он едва находил в себе силы, чтобы побывать на службе в соборе, и, естественно, ни о каких загородных поездках речи больше не было. Однако образ черноглазой красавицы не оставлял доблестного капитана. Не раз он останавливался, глядя вслед какой-нибудь боярской колымаге: вдруг в ней едет таинственная незнакомка?
Среди ландскнехтов особой популярностью пользовалась Настька Черниговка, проживавшая здесь же, в Замоскворечье. Разбитная бабенка охотно предлагала свои услуги в любовных делах — приворожить сердце какой-нибудь красотки, обмануть ревнивого мужа, узнать, изменяет ли тебе любимая женщина.
Маржере, повидавший на своем веку множество колдунов и колдуний во всех странах, лишь посмеивался над легковерием своих товарищей. Тем не менее сердце его екнуло, когда вдруг Настька Черниговка подошла к нему и, нагло улыбаясь, сказала:
— Любит тебя, капитан, черноглазая красавица из высокого терема. И ты ее любишь, из сердца выкинуть не можешь, хоть и видел ее всего один раз… Так?
— Так, так! — возбужденно воскликнул капитан, хватая гадалку за руку. — Говори, ты ее знаешь?
— Что-то глаза застилает, — застонала вдруг гадалка. — Ничего не вижу. Положи гривенник на ладонь.
Капитан торопливо сунул ей серебряную монету:
— Ну, говори же, как мне ее увидеть?
— Для начала подарочек надобен. Чтоб уверилась голубка, что ты ее любишь. Вот этот перстенек хотя бы…
Капитан послушно снял с левого безымянного пальца золотой перстень с драгоценным камнем.
— Это другое дело! — кивнула Черниговка. — Теперь ожидай весточки, скажу, когда сможешь свидеться.
Потянулись томительные дни ожидания. Капитан не находил себе места, его стали снова одолевать сомнения. Но вчера вечером Настька Черниговка со своим птичьим носиком снова появилась в его доме. Дождавшись, когда Маржере отослал своего слугу, шепнула:
— Завтра после обеда будь у часовни на крестце[38] у Варварки. Я тебя проведу куда надо.
…Настька Черниговка, увидев капитана, деловито засеменила впереди. Они долго шли вдоль высокого частокола, огораживающего дворы московских знатных людей и богатых купцов, пока не остановились возле незаметной калитки. Оглянувшись по сторонам, Настька осторожно тронула калитку, та послушно открылась.
Настька улыбнулась капитану:
— Ожидает тебя твоя красавица.
Крадучись прошли они густым яблоневым садом к терему, стоявшему поодаль от основного дома. Скользнув в заднюю дверь, Настька пропала на несколько минут, потом выглянула, подтолкнула взволнованного любителя приключений к лестнице:
— Ступай наверх. А обратно дорогу сам найдешь.
Капитан услышал, как закрылась за Настькой дверь, и осторожно шагнул на ступеньку лестницы, проверяя, не скрипнет ли она предательски.
Из приоткрытой наверху двери лучился неяркий свет свечи. На широкой лавке, устланной дорогой тафтой, сидела его прекрасная незнакомка. Женщина неторопливо расчесывала серебряным гребнем густые волосы.
Прижав шляпу к груди, Жак опустился на одно колено и прижался жаркими губами к полной ручке.
— Тише! — прижала палец к губам женщина. — У меня муж ревнивый!
Она подвинулась, предлагая Маржере сесть рядом.
— Как тебя зовут?
— Жак. Яков по-вашему. А тебя?
— Елена.
— О, Елена Прекрасная!
Уже совсем стемнело, когда Жак, опьяненный любовью, возвращался к калитке через яблоневый сад. Неожиданно у забора он увидел силуэт мужской фигуры. Выхватив шпагу, Жак бросился вперед. Прижав незнакомца к забору, эфесом шпаги он уперся в шею противника, не давая ему закричать, и хрипло спросил:
— Ты кто?
— А ты кто? — дерзко ответил незнакомец.
— Я гость.
— Хорош гость, — хмыкнул незнакомец, видно, не очень испугавшийся. — Никак немец к нам пожаловал!
Он вгляделся в лицо капитана:
— О, и не просто немец! А капитан телохранителей государевых! И пошто пожаловал к нам, да еще в такое время? Не иначе как прелюбодействовать! С кем же? Неужели с самой боярыней? Угадал?
— Я тебя сейчас зарежу, — яростно прошептал Маржере, и незнакомец понял, что немец шутить не намерен, поэтому сменил тон.
— Судьба, видать, такова, — грустно заметил он.
— Какая судьба?
— Моего папаню, он тогда в сотниках стрелецких ходил, в пьяной драке какой-то литвин зарезал, а меня теперь — немец.
— Шутки твои кровью пахнут, — мрачно буркнул Маржере, однако шпагу опустил.
— Кто я, ты знаешь. А ты кто, охранник здешний?
— Служилый дворянин я. Юрий Отрепьев. Только служу не у здешнего хозяина, а у его старшего брата — Федора Романова. А здесь оказался по тому же делу, что и ты. Есть у меня одна зазноба, из сенных девушек боярыни.
— Романова? — ошарашенно переспросил Маржере.
— Тю, хорош любовник, не знает, у кого был! Это же двор Александра, среднего брата из рода Романовых. Так что тебе не мужа ревнивого опасаться надо. Что он может? Разве что жену неверную по шею закопать на Поганом болоте. Тебе государевой огласки бояться надо. Знаешь, как царь к Романовым относится!
— Самих бояр он не трогает, — сказал капитан.
— Правильно. Зато все, кто к ним ходит, потом на дыбу попадают. Тут же вокруг его лазутчики шныряют. Идем, выведу. А то есть тут такой ирод Сашка Бартенев. Увидит — обязательно Семену Годунову донесет. Давай сюда. Да нет, в калитку опасно, можно наскочить. Тут доска есть оторванная…
Темными проулочками они вышли к кабаку, где капитан оставил свою лошадь. Дверь, ведущая в питейное заведение, внезапно распахнулась, и оттуда послышался зычный голос изрядно опьяневшего Думбара. Выплеснувшийся свет позволил капитану разглядеть лицо сопровождающего. Было ему тридцать, вислый нос и тонкие губы придавали унылый вид. Однако серые глаза, смотревшие с усмешкой, выдавали недюжинный ум. Маржере жестом пригласил Юрия зайти выпить, но тот наотрез отказался:
— Негоже, если нас вместе увидят. Ни тебе несдобровать, ни мне. А если парой гривен богат, то выпью за твою буйную голову в другом месте. И мой совет — остерегайся!
…По указу государеву польское посольство было встречено со всевозможной пышностью и почетом, чтобы показать полякам богатство и могущество русского царя. Начиная от ворот Скородома до Красной площади сплошной цепью вдоль улиц были выстроены стрельцы в праздничных кафтанах зеленого, синего, красного сукна, с пищалями и бердышами.
На Красной площади всадники иноземных отрядов царя, разодетые в парчовые и бархатные камзолы, образовали коридор, ведущий к Варварке. Капитан Маржере, гарцующий впереди строя своих солдат, встретился глазами с главой посольства Львом Сапегой, внимательно рассматривавшим церемонию встречи из окна своей кареты.
Миновав площадь, посольский поезд, ведомый всадниками Маржере, вместо того чтобы выехать прямо на Варварку, где находился посольский двор, свернул влево, затем направо, минуя пышное строение, у которого стояла вооруженная охрана, приветствовавшая процессию громкими кликами.
— Узнай, что они кричат! — приказал Сапега конному шляхтичу, сопровождавшему карету.
Тот пришпорил коня, ускакал вперед, но вскоре вернулся.
— В этом замке располагается принц Густав, двоюродный брат нашего короля. Говорят, царь Борис обласкал его и собирается женить на своей дочери.
— Плохое предзнаменование для переговоров, — буркнул Сапега, отодвинувшись в глубь кареты. — Борис, видать, ведет с нами двойную игру.
Как только посол и сопровождавшие его более трехсот польских дворян, а также их многочисленные слуги оказались за частоколом двора, ворота захлопнулись, и вдоль забора были выставлены часовые.
Лев Иванович Сапега, взойдя на крыльцо дома, огляделся и нахмурился.
— Странное гостеприимство, — проговорил он сквозь зубы, обращаясь к Станиславу Вариницкому, каштеляну варшавскому, и Илье Пелгржымовскому, писарю Великого княжества Литовского, уполномоченным вместе с канцлером вести переговоры. — Мы здесь скорее не в гостях, а под арестом. В прошлый раз, когда я был с посольством в Москве, такой подозрительности русские не обнаруживали. Это плохой признак. Видимо, наши сведения о болезни Бориса достоверны и власть его над подданными неустойчива.
— Какой же смысл вести переговоры со слабым и больным правителем? — запальчиво заметил Вариницкий.
— Не будем обсуждать это прилюдно, — мягко заметил Сапега, который, несмотря на свою молодость, имел немалый дипломатический опыт. — Тем более что пристав, по-моему, отлично понимает наш язык.
Действительно, пристав, стрелецкий сотник, отдававший команды, куда ставить лошадей и где располагать имущество, приблизился к говорящим.
— В тесноте, да не в обиде! — сказал он, широко улыбаясь. — Прошу вас, входите в дом, располагайтесь.
— Но здесь нет даже кроватей! — возмутился дворецкий князя, успевший осмотреть комнаты.
— А у нас кроватей не бывает! — не переставал улыбаться смешливый пристав. — Сам царь-батюшка на лавках спит.
— Для нас это не можно! — гордо сказал каштелян. — Мы не привыкли спать на досках!
— Придется купить вам самим кровати в Немецкой слободе! — предложил пристав. — Там это добро ихние ремесленники делают по заказу.
— Мы сможем свободно гулять по Москве? — полюбопытствовал канцлер.
Пристав сокрушенно вздохнул:
— Никак нельзя, опасно! Много лихих людей бродит. Так что только с моего разрешения и в сопровождении стрельцов.
Канцлер вспыхнул от негодования и, крутанув длинный ус, заявил:
— Передай, холоп, своему великому князю, что если нас будет держать в такой тесноте, мы будем вынуждены сами помыслить о себе!
Эта фраза явно не понравилась приставу, и он грубо ответил, что такие слова говорить для доброго дела непристойно. Тем не менее он все же разрешил дворецкому со слугами в сопровождении стрельцов отправиться за кроватями.
Послы, сидя в гостиной, пребывали в подавленном настроении, когда у ворот раздались звонкие удары тулумбаса. В горницу вбежал шляхтич из посольской охраны.
— Посланец царя Бориса Михайла Глебович Салтыков.
— Пусть войдет, — сказал Сапега, поднявшись со скамейки.
Вошедший гость снял меховую шапку, хотел было перекреститься, но, не найдя икон, лишь поклонился. Сапега ответил легким кивком головы.
Салтыков покраснел от обиды, но сдержался и сообщил:
— Великий государь жалует послов польских своим обедом. Мне велено составить вам компанию, чтобы не скучно было. Эй, толмач, переведи.
Следовавший за ним Яков Заборовский поспешил заговорить:
— Прошу вас, панове, умерить гордыню и поблагодарить посланца со всевозможной учтивостью. Присылка обеда — великая честь. Если вы откажетесь, то, считайте, никаких переговоров не получится.
Лев Сапега, как более опытный из послов, сделал любезную улыбку и поблагодарил за угощение. По тому, как тараторил Заборовский, было видно, что он не жалеет лестных эпитетов в адрес царя.
Салтыков улыбнулся, успокоенный, и жестом предложил подойти к окну. Зрелище было действительно впечатляющее: в ворота входила целая процессия. Впереди шли двое стрельцов, несущие каждый по большой скатерти, свернутой в свиток, следом еще двое — с солонками, потом — с уксусницами, двое несли ножи и двое — ложки. Шесть человек прошествовало с корзиной хлеба, за ними еще шесть, несущие серебряные сосуды с водкой и вином, за ними столько же с серебряными кубками немецкой работы, затем пошли по четверо стрельцов, несших большие серебряные блюда с мясными и рыбными кушаньями, овощами и фруктами. Следом во двор внесли восемнадцать жбанов с медом и шесть больших чаш для питья. Шествие заключали телеги, на которых везли напитки и закуски, предназначенные для прислуги. Всего Сапега насчитал четыреста стрельцов, принесших обед. Поляки, высыпавшие во двор, не удержались от восторженных восклицаний по поводу столь пышного церемониала. Во время обеда Лев Иванович благодаря вкусной еде и крепким напиткам пришел в благодушное настроение и попытался выведать у присланного дворянина, как себя чувствует царь, склонен ли он заключить мирный договор и когда начнутся переговоры.
Михайла Глебович Салтыков, чья широкая физиономия с узким лбом и оттопыренными ушами не внушала никакого доверия, действительно оказался человеком увертливым. Провозглашая одну за другой пышные здравицы в честь царя Бориса и короля Жигимонта, их родных и близких, а также в честь именитых гостей, он умудрился не ответить ни на один прямой вопрос.
Воспользовавшись одной из пышных тирад, Сапега шепнул толмачу:
— Нам надо обязательно поговорить!
Тот опасливо скосил глаза на Салтыкова, показывая, что сделать это сейчас опасно. Однако представился удобный случай: на людской половине, где располагалась прислуга, подогретые медом поляки начали задираться со стрельцами, и Салтыков послал толмача утихомирить драчунов. Сапега тут же сделал вид, что ему необходимо удалиться по надобности, и вышел следом. В сенях он прижал тщедушного толмача своим тучным животом в угол и яростно зашептал в ухо:
— Что, действительно трон Бориса зашатался? Кого прочат бояре на его место? Шуйского? Голицына? Или кого-то из Романовых?
— Романовы сейчас сильнее всех, — ответил Заборовский. — Они очень богаты, имеют свое войско. В случае чего, их скорее поддержит московский люд, потому что они — ближайшие родственники покойного царя.
— Мне надо тайно встретиться с кем-то из них, — властно сказал Сапега.
— Старший, Федор, человек осторожный, он откажется. А вот с Александром, пожалуй, встречу можно организовать. Но очень опасно. Если ищейки Годунова что-нибудь разнюхают…
— Здесь встречаться нельзя, — согласился канцлер. — Вокруг охрана и соглядатаи. Но я думаю, их можно обмануть. Когда мой дворецкий поедет за кроватями, я переоденусь в костюм слуги и где-нибудь в переулке отстану. Пусть Романов тоже переоденется, чтобы не быть узнанным, и встретимся в каком-нибудь трактире. Понял? Жду сигнала.
Через несколько дней такая встреча состоялась в Заяузье, недалеко от Немецкой слободы. Отстав от телег, на которых поляки, как бы резвясь от избытка выпитого, устроили кучу-малу, отвлекая стрельцов, Сапега нырнул в захудалый кабак, куда обычно приходили бродяги да нищие. В темном углу сидели два монаха, один из них махнул рукой — канцлер узнал толмача. Осторожно глянув по сторонам и убедившись, что в этот час корчма пуста, Сапега присел за стол и приказал Заборовскому встать у входа, чтобы оберечь их от ненужного глаза.
— Буду сразу говорить о деле, — сказал Лев Иванович на чистом русском языке. — Я привез предложение нашего короля о создании унии. В случае, если один из правителей умрет, власть в обоих государствах переходит ко второму.
Монах, приподняв капюшон, взглянул на канцлера насмешливо:
— Борис хитер и на такую уловку не поддастся. Король молод, а Борису за пятьдесят, вдобавок болен. Значит, наш престол перейдет к Жигимонту? Не бывать этому. Борис хочет, чтобы отныне и во веки веков на Руси правил род Годуновых!
— Разве это справедливо? — сочувственно сказал канцлер.
— Нет, этому не бывать! — ударил по столу кулаком монах. — Мы, Романовы, не позволим. Если так случилось, что царский корень прервался…
— А если не прервался? — снова перебил его Сапега.
— Как — не прервался? — тупо уставился на него Александр Романов. — Или ты веришь, что угличский царевич жив? Поверь, то глупые слухи. Мы доподлинно знаем, что царевич похоронен.
— А если жив другой царевич?
— Какой другой? Другого не может быть.
Сапега придвинулся вплотную к монаху и сказал:
— Я тебе открою сокровенную тайну. Ты обсудишь ее с братьями, а потом, подумав, ответите мне о своем решении. Ты знаешь, что отец Ивана Грозного, Василий Третий, развелся с первой женой Соломонидой из-за ее бездетности?{17}
— Конечно. Он женился на Елене Глинской, которая родила ему Ивана.
— А знаешь ли, что Соломонида была пострижена, будучи беременной? И в монастыре родила сына Георгия? Василий, узнав об этом, послал бояр к бывшей жене, но та ребенка не отдала, сказала, что он родился мертвым, и даже указала могилку. Однако мальчик остался жив. Его прятали по монастырям, пока он не достиг юношеского возраста.
— Мне мой отец рассказывал, что Ивана Грозного все время преследовал призрак старшего брата. Он сам ездил по монастырям, лично допрашивал настоятелей, пытаясь найти брата. Но потом внезапно страхи царя утихли, он решил, что Георгий умер, и обратил свой гнев на двоюродного брата — Владимира Старицкого. Он заставил его выпить бокал с ядом.
— Все правильно. Только Георгий остался жив. Он бежал в Литву, где находилось много русских «отходчиков». Когда там оказался и Андрей Курбский, Георгий перешел к нему на службу, был одним из его приставов. Князь сосватал ему в жены местную православную шляхтичку, имевшую небольшое поместье. В тысяча пятьсот восьмидесятом году у него родился сын, которого он нарек Димитрием…
— А ты откуда это знаешь? — недоверчиво спросил Александр.
Увлеченный рассказом, он забыл об осторожности и откинул капюшон.
— Георгий открылся во всем Андрею Курбскому. И тот все вынашивал планы отомстить царю Ивану, организовать поход с настоящим царевичем во главе. Однажды он проговорился моему дяде, тоже Сапеге, который был тогда минским воеводой. Мир праху его! Он умер. Умер и Курбский, умер и Георгий. Но Димитрий жив, и он знает о своем царском происхождении.
— Тоже Димитрий. Какова игра судьбы! — проговорил внимательно слушавший Александр Романов. — Но где доказательства? Кто поверит, что он прямой потомок Александра Невского?
— Говорят, что он очень похож на парсуны[39] своего деда. Похож, кстати, и на своего дядю. Это подтверждают старики, знавшие Ивана Грозного в молодости.
— Так сколько ему лет?
— Двадцать исполнилось.
— А угличскому сейчас было бы восемнадцать. Почти ровесники.
— Говорят также, что на груди царевича есть родимое пятно, которым были отмечены все члены этой роковой семьи.
— Этого маловато, чтобы Церковь и народ признали в нем царского сына. Есть ли какая-то грамота, подтверждающая его происхождение?
— Нет. Ведь отец его был рожден тайно и ни в каких книгах не записан. Правда, в Европе ходит книга Сигизмунда Герберштейна,{18} который долгие годы был послом римского императора при дворе Василия Третьего. Когда, кстати, великий князь занял престол, первое, что он сделал, это заточил в тюрьму своего главного соперника, племянника Димитрия, так и умершего в заключении…{19}
— Воистину злосчастное имя для правителей! — воскликнул Романов. — Ведь и первенец Грозного был назван Димитрием. Он утонул в младенческом возрасте!
— Так вот Сигизмунд Герберштейн, бывший в то время в Московии, утверждает, что Соломонида родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, то она, говорят, отвечала им, что они недостойны того, чтобы глаза их видели ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери.
— Свидетельство иноземца для русских всегда сомнительно, — возразил Александр. — Но, может, мать оставила на нем какой-либо знак? Нательный крест, такой, как, скажем, крест Димитрия Угличского?
— Это какой-то особенный крест?
— Да, он из рода в род переходил от великого князя к наследнику. Иван Грозный повесил на грудь своему последнему младенцу этот крест, как царский знак. Он сделан из чистого золота и платины и украшен алмазами. Когда Димитрия зарезали, мать, Мария Нагая, сняла его и тайно хранит у себя. Поэтому, говорят, — Александр перешел на шепот, — и не выживали дети у царя Федора, потому что не было этого креста. Как ни старался Борис, он не смог выманить никакими хитростями этот крест у убитой горем матери…
— Это тоже тайна, о которой тем не менее знают все? — улыбнулся в усы Сапега.
— Да, тот, кто предъявит царский крест, станет царем. Так гласит народная молва! — убежденно ответил Александр.
— Но ведь принц Угличский погиб. Это достоверно известно! — сердито бросил Сапега.
— И все равно народ верит!
— Чепуха, сказки! Я вам предлагаю реального царевича!
Романов уперся взглядом в столешницу, не отвечая.
— Я знаю, о чем ты думаешь! — зло бросил канцлер. — Надеетесь, что, когда Борис умрет, кто-то из вас, Романовых, сядет на престол. Но вспомни, что произошло, когда умер Федор. Вы же сами отдали власть Борису, потому что тут же перессорились с Шуйскими да Мстиславскими! И теперь произойдет то же самое! Пока будете спорить между собой, трон вновь захватит какой-нибудь выскочка! Не лучше ли объединиться под знаменем истинного царевича, который, заняв престол, будет послушен воле боярской!
«И польской тоже», — подумал про себя Романов, а вслух спросил:
— И где же Димитрий сейчас обретается?
Сапега бросил испытующий взгляд на собеседника и, чуть замешкавшись, ответил:
— Где ему и положено быть. В своем имении на Волыни. Но если вы, родовая знать, примете решение, он сразу перейдет границу, да не один, а с войском. Мы, князья литовские, ему поможем. Это и будет наш вклад в единение славянских племен, создание русско-литовско-польской державы. Поверь, это будет держава, перед которой преклонятся государства Европы, в том числе и Римская империя… Прошу, посоветуйся с братьями, с другими родовитыми князьями. От вашего решения будет зависеть, как мне вести переговоры с царем Борисом…
В промозглой темноте они расстались, и Сапега, дождавшись, когда груженые телеги вышли из Немецкой слободы, незаметно, как ему казалось, уселся на одну из них. Но, увы, соглядатаи Семена Годунова не дремали. На следующий день целовальник донес о подозрительной встрече иноземца в одежде польского слуги и боярина Александра Романова, одетого монахом. Признал он и царского толмача. А еще через день Алексашка Бартенев-второй доложил, что собирались вместе все пять братьев Романовых, о чем-то горячо говорили, о чем — он доподлинно не слышал, но несколько раз произносилось имя царевича Димитрия. Заметили тайные соглядатаи, что о чем-то шептались Александр Романов и Василий Шуйский во время службы патриарха в Архангельском соборе.
Перепуганный тревожными вестями, бросился Семен Годунов в царские покои. Там он застал лекаря Фидлера с братом, что хлопотали с какими-то травами, подсыпая их в большой золотой таз, в котором Борис парил распухшую правую ногу.
— Водянка проклятая привязалась, ходить не могу! — пожаловался Борис, по-ребячьи страдальчески выпячивая губу. — Садись. Почему в неурочье явился, случилось что?
Семен присел на скамейку, сняв шапку, но многозначительно молчал.
Лекари, укутав таз с ногой в толстую шерстяную ткань, установили рядом с постелью царя песочные часы и временно удалились.
— Ну, что на хвосте принес? — грубо спросил царь. Видно, простреливающая ногу боль отнимала у него и последние силы.
— Романовы тайно ведут переговоры с Сапегой.
— Не врешь? — подскочил царь, забыв было о больной ноге и тут же со стоном опустившись обратно. — Кто их свел?
— Яшка Заборовский, твой толмач. И это после стольких милостей, какими ты его одаривал!
— К допросу взял? — мрачно спросил Борис.
— Сказывает, что услужить тебе хотел. Узнать, о чем будут говорить, и донести.
— Узнал? — так же мрачно и односложно продолжал спрашивать Борис.
— Сказывает, что его удалили, как только разговаривать начали.
— А что на дыбе сказал?
— На дыбу еще не брали. Как без толмача переговоры с поляками будем вести?
— Обойдемся. Дьяк Власьев все, что нужно, переведет.
— Еще есть донос, что братья Романовы в тот же день у Федора собрались…
— Так я и знал — зашевелилось осиное гнездо! — воскликнул царь, комкая в ярости рубаху на груди.
— И это еще не все: Бартенев, слуга Сашки Романова, подслушал, что будто про царевича Димитрия говорили!
— Вот видишь — от поляков злые эти слухи идут. А наши толстопузые уже и обрадовались. Забыли, что крест мне и сыну моему целовали!
Борис разошелся. Отпихнув в ярости таз с отваром, хромая, забегал по комнате. Остановился у икон с мерцающими свечами, жарко перекрестился:
— Господи! Да когда же уймутся наконец враги наши!
Повернулся к притихшему Семену. Его черные глаза сверкали решимостью.
— Долго я терпел их козни. Все! Настал твой час, Семен! Умеешь обезвредить — тотчас получишь боярскую шапку.
Семен поклонился.
— Что молчишь? Аль заробел? — спросил Борис.
— Взять-то можно, а в чем их вины искать? Что Алексашка с послом встречался? Ежели отпираться будет? Ведь посла к допросу не возьмешь?
Борис опустил голову на грудь, тянулись тягостные минуты размышлений. Наконец он произнес уже спокойным, мелодичным голосом:
— Ты прав. Тут не силой, надо хитростью изводить недругов наших. Что предлагаешь?
— Сказывают верные люди, — елейно начал Семен Годунов, — будто жена Федора Ксения да Алексашка, брат его, травами всякими увлекаются да заговорами… Вот ежели у Александра во время обыска найдутся вдруг коренья ядовитые, то можно доказать, что присягу братья нарушили и решили тебя ядами извести.
— А сумеешь найти?
— Сумею, — ухмыльнулся Семен. — Бартенев на что? Ему после доноса деваться некуда — если не мы, хозяин его порешит.
— Кого на обыск пошлешь?
— Михайлу Салтыкова.
— Что ж, это верный пес. Скажи, что, если дело сладит, тоже боярскую шапку получит. Пусть только помнит, что эти волкодавы клыки острые имеют. Надо побольше с собой стрельцов взять, да и немцев моих. Они стесняться не будут, коли им хорошие подачки пообещать.
…Капитана Маржере срочно вызвали во дворец, к главе Сыскного приказа Семену Никитичу Годунову. Когда Маржере, бросив поводья своего коня сопровождавшему его слуге, ступил на крыльцо пыточной избы, оттуда выскочил как оглашенный молодой человек в ливрее бояр Романовых, запихивая небольшой кожаный мешок за пазуху. Маржере решительно шагнул внутрь избы. Здесь дотлевал костер под дыбой, пахло паленым мясом. В углу капитан заметил растерзанное человеческое тело в лохматых одеждах. Он с трудом узнал толмача Якова Заборовского. В груди у капитана что-то екнуло — неужели толмач предал его? Но внешне лицо капитана осталось невозмутимым. Хищно улыбнувшись и крепко держа рукоять шпаги, он поклонился, не снимая шляпы, сидящим за столом Годунову и Салтыкову, потом гордо выпрямился:
— Почто зван? Я ведь только государю подвластен.
— Есть царский указ, — змеиной улыбкой ответил Семен Никитич, — будем ночью нынешней брать бояр Романовых за измену.
Опять похолодело в груди у капитана: неужели видели, как он был на подворье Романовых? Годунов испытующе глянул в лицо немца, но тот стоял молча, ожидая приказаний.
Семен Годунов кивнул на Салтыкова:
— Ему приказано командовать. Он возьмет две сотни стрельцов да ты — сотню своих всадников. Слуги Романовых вооружены отлично и наверняка окажут сильное сопротивление.
— Воевать — дело привычное, — сказал капитан, — есть только просьба…
— Какая? — быстро переспросил Годунов, проверяя, не струсил ли хваленый солдат.
— Мне с моей сотней прошу поручить брать главное подворье — Романова-старшего. Думаю, что у него больше всего войска и там будет жарче всего.
— Верно, — обрадованно согласился Салтыков, сам робевший предстоящего дела. — Быть по-твоему! К вечеру приведи в Кремль, вроде как на дежурство, свою лучшую сотню. Людям прикажи привести пищали в полную готовность, однако не говори, куда и зачем пойдем.
Глубокой ночью вышли они из Фроловских ворот Кремля, с горящими факелами процессия не торопясь прошла несколько сот метров к Варварке. Здесь спешившиеся гвардейцы оцепили двор Федора Романова. Стрельцы прошли далее, оцепляя дворы Александра, Михаила, Василия и Ивана.
Первым застучал в ворота, ведущие во двор Александра, Салтыков.
— Кто там в ночь, за полночь? — крикнул сторож.
— Открой по царскому указу! — закричал Салтыков, и, едва калитка приоткрылась, по его команде туда бросились стрельцы. За ними поспешил и Салтыков: скорее в горницу хозяина, к сундучку, куда Алексашка Бартенев должен был положить мешок с кореньями.
— Ага, вот и они! — вскричал с торжеством Салтыков, извлекая заветный мешок и чувствуя, как голова его потяжелела от боярской шапки. И показал пальцем на вбежавшего полураздетого хозяина: — Вязать его! Вязать всех — и подлых и челядь! Доставить в Сыскной приказ к Годунову.
Маржере, как всегда, угадал: самое жаркое дело заварилось у стен подворья Романова-старшего. Услыхав возню на соседнем дворе, слуги открыли пальбу. Гвардейцы по приказу капитана ответили дружным залпом, от которого враз загорелись соломенные крыши сараев. Проломив ворота, гвардейцы рассыпались по двору, вступив в рукопашный бой с челядью. Звон сабель и шпаг, стоны раненых огласили окрестности. Крутя отчаянно шпагой и делая ловкие выпады так, что один за другим падали на землю босые холопы, капитан пробивался к дому. У самого крыльца на него набросились трое. Одного из нападавших капитан сразил выстрелом из пистолета, другого проткнул шпагой, повернулся к третьему, приставив шпагу к его груди.
— Помилуй меня, капитан! — воскликнул человек и отбросил саблю.
Отблеск пожара осветил его лицо. Капитан узнал Юрия Отрепьева.
— Что ж, долг платежом красен! Беги.
Отрепьева не надо было уговаривать, благодарно кивнув, он бросился за угол.
…Но не схватки, пусть самой отчаянной, боялся капитан. Он боялся встретить ту, которую полюбил так нежно. Однако он ее все же встретил. Приведя в Сыскную избу связанных Федора Романова и его жену Ксению, капитан увидел среди сидевших на лавке связанных пленников ее. Она сидела в одной рубашке, простоволосая и, склонив голову на грудь, горько рыдала.
Как рвалось сердце Жака, чтобы броситься, утешить, ударом шпаги разорвать веревки. Но он прошел с невозмутимым лицом в следующую комнату, где Семен Годунов уже вел допрос Александра Романова, и доложил, что пленники доставлены.
Потом с тем же невозмутимым лицом он прошел снова во двор и, только подойдя к своему коню, уткнулся в его гриву, сотрясаясь от спазм, перехвативших горло. Привел его в чувство жизнерадостный голос Думбара:
— Эй, капитан, пошли. По-моему, мы заслужили сегодня хорошую выпивку!
Польские послы с тревогой наблюдали в эту ночь за пожаром на подворье Романовых. Были слышны выстрелы, мелькали какие-то тени.
— Что могло случиться? — встревоженно спрашивал Сапега дворецкого. — Ты спрашивал у охраны?
— Они отвечают, что сие им неведомо.
Неведение терзало канцлера. Неужели столь успешно начавшаяся интрига разоблачена? Если Романовы арестованы, не укажут ли они на него? Днем приехал Салтыков, необычайно важный, в бобровой шубе с высоким стоячим воротником и горлатной шапке, которую и не подумал снять, когда вошел в горницу.
Канцлер по чванливому виду царского посланца понял: предположения его близки к истине, однако виду не подал, спросил серьезно, на ломаном русском:
— Что за шум был ночью? Мы не могли уснуть! У кого-то был пожар?
— Тебя это не должно беспокоить! — нагло ухмыльнулся Михайла Глебович. — Просто царь опалу возложил на своих некоторых подданных.
— Я не понимаю, что ты говоришь, — капризно сказал канцлер. — Где твой толмач?
— Толмач Яшка Заборовский приказал долго жить! Да и зачем нам толмач? С Алексашкой Романовым ты ведь без толмача разговаривал!
Взгляды их скрестились — один нагло-утверждающий, другой — колючий, но беспокойный.
— Не знаю никакого Алексашку Романова, — забормотал Сапега, опуская глаза. — И разговоров никаких ни с кем не вел. Знаешь ведь, что твоя стража никого со двора не пускает.
— Знаю, — ухмыльнулся Салтыков, — а теперь будет смотреть еще строже. Чтобы ни одна мышь не выскользнула.
Сапега решил перейти в атаку:
— Как вы смеете так обращаться с посольством его величества короля польского? Мы здесь ютимся в тесноте, вокруг разбросана солома, а если случится пожар? Как на соседнем подворье?
Он кивнул в окно на дымящиеся головешки, оставшиеся от дворов Романовых.
— Если хоть один человек погибнет, король разгневается. Вы что, новой войны хотите?
Оробевши, Салтыков перекрестился в передний угол:
— Береженого Бог бережет. Пусть слуги ваши костры зря не жгут!
Сапега продолжал наступать:
— Когда нас примет великий князь Борис?
— Не великий князь, а царь-государь! — строго поправил Салтыков.
— Наш король не признает его царем, ты знаешь.
— А если король ваш не признает Бориса Федоровича царем, то и переговоры ни к чему!
— Это пусть ваш великий князь рассудит, когда я ему вручу грамоты короля! — твердо сказал Сапега, искушенный в дипломатическом этикете.
Салтыков снова сбавил тон:
— У нашего царя-батюшки ножка болит. Не может он сейчас государственные дела решать, вот поправится, тогда и примет.
— Я прошу передать великому князю, что мы требуем приема! — с холодной властностью заявил Сапега и, не посчитав нужным попрощаться, ушел в другую комнату.
— Ты у меня бы поплясал на дыбе! — сквозь зубы процедил Салтыков. — Вот ужо погоди!
Ни на кого не глядя, он торжественно проплыл к своей карете и отбыл в Кремль.
Поздно вечером канцлер, еще раз перебрав верительные королевские грамоты и сложив их в ларец, сказал дворецкому:
— Пришли ко мне Сынка, пусть почитает мне на сон грядущий.
Дворецкий молча поклонился и, пока шел по лестницам, размышлял:
«Странного какого-то слугу нашел наш канцлер. Бить и орать на него не позволяет, поручений никаких не дает, разве что вот приказывает читать ему иногда. Грамотей, чистоплюй, тьфу. С другой стороны, когда русские во дворе, запрещает ему выходить из комнаты. Что-то тут нечисто. Впрочем, чем меньше знаешь, тем спокойнее. И имени у парня нет, только прозвище Сынок. Может, нехристь какой?»
Сынок, войдя в комнату канцлера, молча поклонился и сел у небольшого столика, где под свечой лежала открытая книга. Канцлер молча наблюдал за юношей. Был он невысок ростом, не по-юношески коренаст, — видно, обладал недюжинной физической силой. Узкий кафтан слуги не скрывал его широко развернутых плеч и сильных рук. Впрочем, одна рука, правая, была длиннее другой, левой, — видимо, вследствие ежедневных, с раннего детства, упражнений с саблей. Кривоватые ноги указывали на привычку больше ездить верхом, нежели ходить пешком. Лицо смуглое, под правым глазом выделялась круглая бородавка. Глаза его, небольшие, серого цвета, становились угрюмыми, когда он молчал, но стоило ему заговорить, мгновенно загорались, выдавая недюжинный ум и темперамент.
— Господин канцлер обещал мне Москву показать, — сказал он насмешливо-капризным тоном. — А что я вижу? Спины холопов? Русского ни одного толком не видел, только в щелку. Это что за важная птица сегодня была? Чистый петух!
— Эта птица очень опасная! — неожиданно мягко заговорил Сапега. — Будь осторожен, Сынок! Сегодня ночью схватили Романовых. Видно, царю донесли о моих переговорах. Неужели толмач предал? На него это похоже. Предавши однажды, трудно остановиться.
— Скучно мне тут! — капризно сказал юноша. — Скорей на волю, на коня!
— Придет еще твой час — по всей России поскачешь. А пока терпи! Лазутчики царя рыскают вокруг. Не дай Бог, если что пронюхают.
— Царь Иван гонялся за моим отцом,{20} ну и что толку? А меня поймать еще труднее!
— Не хвастайся попусту! Лучше почитай мне.
— Опять Четьи-Минеи, — с зевотой проговорил юноша. — Нет чтобы что-нибудь светское, латинских авторов.
— Так ты же латыни не знаешь!
— Выучу. Я к наукам способный. И не говори снова, что хвастаюсь. Это подтвердит мой наставник. Он был лучшим учеником князя Андрея Михайловича Курбского. А тот был известный философ и книгочей!
— Читай, читай! — пробормотал сонно канцлер.
После размышлений и совещаний насчет своей женитьбы Василий Иоаннович решил в конце концов сочетаться лучше с дочерью кого-нибудь из своих подданных, чем с иностранкой, отчасти имея в виду избежать чрезвычайных расходов, отчасти не желая иметь супругу, воспитанную в чужеземных обычаях и в иной вере. Такой совет подал государю его казнохранитель и главный советник Георгий по прозвищу Малый. Он рассчитывал, что государь возьмет в супруги его дочь. Но в итоге по общему совету были собраны дочери бояр, числом тысяча пятьсот, чтобы государь мог выбрать из них ту, которую пожелает. Произведя смотрины, государь, вопреки ожиданиям Георгия, выбрал себе в супруги Саломею, дочь боярина Иоанна Сабурова. Но затем, так как у него в течение двадцати одного года не было от нее детей, рассерженный бесплодием супруги, он в тот самый год, когда мы прибыли в Москву, т. е. в 1526 году, заточил ее в некий монастырь в Суздальском княжестве. В монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский кукуль, но она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами. Возмущенный этим недостойным поступком Иоанн Шигона, один из первых советников, не только выразил ей дерзкое порицание, но и ударил ее плеткой, прибавив: «Неужели ты дерзаешь противиться воле государя? Неужели медлишь исполнить его веление?» Тогда Саломея спросила его, по чьему приказу он бьет ее. Тот ответил: «По приказу государя». После этого она, упав духом, громко заявила перед всеми, что надевает кукуль против воли и по принуждению и призывает Бога в мстители столь великой обиды, нанесенной ей. Заточив Саломею в монастырь, государь женился на Елене, дочери князя Василия Глинского Слепого, в то время уже покойного, бывшего братом герцога Михаила Глинского, который тогда был в заточении. Вдруг возникла молва, что Саломея беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников, казнохранителя Георгия Малого и постельничего Якова Мазура, и уверяли, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, будто она беременна и вскоре родит. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Саломея, советника Федора Рака и некоего секретаря Потага, поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не пожелала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое, то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали, что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко…
Из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна
После шестинедельного томительного ожидания, когда послы совершенно не находили себе места от бездеятельности и неопределенности своего положения, Михайла Салтыков наконец торжественно возвестил о приглашении послов в царский дворец.
Утром звонкие тулумбасы возвестили у ворот посольского двора прибытие царского конвоя. Вышедший на крыльцо канцлер увидел две шеренги всадников, одетых в парчовые камзолы, и гарцующего между ними капитана Маржере.
«Значит, толмач не предал», — подумал Сапега с явным облегчением и поспешил к своей золоченой карете.
Процессия неторопливо двинулась к Красной площади, не преминув снова проехать мимо дворца Густава. Миновали площадь, спустились через Воскресенский мост к реке Неглинной и вдоль кремлевских стен проследовали к Боровицким воротам, через которые обычно въезжали в Кремль посольства.
Эскорт проводил посольство к парадному крыльцу, ведущему в Грановитую палату. Вдоль лестничных маршей, в проходах стояли у стен празднично одетые дворяне. Они молча глядели на иноземцев, не произнося ни звука.
Наконец послы вошли в зал, который поразил Сапегу своим великолепием, хотя он и был здесь пять лет назад, при покойном Федоре. Стены и своды были сплошь покрыты золотой парчой, обрамляя великолепные фрески с сюжетами из Ветхого и Нового Завета и жития святых. Вдоль стен на лавках, обитых алым бархатом, важно сидели бояре и думные дворяне. Они также хранили гробовое молчание. Тишина была такая, что невозможно было поверить, что в зале находилось более пятисот человек.
Сопровождавшие Сапегу дворяне остановились у самого входа, и канцлер с Вариницким и Пелгржымовским проследовали в глубь зала.
Борис восседал на царском троне из слоновой кости, отделанном золотом и драгоценными каменьями. Рядом, на троне поменьше, сидел наследник, двенадцатилетний Федор, не по-мальчишески серьезный, одетый также в царское одеяние. Голову Бориса украшала сверкающая золотом и алмазами царская корона, левая рука опиралась на скипетр, сделанный из рога единорога, также усыпанный драгоценностями, в правой он держал державу — большое золотое яблоко.
Восточная роскошь обстановки, свидетельствующая о несметных богатствах русского царя, и также продолжавшаяся тишина — все это действовало угнетающе на гостей, заставляя их невольно робеть перед величием государя.
Однако Лев Сапега не растерялся. Остановившись в пяти шагах от трона, он снял свою меховую шапку, также украшенную драгоценностями, и осведомился о здоровье великого князя. Стоявший неподалеку от царя Афанасий Власьев негромко перевел.
Бояре было глухо загудели, оскорбленные тем, что какой-то посол не желает величать государя царским титулом, но Борис живым взглядом остановил их, а затем своим «ласкательным» голосом осведомился о здоровье Жигимонта, также не назвав его королем.
Сапега вынужден был проглотить обиду, понимая, что вопрос о титуле будет одним из основных на переговорах.
Борис внимательно следил за выражением лица посла и, увидев, что победная улыбка его как-то сникла, усмехнулся про себя: «Ничего не получится из твоих козней, хитроумный литовец. Не то сейчас время, чтобы навязывать свою игру. Война Жигимонта с его дядей Карлусом нам на руку. Можем диктовать все, что захотим. Напрасно рассчитывали вы и на поддержку бояр-предателей. Все они обезврежены…»
Накануне Семен Годунов докладывал царю, как проходил суд над изменниками на патриаршем дворе. Когда Салтыков предъявил высшим духовным сановникам и боярам злополучный мешок с кореньями, а Бартенев-второй поклялся под присягой, что хозяин его совместно со свояченицей Ксенией собирался отравить царя, поднялся страшный шум. Стуча посохами, святые отцы и бояре начали проклинать Романовых и требовать их смертной казни. Расчет Бориса оказался точным: родовитые князья — Рюриковичи одобрили такой поворот событий. Яростное их возмущение не обмануло царя: конечно, оно было притворным, вряд ли кто поверил в сказку о готовящемся покушении. Но бояр радовало, что эти наглые выскочки Романовы, тянущиеся жадными руками к царскому скипетру, отброшены одним ударом. Хотя Мстиславские и перешептывались между собой, дескать, опять Борис оказался клятвопреступником: ведь всего десять лет назад крест целовал Никите Романову, что будет заботиться о его сыновьях, как о своих собственных чадах. Ну, еще вспомнят князья Борисовы прегрешения, когда его Бог подберет: ведь разбаливается он все пуще!
Выслушав Семена Годунова, царь указал немедленно постричь в монахи Федора Романова, по старшинству в роде претендующего на верховную власть, и тем самым обезвредить его. В сопровождении пристава, стрелецкого головы Ратмана Дурова, отправили Федора, ставшего в иночестве Филаретом, в заточение на Север, в Антониево-Сийский монастырь. Жену его Ксению отправили в тюрьму в глухие места — Заонежские погосты. Малолетних детей Федора Никитича вместе с их теткой Анастасией Никитичной и семьей Александра Никитича сослали на Белоозеро. Приказано было также наложить опалу на князя Василия Ивановича Шуйского и отослать его в дальнее родовое поместье в ярославских землях. Инокиню же Марфу, мать угличского царевича, перевели в другой монастырь, на шестьсот верст дальше от Москвы, дабы погасить злостные слухи о воскресении царевича.
Остальных же братьев Романовых велел содержать в кремлевских застенках, чтобы затем судить их вместе с Богдашкой Бельским за общую измену царю.
…Сделав еще два шага вперед и поклонившись, Сапега передал дьяку Власьеву верительные грамоты. Тот, развернув их, вполголоса зачитал, тут же переводя на русский язык. Жигимонт сообщал, что поручает канцлеру литовскому и иже с ним вести переговоры от своего имени о вечном мире между Польшей и Россией.
Борис, выслушав, благостно, как умел только он, улыбнулся и обещал в скором времени дать ответ. Затем послы и сопровождавшие их все триста польских дворян были приглашены на обед. И здесь царь стремился поразить иноземцев своим богатством. Перед каждым из шестисот приглашенных были поставлены золотые блюда. Ни о салфетках, ни о тарелках, тем более вилках и ложках речи не было. По обычаю, все ели руками, а затем руки споласкивали с помощью прислуживавших многочисленных стряпчих и стольников и вытирали прямо о скатерть.
Особыми разносолами обед не блистал. Поскольку прием проходил в постный день, гостей угощали многочисленными рыбными блюдами. Хотя сама рыба была лучших сортов, однако, по мнению гетмана, приготовлена была она плохо. А может, на его аппетите сказалось кислое настроение. Тем не менее он каждый раз любезно вставал и раскланивался, когда царь произносил здравицу в честь Жигимонта и его послов.
…И снова томительные дни ожидания. Лишь через неделю послов принял сын Бориса Федор, окруженный боярами и думными дьяками. Ломающимся баском он заявил, что отец приказал вести переговоры с послами своим боярам.
— Мы этому рады, — ответил Сапега, — мы для этого и приехали, а не для того, чтобы лежать и ничего не делать!
Начались длинные, изматывающие заседания, проходившие в яростных спорах. Вел переговоры Афанасий Иванович Власьев, окончательно заменивший Василия Щелкалова на посту канцлера, и сделавший неожиданную карьеру Михайла Глебович Салтыков.
Первым камнем преткновения в переговорах, как и следовало ожидать, явился вопрос о титуле царя и самодержца. Сапега упорствовал, ссылаясь на короля. Бояре в конце концов начали даже грозить войной, на что канцлер твердо заявил:
— Войну начать вы можете, но конец войны — в руках Божьих!
Это заявление несколько умерило пыл самых ярых спорщиков, и в последующие дни стали обсуждаться предложения польской стороны о заключении мира. Как и предвидел Сапега, бояре категорически воспротивились предложению о создании унии под управлением единого государя в случае смерти одного из них, понимая, что король Польский, будучи значительно моложе, имеет гораздо больше шансов пережить Бориса.
Столь же категоричное возражение встретило со стороны боярской думы предложение послов о том, чтобы подданные обоих государств могли вольно переезжать из одной страны в другую, поступать в службу придворную, военную и земскую, приобретать земли, свободно вступать в браки, посылать детей учиться — русских в Варшаву и польских в Москву. Предлагалось также учредить единую монету, создать общий флот на море Литовском и море Великом, сообща обороняться от татар на Украине.
Однако бояре разгадали хитрость поляков, ибо был один пункт в соглашении, ради которого, собственно, все это и предполагалось. А именно — предоставить русским, поселившимся в Польше, строить православные храмы, а полякам в России — костелы, таким образом осуществить заветную мечту папы римского о католизации огромного края. Но план, разработанный Сигизмундом, ярым католиком, совместно с его ближайшими иезуитами, с треском провалился.
Боярская дума твердо ответила, что разговор о союзе с Польшей возможен только в том случае, если Сигизмунд уступит России Ливонию. В свою очередь Сапега заявил, что король не дал ему полномочий вести переговоры по поводу разделения прибалтийских земель.
Переговоры дошли до прямых оскорблений. Когда Сапега сказал, что он не имеет полномочий, вскочил думный дворянин Татищев и заорал:
— Ты, Лев, еще очень молод, ты говоришь все неправду, ты лжешь!
— Ты сам лжешь, холоп! — загремел канцлер. — А я все говорю правду! Не со знаменитыми бы послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне!
С этими словами он вышел из палаты. Власьеву пришлось приложить много усилий, чтобы утихомирить страсти и продолжить переговоры.
Но от того, что они стали проходить более спокойно, дело не сдвинулось. Бояре явно затягивали обсуждение, ссылаясь по малейшему поводу с царем, который чувствовал себя все хуже и хуже. По Москве пошли разговоры, что Борис при смерти.
Прошел месяц, второй, третий. Сапеге стала ясна причина промедлений, когда однажды весенним днем мимо его двора под звон тулумбасов провезли шведское посольство во главе с Гендрихсоном и Клаусоном. Сапега усмехнулся, глядя на их озадаченные лица. Царь Борис поступил со шведами так же, как и с ним, когда его карету специально провезли мимо двора Густава.
Кстати, принц Густав оказался в опале. Борис, ранее благоволивший к нему и строивший планы относительно его воцарения в Ливонии, разгневался на непутевого шведа. Дело в том, что тот, несмотря на слабоволие, вдруг проявил упрямство, не желая расстаться со своей любовницей, трактирщицей, которую он подцепил, скитаясь по Европе. Естественно, это никак не позволяло вести речь о его женитьбе на Ксении. Борис отобрал у принца подаренные было Калугу с тремя городами, дав ему взамен злополучный Угличский удел, и отослал его из Москвы.
Лето было унылым, под стать настроению Сапеги, шли непрерывные проливные холодные дожди, вся одежда и утварь казались сырыми, а хваленая русская водка — разбавленной. В один из таких дней послы присутствовали на казни бывшего первого воеводы Бориса и его свояка — Богдана Бельского и младших братьев Романовых на Ивановской площади. Присутствовал на казни и сам царь, который вдруг в ненастье начал чувствовать себя лучше.
Боярин Семен Годунов визгливым тоном читал царский указ, уличающий бояр в государственной измене и повелевающий разослать их по сибирским тюрьмам. Однако процедура на этом не кончилась: Романовы получили публичное унижение — были биты кнутом здесь же, на площади. Еще большее уничижение претерпел Богдан Бельский. Его привязали к столбу, и шотландский солдат Габриель, бывший одно время лейб-медиком и цирюльником самого государя, не торопясь, под садистский хохот оцепивших место казни иноземных гвардейцев выдергал волос за волосом всю пышную бороду когда-то первого сановника государева.
Борис, сидевший в кресле на крыльце своего дворца, не отрываясь, испытующе глядел на Бельского, ожидая, что, не стерпев обиды, тот начнет проклинать царя, а может, проговорится, откуда пошел слух о воскресении царевича. Но Богдан, стиснув зубы, глухо мычал, да крупные слезы текли по впалым щекам. Только когда лицо его стало бесстыдно гладким, закричал Богдан тонким голосом, что напрасно-де царь на него кручинится, что нет на нем никакой вины и что он, холоп государев, и впредь ему будет верен до смерти.
Борис остался доволен. Что ж, пусть живет Богдашка. Теперь заречется поганые слова о царе говорить! Велел отослать его не в тюрьму, а в нижегородское его поместье, но под присмотр пристава Василия Анучина. А другому приставу, Леонтию Лодыженскому, что должен был везти Алексашку Романова на край Студеного моря, в Усолье-Луду, просил передать, чтоб не мешкал, там сидючи. Вскоре оттуда пришло известие, что ссыльный скончался от удушения.
В середине августа 1601 года неожиданно ударил мороз и на крестьянские поля пал снег, погубив разом весь урожай.
— Это Бог наказывает Бориску за муки убиенных, — шептались на папертях.
Переговоры с польским посольством подходили к концу. Так и не добившись согласия думы и царя на создание союза двух государств, Сапега принял предложение Власьева о заключении перемирия на двадцать лет. После отсылки Романовых к местам заключения подозрительность русских несколько ослабла, во всяком случае, дворянам посольства и их слугам было дозволено покидать посольский двор для покупки съестного и других товаров, причем не всегда давались и стрельцы для сопровождения.
Еще во время казни на Ивановской площади канцлеру, оказавшемуся вроде невзначай неподалеку от капитана Маржере, стоявшего в оцеплении, удалось перекинуться с ним несколькими немецкими фразами.
— Жаль толмача, — проговорил Сапега, глядя, как корчится Бельский после каждого резкого рывка железных пальцев Габриеля.
— Я видел его труп, — лаконично ответил Маржере, так же не смотря в сторону канцлера. — Он никого не выдал.
— Будем надеяться. А как теперь нам держать связь с тобой?
— Есть у меня один молодой негоциант. Он постоянно переписывается со своим торговым домом в Голландии, письма переправляет, как правило, через Литву.
— А нет ли у тебя верного человека среди русских? Такого, что не побоится рискнуть головой?
— Буду искать.
— Поспеши, мы скоро покидаем Россию.
Через несколько дней, когда Сапега шествовал в боярскую думу, Маржере, отталкивая от канцлера нищих, число которых за последнее время заметно увеличилось, ловко сунул ему записку. В ней сообщалось, что капитан встретил монаха Чудова монастыря, что находится в Кремле, Григория Отрепьева, которого знал ранее по его службе секретарем у Федора Романова. Во время штурма подворья Романовых капитан спас его от гибели, поэтому Отрепьев ему предан. Почти год Отрепьев скрывался по монастырям, приняв иноческий сан. Теперь вернулся в Москву и с помощью родственников добился поста секретаря у самого патриарха Иова. Ненавидит Бориса, алчен до золота, мечтает найти пристанище в Польше.
Идя на вечерние переговоры, Сапега случайно уронил платок возле сапог капитана. Тот проворно нагнулся, возвратил платок, принятый с благодарностью, оставив у себя клочок бумаги. В нем значилось: «Сообщи монаху, что к нему на днях придут. Если выполнит все, что ему скажут, получит поместье в Литве и сто золотых дукатов».
Накануне отъезда, когда сборы были закончены и поляки устроили веселую пирушку, щедро угощая стрельцов-охранников, Сапега позвал к себе молодого слугу-чтеца.
— Ну, Сынок, настала пора нам прощаться. Вот монашеское одеяние. Когда совсем стемнеет, тайно переберешься через забор там, где стоят телеги. Я думаю, что сделать это нетрудно, охрана к тому времени будет пьяна. Пойдешь в Чудов монастырь. Найдешь там Григория Отрепьева. Скажешь, что прислал тебя канцлер и что он должен выполнять твои приказы.
— Мои приказы? А какие, позволительно узнать? — оживился молодой слуга.
— Приказ такой — провести тебя к инокине Марфе, матери угличского царевича. Отрепьеву скажешь, что ты и есть самый царевич.
— Но я другой царевич!
— Русские верят, что царевич остался жив, а тебя никто не знает. Соображаешь? Какая тебе разница, чей ты сын, главное, чтобы стал русским царем. А там разберемся.
— Хорошо. Я найду инокиню Марфу. А дальше что?
— Оставшись с ней наедине, расскажешь ей о своем происхождении, как на исповеди. Поклянешься, что отомстишь Борису за ее сына и, когда воцаришься, окружишь ее и ее братьев величайшим почетом. За это проси царский нательный крест, который она сняла с убиенного сына и тайно хранит. Будет у тебя крест — будешь государем на Руси, а там, глядишь, и Польши.
— Я сделаю это! — пылко пообещал царевич, ударяя себя в грудь.
— Потом вернешься в Литву, будем вместе ждать смерти Бориса, уверен, что недолго. Когда коронуют Федора, будет много обиженных бояр. Все они встанут под твои знамена. Вот тогда и ударим! Думаю, что не только знатные бояре, но и холопы — все поддержат тебя. С нами Бог!
Царевич в нетерпении вскочил, схватив монашескую рясу.
— Но будь осторожен, Сынок. Везде соглядатаи Бориса. Боже упаси рассказывать что-то о себе! Будете возвращаться в Польшу через южные границы. На Украйне проскочить легче, чем на западе. Здесь, ты видел, посты на каждом шагу. Ну, с Богом, царевич Димитрий!
…Отрепьев встретил молодого монаха дружелюбно, как долгожданного гостя, увел к себе в келью и, заперев дверь, достал из потаенного угла объемистую бутыль с вином.
— Давай выпьем за дружбу.
У молодого монашка округлились глаза:
— В монастыре вино? Это уже не можно!
— В нашем Чудовом монастыре — все можно. Монахи умудряются даже баб проводить, — рассмеялся Отрепьев. — А уж тем более мне, секретарю самого патриарха!
Новые знакомцы выпили, разговор пошел живее.
— Слушай, а ты не поляк? — неожиданно спросил Григорий.
— Русский, православный! — ответил Димитрий.
— Говоришь как-то странно. Вроде бы и по-русски, и в то же время как иностранец слова расставляешь.
— Я долго жил в Волыни, с раннего детства.
— Что так?
— Спасался от лихих людей.
— От каких таких «лихих»?
Димитрий перешел на шепот:
— От псов государевых…
Григорий с понимающим участием взглянул на гостя:
— Мне тоже от них пришлось побегать. Но почему спасаться с ранних лет? В чем можно провиниться, будучи несмышленым ребенком?
— Моя вина — в моем рождении.
— Не понял, что-то уж больно загадочно говоришь! Нельзя ли пояснее?
— Сие есть великая тайна! — не без напыщенности, подняв указательный палец к сводчатому потолку, заявил гость.
Григорий принял обиженный вид:
— Меж друзьями не может быть никаких тайн. И как я буду выполнять приказ канцлера, если от меня что-то скрывают?
— Добро, я скажу, — для виду помешкав, сказал гость.
Он встал, подошел к двери, опасливо прислушался, нет кого за нею, вернулся, сел вплотную к Отрепьеву и на ухо жарко выдохнул:
— Я — царевич Угличский.
Отрепьев с недоверием отодвинулся от Димитрия:
— Слыхали, слыхали. Бог подаст!
— Клянусь всеми святыми, я царевич!
— Как же — тебя похоронили?
— Не меня, другого мальчика. Меня спас лекарь-немчин, раненого. Унес к себе, а затем тайно уплыл со мной на лодке в потаенное место, а потом, когда я поправился, уехали с ним к Литве. Там я и жил все эти годы, под рукой князя Курбского, а последний год у канцлера был в читчиках.
— Складно сказываешь, — уже смягчившись, сказал Григорий. — Ну, а зачем в Россию вернулся? Неужели головы своей не жалко?
— Дело есть, — ответил Димитрий. — За тем делом и ты понадобился…
— Ну, говори же!
— Нужно мою матушку разыскать. Прячет ее Борис где-то в дальнем монастыре. Видать, боится.
— Чего?
— Что я ее разыщу, чтобы благословение принять…
— Благословение?
— Да, на подвиг ратный за царскую корону, что злодей похитил!
— А как ты себе мыслишь бой с царем затеять? На поединок вызовешь? — скептически усмехнулся Григорий.
— Не смейся! Подниму всех обиженных на Бориса! Соберу войско в Москве!
— Надо обязательно казаков с Украйны позвать! — загорелся Отрепьев. — Воины хоть куда и на Бориску злы!
— Конечно, и казаков пригласим.
— Ну, что ж, я с тобою до конца! — воскликнул Отрепьев. — Как станешь царем, сделаешь меня боярином!
— Будешь моим канцлером! — торжественно заявил Димитрий.
— Ух ты! — восхитился Григорий. — За это давай еще выпьем!
— Не много ли будет? — засомневался Димитрий. — Нам надо ясные головы иметь.
— А у меня, сколько ни пью, всегда ясная голова! Кого хошь за столом перепью! — хвастливо заявил Отрепьев.
Действительно, опрокинув кубок, он остался внешне таким, как был. Утерев рукавом рот, критически осмотрел одежду Димитрия.
— В такой рясе тебе показываться нельзя, — заявил он деловито. — Новая, необношенная. Начнутся расспросы — где купил, на какие шиши?
Григорий полез в свой рундучок, выбросил оттуда грязную, порванную рясу:
— Вот надевай. Будет как раз! Сейчас пойдем в ночлежку, поживешь несколько дней там, пока я буду разузнавать, где находится инокиня Марфа. Будешь помалкивать. Я скажу, что ты блаженный и ничего не помнишь. Назовем тебя… Леонидом. Из какого ты монастыря, то неведомо, просто ходишь по храмам, молишься. Понял?
Сторожевые стрелецкие посты, гревшиеся кострами у рогаток на крестцах, беспрекословно пропускали двух иноков. У Покровских ворот нашли покосившуюся избушку, служившую пристанищем для бродячей братии. Здесь Григорий встретил знакомого, полного монаха в почти сопревшей рясе, с железными веригами на груди.
— Варлаам!
— Гриня! — растроганно воскликнул старик и полез целоваться, обильно распространяя запах хмельного. — Совсем забыл меня, как пристроился в теплое местечко. Как мы с тобой по монастырям хаживали!
Отрепьев расцеловался со старцем без всякой брезгливости.
— А это кто?
— Инок Леонид! — ответил Григорий. — Он блаженный, совсем почти не говорит. Ты уж присмотри за ним, пока я его куда-нибудь в монастырь не пристрою. Я отблагодарю!
И Григорий потряс бутылью, ловко извлеченной из-под рясы.
— Разве я обижу блаженного! — воскликнул обрадованный Варлаам. — Будь спокоен, обихожу, как сына родного!
В следующую неделю Димитрию представилась редкая возможность познакомиться со всей Москвой. Варлаам в поисках милостыни неустанно переходил от одной церкви к другой, не забывая при этом наведываться в кабаки, где его тоже все знали. Побывали они и в Кремле во всех соборах, и на Арбате, и на Сретенке, и в стрелецкой слободе. Димитрий помалкивал, изображая блаженного, но слушал жадно, впитывая разговоры москвичей о неудачной попытке Бориса женить дочь, о начавшемся в деревнях голоде, о многочисленных видениях, являвшихся святым людям то там то сям и предвещавших то войну, то скорое падение царя…
В одном из кабаков нашел их Отрепьев. Был он мрачен и озабочен.
Отвел Димитрия в сторону, сказал:
— Уходим немедленно. На меня донесли, будто слухи о царевиче распускаю. А как было иначе узнать о Марфе? Хорошо мой дядька, Ефимий, предупредил. Так что в дорогу не мешкая.
Он громко обратился к Варлааму:
— Прощай, святой старец! Спасибо тебе за инока.
— Куда же вы на зиму глядя?
— Хочу пристроить его в монастырь на Новгородской земле.
— Жаль расставаться.
— Может, еще и свидимся.
— Дай-то Бог. Я, грешным делом, к весне на юг подамся. В Киевскую лавру на богомолье. Может, и вы со мной?
— Там видно будет. Прощай, Варлаам.
…И прииде к царице Марфе в монастырь на Выксу с товарищем своим, некоим старцем в роздранных в худых ризах. А сказаше приставом, что пришли святому месту помолитца и к царице для милостыни. И добились того, что царица их к себе пустила. И, неведомо каким вражьим наветом, прельстил царицу и сказал воровство свое. И она ему дала крест злат с мощьми и камением драгим сына своего, благоверного царевича Димитрия Ивановича Углецкого.
Пискаревский летописец
После долгой суровой зимы долгожданная весна сначала порадовала крестьянина: была она ранней и теплой. Но когда наконец земля оттаяла и пахарь засеял ее, стоило едва проклюнуться всходам, как ударил мороз, разом погубив все надежды. Лишь в начале июня те, у кого еще были остатки лежалого, «забытого» зерна, засеяли пашню вторично, зная, что и в третий раз будет недород. Один недород крестьянин еще мог пережить, потуже затянув пояс, но три подряд…
Исаак Масса, вернувшийся из Голландии с очередной партией шелка, возбужденно рассказывал Маржере о виденном на обратном пути:
— Поселяне в деревнях съели весь скот — кур, овец, коров, лошадей и даже кошек и собак, тех, что не успели убежать в поисках пищи. Поели всю мякину в овинах, а теперь бросили дома, рыщут по лесам, едят со страшной жадностью грибы и всевозможные съедобные коренья. От такой пищи у них животы становятся толстые, как у коров, и настигает страшная смерть: происходят вдруг странные обмороки, люди без чувств падают на землю, и их тут пожирают волки и лисицы, которых появилось неимоверное количество!
— Лисы и в Москве появились: падаль ищут! — ответил Маржере. — Мой оруженосец Вильгельм вчера пристрелил лисицу прямо во рву у кремлевской стены!
Нищих в Москве прибавлялось с каждым днем. Семен Годунов докладывал царю:
— Сотни оборванных и голодных людей стоят у Фроловских ворот, в Кремль их стрельцы не пускают.
— Что они говорят?
— Они молчат, но все, как один, держатся за вороты своих рубах.
Борис нервно подергал себя за унизанный жемчугом ворот рубахи.
— Напоминают мне о моем обете? Что ж, я слово свое сдержу. Зови ко мне дьяков Дворцового приказа.
Вместе с дьяками пришел и двоюродный дядя царя Степан Васильевич Годунов, ведавший царской казной.
— Все запасы зерна из житной башни пустить в продажу по твердой цене! — распорядился царь.
— А как установишь твердую цену? — спросил Годунов-старший. — Прошлым летом четверть ржи на рынке шла по три-четыре копейки, а сейчас по рублю. Есть барыги, что и по два уже торгуют.
— Таких хватать и бить на площади кнутом нещадно! — сурово приказал царь. — А твердую цену установить вполовину от рыночной. Но продавать не более двух четвертей на руки, чтобы не содействовать алчным перекупщикам.
— Значит, по пятьдесят копеек? — уточнил один из дьяков, записывавший царские распоряжения.
— Так у многих не то что пятьдесят, копейки не найдется! — заметил Семен Годунов.
— Открыть казну, установить раздачу денег страждущим!
Заметив неодобрение главы Дворцового приказа, непреклонно заметил:
— О деньгах ли думать, когда народ надо спасать! Послать казну, сколько потребуется, во все города!
На четырех самых больших площадях приказные стали раздавать беднякам в будний день по полушке, в воскресенье вдвое больше — по деньге. Каждый день казна расходовала на нищих до четырехсот рублей.
На какое-то время обстановка в столице стала более спокойной. Но не только горести посещали государя. С нетерпеливой радостью ждал он приезда принца датского Иоганна, брата короля Христиана, который согласился стать зятем царским и удельным князем. Встречали его корабль в устье реки Нарвы. Афанасий Власьев и Михайла Салтыков, приехавшие сюда из Литвы, где после долгомесячных переговоров добились от Сигизмунда крестного целования грамоты о перемирии между Польшей и Россией на двадцать лет.
От литовской границы пышный кортеж сопровождал князь Дмитрий Пожарский. Прошедшие два года он провел на охране северной границы. Довелось участвовать князю и в больших стычках со шведскими отрядами, нет-нет да пытавшимися заглянуть на Русскую землю в поисках добычи. В этих сшибках молодой князь оттачивал свое умение фехтовать и стрелять прицельно из пищали на полном скаку.
Бывал он наездами и в Москве, где поручалось ему сопровождать кого-то из иноземных важных чинов. Так, зимой пришлось провожать ему старого знакомца — рыжего немца Конрада Буссова, который по царскому наущению попытался поднять восстание в Нарве.
Дмитрий держался с иноземцем, пытавшимся навязать фамильярную дружбу князю, вежливо, но холодно, вся его натура воина восставала против измены пусть даже и враждебному государю. Но Конрад не обращал внимания на холодность князя. Царь Борис щедро наградил его за прошлые заслуги и, хотя не дал никакой службы, выделил обширные поместья с крестьянами в Московском уезде. Болтаясь без дела то в Немецкой слободе, то во дворце, предприимчивый немец успешно обделывал все свои дела: свою дочь выдал замуж за опешившего от наглого натиска Конрада пастора Мартина Бера, сына, тоже Конрада, пристроил в кавалерийский отряд капитана Маржере, сумев быстро стать с последним на короткой ноге…
…Сопровождая сейчас пышный поезд царского жениха, с которым прибыли и датские послы, и двести дворян, составлявших двор принца, Пожарский размышлял о том, что надо бы попросить в Дворцовом приказе об отпуске. Жена, Прасковья Варфоломеевна, прислала тревожное письмо о том, что родовое поместье князя — Мугреево из-за неурожая приходит в разорение.
От невеселых мыслей князя отвлекла неистовая пальба — это принц Иоганн, гарцуя на лошади, стрелял уток, поднявшихся с реки. Пожарскому принц глянулся: всегда весел, общителен, вежлив даже со слугами. Подумалось, что наконец у красавицы Ксении будет достойный ее муж. Принц радовался путешествию, интересовался новыми обычаями, по вечерам, когда путешественники усаживались за пиршественные столы, просил, чтоб пригласили музыкантов и танцоров. Царь Борис принял Иоганна как родного сына. В Грановитой палате, где проходила первая встреча, принцу поставили кресло на почетном месте, рядом с креслом, которое занимал наследник. Принц любезно беседовал с царем, горячо благодарил за те многочисленные подарки, которые получал еще в пути. Ему было и невдомек, что сверху, через решетчатое окошечко под потолком, жадно рассматривают его любопытные женские глаза. Царевне Ксении принц очень понравился — высок, строен, голубоглаз. Приветливая улыбка не сходит с лица. Правда, нос велик, но он не портит величавости красивого лица.
Потом был дан торжественный обед, причем, против обычая, царь усадил гостя за свой стол, где не имел права пиршествовать никто, кроме сыновей. После обеда с богатыми подарками принца отправили в его резиденцию — на Щелкаловский посольский двор, обставленный по этому случаю с небывалой роскошью. Дважды Борис с сыном Федором посещал принца в его апартаментах. Все шло к свадьбе.
Царь отправился в Троице-Сергиеву лавру, чтобы возблагодарить Господа за обретенное дочерью счастье. Но на обратном пути у его кареты остановился гонец на взмыленной лошади и протянул записку. Боярин Салтыков сообщал о внезапной горячке, случившейся с принцем. Напрасно, вернувшись во дворец, Борис снова и снова слал к принцу своих заморских лекарей, тот уже не приходил в сознание, и вскоре его не стало.
Неутешно, в голос рыдала Ксения:
— Иванушка-царевич! Почто ты меня, родимый, покинул?
Ошеломлен был и сам Борис, увидев в этом предостережение Господне.
— За что я прогневал тебя так, о Боже? — вопрошал он, распростершись ниц перед иконостасом Благовещенского собора.
Принца отпевал по немецкому обычаю пастор Мартин Бер. Потом густо просмоленный гроб с телом принца отправили в обратный путь, чтобы похоронить его на родине.
Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки; шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью, чулочки шелк ал; башмаки сафьян синь.
Из ежедневных донесений царю М. Г. Салтыкова, сопровождавшего принца Иоанна
Злые языки на площадях и папертях вновь всуе начали трепать имя царя: извел Бориска прекрасного королевича, столь полюбившегося всем, потому что испугался, будто отнимет он трон у его сынка Федьки.
Мать Дмитрия Пожарского, Мария Федоровна, приехала к сыну на подворье для серьезного разговора:
— Защиты прошу, сынок, от наветов боярыни царицыной, княгини Лыковой. Совсем залютовала старуха, как жених наш помер. На каждом углу меня проклинает: деи, и глаз у меня дурной, сглазила царевну, потому-то второго жениха лишилась. Видать, хочет меня со двора царевны прогнать, а кого-нибудь из своих дочерей поставить. Известное дело: и сынка ее, Бориса, дела плохи — то в думе заседал, а сейчас в пограничный город Белгород царь воеводой послал, ведь женка его — родная сестра Федора Романова. Вот боярыня и хочет неправдами поближе к трону стать, чтоб сынка своего положение поправить!
Дмитрий порывисто обнял мать:
— Не горюй, матушка, ведь правда на нашей стороне. Я знаю, что ты любишь Ксению и желаешь ей счастья…
Глаза Марии Федоровны, наполненные слезами, сверкнули злобно:
— Лыкова — двоедушная тварь! Меня проклинает, а тайно со своими подругами над Ксенией смеется. «Бог, — говорит, — ее наказывает за грехи отца». Если узнает наушник царя Семен Годунов, ох, ей не поздоровится!
Пожарский нахмурился:
— Не наше княжеское дело, матушка, доносами заниматься! Это подлых людишек дела. Я буду действовать, как предки наши: подам прошение государю рассудить нас с князем Лыковым.
…Иск «в материно место» стольника Пожарского по повелению государя рассматривала боярская дума. Многие удивлялись дерзости молодого князя — местничать с Лыковым, чьи предки издавна находились в числе московской знати, было опасно. Дмитрия могли выдать Борису Лыкову «головой» или, во всяком случае, наложить большой денежный штраф.
Но молодой Пожарский не дрогнул под тяжелыми насмешливыми взглядами бояр. Хорошо образованный, он отлично знал свою родословную:
— Мы, Пожарские, прямые потомки Рюриковичей. Предок наш Иван Всеволодович, положивший начало роду Стародубских-Пожарских, был младшим сыном великого князя Всеволода Большое Гнездо, правнуком Владимира Мономаха. Великому князю Дмитрию Донскому служил мой предок князь Андрей Федорович Стародубский. Он отличился храбростью на поле Куликовом. Мой дед Федор Иванович Немой происходил из младшей ветви удельного рода. Он верой и правдой служил царю Ивану Четвертому, числился в тысяче «лучших слуг», участвовал в покорении Казанского царства. Потом попал в государеву опалу, как и сотни других ярославских, ростовских князей. Опала эта распространялась и на отца моего Михаила Федоровича Глухого, который хоть и участвовал в Ливонской войне, но до больших чинов не дослужился, рано умер.
— Вот видишь! — воскликнул боярин Татищев. — Пока твой дед в опале находился, дед Лыкова при Иване Грозном вот здесь, в боярской думе, сидел, государевы заботы решал.
— Перед царской милостью мы все равны, — не уступал Дмитрий. — Не пристало нам родительскими заслугами бахвалиться. Я — стольник, и Борис Лыков стольник тоже! А род Пожарских выше рода князей Лыковых.
В спор вмешался Семен Никитич Годунов:
— А скажи нам, князь, не ведомо ли тебе, не грешен ли Лыков в умышлениях против царя, нет ли у тебя каких сведений о разговорах его с опальными князьями Голицыным да Татеевым?
— Про то не ведаю. Ты знаешь, что я в Москве только наездом бываю, — угрюмо ответил Дмитрий.
— Так, может, матушка об этом сказывала? — вкрадчиво продолжал Годунов. — Она ведь все время во дворце живет, многое видит и слышит?
Бояре напряглись, с интересом глядя на князя. Велик соблазн сказать «да». Тогда уж Лыкову несдобровать. Наверняка у Семена Годунова есть уже доносы на Лыкова, но, видать, малозначительных людишек, а если подтвердит князь Пожарский, известный своей честностью, то государь обрадуется случаю убрать еще одного недруга.
Но такой уж гордый нрав Дмитрия: никогда он не кривил душой, никогда не был доносчиком. Ответил, мрачно насупившись:
— Я с матушкой о таких делах изменнических не ведаюсь. И шептунов всяких не слушаю. Мой удел — ратный!
Разочарованно переглянувшись, бояре после недолгого обсуждения решили дело оставить «невершенным», не отдав предпочтения ни Пожарскому, ни Лыкову. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы боярыня Лыкова унялась, оставив мамку царевны в покое.
Через несколько дней Дмитрий получил отпуск и ускакал со своими боевыми холопами в родовую вотчину Мугреево, где положение становилось все более бедственным.
Прасковья Варфоломеевна встретила его в слезах:
— Зерна осталось мало, да и то только в нашем амбаре. Приходится пуще глаза его охранять: мужики, как не в себе, каждую ночь туда лезут. Да и как не лезть — весь свой хлеб еще летом подъели, живность свою, даже лошадей, свели. Пахать по весне не на чем будет, да и семян не осталось!
— Пухнут люди с голоду, — добавил дядька Надея, успевший обойти крестьянские избы. — И вот какая напасть — от страху, что ли, люди есть стали больше, чем в урожайное время, едят, а насытиться никак не могут. И кошек, и воронье, что падалью питается, жрут. Не ровен час, как, я слышал, уже бывает в иных деревнях, детей начнут есть.
По повелению князя собрали сельский сход. Дмитрий, стоя на крыльце, вглядывался в знакомые лица окруживших его людей, но узнавал с трудом. А ведь всех их он знал с детства. Лица опухшие, глаза равнодушные, но с каким-то странным, голодным блеском. Тела исхудавшие, одежда висит, как на пугалах.
Поборов волнение, Пожарский хрипло сказал:
— Царь Борис, видя неустройство в народе, приказал снова разрешить выход в Юрьев день. Каждый волен уйти от прежнего владельца в новое место, где живется лучше…
С крестьянских лиц равнодушие смыло будто холодной водой.
— Куда же, Господи, мы пойдем? Да еще в зиму? Не бросай нас, владетель наш, на погибель.
Князь стоял опустив голову, в глубоком размышлении. Люди надеются на него, ждут помощи. А чем он может помочь? Если раздать оставшееся зерно, то всем и на месяц не хватит. А что будет потом? Если весной не посадить хлеб, то и ждать будет уже нечего и… некому.
«Зачем мне вся эта обуза? — подумал он. — Сейчас бы на коня — и в войско. Там и с едой проще: засыпал толокно в котел, бросил несколько кусков копченой баранины — и хлебай на здоровье!»
Тут князя осенила мысль: «А если кормить их, как воинов он своих кормит?»
Дмитрий, ободрившись, снова поглядел на голодных людей и сказал властно:
— Ну, вот что! Раз не хотите от меня уходить, — значит, зимовать будем вместе. Зерна я вам не дам. — И, услышав надорванные вздохи, повысил голос: — Не дам, и не просите. Буду кормить вас здесь, на своем подворье.
Прасковья Варфоломеевна глянула на мужа с изумлением:
— Чем же кормить? Аль, как Сын Божий, собираешься накормить пять тысяч людей пятью хлебами?
Дмитрий улыбнулся ей:
— Не кручинься, княгинюшка. Говоришь, овса еще осталось порядком для лошадей. Так собирай своих девок, будете из овса толокно делать, всех лишних лошадей порезать, мясо засолить. Доставай наши боевые котлы, будешь похлебку варить! — И обратился к крестьянам: — Каждый день к обеду приходите сюда со своими мисками, сам буду следить за раздачей похлебки, чтобы всем досталось — и старым и малым. Воины от такой еды только крепче становятся, и вы не погибнете.
— И вот что главное надо сделать, — повернулся он к княгине и дядьке Надее. — Немедля надобно составить обоз, подобрать мужиков покрепче, взять часть и моих воинов, надо купить, сколько сможем, зерна в Нижнем Новгороде. Туда хлеб с Нижней Волги подешевле идет. У них неурожай не такой сильный, как у нас.
— А где деньги возьмем? Нет же у нас! — всплеснула руками княгиня.
— Собрать всю серебряную и золотую посуду, все драгоценности, меха, какие есть. Не жалей, княгиня, будем живы, наживем еще. А я отдаю свой панцирь и шишак серебряные. Только саблю дедовскую себе оставляю.
Потом, глянув на престарелого Надею, задумался и, решившись, сказал:
— Знаешь что, дядька? Ты останешься здесь с княгиней народ кормить. А в Нижний отправлюсь я сам. Благо воевода там мне знаком, поможет с барышниками справиться, коли втридорога за хлеб запросят.
…Беда приходит не одна. После похорон датского принца через две недели тихо скончалась в своей келье в Новодевичьем монастыре сестра Бориса, бывшая царица Ирина Федоровна, в иночестве принявшая имя Александры. Для Бориса это был самый близкий человек. Она помогала ему стать рядом с престолом, быть правителем государства, охраняя брата от злых недругов, пытавшихся увести от него милость Федора. Все шесть лет, пока она пребывала в иноческом сане, Борис постоянно ездил к ней, советовался, просил укрепить его державный дух.
Подошедшая осень окончательно разорила крестьян, многие пашни не были засеяны под урожай следующего года. Узнав о царской милости, в Москву в округе ста пятидесяти верст хлынули все голодные. Улицы были битком забиты пришлыми. Каждому выдавалось не по полушке, а по копейке, но хлеб вздорожал к осени до четырех рублей за четверть. Царские амбары были опустошены.
Собрав боярскую думу и высшее духовенство, царь Борис обратился к ним:
— Поделитесь своими запасами. Ведь гибнут людишки тысячами!
Опустив глаза долу, бояре и митрополиты молчали.
— Патриарх Иов! Не тебе ли, Божьему наместнику на Руси, проявить благодеяние!
— Самим обителям мало, — ответил нехотя тот. — Если свой последний хлеб отдадим мужикам, кто будет славить имя Господне!
— А если мы свой хлеб отдадим холопам, — поддержал Мстиславский, — кто Россию защищать будет?
Напрасно несколько часов убеждал их царь, грозил Божьей и своей карой, все напрасно, тупо отвечали бояре да духовные пастыри:
— Не можем, государь! У самих мало!
…С лютой зимой в Москву пришел страшный мор.
Многие тысячи исхудавших людей с измученными лицами как тени брели по улицам, от одного богатого дома к другому, от одной церкви к другой. Прося милостыню Христа ради, из последних сил скреблись в ворота, из иссохших ртов раздавались трудно различимые звуки:
— Х-х-ле-ба-а!
Но беда, коль милосердный горожанин пытался было дать хотя бы истлевший сухарь одному из несчастных: на него налетали сотни голодных, померкнувших разумом людей, разрывавшие благодетеля в клочья в жажде получить хотя бы крошку.
Перепуганный тем, что в Москву стекаются страждущие со всей России, царь приказал прекратить подавать милостыню. Лишившись последней надежды, крестьяне пытались покинуть этот огромный жестокий и холодный город, но, обессилев, падали прямо на улицах. Их подбирали, бросали в сани всех подряд: и тех, чьи тела уже окоченели, и тех, кто только впал в беспамятство, везли за город, где были вырыты на этот случай глубокие рвы. Когда канава заполнялась трупами, ее засыпали и делали новую. Волки и лисицы, бродившие вокруг, отрывали еще свежую землю, чтобы добраться до добычи. У проезжих путешественников волосы становились дыбом при виде сидящих покойников с выеденными лицами. По свидетельству летописцев, всего было похоронено в этих ямах сто двадцать тысяч человек…
Милости, которые не ценит Господь, не приносят никакой пользы.
Царь Борис от доброго усердия повелевал раздавать милостыню во многих местах города Москвы, но это не помогало, а стало еще хуже, чем до того, когда ничего не раздавали: ибо для того, чтобы получить малую толику денег, все крестьяне и поселяне вместе с женами и детьми устремились в Москву из мест на сто пятьдесят миль вокруг, усугубляя нужду в городе и погибая, как погибают мухи в холодные дни; сверх того, оставляя свою землю невозделанного, они не помышляли о том, что она не может принести никакого плода; сверх того, приказные, назначенные для раздачи милостыни, были воры, каковыми все они по большей части бывают в этой стране; и сверх того, они посылали своих племянников, племянниц и других родственников в те дома, где раздавали милостыню, в разодранных платьях, словно они были нищи и наги, и раздавали им деньги, а также своим потаскушкам, плутам и лизоблюдам, которые также приходили как нищие, ничего не имеющие, а всех истинно бедствующих, страждущих и нищих давили в толпе или прогоняли дубинками и палками от дверей; и все эти бедные, калеки, слепые не могли ни ходить, ни слышать, ни видеть, умирали, как скот, на улицах; если же кому-нибудь удавалось получить милостыню, то ее крали негодяи стражники, которые были приставлены смотреть за этим. И я сам видел богатых дьяков, приходивших за милостынею в нищенской одежде.
Всякий может себе представить, как шли дела.
И. Масса. Краткое известие о Московии
Доведенные до отчаяния мужики взялись за топоры. На дорогах, ведущих к Москве, появились разбойники, грабившие обозы с хлебом. Одного за другим посылал царь воевод для охраны купеческих караванов: для поимки разбойников на Владимирскую дорогу выехал с вооруженным отрядом видный воевода Головин, на Волоколамскую — Шеин и Салтыков, на Смоленскую — Туренин и Татев.
Но, как оказалось, шайки разбойников в основном состояли из бывалых воинов, бывших боевых холопов поместных дворян, которых хозяева отказались кормить во время голода. Воспользовавшись царским указом о восстановлении Юрьева дня, помещики приказали убираться своим воинам на все четыре стороны. Кто-то из боевых холопов ушел на юг, в казаки, а кое-кто остался в лесах, мстя боярам и дворянам за скотское к ним отношение. И не только топорами да вилами располагали разбойники, но и огнестрельным оружием. Избегая столкновений с крупными отрядами, они нападали из засады на немногочисленных путников.
Горячего молодого воеводу Ивана Басманова, охранявшего Тверскую заставу, разбойники хитростью завлекли в засаду. Увидев, что на горизонте маячит едва ли десяток разбойников, лихой воевода кинулся за ними в погоню с сотней конных стрельцов. Однако когда отряд оказался в лесу, со всех сторон на стрельцов бросились разбойники во главе с атаманом Иваном Хлопко, пришлось воеводе скрестить саблю с самим атаманом, опытным воином. Рука Хлопко оказалась сильнее, и вот уже воевода в разрубленном шлеме сполз с коня наземь.
Царь послал для поимки разбойников многотысячный отряд. Бой с пятьюстами разбойниками длился несколько часов. Хлопко схватили. Борис, в течение пяти лет выполнявший обет не проливать кровь, нарушил его, приказал повесить Хлопко и его боевых товарищей на Красной площади.
Сыскной приказ работал и днем и ночью. Сотни доносов выслушивал Семен Годунов, незаметно ставший вторым лицом в государстве. Алчность, пробужденная у людей голодом и несчастьем, умело разжигалась клевретами Годунова с помощью щедрой оплаты: сын доносил на отца, брат на брата. Не затухал огонь под дыбой, поджаривая подозреваемых, Семен Никитич внимательно вслушивался в крики истязаемых: не зреет ли новый боярский заговор против царя.
Все чаще с уст подвешенных на дыбу или крючком за ребро срывалось страшное для Бориса имя Димитрия. Стало известно, что какой-то оборванный монах ходил по монастырям, искал инокиню Марфу. Народная молва считала, что это был спасшийся чудом царевич.
По царскому указу по монастырям были посланы вооруженные отряды с приказом найти и изловить самозванца. Особое задание получил капитан Маржере: навестить бывшего царя Симеона Бекбулатовича в его дачной волости, в селе Кушалино, куда был он сослан, лишенный Тверского удельного княжества, еще при Федоре Иоанновиче.
— Постарайся выведать, капитан, — напутствовал его Семен Никитич, — не был ли кто у него в образе монаха, не смущал ли его прельстительными речами — деи, он воскресший царевич Угличский.
…Высокий сухопарый старик с белой клиновидной бородой, в тюбетейке на плешивой голове сидел в переднем углу под образами.
— Кто там? — спросил дребезжащим, но властным голосом он. — Говори, а то я ничего не вижу.
— Капитан Жак Маржере.
— Иноземец. Подойди ближе.
Цепкой рукой старик ощупал кольчугу капитана, пальцы скользнули по лицу, усам, бородке, коснулись рубца на щеке.
— Воин, и, видать, бывалый, — с удовлетворением отметил старик. — Садись, гостем будешь.
Крикнув слугам, чтоб несли угощение, вдруг закурлыкал какую-то восточную мелодию. Внезапно прервав ее, сказал:
— Не удивляйся, воин. Я ведь тоже воином был, да еще каким! На скачках в степи не было равных Едигею, наследнику Казанского царства. Меня взяли в полон русские воины на стенах Казанской крепости, заставили принять православие, нарекли Симеоном. Долгие годы Иван держал меня при себе как заложника, чтобы не восстали мои бывшие подданные. Порой он оказывал мне высокую честь принимать вместе с ним иноземных послов, а затем вдруг прогонял с глаз долой чуть ли не на конюшню. А к концу своего царствования затеял со мной дьявольскую игру, которая мне едва не стоила головы: он провозгласил меня царем всея Руси, а сам стал правителем при моей особе, создавая самые жестокие указы о казни бояр от моего имени…
— Зачем это было ему нужно?! — изумленно воскликнул Маржере.
— Не знаю… Иван был человек очень умный и хитрый, но иногда был как одержимый. Он усаживал меня на свой трон, а сам простирался ниц, но глаза его неотрывно с подозрением смотрели то на меня — не возмечтаю ли я действительно о царской власти, то на придворных — не смеется ли кто надо мной, а значит — и над ним. Горе тому, кто позволял себе хотя бы самую безобидную шутку. На моих глазах Федор Басманов по повелению Ивана зарезал собственного отца и ближайшего друга царя в течение многих лет — Алексея Басманова только за то, что тот во время пирушки обозвал меня царьком. Потом царю надоело возиться со мной, он снова сел на трон, а мне дал в удел Тверское княжество. После смерти Ивана правителем при его сыне Федоре стал Борис Годунов. О, эта бестия хитрее самого Грозного! Сначала меня выгнали из Москвы, боясь, что я буду бороться за трон, потом лишили Тверского княжества, отправив вот сюда, в мою Кушалинскую вотчину. Казалось, можно было бы меня оставить в покое. Но нет, Борис все равно боялся даже тени Симеона. Как только он воцарился, то прислал сюда пристава, который потребовал, чтобы я присягнул Годунову. Я безропотно покорился. Обрадовавшись моей покорности, пристав сказал, что привез мне в дар от царя кувшин с дорогим вином. Он не успокоился, пока я в его присутствии не осушил полный кубок этого злополучного вина во здравицу нового царя. Когда же я допил до последней капли, кубок выпал из моих рук и я пал в беспамятстве. Когда слуги привели меня в чувство, оказалось, что мои глаза навеки покрыла темная пелена…
Старик молча плакал, крупные слезы текли из незрячих глаз. Маржере тоже молчал, потрясенный рассказом.
— Вот что, воин, осталось от царевича Едигея! — сказал слабым голосом старик, ударяя себя по впалой груди. — Но Борис не успокоился даже на этом чудовищном злодеянии. Это мое последнее пристанище было взято в царскую казну, лишь выделяются деньги на кормление меня и моей дворни.
Симеон повернулся к Маржере, взял его за руку, его голос неожиданно отвердел:
— А теперь скажи, зачем ты послан сюда, воин? Неужели Борису мало и он хочет моей смерти? Ведь это он тебя прислал?
— Да, я здесь по царскому указу, — молвил Маржере. — Но я честный воин, а не палач. Царь и не помыслил бы дать мне такое поручение. Я прислан, чтобы узнать у тебя…
— Что можно узнать у одинокого отшельника? — горько усмехнулся старик. — Впрочем, спрашивай!
— Не был ли у тебя тот, кто выдает себя за угличского царевича? — негромко, но членораздельно сказал Маржере.
— Значит, царевич все же жив?! — радостно встрепенулся старик. — Сюда доходили слухи, что якобы он объявился в Москве, но я не верил.
— Но здесь он не объявлялся? — снова настойчиво спросил Маржере.
Старик отрицательно помотал головой:
— Нет. Зачем ему нужна старая развалина? Ему нужны союзники помоложе, а главное — посильнее, чтобы свалить с трона Бориса.
Симеон поднял гордо голову и сказал:
— Передай, воин, царю Борису, что я все равно не боюсь его! И передай, что Симеон Бекбулатович рад по явлению царевича, пусть если даже это и самозванец. Ведь должна на свете быть кара царю за его грехи!
А в Москву тем временем была тайно доставлена и помещена в одиночную келью Новодевичьего монастыря, в ту, что занимала до этого покойная царица, другая царица, последняя жена Ивана Грозного, инокиня Марфа. В ту же ночь к ней явились Борис с супругой Марией и Семен Годунов.
Царь приказал зажечь побольше свечей, чтобы лучше рассмотреть лицо инокини. Двадцать лет, минувшие с последней их встречи, когда безутешную вдову Ивана с малолетним сыном отправляли в Углич, превратили некогда молодую, полную жизнелюбия, гордую и красивую женщину в согбенную старуху с седыми волосами, выбившимися из-под черного платка.
— Что уставился? — злобно спросила Марфа. — Чай, трудно узнать?
Глаза ее, когда-то ясно-голубые, а теперь будто выцветшие, вдруг сверкнули с такой ненавистью, что стало ясно: годы и несчастья не сломили внутренней силы ее духа. Это почувствовала и царица Мария, прошипевшая:
— У-у, ведьма! И пребывание в доме Божьем тебя не смирило!
— Скажи, Марфа, что за два монаха были у тебя зимой?
— Пристав донес?
— На дыбе любой рассказывает как на духу! — хихикнул Семен Годунов. — Вот он, бедолага, и вспомнил, что приходили к тебе двое оборванцев, вроде как за благословением. О чем чернецы эти с тобой говорили, того он не ведает…
— Многие в монастырь приходили и ко мне также заглядывали, разве кого упомнишь! — упрямо поджала губы Марфа. — Мне не до мирской суеты.
— Буде выкобениваться, — взвизгнула Мария. — А то вон Семен не посмотрит на твой иноческий сан, враз каленым железом пощекочет…
— Меня, царицу?
— Какая ты царица! Сама знаешь, что брак твой незаконный. Церковь его не признала, потому что — седьмой по счету. Таких жен у Ивана тыщи были! Он сам, своими руками выблядков, что от этих «жен» рождались, душил. Жалко, твоего не успел. Да Господь Бог прибрал!
— Господь Бог? А не по его ли приказу? — сверкнула глазами Марфа, указывая на Бориса.
— Ну, будет, будет! Успокойтесь обе! — осеняя себя крестом, сказал благозвучно царь. — Не время старые счеты сводить. Ты лучше покажи нам, Марфа, нательный крест царевича.
Та испуганно схватилась за ворот рубахи.
— Показывай, не стесняйся, — притворно-ласково продолжил Борис.
— Нету его у меня. Верно, украли антихристы, — пробормотала Марфа, пряча глаза.
Царь властно приподнял за подбородок склоненное лицо инокини и, глядя прямо ей в глаза своими черными бездонными зрачками, зловеще произнес:
— Кто эти антихристы? Уж не те ли два монаха? Как же ты позволила, матушка, драгоценную память о сыне украсть? Может, сама отдала?
— Не помню ничего. Наверное, заколдовали меня. Я как без памяти была, — запричитала Марфа.
— Ладно, пусть так, — согласился Борис. — Тогда опиши, какие они были из себя.
— Один повыше вроде, с таким вислым красным носом, пьяница видать, — неуверенно сказала Марфа.
Борис и Семен Годунов переглянулись:
— Точно он, Гришка Отрепьев.
— Ну, а второй каков?
— Второй — вроде… Нет, не помню. Он как зыркнул на меня, так в глазах потемнело.
— Выжечь тебе глаза надо, чтоб вообще ничего не видела, — вновь зашипела Мария и, схватив горящую свечу, сунула ее прямо в лицо Марфе.
Та в ужасе откинулась к стенке, а Борис сильным ударом выбил свечу из рук жены:
— Вот уж истинное отродье Малюты Скуратова! Крови захотелось? Успокойся!
Потом обратился к Марфе тем же зловеще-ласковым тоном:
— Лица, значит, ты не помнишь? Но, может, вспомнишь, что они говорили?
Лицо Марфы озарилось вдруг злорадной усмешкой:
— Говорили. Конечно, говорили. Как не говорить.
— И о чем?
— Говорили, будто царевич, — голос женщины сорвался на крик, — за границей объявился!
Борис в испуге попятился.
— Да, да, царевич за границей, в Литве объявился! — продолжала исступленно, в истерике кричать Марфа.
Борис поспешно повернулся и направился к выходу, кинув Семену:
— Пусть отвезут ее обратно, да скажи, чтобы охраняли хорошенько.
Вернувшись во дворец, царь отправился в свою опочивальню, однако не ложился, дожидаясь, когда появится Семен Годунов. Встретил его задыхающимся шепотом:
— Ты что же, «царское ухо», проворонил Гришку Отрепьева? Мы когда приказывали его взять под крепкий присмотр?
Семен упал ниц:
— Грешен, государь, недосмотрел! Ты приказал дьяку Смирнову-Васильеву взять его и отослать в Кириллов монастырь, я думал, что он исполнил…
— Он думал! — буркнул Борис. — А что дьяк говорит?
— Кается у меня в пыточной, что уговорил его дядя Гришки Семен Ефимьев повременить немного, де, Семен поклонится патриарху, чтоб тот попросил тебя простить неразумного. А на следующий день Гришка убег. И вишь где объявился.
— Бить кнутом дьяка до смерти, — ровным голосом проговорил Борис. — А чтоб не подумали невесть чего, палачу скажешь, что наказан Смирнов-Васильев за то, что взятки брал. Да и за иные прегрешения, коих наверняка тоже не мало, прости Бог его грешную душу!
Марфа и впрямь напророчила: из Польши верные люди сообщили, что появился в имении князя Адама Вишневецкого, лютого недруга России, некий русин, объявивший себя царевичем Димитрием.
Схваченные на южной границе монахи Пимен и Венедикт были привезены в Москву, на двор патриарха Иова. Первый из них, Пимен, показал, что познакомился в Новгороде-Северском с четырьмя монахами, которые сказали, будто все они из Чудова монастыря, — Григорием Отрепьевым, бывшим за вожака, Михаилом Повадиным, Варлаамом Яцким да блаженным чернецом-юношей Леонидом. Пимен, хорошо знавший проходы, проводил чернецов за литовский рубеж, указал безопасную дорогу на Киев. Второй, Венедикт, видел этих людей в Киеве, в Печерском и Никольском монастырях, а также в имении князя Острожского, известного своею крепостью в православной вере. От Острожского чернецы разбрелись в разные стороны. Однако, по слухам, Григорий и Леонид побывали у ариан, изучали их ересь, затем пошли вниз по Днепру, на Запорожскую Сечь, где казаки, как известно, исповедуют арианство.
Почти год о них не было ни слуху ни духу, как вдруг Адам Вишневецкий отписал королю, будто у него объявился царевич Димитрий. Рассказывали также, что царевич зело грамотен, красноречив, отлично знает церковное писание.
— Так и есть, Гришка! — уверенно сказал Иов. — Он и здесь красноречием отличался, не зря у меня секретарствовал, мог даже новые жития святых сочинять. Пес! Жаль, что ноги отсюда своевременно унес.
Осторожный Борис, однако, решил проверить, точно ли самозванец — Гришка Отрепьев. В Польшу был срочно направлен его дядя Смирнов-Отрепьев под предлогом представить королю жалобы на пограничные рубежи, а на самом деле постараться увидать самозванца и установить его тождество с Григорием. Миссия эта не удалась: к королю дьяка не допустили, а Лев Сапега, которому посол принес жалобы на пограничные инциденты, на осторожные расспросы дьяка отнекивался неведением, хотя было доподлинно известно, что самозванец находился в Кракове и даже был принят королем.
То обстоятельство, что Смирнову-Отрепьеву не показали самозванца, уверило Бориса, что это точно Гришка Отрепьев, иначе зачем его скрывать? К королю был срочно направлен Постник Огарев со следующей грамотой:
«В вашем государстве объявился вор-расстрига, а прежде он был дьяконом в Чудове монастыре и у тамошнего архимандрита в келейниках, из Чудова был взят к патриарху для письма, а когда он был в миру, то отца своего не слушался, впал в ересь, крал, играл в кости, пил, несколько раз убегал от отца своего и наконец постригся в монахи, не отстав от своего прежнего воровства, от чернокнижества и вызывания духов нечистых… Хотя бы тот вор и подлинно был князь Димитрий Угличский, из мертвых воскресший, то он не от законной, от седьмой жены».
Сигизмунд уклонился от встречи с царским посланцем, однако через советников просил успокоить Бориса, что Димитрий не получает никакой помощи от короля, а те из его подданных, что поддерживают царевича, будут строго наказаны. Этот ответ не успокоил Бориса, тем более что Огарев привез странное известие, будто у короля были посланцы от бояр, просившие помочь царевичу и заверявшие, что при переходе границы тот получит от них крепкую поддержку.
Снова ночами не спал Семен Годунов, ища через доносителей изменников. Так, были схвачены Василий Смирнов и Булгаков Меньшой за то, что на пиру пили за здоровье Димитрия. Казни одна за другой лишь усиливали ропот как среди знатных людей, так и среди простонародья. А с царем стали происходить странные вещи: столь щедрый во время нужды и голода, он сейчас, когда в стране установилось благополучие, стал вдруг чрезвычайно скуп: то и дело лично проверял не только свои сокровища, но и запасы продовольствия.
Летом под Москвой вдруг появилась яркая комета, давшая пищу разговорам на площадях. Кто-то уверял, будто видел два месяца одновременно, другой — три солнца. Неслыханные бури сносили кресты с церквей.
Борис, вызвав Афанасия Власьева, глубокой ночью отправился за толкованием этих явлений к старику астрологу, заточенному в башне. Астролог, показывая на противостояние звезд, начал выкрикивать какие-то фразы, размахивая руками как крыльями. Дьяк, перекрестившись, перевел:
— Говорит, Господь Бог этими звездами и кометой остерегает всех государей. Пусть царь остережется и внимательно смотрит за теми, кому доверяет, пусть велит крепко беречь границы от чужеземных гостей!
Перевел и осекся: уставился на него своими черными глазами Борис, думал о чем-то своем.
«Неужели дознался?» Липкая струйка потекла по спине Власьева. Ведь это с его помощью добрались до Льва Сапеги посланцы бояр…
Лев Иванович Сапега пребывал в состоянии крайней ярости. Он метался в распахнутой меховой мантии по залу с цветными стрельчатыми окнами своего родового замка, отшвыривая ногой то стул, то подвернувшуюся борзую, чертыхаясь, как пьяный пан в корчме.
Юрий Петровский стоял ни жив ни мертв, зная горячий нрав хозяина, который мог в запале и палашом приласкать.
Наконец Сапега остановился, уставясь на Петровского налитыми кровью глазами:
— Значит, так и сказал: не поеду к Сапеге, сам справлюсь?
— Мне, говорит, Юрий, помощь сам король обещал!
— Пся крев! Это все козни Адама Вишневецкого.
— Вишневецкий тут ни при чем. Он же сам попросил у вашей святости подтверждения, что Димитрий — истинный царевич. Что я и сделал по вашему поручению. Правда, чуть конфуз не случился…
— А что такое? Разве мог царевич не узнать тебя, своего воспитателя с детских лет?
— Конечно, узнал. И обрадовался, обниматься начал, всем представляет — вот мой дядька Юрий, сызмальства меня учивший грамматике да риторике. Да тут, как на грех, князь Адам начал меня выспрашивать, как удалось царевича от убийц спасти. А я толком и не знаю сию легенду. А князь, заподозрив чего-то, вдруг спрашивает, откуда, мол, я так хорошо польский язык знаю. Начал придумывать на ходу, что потом воевал в Ливонии, в плен попал, оттуда снова в Москву сбежал, нашел царевича, стал его воспитывать…
— Ну и поверил князь?
— Поверил, потому что тут Димитрий на выручку пришел, все так складно рассказал, всех, кто его убить должен был, назвал поименно.
— Так почему же, ответь мне, Димитрий вдруг нарушил наш уговор и отказался ехать сюда? Ведь он же знает, что надо дождаться смерти Бориса, что мы готовы дать ему вооруженный отряд, когда воцарится малолетний Федор. Есть у меня договоренность о поддержке и с московскими боярами. Что тому виной?
— Вы не поверите, князь, но виной тому любовь!
— Любовь? — вскричал князь как ужаленный. — Какая может быть любовь у этого сосунка?
— Именно потому, что он сосунок, такое и оказалось возможным. Ведь мальчик рос почти в заточении, с женщинами никогда не общался.
— Ну и что же?
— На нашу беду, когда я только еще собирался в дорогу к князю Вишневецкому, к Адаму приехал его тесть Юрий Мнишек.
— Как же, известный жулик и ловелас, — обронил с иронией Сапега. — Еще покойному королю любовниц поставлял, а заодно и казну королевскую доил нещадно.
— Вот-вот, это именно он. Привело его любопытство, а познакомившись с Димитрием, Мнишек понял, что открываются фантастические возможности сказочно разбогатеть. Ведь если Димитрий сядет на престол, те, кто будут рядом с ним, получат доступ к сокровищницам русских царей. У Юрия есть младшая дочь Марианна, вот он ее и познакомил с Димитрием.
— Что, красива? — с любопытством спросил Сапега.
— По-моему, не очень — маленького роста, чернявая, вертлявая. Но, видно, есть в этой паненке некий огонь, что зажигает сердца мужчин. Вокруг нее крутятся десятки самых знатных шляхтичей, хоть и знают, что невеста без приданого. Папенька-то весь в долгах! Вот он и выбирает жениха побогаче.
— Так и Димитрий без гроша ломаного в кармане!
— Это его не смутило. Наоборот, где-то снова занял, думаю, что у того же Вишневецкого, и Димитрия золотом снабдил, нарядил как следует, подарил роскошный экипаж. Димитрий явился в замок Мнишеков на бал как истинный царевич. И куда вся неуклюжесть его девалась! Будто всю жизнь кадриль да мазурку отплясывал. Увидел он Марианну — Марину и влюбился с первого взгляда. В тот же вечер к отцу ее бросился — просил отдать Марину в жены. Юрию того и надо — сразу условия выставил: во-первых, чтоб царевич тайно перешел в католическую веру, во-вторых, как взойдет на престол, Юрию миллион злотых вручил, в-третьих, чтоб отвел ему во владение всю Северскую землю. Только тогда Димитрий получит руку Марины.
— Губа не дура! Ах, стервец, пся крев! — снова начал ругаться Сапега. — Ну, а что мальчик?
— Димитрий на все безропотно согласился. После того Мнишек повез царевича к королю. Сигизмунд сам имел тяжелое детство — родился в тюрьме, долго был гоним, потому отнесся к несчастному с сердечным участием. А когда Димитрий и королю пообещал почитай половину России…
— Экая щедрость на чужое, — усмехнулся канцлер. — Помнится, он и мне многое обещал, да не спешит выполнять…
— А я не думаю, что он собирается выполнять и то, что обещал королю и Мнишеку, — поддакнул Петровский. — Я его с детства знаю, этот малец только с виду простодушен… Короче, король пообещал и денег и не препятствовал, чтобы шляхтичи шли под знамена царевича.
— Ну, этому мы помешаем, — нахмурился Сапега. — Не прощаю измены. Скоро будет сейм, так я выступлю и объявлю, что это самозванец и что война с Россией для нас гибельна. Уверен, что меня и гетман наш великий, Ян Замойский, поддержит. Я проучу этого щенка!
Уже успокоившись, Сапега наполнил вином два бокала, один из них протянул Петровскому:
— Давай выпьем, ты, чай, устал в пути. Жаль, конечно, что разрушились наши многолетние планы. Но я думаю, что мы найдем другого достойного претендента на русский престол, когда умрет Борис. А где сейчас этот мальчишка?
— Сейчас им занялись по поручению короля два иезуита. Сигизмунд, как и папа римский, мечтает обратить Россию в истинную веру.
— Это еще один шаг к его падению! — покачал головой Сапега. — Стоит русским узнать, что он изменил православию, они все отвернутся от него. Впрочем, уверен, дело до этого не дойдет, не видать ему войска польского как своих ушей!
Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворенную, так осквернил и в упорстве своем гибель ей готовишь: разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал, но ты, в противность воли Божией, будучи нашим подданным, украл государство с дьявольскою помощью. Сестра твоя, жена брата нашего, доставила тебе управление всем государством, и ты, пользуясь тем, что брат наш по большей части занимался службою Божиею, лишил жизни некоторых могущественнейших князей под разными предлогами, как-то: князей Шуйских, Ивана и Андрея, потом лучших горожан столицы нашей и людей, приверженных к Шуйским, царя Симеона лишил зрения, сына его Ивана отравил; ты не пощадил и духовенства: митрополита Дионисия сослал в монастырь, сказавши брату нашему Федору, что он внезапно умер, а нам известно, что он и до сих пор жив и что ты облегчил его участь по смерти брата нашего; погубил ты и других, которых имен не упомним, потому что мы были тогда не в совершенных летах. Помнишь, однако, сколько раз в грамотах своих мы тебе напоминали, чтоб ты подданных наших не губил; помнишь, как мы отправили приверженца твоего Андрея Клешнина, которого прислал к нам в Углич брат наш Федор и который, справив посольство, оказал к нам неуважение в надежде на тебя. Это было тебе очень не по нраву, мы были тебе препятствием в достижении престола, и вот, изгубивши вельмож, начал ты острить нож и на нас, подговорил дьяка нашего Михайлу Битяговского и 12 спальников с Никитою Качаловым и Осипом Волоховым, чтобы нас убили: ты думал, что заодно с ними был и доктор наш Симеон, но по его старанию мы спасены были от смерти, тобою нам приготовленной. Брату нашему ты сказал, что мы сами зарезались в припадке падучей болезни; ты знаешь, как брат наш горевал об этом; он приказал тело наше в Москву принести, но ты подговорил патриарха, и тот стал утверждать, что не следует тело самоубийцы хоронить вместе с помазанниками Божиими; тогда брат наш сам хотел ехать на похороны в Углич, но ты сказал ему, что в Угличе поветрие большое, а с другой стороны подвел крымского хана; у тебя было вдвое больше войска, чем у неприятеля, но ты расположил его в обозе под Москвою и запретил своим под смертною казнию нападать на неприятеля: смотревши три дня в глаза татарам, ты отпустил их на свободу, и хан вышел за границы нашего государства, не сделавши ему никакого вреда: ты возвратился после этого домой и только на третий день пустился за ним в погоню. А когда Андрей Клобуков перехватил зажигальщиков и они объявили, что ты велел им жечь Москву, то ты научил их оговорить в этом Клобукова, которого велел схватить и на пытке замучить. По смерти брата нашего (которую ты ускорил) начал ты подкупать большими деньгами убогих, хромых, слепых, которые повсюду начали кричать, чтобы ты был царем; но когда ты воцарился, то доброту твою узнали Романовы, Черкасские, Шуйские. Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большому гневу, отдай нам наше, и мы тебе, для Бога, отпустим все твои вины и место тебе спокойное назначим: лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ, тобою погубленных.
Послание царевича Димитрия Борису Годунову в октябре 1604 года после взятия Чернигова
Часть вторая
«Император Деметриус»
Князь Дмитрий Пожарский и в деревне не изменял своим привычкам: поутру, еще до молитвы, слуга поливал ему на голову теплую воду, потом, благо речка здесь же, под крутым берегом, где стоял терем, князь омывался студеной водой. Тщательно причесавшись и одевшись, вставал на молитву вместе с домочадцами. После завтрака объезжал поля. Некогда лихой конь после зимней голодовки отощал и вез хозяина без прежней лихости, но наездник его и не торопил, радуясь дружным всходам пшеницы, которые крепли день ото дня, поднимая, будто пики, зеленые колосья.
В лето, когда на лугах подошли сочные пахучие травы, мясник Козьма Минин, с которым князь договорился еще в свою зимнюю поездку, прислал из Нижнего Новгорода гурт скота, купленный им в Ногайской степи. Князь раздал телочек и ярок по дворам. Деревня, будто вымершая зимой, стала оживать.
В августе начали убирать хлеб. И первый сноп крестьяне принесли Пожарскому:
— Прими от нас на здоровье, кормилец наш!
Князь принял сноп, поклонившись кругу, и передал Прасковье Варфоломеевне:
— Испеки каравай получше из свежего хлеба, а то, чай, надоела похлебка из овсяного толокна!
Старик, вручавший сноп хозяину, сказал, не сдерживая светлых слез и осеняя князя крестным знамением:
— Бога за тебя будем молить денно и нощно, спаситель! Если бы не ты… Погляди, что в округе делается: все деревни опустели, те, что не умерли, на низ сошли.
— Полно, полно! — весело воскликнул Дмитрий, скрывая наполнявшее его волнение. — Не забывай, старик, пословицу: «На Бога надейся, а сам не плошай!» Главное, что мы делали все сообща, были как пальцы одной руки, сжатые в кулак. Ведь голод — что ворог, боится, когда против него всем миром наступают.
После уборки урожая устроили ссыпную братину. Крестьяне понесли в дом старосты каждый по мере ячменя для общей варки пива и браги. По стародавнему обычаю, с разрешения главы поместья такие братины устраивались три-четыре раза в год — на Пасху, Рождество, на свадьбы после уборки урожая. Царь Борис, якобы борясь с пьянством, а больше заботясь о пополнении казны, отменил этот обычай, учредив в городах царевы кабаки, отдаваемые на откуп кабацким головам. Однако пьянство от этого распространилось еще больше.
Князь Пожарский знал, что идет против указа царя, но, держась крепко обычаев предков, решил, что его люди заслужили право повеселиться. Он и сам пришел с княгиней к столам, расставленным на высоком берегу под пожелтевшими березами, попробовав, похвалил пиво, полюбовался хороводом деревенских девчат.
Тем временем от прохожих и сюда стали доходить вести о самозванце, объявившемся на литовской границе. Князь отмахивался от слухов, не веря в серьезность происходящего.
Но вот в Мугреево прискакал из Суздаля гонец с повелением царя собирать войско в поход.
— Против кого воевать будем? — поинтересовался князь.
— Идут поляки на нас вместе с казаками, а во главе беглый монах Гришка Отрепьев, нарекший сам себя царевичем Угличским.
— Кучка бродяг государству нашему — не угроза, но, видать, царь опасается, что король Польский воспользуется предлогом и нарушит свое крестное целование, — высказал свою догадку Пожарский. — Что же, лучше подготовиться заранее, пусть даже забота окажется напрасной.
Князь приступил к сбору своего отряда. В его обязанность, в соответствии с количеством поместной земли, входило выставить десять вооруженных всадников и двадцать пехотинцев. Пожарский досконально проверил амуницию каждого.
Сам князь, продавший, чтоб прокормиться, серебряную кольчугу, надел отцовское зерцало — доспех из крупных металлических пластин, скрепленных между собой изнутри застежками. Центральная пластина спереди была круглой, на ней выгравирован Георгий Победоносец, шею закрывал со всех сторон плотный обруч. Вместо железной шапки князь надел шишак, верхушку которого украшал еловец красного цвета, сделанный наподобие флюгера.
В левой руке князя круглый, как и у его воинства, щит, отличающийся лишь более богатой отделкой — металл обтягивала кожа красного цвета, в правой — чекан, представляющий собой металлический молот, с задней стороны заостренный. Это и оружие, и знак начальнического достоинства. Увидев облаченного в доспехи князя, княгиня всплеснула руками и зарыдала.
— Ну, не плачь, Параша, уймись! Помни — на тебе все хозяйство остается. А я скоро вернусь. Не верю, что с поляками война будет. Жигимонт клятвы крестоцеловальной не переступит. Это царь на всякий случай войско набирает, — успокоил ее муж.
Зато сыновья прыгали вокруг в полном восторге.
— А правда, дядька Надея сказывал, что у поляков палаши вдвое длинней наших сабель? — допытывался старший, Петр, пытаясь вытянуть отцовскую саблю из ножен.
Князь положил ему руку на плечо и с полной серьезностью ответил:
— Дело не в длине оружия, а в силе руки. А потом — моя сабля сделана из лучшего булата.
Он выхватил саблю из ножен и легко согнул лезвие пополам, потом отпустил: клинок выпрямился с мелодичным звоном.
— Видал? — спросил Дмитрий у восхищенного сына. — Такой булат легко любой меч пополам перережет!
— Я с тобой хочу на войну! — воскликнул мальчик.
— Рано, сынок. Оставайся с матерью, охраняй ее от злых людей. Вот когда тебе исполнится пятнадцать, настанет и твой черед.
Они вышли на крыльцо. Все воины были в сборе. Дядька Надея хлопотал возле телеги, куда погрузили припас — толокно, сушеное и соленое мясо, рыбу, связки чеснока… Стремянный Семен подвел князю коня, также украшенного по-боевому: круп коня был покрыт суконным алым галдаром, обшитым круглыми металлическими бляхами, защищающими грудь и бока лошади.
Пожарский потрепал верного спутника по холке и с грустью сказал:
— Старым становишься, пожалуй, большого похода тебе уже не вынести. Ну, даст Бог, получу царское жалованье, куплю нового, а тебя — сюда в деревню!
Он вставил ногу в высокое стремя и легко уселся в седло с высокими луками, позволяющими быстро поворачиваться в любую сторону, чтобы отражать сабельные удары.
— В путь! Прощай, княгинюшка. Не горюнься!
В Москве — многолюдье. Каждый день прибывают из разных городов пешие и конные отряды. Дьяки и подьячие Разрядного приказа записывают приезжих, выдают государево жалованье. Получил двадцать рублей и Дмитрий Пожарский. Выйдя из приказа вместе со свояком Никитой Хованским, за которого расписался в получении, поскольку знатный родственник «совсем на грамоту стал слаб», Дмитрий спросил:
— Где коня хорошего можно купить? В Конюшенном приказе, чай, одры одни остались.
— Ногайцы пригнали табун в несколько тысяч лошадей. Они сейчас берегутся на Царском лугу, за селом Коломенским. Поехали, пока светло. Давай в мою колымагу.
У конюшен на просторном выгоне встретили известных рязанских дворян Ляпуновых,{21} тоже приехавших на сборы. Гикая и свистя, пятеро дружных братьев — Григорий, Прокопий, Захар, Александр и Степан — гоняли лошадей от одного края загона к другому, чтобы высмотреть коней порезвей да покрепче.
В Москве хорошо знали братьев — все пятеро имели неуемный драчливый характер и дерзкий язык, за что не раз попадали в опалу. Еще когда короновали покойного Федора Иоанновича, они, будучи еще совсем юнцами, стали вместе с Кикиными затейщиками смуты московской черни против Богдана Бельского, ненавистного народу еще по временам опричнины. Свояк Богдана Борис Годунов старался, как мог, выгородить временщика, но, когда народ потребовал и его выдачи вдобавок, струсил, предал Бельского, и того бояре услали из Москвы с глаз подальше, воеводой в Нижний Новгород. Борис тогда не имел той власти, что впоследствии, поэтому строптивые дворяне, затеявшие смуту, были наказаны легко — высылкой в свои поместья. Но злопамятный Годунов не простил: стоило среднему из братьев, Захару, в 1595 году вступить в местнический спор с тем же Кикиным, кому из них быть первым в качестве станичного головы в Ельце, как могущественный правитель царским именем велел бить его батогами на людном месте в Переяславле-Рязанском. И когда в 1603 году тот же Захар, издавна поддерживавший дружбу с казаками, направил им, вопреки царскому указу, вино, а также панцирь и железную шапку, он был снова наказан кнутом.
Других братьев подобные «милости» обошли, но и продвижений по службе строптивые дворяне никаких не получали. Впрочем, все это, видать, мало тревожило рязанцев. Во всяком случае, уныния на их красивых усмешливых лицах никогда не бывало.
Скоро отобрав себе коней, а заодно и Дмитрию, они тут же затеяли яростный торг с ногайцами: кричали, дико вращали глазами, даже хватались за саблю. Действительно, цены были несусветные — в четыре-пять раз дороже, чем раньше. Но ногайцы твердо стояли на своем, требуя за каждого коня по пятнадцать рублей.
— Знают, басурмане, что деваться нам некуда, — на смотр без хорошего коня лучше не ходить — Бориска враз все обиды вспомнит и опять батогами учить начнет! — скрипел зубами Захар и снова начинал орать: — Бери десять рублев и уходи. А то башку твою дурную снесу!
Сговорились на двенадцати рублях, тут же оседлали новых коней и отправились в Москву.
— Слышь, Дмитрий, а тезка твой, царевич Угличский, говорят, все больше силы набирает, — сказал Прокофий, скачущий бок о бок с Пожарским. — Князей Татева, Шаховского да Воронцова-Вельяминова в полон взял.
— Как же такие воеводы сдались?
— А их ему казаки из Чернигова привели. Воронцов-Вельяминов, слышь, сопротивлялся, поносил его как самозванца, ему Дмитрий голову снес. Так Татев с Шаховским тут же на верность присягнули. Вот тебе и знатные бояре! А безродный Петька Басманов, которого царь всего с сотней стрельцов на самозванца послал, уже месяц Новгород-Северский удерживает. Как ни стараются польские гусары да казаки взять город, ничего у них не получается! Из-за этого в войске царевича смута началась.
— Зато Путивль поддался! — заметил Захар, он ехал впереди брата, но, услыхав разговор, осадил коня. — Дьяк Сутупов да князь Масальский не только город к присяге царевичу привели, да и казну царскую подарили.
…Сбор войска продолжался два месяца вместо двух недель, определенных царским указом. Сказывалась отдаленность городов, осенняя распутица и бездорожье, обезлюденность мелких дворянских поместий. Тем временем Петр Басманов слал гонцов с отчаянными просьбами о помощи. Царь вынужден был срочно направить в Северскую землю еще один малочисленный отряд под командованием Михаила Шеина.{22} Тем временем пришло сообщение, что вслед за Путивлем вору «поддались» Рыльск, Курск, вся Комарицкая волость, за ней — Кромская. Под угрозой был Орел, сюда царь послал отряд под командованием Федора Шереметева.
Наконец в ноябре, на Дмитриев день, армия неторопливо отправилась в поход. Во главе ее был поставлен князь Дмитрий Иванович Шуйский. Дружина Дмитрия Пожарского находилась в Ярославско-Ростовском полку, Ляпуновых — в Рязанском. В передовом полку двигались иностранные легионы, в том числе и пятьсот всадников под командованием Жака де Маржере. С ним рядом ехал и Конрад Буссов, выразивший желание вместе с сыном послужить государю на поле битвы.
В Брянске — долгая остановка, до прибытия Федора Мстиславского, назначенного старшим воеводой всего войска. Злые языки утверждали, что в случае победы над самозванцем царь Борис пообещал престарелому боярину выдать замуж за него свою дочь и дать в приданое всю Северскую землю.
Мстиславскому нельзя было отказать в военном опыте — он не раз проявлял свое мужество и ратное искусство в битвах с поляками Стефана Батория и со шведами в Ливонии. Сорокатысячную армию в первую очередь он преобразовал в пять полков — передовой полк, большой полк с нарядом (артиллерией), полк правой руки, полк левой руки и сторожевой полк, охраняющий обозы.
Дмитрий Пожарский был назначен сотником в ертаул — легкий кавалерийский отряд, двигавшийся впереди армии с разведывательными целями.
Войско оставило Брянск и двинулось к югу в направлении Новгорода-Северского. Во главе передового полка ехал Мстиславский с остальными воеводами, за ним везли огромное знамя с вышитым изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона, — символом и гербом Москвы.
За кавалерией шли стрельцы с пищалями на плечах. Следом на санях везли пушки и ядра, а также крепко сколоченные из толстых дубовых досок щиты, предназначенные для гуляй-города, охранявшего пехоту при атаке кавалерии.
Уже лег снег, и дорога стала наезженной, тем не менее двигались медленно — не более пятнадцати верст за день, потому что быстро темнело. На полянах, выбранных для ночевки, строили шалаши из еловых лап, а для воевод раскидывались меховые шатры. Вспыхивали тысячи костров, на которых весело булькали огромные котлы, распространяя запах вкусной похлебки.
Только 18 декабря ертаул вошел в соприкосновение с польскими гусарами у Новгорода-Северского. Наутро полки войска Мстиславского начали неторопливо занимать свои позиции, против них выстроилось польско-казацкое воинство Димитрия. Хотя войско царевича было меньше, по крайней мере, вдвое, а то и втрое, Мстиславский медлил давать сигнал к наступлению, несмотря на то что Петр Басманов палил изо всех пушек со стен осажденной крепости, призывая прийти на помощь.
Двадцать первого декабря, едва взошло солнце, перед строем своего воинства появился царевич на белом коне и в собольей шубе, накинутой поверх серебряных лат. Показывая в сторону царских войск шпагой, он что-то призывно кричал, воины ему отвечали дружным приветствием. Неожиданно пришли в движение роты польских гусар, стоявшие против полка правой руки. Развернувшись во фронт, лихие всадники с белыми перьями на шлемах с устрашающим гиканьем врубились в ряды боярской кавалерии. Многие из детей боярских в страхе повернули своих коней и, удирая от длинных палашей драгун, смяли ряды собственной пехоты, не успевшей расступиться, чтобы пропустить своих и встретить огнем пищалей врагов. Кое-кто из стрельцов, бросив пищали, искал спасения в бегстве, однако многие вступили в бой, снимая всадников с коней пиками и вспарывая животы лошадей рогатинами.
Капитан польских гусар Доморацкий, встретив сопротивление, неожиданно повернул свою роту вправо и оказался в тылу большого полка, там, где находилась ставка Мстиславского и реял огромный золотой стяг, закрепленный на нескольких подводах. Кто-то из гусар подрубил древко, и стяг рухнул под торжествующие вопли одних и скорбящие — других. Гусары смяли окружение Мстиславского и сшибли с коня его самого, нанеся несколько колотых ранений.
Казалось, военное счастье было на стороне безрассудных храбрецов, но вот оправившиеся от столь бурного натиска стрельцы бросились на выручку воеводы и стяга. Из гусар уцелели только те, что немедленно повернули своих коней назад. Замешкавшиеся были взяты в плотное кольцо, убиты или захвачены в плен. Оказался плененным и капитан Доморацкий.
Стычка длилась всего три часа и принесла не так уж много жертв, однако бояре Василий Голицын и Андрей Телятевский, возглавившие войско после ранения Мстиславского, в панике приказали полкам отступить под покров густого леса. Отходили столь поспешно, что бросили трупы своих товарищей.
Говорят, что вечером Димитрий, объезжая поле сражения, плакал при виде убитых русских воинов. Во всяком случае, царевич не стремился развить достигнутый успех и вдогонку царскому войску не пошел. А еще через несколько дней он неожиданно снял осаду с Новгорода-Северского и ушел со своей армией в неизвестном направлении.
Позднее лазутчики донесли, что в стане Димитрия вспыхнула ссора. Поляки потребовали за свои подвиги денежного вознаграждения, однако казна царевича, пополненная в Путивле, иссякла. По совету Мнишека Димитрий выплатил деньги лишь наиболее отличившейся роте, что вызвало еще большее недовольство. Дело дошло до рукопашной. Димитрий, не выдержав оскорбления одного из гусар, пожелавшего царевичу скорее попасть на кол, ударил обидчика шпагой. Завязалась драка, с царевича содрали соболью шубу. На помощь ему подоспели казаки. Конфликт закончился без крови, однако многие из поляков покинули лагерь. Уехал и вдохновитель похода Юрий Мнишек, получивший, как говорили перебежчики, письмо от Льва Сапеги с грозным предупреждением не помогать Димитрию.
Потом стало известно, что царевич с жалкими остатками польских шляхтичей и двумя-тремя тысячами казаков ушел в верный ему Путивль, а оттуда в Комарицкую волость, где мужики с восторгом встретили «доброго» царевича. Здесь войско Димитрия получило обильное продовольствие и снова стало пополняться за счет прибытия новых казацких полков. Валом валили к нему и комарицкие крестьяне, вооруженные лишь топорами да вилами. Успокоившийся Димитрий стал называть себя царем, еще не дождавшись коронования.
Так доносили лазутчики. А воеводы по-прежнему не спешили вывести царское войско из густых лесов…
Всегда деятельный и целеустремленный, князь Пожарский топтался вокруг своего шалаша с самого утра в досадливой растерянности. Не помогло обычное обливание холодной водой и крепкое растирание. Стальные мышцы могучего тела князя требовали немедленного дела, а дела — не было. Дядька Надея поглядывал на воспитанника из-под косматых бровей с видимым сочувствием.
— Ты бы прокатился, князюшка, на своем коньке, — наконец посоветовал он. — И коня бы размял, и, может, узнал чего.
Дмитрий направился к большой поляне, где в роскошном шатре оправлялся от ран главный воевода Мстиславский.
«Попрошусь снова в ертаул, — решил Дмитрий про себя. — Может, на разведку пошлют…»
За мелким заиндевелым березняком увидел большой костер, вокруг которого, притоптывая, кружились в хороводе иностранные пехотинцы. Они пьяно орали какую-то гортанную, с переливом песню. Князь заметил поодаль вышагивающих по тропинке капитана Маржере и Конрада Буссова. Кивнув им, хотел было проехать мимо, но Маржере энергичным знаком попросил остановиться. Нехотя, поскольку не желал беседовать с Буссовом, князь все же остановился, спешился и снял шишак. Приподняли в знак любезности свои шлемы с наушниками и иностранцы.
— Ты, Дмитрий, как всегда, бодр и здоров, — сказал Маржере.
Князь с улыбкой взглянул на сутулившихся иностранцев, которые явно мерзли, несмотря на то что были укутаны, по крайней мере, в два, а то и в три меховых плаща.
Маржере понял его взгляд, но не вспылил, как обычно.
— Очень у вас, русских, крепкая зима. Кто ж в такую пору воюет? Надо дома сидеть.
Пожарский не согласился:
— Напротив, самая пора. Ведь сейчас по снегу в любое место можно проехать беспрепятственно и самый тяжелый наряд провезти. А весной и осенью — распутица.
— Так ведь замерзнуть можно, — жалобно сказал Конрад, еще плотнее закутываясь. — У нас в Лифляндии морозы не меньше, но мы воевали только летом.
— Войне не прикажешь, — снова улыбнулся князь.
И вдруг помрачнел, добавив:
— Если, конечно, воевать, а не в лесу хороводы вокруг костра водить.
Маржере принял намек на счет своих воинов и на этот раз обиделся:
— Что же, мы виноваты, что ваши генералы столь нерешительно действуют? Покрыли себя позором в первой же стычке. Вот я сейчас говорил Буссову: если бы царевич Угличский направил свою кавалерию и на наш левый фланг, когда царило смятение на правом, то мог опрокинуть всю армию. Разгрома бы не миновать!
Лицо Пожарского вспыхнуло, но природное чувство справедливости победило. Не поднимая глаз, он ответил:
— Да, воевали плохо. Видать, отвыкли. Почитай, лет десять войны не было. Вот и растерялись. Я в рядах конницы главного полка находился, когда нам в тыл гусары прорвались. Мы и развернуться не успели. Если бы не стрельцы… А всадники полка правой руки и впрямь опозорились, побежали. И главное — от кого? От какого-то расстриги-пьяницы.
— Да, мои бравые воины не побежали бы от каких-то польских гусар! — хвастливо заявил Конрад Буссов.
— Ты веришь, что царевич — самозванец? — остро взглянув на Пожарского, ухмыльнулся в усы Маржере.
— А как же! — твердо сказал Дмитрий. — Ведь перед всем войском читали грамоты царя нашего государя Бориса и патриарха Иова. Доподлинно установлено, что самозванец не кто иной, как беглый монах Чудова монастыря Гриша Отрепьев, стрелецкий сын.
— Санта симплисимус, — пробормотал Маржере.
— Что ты сказал?
— Говорю, что для того, чтобы это доказать доподлинно, нужно сначала этого царевича изловить и представить перед лицом свидетелей.
— Так и я согласен, что надо скорей изловить. И изловим, лишь бы главный боевой барабан поход скомандовал…
В этот момент они услышали какой-то непонятный многоголосый шум, шедший от большой поляны. Все трое насторожились.
— Ну, вот видите! — обрадованно воскликнул Пожарский. — Никак, выступаем.
Вскочив на коня, он поспешил туда, откуда доносился многоголосый гул.
Большая поляна многолюдьем и красочностью одежд напомнила Дмитрию в этот утренний час Красную площадь. Утоптанная за три недели так, будто снег превратился в дощатый настил, освещаемая неярким январским солнцем, она никак не напоминала о грядущей кровопролитной войне. С гиканьем проносились всадники, скрипели сани, подвозившие продовольствие, а роскошные пестрые шатры, окруженные плотной толпой, скорей напоминали ярмарочные балаганы.
— Тоже вояки! — пробормотал Пожарский, направляя своего коня к центру поляны, пока не натолкнулся на сплошную цепь стражи, окружающую широким кольцом шатры и подводы, на которых располагался главный военный барабан и войсковое знамя.
— Эй, князь, и ты здесь? — услышал он оклик сзади. Оглянувшись, узнал в приближающемся всаднике Никиту Хованского.
— Ну, что слышно? Выступаем? — нетерпеливо спросил Пожарский, забыв поприветствовать свояка.
— Здоров будешь, Дмитрий свет Михалыч, — осаживая своего коня, с подчеркнутой почтительностью произнес Хованский.
Дмитрий, поняв, что допустил бестактность, покраснел и поспешил ответить:
— Прими, князь, мой поклон. Уж очень ждать надоело. Знаешь ли какие новости?
— Новости есть. — Хованский многозначительно показал в сторону шатра главного воеводы. — Прибыл царский гонец. Царь осыпал золотом Мстиславского за полученные им раны и проявленную храбрость. Даже своего лучшего лекаря прислал — Каспара Фидлера.
— Много храбрости не надо, чтоб позволить себя сбить, как чучело огородное! — сердито процедил Пожарский.
— Царю-батюшке из Москвы виднее, — усмехнулся Хованский. — Велено также объявить царскую благодарность всему войску. Так что можно ожидать новых денежных выдач.
— Это, конечно, хорошо. Но когда же воевать-то начнем?
— Гонец известил, что к нам из Москвы идет новый отряд для подкрепления, составленный из придворных царя. Ведет его сам Василий Шуйский. Будет здесь через неделю. Вот тогда и выступим!
…Разведывательный отряд — ертаул, состоящий из самых лихих наездников, на этот раз поручили возглавить Дмитрию Пожарскому. Двадцатисемилетний князь был горд возложенной на него ответственностью. Вот когда пригодился его опыт, полученный в схватках с татарами и шведами.
Ему то и дело приходилось сдерживать прыть своих более молодых товарищей, убеждая их не отрываться далеко от основной массы всадников, тянущихся цепочкой по лесной дороге. Сейчас впереди гарцевал восемнадцатилетний Михаил Скопин-Шуйский,{23} отпрыск младшей ветви «принцев крови».
— Поостерегись! — сурово окликнул его командир, увидев, что лес впереди светлеет, указывая то ли на приближающуюся большую прогалину, то ли на опушку.
Оказалось, действительно то был край леса, за которым тянулись просторные поля, перемежаемые мелколесьем. Спешившись по команде князя, всадники, не выходя из-за деревьев, пытливо оглядывали снежную равнину. Неожиданно Дмитрий указал на видневшуюся слева рощицу:
— Там люди!
— С чего ты взял? — ревниво спросил Михаил Скопин.
— Видишь, воронье кружит? Наверняка их спугнули всадники.
— Ишь ты! — восхитился Михаил. — Премудр ты, однако.
Пожарский усмехнулся:
— Побыл бы на украйнах с мое, не такого бы от татар научился, разведчики они знатные.
— Что же, я виноват, что за три года, как на службу пришел, меня от двора никуда не посылали? Вот погоди, ужо научусь не хуже тебя.
— Верю, что славный рыцарь из тебя выйдет, — доброй улыбкой ответил Дмитрий. — Рода ты по воинским заслугам славного. И отец твой в свое время отличился вместе с Иваном Петровичем Шуйским, отстаивая от Стефана Батория Псков.
— Недаром мы — Скопины, — горделиво сказал Михаил, подкручивая пушок над верхней губой. — Ведь известно, что скопа — это птица из орлиного племени. Это прозвище моим предкам за храбрость дали!
— Вот хвастаться воину чужими заслугами, пусть даже и предков, не пристало! — назидательно отметил Дмитрий и тут же перешел на деловой тон: — Давайте лучше обдумаем, как нам добраться до этих людей. Наверняка это сторожевой пост угличского вора. Нам бы хоть одного в полон взять, чтоб дознаться, где их основное войско находится.
— Как же через такое поле, да еще средь бела дня, незаметно пробраться? Безнадежное то дело! — сказал Иван Хворостинин, также вызвавшийся вместе с Пожарским быть в ертауле. — Надо бы темноты дождаться!
Пожарский медлил с решением, продолжая пытливо осматривать окрестности. Потом вдруг весело сказал:
— А мы к ним не пойдем. Надо, чтобы они сами сюда пришли. Давай-ка, Иван, да и ты, Михаил, собирайтесь на свое первое боевое крещение. Подберем еще товарищей пять, у кого кони порезвее и кто понаряднее одет, чтобы жадность у казаков вызвать. Через поле, не торопясь и не скрываясь, будто ничего не подозреваете, поедете прямо к этой рощице.
Когда отряд из семи человек был собран, Пожарский сказал добровольцам:
— Врукопашную ни в коем случае не ввязываться, даже если их будет столько же, сколько и нас. Если они начнут стрелять, ответим залпом, чтобы их раззадорить, и начнем уходить…
— Сюда же? — живо спросил Михаил, начавший понимать замысел командира.
— Нет. Тут невозможно сделать засаду. Да и они могут догадаться о ловушке. Поскачем вон туда, вправо. Видишь, там поляна вдается в лес таким языком? Как достигнем леса, спешимся и начнем стрелять из-за деревьев. Ясно? Только в своих не попадите, потому что остальные из основного отряда будут отрезать им отход. Ну, с Богом! Впрочем, нет. Подождем, пока наши доберутся пешком до той опушки.
Через полчаса смельчаки услышали условный знак — трехкратное карканье вороны. Лесная дорога, по которой они выехали, вела дальше через поле именно к той рощице, где кружилось воронье.
Чем ближе они подъезжали к засаде, тем больше росло напряжение.
«Вдруг казаки пропустят нас мимо, а потом ударят сзади?» — размышлял Дмитрий, напряженно вглядываясь в купу голых берез, низ которых плотно прикрывал зеленый щит из молоденьких елок.
Отряд приближался все ближе, стараясь не замедлять движения, чтобы не вызвать подозрения, пока вдруг тишину не прорезал пронзительный свист.
— Ишь, соловей-разбойник! — с довольным смешком сказал Пожарский, радуясь, что казаки обнаружили себя раньше времени.
Из ельника раздался зычный голос, произносивший слова с южнорусским, мягким акцентом:
— Эй, хлопцы, стойте, не пужайтесь! Может, поховорым?
— Поховорым, — насмешливо передразнил Дмитрий.
— Вы хто будете, москали? — спросил тот же голос.
— А вы хто? — снова передразнил Пожарский.
— Мы слуги нашего доброго царя-батюшки Димитрия!
— Это значит — Гришки-расстриги! А мы слуги законного царя Бориса Федоровича. Так что лучше сдавайтесь, а то быть вам всем на колу!
И Дмитрий первым выстрелил в чащу, откуда слышался ему голос. Следом открыли пальбу и остальные. В ответ раздались разъяренные вопли, ржание лошадей, — видно, казаки садились на коней. Сделав еще несколько выстрелов, отряд Пожарского повернул назад.
— Щиты — на спину! — скомандовал Дмитрий своим товарищам. — Казаки из пищалей стреляют неважно, зато из луков — не хуже татар. Могут и зацепить.
Он то и дело оглядывался назад, пытаясь сосчитать число преследователей. Получалось не более десятка.
«Хорошо, что пошли на хитрость. Если бы двинули всем ертаулом в сотню всадников, казаки дали бы деру, потом ищи-свищи их в поле».
Пожарский первым свернул с дороги на снежную целину, держа курс прямо к заветной поляне.
Кони, ступив на рыхлый снег, замедлили бег. Погоня приблизилась, и казаки подняли торжествующий вопль. Снова послышались выстрелы.
До леса оставалось несколько сажен. Заведя лошадей за деревья и укрывшись, храбрецы открыли огонь.
Казаки приблизились вплотную, заставив преследуемых взяться за сабли. Отражая щитом удар пики рослого бородатого казака со знакомым голосом, Дмитрий краем глаза увидел, как сзади уже наезжают всадники из его ертаула.
— А ну, бросайте оружие, пока живы! — гаркнул Дмитрий.
Оглянувшись, казаки увидели, что окружены. Многие побросали оружие, но несколько человек сделали безрассудную попытку прорваться и были зарублены ертаульщиками. Пленные, не сговариваясь, показали: ставка угличского царевича находится в трех днях пути, в Чемлыжском острожке, неподалеку от большого комарицкого села Добрыничи. Польских панов в армии самозванца осталось немного — не более двух тысяч, зато, кроме донских казаков, много запорожцев — более четырех тысяч, и еще больше комарицких мужиков, вооруженных в основном вилами, которых воеводы царевича пытаются обучить пешему бою.
— Отправишься с пленными и с сеунчем[40] к князю Мстиславскому! — сказал Пожарский Скопину-Шуйскому. — С тобой поедет и Иван Хворостинин. Вы оба заслужили милости главного воеводы!
Двадцатого января царские полки заняли село Добрыничи. Воинов радовало, что ночлег будет не в опостылевших шалашах, а в добротных избах. Не меньше радовало, что наконец наутро сойдутся с неприятелем, разгонят эту мужицкую рать, возьмут в полон царька, а там можно и по домам!
Однако ночь прошла в тревоге. Хитрый самозванец послал мужиков из своей комарицкой рати, которые знали здесь каждый кустик и овражек, поджечь Добрыничи одновременно с разных концов, чтобы посеять панику и, если удастся, одним ударом развеять, разогнать боярские полки.
Но охранение не дремало. Схваченные с заготовленными факелами из пакли, «сермяжные» ратники показали, что Димитрий скрытно выводит свои полки перед Добрыничами, готовясь утром дать бой.
Мстиславский приказал полкам немедля занять отведенные им позиции. Князь Пожарский со своими дружинниками находился в составе ростово-суздальского отряда, в основном полку, неподалеку от знамени. Его товарищи по ертаулу — Михаил Скопин-Шуйский и Иван Хворостинин среди прочих московских аристократов числились в полку правой руки, командовать которым было поручено Василию Ивановичу Шуйскому.
Хмурое утро 21 января огласилось тугими ударами барабанов и пронзительными звуками всевозможных труб. Противостоящие армии, вытянувшиеся в линию, находились примерно в версте друг от друга. Ни те ни другие не спешили сойтись, лишь выскакивали вперед лихие наездники, которые, гарцуя перед строем, выкрикивали обидные слова в адрес противника под дружный хохот своих товарищей, да изредка постреливали верховые[41] орудия, практически не нанося никакого урона неприятелю.
После нескольких часов ожидания стан царевича пришел в движение. Вперед из общих рядов выезжали одна за другой сотни польских гусар, которых легко было узнать по белым перьям на шлемах и крыльям, прикрепленным к кирасам. Они начали накапливаться на левом фланге. Стало ясно, что они хотят повторить маневр, принесший им удачу под Новгородом-Северским, ударив по правому флангу, чтобы затем, воспользовавшись сумятицей, зайти в тыл основным частям царского войска.
Воеводы были готовы к этому маневру. По сигналу Шуйского полк правой руки выехал вперед, навстречу польской коннице. К нему поспешила посланная Мстиславским для подкрепления тысяча иноземных солдат под командой капитанов Жака де Маржере и Вальтера фон Розена.
Польские эскадроны, выскакивая из лощины, в которой укрывались от огня артиллерии, разворачивались для атаки. В первых рядах, сверкая серебряными латами, мчался на кауром аргамаке царевич, окруженный верными телохранителями и воеводами. После беспорядочной пальбы сошлись врукопашную. Зазвенел металл, всхрапывали кони, кричали раненые. Всадникам царевича, благодаря отчаянному натиску, удалось смять первые ряды конников правого полка.
Маржере взмахом шпаги послал вперед своих солдат, которые двинулись на неприятеля с криком «Хильф, Готт!».[42] Однако ни Бог, ни искусство фехтования не спасли ландскнехтов. Не выдержав лобовой атаки, они, так же как и русские воины, поддались панике и повернули своих коней. Вскоре весь полк правой руки обратился в беспорядочное бегство.
— Что они делают, что делают! — в отчаянии воскликнул Пожарский, наблюдая издали за исходом схватки.
Он чуть тронул танцующего коня и бросил умоляющий взгляд на Мстиславского, ожидая команды броситься на выручку. Но тот сидел непоколебимо на своем коне, которого держали под уздцы двое слуг.
Прекратив преследование бегущих, польские гусары развернули коней, направляясь в тыл главного полка, чтобы отсечь его от деревни. Но здесь их ждал сюрприз, приготовленный Мстиславским. Безобидный плетень скрывал крепкие щиты гуляй-города, за которыми находилось более десяти тысяч стрельцов. Подождав, когда всадники приблизятся вплотную, они выстрелили одновременно из всех пищалей. Неожиданный залп произвел ошеломляющее впечатление. И хотя потери были невелики, паника воцарилась ужасная. Кони, не подчиняясь седокам, бросились в стороны. Храбрые воины кинулись вспять с той же яростью, с какой только что атаковали.
Князь Пожарский мчался впереди, увлекая за собою сотню. Оставляя слева и справа убегающих гусар и казаков, он стремился настигнуть царевича, узнаваемого по серебряным латам. Вот он ближе, ближе. Бросив уздечку, Дмитрий выхватил из-под луки седла пищаль, прицелился — выстрел! Конь под царевичем заметался и рухнул. Пожарский, обнажив саблю, бросился туда. Но кто-то из окружения царевича, кажется князь Масальский, спешился, пересадил его на своего коня, а сам бросился ловить другого, оставшегося без седока. Тем временем по его команде несколько казаков повернули назад, чтобы встретиться лицом к лицу с Пожарским и его людьми.
Снова зазвенели сабли. Один за другим падали зарубленные храбрецы, но свое дело они сделали. Пока шла схватка, царевич ускакал далеко.
Пожарский упорно продолжал преследование. Лавина всадников врезалась в ряды пеших воинов, вооруженных вилами, рубя налево и направо. Напрасно бедолаги пытались спастись бегством. Многих из них, кто падал, сдаваясь, на колени, доставала сталь клинка.
На плечах вражеских воинов Пожарский и его товарищи ворвались в Чемлыжский острожек и, поскольку царевича там не было, помчались дальше. Лишь спустя десять верст их настиг гонец воеводы.
— Приказано возвращаться в лагерь! — крикнул он, хватая коня Пожарского за поводья. — Стойте, кому говорят.
— Надо же догнать самозванца! — в запале воскликнул Пожарский.
— Не велено! — строго сказал гонец. — Вдруг дальше засада? Воевода князь Мстиславский велел возвращаться. Слышите?
Действительно, издалека были слышны гулкие звуки главного барабана, возвещавшего общий сбор.
— И то верно. Погляди, как кони приморились, еще немного, и падать начнут, — сказал, подъехав, Никита Хованский, который с отрядом Михаила Шеина также был в числе преследователей. — Не переживай, князь, победа полная. Вон сколько их полегло.
Все поле было усеяно трупами.
— А сколько в полон взяли! — хвастливо заявил гонец и неожиданно захохотал: — Князь-воевода для них танцы готовит до утра!
Вернувшись в стан, Пожарский и его воины застали страшную картину. Всех пленных, кроме поляков, Мстиславский приказал немедленно казнить. Вешали везде: на воротах домов, в амбарах, на деревьях. По всей деревне раскачивались, свесив буйные головы, комарицкие мужики да казаки. А стрельцы, по приказу воеводы, стреляли в повешенных из пищалей, упражняясь в меткости. Пожарский пришпорил лошадь, торопясь отъехать от места казни: ему не по нутру была такая жестокость. Наутро польских гусар, взятых в плен, повезли в Москву, порадовать царя-батюшку. С сеунчем о славной победе был отправлен Михаил Борисович Шеин. Вез он в подарок царю и брошенное при бегстве позолоченное тяжелое копье самозванца с тремя пышными белыми перьями. На казни пленных воеводы не успокоились. Мстиславский отдал мятежную Комарицкую волость на разграбление касимовским татарам хана Исента, входившим в состав основного полка. Когда через несколько дней армия Мстиславского неторопливо двинулась к Рыльску, куда бежал самозванец, Пожарский с ужасом видел опустошенные деревни, где на подворьях, обильно раскрасив белый снег алой кровью, валялись разрубленные трупы не только мужчин и женщин, но даже грудных младенцев.
Наконец войско Мстиславского достигло Рыльска. Самозванца здесь уже не было, крепость оборонял князь Долгорукий, один из первых присягнувший «прирожденному государю». Переговоры с ним ни к чему не привели, жители, устрашенные зверством царских войск, наотрез отказались сдаться добровольно. Артиллерия открыла беспрерывный обстрел крепостных стен, длившийся две недели. Однако и это не сломило боевой дух обороняющихся, они успешно отразили штурм, затеянный Мстиславским, к слову сказать, и царские стрельцы лезли на стены без всякой охоты, только из-под палки. Никому не хотелось гибнуть зря.
В войсках все больше возникал ропот. Многие прямо говорили об измене воевод, тайно ведущих переговоры с царевичем. Целые отряды провинциальных дворян стали покидать лагерь, отправляясь домой, в свои поместья.
Воевода Мстиславский, видя, что войска его начинают таять как апрельский снег, снял осаду и двинулся в обратную сторону, к Севску. Здесь совет воевод в составе Мстиславского, братьев Шуйских и Голицына принял неожиданное решение: вывести армию из «бунташной» волости, где, несмотря на лютые казни, народ не успокаивался, нападая на обозы и отставшие малочисленные отряды, а служилых дворян отпустить домой до лета. Деи, войско самозванца разгромлено, да и сам он, по слухам, ушел с остатками панов и казаков в Литву.
Однако не успела армия отойти от Севска, как в ставку прибыли важные гости из Москвы: князь Петр Шереметев и дьяк Афанасий Власьев. Собравшийся было в отъезд со своими дружинниками Дмитрий Пожарский решил навестить старого знакомого, чтобы доподлинно узнать, что происходит. Дьяк, вернувшийся вечером с переговоров с боярами, принял князя приветливо, обнял, провел в свой шатер, предложил ковшик крепкого меда из своей сулейки.
— Что слышно в Москве? — спросил Пожарский, поблагодарив за угощение.
— Гневается наш царь-батюшка на Мстиславского. Велел нам от его имени попенять воеводам за роспуск воинства и строжайше запретить.
Пожарский покачал головой:
— Роптать дворяне начнут, ведь три месяца воюем. И все как-то бестолково. В поле самозванца разгромили, а Рыльск взять не смогли. Не узнаю я наших военачальников Мстиславского да Шуйских, уж больно робки стали. Стареют, что ли?
Дьяк хитро прищурился, снова протягивая ковшичек гостю:
— Не в старости дело.
— А в чем же тогда?
— Сомневаются бояре… не против ли законного наследника свои сабли подняли.
Пожарский аж поперхнулся:
— Так ведь доподлинно известно, что самозванец — беглый монах Гришка!
— Откуда тебе это известно? — снова испытующе прищурился Власьев.
— Как откуда? Из царских грамот, вестимо.
Афанасий сторожко прислушался, не ходит ли кто около шатра, потом перешел на жаркий шепот:
— Государь тайно послал в Путивль, где царевич обретается, трех монахов Чудова монастыря, что Отрепьева доподлинно знают…
— Ну и что?
— На днях монахи прислали письмо оттуда. Пишут, мол, показал им всепарадно царевич доподлинного Григория Отрепьева. Тот тайно сидел в Самборе, у Мнишека. А когда молва пошла, будто царевич и Гришка одно и то же лицо, царевич и велел доставить его в Путивль.
— Так ведь доподлинно известно, что царевич Угличский зарезался…
Афанасий покачал головой и снова шепнул, прямо в ухо:
— Сам Борис сомневается, понял? От страха совсем ума лишился. Мстиславскому в случае поимки царевича дочь Ксению в жены пообещал и еще додумался — самых своих лютых недругов, Шуйских да Голицыных, вместо того чтобы глаз с них не спускать, отослал из Москвы к войску. Ведь здесь, вдали от Сеньки Годунова, им легче договориться. И дворец свой без охраны оставил. Сначала телохранителей-немцев сюда прислал, а сейчас последних дворцовых слуг лишился: под Кромы послал отряд Федьки Шереметева из своих охотников, псарей, сенных, подключников, чарошников, сытников, трубников. Без самых верных ему людей остался.
— Под Кромы? — переспросил Пожарский. — Почему?
— Потому что Кромы — ключевой город. Его царевичу не миновать, коль на Москву пойдет. Мы привезли приказ Мстиславского — со всеми полками идти тоже туда, да бояре спорят. Видать, не хотят новой встречи с царевичем.
— Неужто измена? — жарко воскликнул Пожарский. Дьяк испуганно закрыл ему рот пухлой ладошкой и снова жарко зашептал в ухо:
— А если это законный наследник?
— Но Бориса всем Земским собором избирали…
— Собор — видимость одна. Все знают, что Бориса царем сделали патриарх Иов да сестрица его, жена покойного Федора. Боярская дума была вся против. Думаешь, бояре это забыли? Вот сейчас они и юлят, смотрят, на чью сторону переметнуться, а некоторые уже присягу царевичу дали. Он еще не на престоле, а уже чины придворные раздает. Кстати, и «дружок» твой, Бориска Лыков, уже у него при дворе.
— Как так? — изумился Дмитрий. — Он же был воеводой в Белгороде?
— Был, да сплыл, — рассмеялся Власьев. — Говорят, повязали его стрельцы дворовые да прямиком в Путивль и доставили. А может, и сам перебег.
— Иудина душа, — убежденно сказал Пожарский. — А мне бояре не захотели выдать его голову за матушку. Ох, встретиться бы мне с ним в открытом поле!
…3 февраля[43] ночью старец Филарет старца Иринарха бранил, с посохом к нему прискакивал, из кельи его выслал вон и в келью ему к себе ходить никуда не велел; а живет старец Филарет не по монастырскому чину… смеется неведомо чему… и говорит им: «Увидите, каков я вперед буду!»
…Если ограда около монастыря худа, то ты велел бы ограду поделать… и между кельями двери заделать… а незнакомых людей ты бы к себе не пускал, и нигде бы старец Филарет с прихожими людьми не сходился.
Из письма Бориса Годунова игумену Сийского монастыря Ионе относительно содержания Филарета (Федора) Романова. Февраль 1605 г.
…Кромы оказались еще более крепким орешком, чем Рыльск. Здесь в осаде сидел знаменитый атаман Андрей Корела с верными ему донцами. В Кромы своего самого надежного и верного соратника направил царевич еще до Добрыничского сражения, преследуя далеко идущие цели: ведь через эту небольшую крепость с бревенчатыми стенами лежал путь через Орел и Тулу к вожделенному московскому престолу.
Федор Шереметев с многотысячным отрядом придворного воинства потерпел позорное поражение от шести сотен казаков. Что и говорить — псари да виночерпии были приближены к царю отнюдь не за успехи в бранном деле. Во время ночных вылазок казаков они мгновенно впадали в панику и бежали без оглядки, так что наутро воеводе нелегко было вновь собрать свое воинство. Не помогала и мощная артиллерия, в том числе и знаменитая пушка «Лев Слободской», присланная из Москвы. Как только начиналась канонада, казаки быстро скрывались в глубоких подземных ходах, поэтому огромные ядра не достигали цели. Но стоило царским воинам вновь пойти на приступ, как казаки, забравшись на стены, открывали меткий прицельный огонь, усеивая подступы к крепости трупами противника. Взгромоздясь на стены, казаки выкрикивали вслед отступавшим обидные ругательства. А порой на валу показывались и пьяные бабенки, спутницы казаков, с бесстыдно задранными подолами.
Пока огромное войско Мстиславского медленно двигалось к Кромам, сюда на помощь Шереметеву был направлен передовой отряд стольника Василия Бутурлина, составленный из лучших сотен всех полков. Вошел в отряд со своей сотней и Дмитрий Пожарский.
Нашли они Федора Шереметева в полном унынии:
— Я потерял уже из-за этих проклятых казаков больше половины своих воинов! Штурм бесполезен.
Объехав крепость со всех сторон, Пожарский с Бутурлиным убедились в правоте его слов. Она находилась на высоком крутом холме в излучине реки, и все подступы к ней легко простреливались. Внимательно осмотрев высокие стены из толстенных дубовых бревен, Дмитрий спросил Шереметева:
— Зажигательные снаряды пускали?
— Пускали, да только без толку. За бревнами насыпан той же высоты земляной вал, снаряды попадают в него и гаснут.
— Стены надо сжечь, — твердо сказал Дмитрий. — Без этого штурм нечего и затевать.
— А как поджечь-то? — спросил Бутурлин.
— Надо тайно собрать хворост, ночью подобраться к крепости со всех сторон и в одночасье поджечь. А чтоб казаки не сумели потушить — открыть огонь со всех сторон.
— Дело говоришь, князь! — одобрил Бутурлин и скомандовал остальным командирам: — Выкликайте охотников на лихое дело по всем сотням. Расставить побольше шалашей, чтоб не погасли, складывать в них хворост.
— Тем, кто будет заготовлять хворост в лесу, надо сразу сделать и волокушу, — добавил Пожарский. — Шалаши тут же ставить на волокуши, и как они наполнятся, ночью запряжем коней — и быстро к стенам.
В течение недели все было подготовлено, и по команде Бутурлина, вскоре после отражения очередной ночной вылазки казаков, шалаши на огромных полозьях были вплотную подтащены к стенам. Для дружного огня не пожалели и пороху, которым обильно усыпали хворост. Мгновенно вся крепость оказалась в огненном кольце. Отдельные попытки растерявшихся казаков залить костры водой были подавлены дружными залпами тяжелых пушек. Артиллеристам было легко вести прицельный огонь по загоревшейся крепости.
Наутро от бревен остались лишь дымящиеся головешки. Однако казаки, вынужденные скрыться в остроге, не сдавались. При попытке осаждавших закрепиться на земляном валу казаки открыли столь убийственный огонь, что вскоре вал был покрыт трупами. Получил ранение в левое плечо и Дмитрий. Его вытащил на себе из-под огня дядька Надея, следовавший за князем как верный телохранитель.
Бутурлин прекратил попытки захватить крепость штурмом и стал поджидать подхода основных сил. Лишь 4 марта знамя с изображением Георгия Победоносца появилось под Кромами. Воевода Мстиславский, видимо вдохновленный будущей женитьбой на царевне, вдруг проявил ту решимость, которая была ему присуща во времена войны в Ливонии. Не дожидаясь прибытия осадной артиллерии из Карачева, он приказал Михайле Глебовичу Салтыкову, второму воеводе передового полка, взять крепость штурмом.
Однако оказалось, что за время бездействия царских войск казаки хорошо подготовились к новым атакам. От острога к земляному валу были отрыты глубокие ходы. Под земляным валом они устроили убежища от ядер.
Когда воины Салтыкова стали приближаться к крепости широким кольцом, то были встречены огнем. Когда же, понеся значительные потери, но все же понукаемые десятниками и сотниками, они начали взбираться на земляной вал, казаки мгновенно по подземным ходам вернулись в острог и повели стрельбу оттуда, причем наступавшим практически некуда было скрыться от жалящих пуль.
Салтыков отнюдь не отличался храбростью, поэтому благоразумно просигналил отступление.
— Возьмем измором! — рек Мстиславский на военном совете. — Наряда[44] да и хлеба у казаков осталось мало: сдадутся, куда им деваться.
Казаки тоже, казалось, присмирели. Ночные вылазки случались все реже. Позже из слов перебежавшего стрельца выяснилось, что причина уныния казаков — в ранении доселе неуязвимого Корелы. Он же показал, что Корела послал нескольких гонцов к царевичу с отчаянными просьбами о помощи.
Артиллерия вела систематический обстрел крепости. В конце концов не осталось ни одного здания. Однако казаки, переселившись в глубокие норы под землей, сдаваться не собирались.
Как-то под вечер раненого Пожарского пришел навестить рязанец Прокопий Ляпунов. Как всегда шумливый, он заполнил собой весь небольшой шатер князя, нарушив его покой, доселе строго охраняемый дядькой.
— Чего расхворался, Дмитрий? — басил рязанец, прищуря свой черный озорной глаз. — Пора подниматься, весна на дворе!
— И то, собираюсь на днях встать! — согласился Пожарский и дотронулся до плеча, слегка поморщившись. — Хорошо, что левую зацепило, а не правую. Дядька, угости гостя медом, нашим, суздальским, из лесной малины.
— Хорош, — похвалил Прокопий, отведав чашу густого, розового по цвету меда. — Что в войске делается, пером не описать.
— Что, воинских утех требуют? — живо спросил Пожарский и даже слегка приподнялся.
— Напротив! — рассмеялся Ляпунов. — Воевод перестали совсем слушаться, каждый день десяток, а то и больше дворян отъезжают домой. Скоро ведь сев, вот и тоскуют по хозяйствам.
— А что Мстиславский? Сердится, чай?
— Мстиславскому море по колено! Одни уходят, зато другие приходят. Царь отряд за отрядом шлет. Боится, как бы царевич снова силу не набрал: ведь, почитай, все южные города под его руку перешли: Воронеж, Елец, Ливны, даже — детище царское — Царев-Борисов. Если так дальше пойдет, царевич без всякой войны Россией овладеет.
— А ты вроде бы и рад, Прокопий? — хмуро сказал Пожарский. — Что же тогда медлишь, тоже подался бы в свои рязанские владения?
— Я сам знаю, как поступать! — с вызовом ответил Ляпунов. — Не мальчишка, чтобы меня учить. Не хочу быть в стороне, когда судьбы царевы решаются.
— Извини, коли обидел, — растерянно произнес Дмитрий. — Я ведь и сам так думаю…
Вдруг за стенами шатра послышался гул, будто поднялся встревоженный улей, началась пальба пушек, где-то заржали кони.
Прокопий Ляпунов глянул озабоченно:
— Что-то, видать, стряслось. Пойду узнаю.
Через несколько минут он вернулся, хохоча:
— Вот вояки так вояки! Уже не ведают, где свои, а где чужие…
— Да говори толком!
— Толку как раз и нету, одна бестолковщина, — продолжал веселиться Ляпунов. — Представляешь, царевич в помощь Кореле прислал целый отряд стрельцов, а с ними саней сто с нарядом да едой всевозможной. Так наши сторожа их беспрепятственно впустили в лагерь, думали, что это очередное царское пополнение. А расчухались только сейчас, когда те уже в крепости очутились и казаки от радости шум подняли!
— Может, предательство чье-то? — подозрительно спросил Пожарский.
— Навряд. Просто ротозейство наше расейское! — хмыкнул Ляпунов. — А ты еще о воинской доблести печешься. С такими навоюешь! Два месяца крепостцу, где человек двести всего и осталось, не можем взять. А теперь, когда Корела получил такое подкрепление, сам черт ему не брат! Да еще как снег сойдет, к крепости вообще не подойдешь — с одной стороны река, а с другой, говорят, трясина и камыши. Вот и будем куковать здесь до зимних заморозков, если…
— Что — «если»?
— Если война сама собой не кончится!
— Как это? — не понял Пожарский.
— А так! — с вызовом сказал Ляпунов. — Лежишь тут, ничего не слышишь. А я слышу от многих дворян, своих товарищей, де, не пора ли и нам царевичу челом бить. Раз уж Борис неспособным государем оказался.
— Разве можно изменять присяге! — ужаснулся Дмитрий, в бессилии откинувшись на подушку. — Ведь мы решение Земского сбора подписывали, крест целовали.
— Ну, кто подписывал, а кто нет! — язвительно проговорил Ляпунов. — Мы, рязанцы, например, не подписывали и часто поперек шли, за что не раз в опалу попадали. Так чего же нам царя Бориса любить и защищать? Пусть сам за свои грехи перед Богом и народом теперь и ответит. И еще, вот ты все о воинской доблести печешься! А против кого саблю поднять собираешься, подумал? Когда польские гусары или иные иноземцы против нас идут, тут понятно. А сейчас у царевича — поляков всего горстка. Одни православные в его войске. Что же, будет русский с русским воевать? Ты подумай!
Пожарский молчал, отвернувшись к стене. Ляпунов услышал хрипловатый голос Надеи:
— Шел бы ты, батюшка, восвояси. Видишь, князюшка не в себе.
— Эх, дядька! А кто сейчас в себе? — махнул рукой Ляпунов и вышел из шатра.
…Когда через несколько дней Пожарский смог самостоятельно сесть на лошадь, он объехал весь обширный лагерь и удостоверился в правоте слов Ляпунова — везде царили разброд и шатание. Досадно подумалось: «Может, и прав Ляпунов — надо кончать воевать, разъехаться всем по домам и пусть Борис сам с царевичем разбирается — кто законный правитель, а кто — нет…»
Дмитрий вспомнил, как вчера, не удержав любопытства, попросил Надею привезти от Ляпунова очередное письмо царевича. Тот писал, обращаясь к царскому воинству:
«Не стыдно ли вам, люди, быть такими пентюхами и не замечать, что служите изменнику отечества, чьи деяния вам хорошо ведомы: и как овладел он короною, и какому утешению подвел он все знатные роды — моих родственников, полагая, что когда изведет их, то будет жить без печали? Поставьте меня перед Мстиславским и моей матерью, которая, я знаю, еще жива, но терпит великое бедствие под властью Годуновых, и коли скажут они, что я не истинный Димитрий, то изрубите меня на тысячу кусков».
Конь с трудом вытаскивал ноги из жирной грязи, круто замесившей дорогу. И хотя апрельское солнце довольно припекало, князь зябко закутался в меховой плащ — знобило то ли от раны, то ли от тяжелых мыслей.
— Дорогу, дорогу! — услышал он крик и пронзительный звон тулумбаса.
На взмыленных лошадях мчались всадники, одетые в красные кафтаны.
«Новый царский гонец», — догадался он, съезжая в сторону. Лицо одного из всадников ему показалось знакомым, — видать, встречались во дворце. Крикнул:
— Случилось что? Как на пожар летите!
— Преставился наш государь — царь и великий князь Борис Федорович всея Руси! — перекрестился вестник, остановившись возле Пожарского.
— Как же это, Господи! — перекрестился и князь.
— В одночасье умер. Пообедал хорошо, весел был. Даже лекарей от себя отпустил. Потом вдруг дурно стало, прилег и захрапел…
— Может, отрава? — заподозрил неладное Пожарский. — Недругов у него хватало…
— Лекари говорят, скончался от удара.
— И на кого же стол свой оставил? На сына Федора?
— Когда уже умирал, бояре спросили об этом, а он только прошептал: «Как Богу угодно и всему народу!» Однако бояре поспешили крест целовать на царство Федору.
— Какие бояре? Ведь все самые знатные тут, в войске.
— Известно какие! — усмехнулся гонец. — Кто в ближнюю думу входят? Одни Годуновы. Вот они и порешили.
— Что еще скажет боярская дума! — покачал головой князь.
— Вот поэтому мы так и спешим. Велено немедля в Москву доставить самых больших бояр — Мстиславского да Василия Шуйского, чтоб присягнули новому царю.
— А кто же на войске останется?
— Вот едут новые военачальники! — кивнул всадник вслед рыдванам. — Главным воеводой назначен князь Михайло Петрович Катырев и вторым воеводой к нему Петр Федорович Басманов.
— Этот хоть воевать умеет! — кивнул Пожарский. — В Новгороде-Северском знатно отличился.
А в полках бояре и воеводы были по новой росписи.
В большом полку князь Михайло Петрович Катырев да Петр Федорович Басманов.
В правой руке князь Василий Васильевич Голицын да князь Михайло Федорович Кашин.
В передовом полку Иван Иванович Годунов да Михайло Глебович Салтыков.
В сторожевом полку князь Ондрей Петрович Телятевский да князь Михайла Самсонович Туренин.
В левой руке Замятня Иванович Сабуров да князь Лука Осипович Щербатый.
Разрядная книга{24}
На следующий день полки приводили к присяге. Один за другим подходили воины к кресту, который держал Новгородский митрополит Исидор, и, преклонив колено, целовали его на верность новому царю. Однако в людской сумятице кое-кто из дворян уклонился от крестоцелования. Во всяком случае, когда Дмитрий Пожарский отошел в сторону после благословения митрополита, он увидел в толпе хитрые глаза Прокопия Ляпунова. Тот шепнул:
— А я не целовал крест!
— Как же так?
— А вот так! Надо зело подумать, кому присягать — этому царевичу, отродью дочери Малюты Скуратова, или тому, что по всем статьям и родовитей, и законнее.
— Никак, в крамолу ударился? — сурово сказал Пожарский.
— Тише ты, Дмитрий! — воровато оглянувшись, сказал Ляпунов. — Не забывай, вокруг лазутчики Петьки Басманова шастают. Думаешь, зачем его Сенька Годунов сюда поставил? Чтоб был оком государевым. Да не рассчитал немного: обиделся Петька, что не его главным воеводой сделали. Так что дай время, будет и он на нашей стороне!
— На вашей? И сколько же вас?
— Тише! — снова предупредил Ляпунов. — Если хочешь знать, приходи к вечеру к шалашам, где рязанцы да каширяне ночуют.
Дмитрий покачал головой:
— Нет, не приду. Негоже Пожарскому в смуту лезть.
— Эх ты. Ну и оставайся со своей саблей. Так и будешь до конца жизни в захудалых ходить, — бросил зло Ляпунов и скрылся в толпе.
А Пожарский, оставшись на площади, пристально вглядывался в лица воевод, стоявших рядом с Исидором, и размышлял: «Неужто и среди них есть заговорщики? Иван Годунов, Андрей Телятевский, зять Семена Годунова, да, пожалуй, Михайло Салтыков — эти, конечно, будут преданы царю Федору до конца. А остальные?»
Вот стоят рядом два статных красавца — Василий Голицын{25} и Петр Басманов. Первый — из рода Гедиминовичей, по знатности превосходит даже Мстиславского, главу боярской думы. Однако Борис Годунов, еще будучи правителем при Федоре Иоанновиче, поставил Голицыных ниже Шуйских и Трубецких, чтобы убрать их из числа претендентов на царский трон. Василию Голицыну есть за что не любить покойного Бориса и его воцарившегося сына. Такой навряд положит свой живот за новую династию.
А Петр Басманов? До начала войны славился по Москве как первый щеголь. Он и сейчас одет наряднее всех. Червленая муаровая шуба распахнута на груди, чтоб был виден позолоченный панцирь, подарок Бориса за ратные подвиги. Что и говорить, был обласкан покойным сверх всякой меры. Должен служить Годуновым верой и правдой. Однако злые языки уверяют, будто, когда Борис сказал, что готов выполнить любое его желание, Петька бил челом, чтоб разрешил ему царь жениться на Ксении, первой невесте государства. Однако царь не согласился, сославшись на то, что обещал Ксению в жены престарелому Мстиславскому. А скорее побоялся такого союзника для своего Федора: ведь царскому зятю до яблока державного рукой подать. Не подал виду Петька, что обиделся, однако злобу наверняка затаил. И еще, сейчас рядом с Федором его главный советчик — царица Мария. А Басманов не забыл, что род его пришел в запустение по наветам ее отца Малюты Скуратова. Лучшего друга царя Ивана, Алексея Басманова, зарезал по его приказанию родной сын, отец Петра, Федор, которого потом Малюта собственноручно задушил в тюрьме. Так есть ли у этого щеголя причина так любить нового царя, чтобы жизнь за него отдать?
И снова Пожарский почувствовал сердечную смуту. Увидав на обочине своего стремянного, пошел к нему, не без труда (левая рука еще побаливала) взобрался на коня и помчался в сторону от толпы куда глаза глядят.
То, что зреет заговор в войске, узнали и иноземцы. Первым что-то пронюхал Конрад Буссов-старший, имевший привычку тереться возле сильных мира сего. Вернувшись как-то от шатров, где размещались воеводы большого полка, он, отозвав в сторону Жака де Маржере, повел туманную, полную намеков речь о том, что царевич, засевший в Путивле, жалует пуще покойного Бориса иноземцев, мечтает превратить Россию в истинно европейское государство.
— Откуда у вас такие сведения? — удивился Маржере.
Сделав еще более таинственный вид, Конрад сослался на разговор с очень большим придворным чином и добавил, что особые блага получат те, кто в решающий момент поддержат царевича.
Капитан не придал особого значения россказням Буссова, зная его как отчаянного враля. Кроме того, Маржере еще остро переживал потерю друзей, приехавших вместе с ним в Россию пять лет назад. Сначала Давид Гилберт, узнав, что к царю приехало посольство из Лондона, от нового короля Якова, немедля отправился в Москву да так оттуда и не возвратился. Во всяком случае, при расставании Гилберт подтвердил свое желание по-прежнему получать от Маржере самую разнообразную информацию, сказав, что с ним в свое время свяжется его доверенное лицо.
Вторая, более существенная для Маржере потеря — смерть толстяка Думбара. Когда они отбивались от наседающих польских гусар под Добрыничами, Роберт получил тяжелое пулевое ранение в живот. Он скончался на руках капитана. За час до смерти шотландец пришел в себя, с его исхудавшего лица серьезно смотрели на капитана большие серые глаза:
— Жак, я тебе кое-что хочу сказать на прощание. Будь верен русским. Это хорошие парни.
— Роберт, разве можно сомневаться в моей чести? — напрягся Маржере.
— Не надо, капитан, гневить Бога, — устало сказал шотландец, уже глядя вверх. — Ты думал, толстяк Думбар только пьет вино и щупает девок. Нет, Думбар не так прост! Думаешь, что я не замечал, как ты что-то пишешь по вечерам и слишком часто назначаешь свидания с этим голландцем. А потом, я знаю, что за птица этот Гилберт. По нем давно виселица плачет. А ты, капитан, человек благородный и добрый. Так будь верен своему слову до конца!
Вот что сказал перед смертью Роберт Думбар. А перед смертью никто не кривит душой. Маржере глубоко задумался над предостережением друга и решил оборвать все ниточки, ведущие в Европу, пока он служит государю Борису.
И все же намеки Буссова как-то начали бередить мысли капитана. В самом деле, он же нанимался на службу к Борису, а не к Федору, значит, вправе решать, на чьей стороне быть дальше. И что из того, что он иногда будет передавать записочки друзьям? Это ведь никак не сказывается на твердости его руки в бою?
А тут еще вроде бы случайная встреча с Афанасием Власьевым. Дьяк столкнулся с Маржере, когда тот со своими солдатами нес караул в расположении большого полка. Дородный Власьев не поленился даже выйти из своего рыдвана, чтобы поздороваться с капитаном. После громогласных приветствий и вопросов о здоровье дьяк понизил голос:
— Тебе, капитан, кланяются твои польские друзья.
Маржере побледнел и невольно положил руку на рукоять шпаги.
— Тебе не надо волноваться. У нас с тобой одни и те же друзья. Они считают, что дни царствования Годуновых уже сочтены. Я сейчас уезжаю в Москву, там я нужнее для будущего царя. Но помни: в решающий момент тебе принесут шишак воеводы Басманова. Это условный знак. Запомни!
…Мятеж начался на рассвете 7 мая. Лагерь проснулся от криков всполошенных людей, выскакивающих из горящих шалашей, подожженных одновременно в разных местах воинского стана. Панику усиливали всадники, носившиеся повсюду с криком: «Боже, храни Димитрия!» Решив, что царевич уже появился под Кромами, многие хватали лошадей каких придется и мчались без оглядки из лагеря в сторону Москвы. По приказу воевод гулко застучали барабаны, призывая войска к построению. Более или менее удалось собрать большой и сторожевой полки.
Сидя на коне впереди своей сотни, Пожарский с тревогой вглядывался в даль, ожидая увидеть шеренги войск Димитрия. Но горизонт был чист. Неожиданно раздались возбужденные крики сзади. Обернувшись, князь увидел, как к наплавному мосту через реку, ведущему к крепости, скачут несколько сот людей. Впереди, подбадривая криком отстающих, мчались два брата — Прокопий и Захарий Ляпуновы. Они вели своих рязанцев на встречу с казаками Корелы, которые уже гарцевали перед земляным валом.
По приказу Андрея Телятевского часть сторожевого полка бросилась за рязанцами в погоню. Те еще не успели перебраться по мосту, как на него ступили преследователи. Мост, не выдержав перегрузки, ушел под воду. Началась сумятица: часть воинов, держась за гривы коней, поплыла к крепости, часть — в обратную сторону. Столкновения металла о металл, испуганное ржание, крики тонущих — все это слилось в чудовищную какофонию.
Телятевский подскакал к пушкам, чьи дула были обращены к крепости, но так и не скомандовал открыть огонь. В самом деле, куда стрелять, когда все перепуталось, смешалось, уже нельзя было разобрать, где свои, где чужие.
Тем временем Прокопий Ляпунов с отрядом достиг крепости под приветственные крики казаков.
«Значит, заранее сговорились», — догадался Пожарский.
На какое-то время всадники смешались в одну кучу, потом прошло разделение: рязанцы, выстроившись в колонну, въехали в крепость, казаки же, напротив, направились вскачь к мосту.
К шатру, где находился главный воевода Катырев-Ростовский, возвращались посланные им связные с нерадостными вестями:
— Полк правой руки весь присягнул Димитрию!
— А где Голицын? — хрипло спросил воевода, впиваясь глазами в связного. Он уже никому не верил. — Ты его видел?
— Нет, говорят, что его повязали, чтобы головой выдать Димитрию!
В шатер ворвался другой связной:
— Передовой полк уходит к царевичу. Ивана Годунова повязали, а Михайла Салтыков крест целовал при народе, деи, будет служить Димитрию верой и правдой.
Примчался гонец от Замятни Сабурова:
— В полку левой руки шаткость, кто к царевичу идти хочет, а кто уже бежит к Москве…
Тысяча иностранных всадников, выстроившись по сотням, сохраняла относительное спокойствие. Солдаты лишь вопросительно поглядывали на своих капитанов, расположившихся на противоположных флангах, Жака де Маржере и Вальтера фон Розена, ожидая каких-либо приказаний. Но те медлили, пытаясь разобраться в обстановке.
К строю иноземцев подскакал всадник, пряча что-то под плащом.
— Где ваш капитан? — спросил отрывисто.
— Вот он, — указали ландскнехты на Розена.
Гонец молча протянул Розену шишак.
— Что это? — удивился Розен.
— Шишак Басманова. Знак, значит! — в свою очередь ничего не понял посланец. — Как договорились.
— Зачем мне нужен русский железный шапка! — побагровел Розен. — У меня есть свой каска!
Маржере, услышав шум, приблизился и внимательно осмотрел шишак, к его острию действительно был прикреплен значок второго воеводы.
— А где сам Басманов?
— Там, — показал гонец место, где находился полк правой руки. — Вместе с князем Голицыным.
— Что требуется от нас?
— Присягнуть Димитрию и идти на сближение с Басмановым.
— Ясно! — кивнул Маржере.
Розен заволновался:
— В чем дело, капитан? Чего от нас ждут?
— Спокойно, Вальтер! Все будет хорошо, ты сейчас увидишь! — Маржере знал, как разговаривать со своими однополчанами.
Он выехал перед строем и зычно крикнул:
— Солдаты! Нас ждут там, — он указал на лагерь мятежников, — россыпи золота, вино и женщины. А главное — конец войне. Скоро мы будем снова в Москве, в своих уютных домиках. Новый царь Димитрий распростер над нами свою благосклонность. Да здравствует царь Димитрий!
— Да здравствует царь Димитрий! — во все глотки заорали ландскнехты, почувствовав запах наживы.
По команде Маржере иноземцы строем двинулись к позициям мятежников. Никто и не пытался их остановить.
Тем временем казаки, миновав мост, развернулись лавой и бросились на тот отряд сторожевого полка, что недавно преследовал рязанцев. Хотя казаков было раз в шесть-семь меньше, чем царских солдат, однако ярость, копившаяся в сидевших в крепости столько месяцев, была так велика, что противник побежал, практически не сопротивляясь.
С остатком телохранителей к шатру главного воеводы подскакал в растерзанной одежде Андрей Телятевский.
— Надо уходить, князь! — крикнул он Катыреву. — Пока хоть часть войска цела.
Катырев взобрался на коня и дал команду к отходу. Под его знаменем осталась едва ли десятая часть войска.
Через три дня пути, убедившись, что никто их не преследует, Катырев дал команду распустить войско.
И украинских городов дворяне и дети боярские резанцы, туленя, каширеня, олексинцы и всех украинных городов, удумав и сослався с крамчаны, вору Ростриге крест втайне целовали и воевод на съезде переимали, и вся рать от того смутилася и крест Ростриге поцеловали, и восход к крестному целованью привели, и по городам писали, чтоб крест целовали царю Димитрию.
И в Путивль к Ростриге, что назвался царевичем Димитрием, послали ото всей рати князя Ивана Васильевича Голицына и дворян, и столинков, и всяких чинов людей. А бояре и воеводы и вся рать учали дожидатца Рострига под Кромами. А стрельцов и казаков, приветчих крестному целованью, отпустили по городам, и от того в городах учинись большая смута.
…А как Рострига ис Путивля пришел в Кромы, а бояр с ним пришло: князь Борис Татев, князь Василий Масальский, князь Борис Лыков, окольничей князя Дмитрей Туренин, думные дворяне Артем Измайлов, Григорей Микулин.
…А ис-под Кром пошел на Тулу, а бояр и воевод велел росписать на пять полков.
В большом полку боярин князь Василий Васильевич Голицын да князь Борис Михайлович Лыков.
В правой руке князь Иван Семенович Куракин да князь Лука Осипович Щербатой.
В передовом полку боярин Федор Иванович Шереметев да князь Петр Аманукович Черкаской.
В сторожевом полку князь Борис Петрович Татев да князь Федор Ондреевич Звенигородцкой.
В левой руке князь Юрьи Петрович Ушатой да князь Семен Григорьевич Звенигородцкой.
А дворовые воеводы были князь Иван Васильевич Голицын да боярин Михайло Глебович Салтыков.
А ближние люди при нем были князь Василей Рубец-Масальской да Артемей Измайлов, и у ествы сидел он же.
А постельничей был Семен Шапкин.
Разрядная книга
Дмитрий Пожарский недолго оставался в родовом имении Мугрееве. С облегчением убедился, что супруга и все четверо детей здоровы. Старший, двенадцатилетний Петр уже свободно сидит на коне и учится фехтовать на палках, не отстает от брата и семилетний Федор, начала ходить румяная толстощекая Ксения, названная им в честь царевны. А в люльке еще малыш качается — сын Иван, родившийся, когда князь был в походе. Крестьяне дружно отсеялись, и управляющий обещал неплохой урожай.
Но семейные радости не разгладили морщин на челе князя. Душу постоянно теребила дума: как там в Москве? Из Суздаля приходили вести, что Димитрий рассылает по городам «прелестные» письма, склоняя весь люд целовать ему крест, как законному царю. Из этих писем стало известно, что войско Димитрия беспрепятственно заняло Орел, Тулу и остановилось под Серпуховом.
Понимая, что наступает роковая развязка и Федору Годунову не усидеть на троне, Дмитрий встревожился за судьбу матери, еще остававшейся мамкой при Ксении.
Побыв дома всего две недели, князь с верным дядькой Надеей и десятком дружинников отправился к Москве. Их путь лежал по Ярославской дороге. Они миновали Суздаль, Ярославль, Ростов, Переяславль-Залесский… Эти города не спешили присягнуть новому царю, хотя на посадах велись яростные споры: кто же он действительно — сын Ивана Грозного или вор-самозванец? Заехали помолиться и поклониться святым мощам Сергия Радонежского к старцам Троице-Сергиева монастыря. Они зачитали князю последнюю грамоту патриарха Иова, где он проклинал самозванца, упорно называя его Гришкой-расстригой.
Дорога была безлюдной. Пустынным было и село Красное на подступах к Москве. Лишь на завалинке одной из изб грел кости седой длиннобородый старец в поярковом колпаке.
— А где все люди? — спросил Надея, приостановив коня.
— Бабы с детьми в погребах сидят, ну как стрельцы нагрянут!
— А мужики?
— А мужики с казаками пошли Москву грабить!
— Ого! И царского гнева не боятся!
— А чего нам бояться, когда сам царь Димитрий нашим мужикам письмо прислал.
— Не может быть! — не поверил Надея.
— Намедни утром с казаками приехали два важных чина. Читали письмо царское мужикам красносельским, деи, если гонцам помогут в Москву войти — озолотит, а коли не помогут — всех казнить велит. Вот мужики и подхватились.
Надея пришпорил лошадь, догоняя остальных. Перебравшись по мосту через Яузу, подъехали к Белому городу. У ворот в каменной стене обычной стрелецкой стражи не оказалось. Чем дальше ехал по городу князь со своим отрядом, тем больше тревога охватывала сердце. Всюду были видны следы недавнего разорения. Ворота многих усадеб были распахнуты настежь, по улицам летал пух из разодранных перин, валялась порванная одежда, посуда, то и дело попадались лежащие поперек дороги мертвецки пьяные люди.
В Китай-городе у лавок и кабаков толпились посадские, пьяно проклиная Годуновых да их сродственников — Сабуровых и Вельяминовых.
На Красной площади народ валил валом к Лобному месту. Здесь были не только посадские, но и много дворян, поэтому Пожарский легко затерялся в толпе.
— Глянь! — удивленно сказал он Надее. — Богдан Бельский! Живой! И снова бороду отрастил!
Бельский кричал с возвышения с надрывом:
— Перед кончиной Иоанн Васильевич поручил мне, его верному слуге, попечительствовать над его детьми — Федором и Димитрием. И когда Годунов замыслил убить угличского царевича, я спас его вот на этой груди! — Он шумно ударил себя в грудь, прикрытую кольчугой.
— Пусть Шуйский скажет! Он же вел тогда следствие! — выкрикнул кто-то из толпы.
Рядом с Бельским встал на возвышении узкоплечий сутулый старик в горлатной шапке. «Василий Иванович Шуйский!» — прошелестело по толпе. Шуйский поклонился и дребезжащим козлиным голосом закричал:
— Истину говорит Богдан! По ошибке люди Борискины зарезали сына поповича, что играл с царевичем. А царевича укрыли верные люди и прятали до поры до времени. Я боялся тогда мести Бориса, потому и подтвердил, будто царевича зарезали. Жив он и идет к нам.
Шуйский в подтверждение слов размашисто перекрестился в сторону Покровского храма. Толпа взревела:
— Вон тело Бориса из Архангельского собора! Недостоин находиться в усыпальнице царской! Вон!
Новый взрыв волной раздался у Фроловских ворот. Оказывается, посланные раньше люди уже тащили гроб Бориса.
— Куда его? Собаке собачья смерть! — кричала возбужденно голь.
— Давайте его в Варсонофьевский монастырь! — отвечали более солидные люди. — Все-таки был помазанником Божьим.
Гроб в обычной деревенской телеге, подпрыгивая на рытвинах, направился к Никольской улице, за ним устремилась толпа.
— Скорей в Кремль! — скомандовал Пожарский, воспользовавшись всеобщей сумятицей.
На мосту при въезде в Кремль их остановили пьяные казаки.
— Кто такие? — спросили они, загораживая вход пиками.
— Свои! — ответил Надея. — Люди Бельского.
— Ах, от Бельского! Тогда можно! — смягчился начальник караула, неожиданно обнаружив в своей руке серебряный рубль.
Царский двор также носил следы разграбления: двери и окна были выломаны, везде валялась всевозможная утварь. Он был зловеще пуст. Дмитрий подъехал ко дворцу царевны. Никто его не встретил. Спешившись, он вошел в хоромы. Нигде никого. Содрана обивка со стен, поломаны лавки. На полу видны следы крови. «Неужели опоздал?» — горько подумал князь, однако прошел дальше, на задний двор, а оттуда в сад. Прислушался, может, почудилось? Нет, из глубины сада, где находилась беседка, раздавалось тихое всхлипывание. Пожарский бросился туда:
— Матушка!
Это действительно была княгиня, забившаяся в дальний угол.
— Сынок! — со стоном проговорила она. — Какой ужас! Ксения…
— Потом, потом расскажешь, — пробормотал князь, беря ее на руки и усаживая на свою лошадь, сам сел сзади, бережно ее поддерживая.
У ворот — снова пьяные казаки.
— Глянь, какой проворный! — загоготал один из них. — А мы бегали, баб искали…
Пожарского вовремя оттеснил своим конем Надея. Снова сунув рубль, строго сказал:
— Открой зенки! Это же старуха! На богомолье едет.
Казак смущенно что-то забормотал, и отряд поспешно миновал караул. На Сретенке еще бурлила толпа, идущая к Варсонофьевскому монастырю, пришлось ее объехать. Наконец за Сретенскими воротами усадьба Пожарских. Стремянный Никита забарабанил что было силы в крепко запертые ворота. Наконец раздался дрожащий голос ключника:
— Кто там? Хозяев дома нету!
— Открывай, старик, это я! — подал звучный голос Пожарский.
— Князюшка! — аж всхлипнул ключник. — Наконец-то! Мы тут такого страху натерпелись! Вчера грабить приходили. Спасибо твои посадские в обиду не дали. Говорят: «Наш князь хороший, справедливый. Его обижать без надобности!»
Князь бережно внес мать в горницу, усадил на лавку. По его знаку княгине принесли меду. Сделав несколько глотков, она горько расплакалась.
— Ну, полно, полно. Расскажи мне все по порядку, — попросил ее Дмитрий.
…Наутро дворец проснулся от криков на Красной площади.
Царица Мария Григорьевна послала проведать, что случилось, дворцовых слуг.
Те скоро вернулись в страхе. На Лобном месте читают письмо самозванца два его посланца — Гаврила Пушкин и Наум Плещеев. На этот раз послы появились не одни — с ними большой отряд казаков во главе с Андреем Корелой да еще мужичье из села Красного. Они сбили стрелецкую стражу на воротах и в окружении московского «черного» люда привалили на Красную площадь.
Царица послала к народу с увещеванием начальных бояр Мстиславского и Шуйских, а также думного дьяка Афанасия Власьева. Однако те говорили вяло, вроде бы и не веря, что Димитрий — самозванец. Пока шли споры между посланцами Димитрия и боярами, казаки не зевали. Разбив замки на железных дверях Разбойного приказа, они освободили всех заключенных, в том числе и поляков.
После этого возбужденная толпа ворвалась в Кремль и стала громить царский дворец…
Здесь княгиня заплакала навзрыд.
— Успокойся, матушка. Все позади!
…Толпа схватила царицу, Федора, добрались и до Ксении. Наверное, убили бы их, но не дал Богдан Бельский, пожалевший свояченицу. Их с позором на простой телеге повезли на старое подворье Годуновых, расположенное здесь же, в Кремле. Когда казаки начали издеваться над Ксенией, княгиня бросилась на ее защиту. Но кто-то так ткнул ее в спину, что она упала и потеряла сознание. Когда очнулась, во дворце царевны никого уже не было, а из царского дворца раздавались пьяные песни. Княгиня пробралась в сад и затаилась в беседке. Там-то и нашел ее Дмитрий.
— Жалко мою лебедушку, — причитала княгиня. — Сначала жениха потеряла, потом отца. Что-то с ней будет?
— Не печалься, матушка! — утешал сын. — Ксении дорога теперь только в монастырь. Ближе к Богу. Отдыхай. А как совсем поправишься, отвезу тебя в Мугреево. Возле внуков, глядишь, и сердцем оттаешь!
…Жак де Маржере возвращался в Москву. Его вооруженные ландскнехты, закованные в кирасы, входили в отряд Петра Басманова, сопровождавшего князей Голицына и Мосальского. После того как «немцы» перешли на сторону царевича под Кромами, в их отряде осталось не более половины. Многие не стали рисковать: денег у царевича не было, а займет он престол или нет, бабушка надвое сказала, да еще вопрос — усидит ли он на нем. Возвратился в Европу и Розен, снова подавшись на службу к римскому императору. Маржере, игрок по натуре, решил поставить на царевича и, похоже, выиграл. Петр Басманов, главный воевода молодого царя, выбрал в качестве командира передового войска именно его, Маржере.
Жак не без самодовольства покрутил щегольской усик и, откинувшись назад, оглядел строй двигающихся вдоль дороги всадников. С ними он разгонит всех царских стрельцов. Свою задачу Маржере уяснил четко: в то время как князья будут вести переговоры с боярской думой о том, как лучше встретить царя Димитрия, он должен без лишнего шума, чтобы не возбуждать московский люд, и без того легкий на подъем, взять охрану дворца и крепости в свои руки.
Рядом с Басмановым покачивались в седлах два его телохранителя — Михаил Молчанов и Ахмет Шарафетдинов, получивший при крещении имя Андрей. Их и без того разбойничьи рожи выглядели особенно страшными рядом с прекрасным лицом первого щеголя Москвы. Маржере слышал, что Ахмет Шарафетдинов был когда-то опричником Ивана Жестокого, принадлежал к числу палачей, совершавших самые гнусные казни.
Похоже, что находился бывший опричник в составе отряда не случайно. «Добрый царь», как его окрестил доверчивый люд, Димитрий был жесток и вероломен по отношению к своим недругам. Маржере был свидетелем, как зверски избивали казаки по царскому указу Андрея Телятевского, пришедшего к нему в Тулу с повинной головой. Засадили в темницу и Ивана Годунова, отказавшегося принять присягу. Можно было догадаться об участи, какая ждала уже низвергнутого царя Федора и патриарха Иова…
В Кремле Маржере без особого труда расставил караулы у ворот, на перекрестках и на подворьях. Казаки уходили охотно туда, где их ждали гостеприимные посадские люди. Не ушел лишь сам атаман Андрей Корела со своим ближайшим окружением, облюбовавший дворец Семена Никитича Годунова, которого держал, как медведя, на привязи.
Басманов собрал в Грановитой палате бояр, потребовав, чтобы Дворцовый приказ немедля отослал к царевичу двести повозок с посудой, царской едой и питьем. Придворные портные принялись шить царские одежды по привезенным меркам.
Тем временем Голицын и Масальский в сопровождении Шарафетдинова и Молчанова отправились на старое подворье Годуновых. Вскоре оттуда раздались отчаянные крики. Сбежавшейся дворне Голицын, вышедший на крыльцо, со скорбью на лице объявил, что царица Мария Григорьевна и ее сын Федор с отчаянья приняли яд. Ксению отвезли на подворье князя Масальского, чтобы оттуда отправить ее в монастырь. Чтобы пресечь распространившиеся по Москве слухи, что Федору удалось бежать, сосновые гробы, где лежали «самоубийцы», были выставлены на Ивановской площади. Сбежались тысячи москвичей. Подошедший из любопытства Маржере явственно увидел на шеях царицы и Федора темные полосы — следы веревок. А вечером пьяный Шарафетдинов, сидя с караульными немцами у бочонка с мальвазией, похвалялся:
— Князья не пошли со мной в покои царицы, побоялись. А она как увидела в моих руках веревку, сразу все поняла и только сказала: «Ахмет, ведь ты меня на руках носил, когда у отца служил…» А вот с сучонком ее пришлось повозиться. Малый хоть не сильный, а увертливый. Пока его за уды не схватил, трепыхался как заяц!
Остальных Годуновых связанными бросили в навозные телеги и развезли по дальним городам. Только Семен Никитич уехал недалеко: его задушили в темнице Переяславля-Залесского. Потом настал черед и патриарха. Петр Басманов прилюдно в Успенском соборе, где обычно Иов вел службу, сорвал со старца черное бархатное одеяние и напялил простую монашескую рясу. Патриарх плакал, но, встретившись со злым взглядом молодого красавца, смирился. Его отправили в Старицкий монастырь, где много лет назад Иов начинал свою церковную службу.
Двадцатого июня Москва проснулась от колокольного звона. По приказу Басманова звонили во всех церквах. Толпы народа потекли к Коломенской дороге встречать царевича Димитрия.
Людей было так много, что они не умещались вдоль улиц. Чтобы лучше видеть царевича, многие лезли на крыши домов, забирались на деревья. Были густо облеплены и городские стены.
Царский поезд двигался неторопливо. Впереди рота польских гусар в блестящих на солнце кирасах с белыми плюмажами на шлемах. Далее царевич в платье из серебристой парчи, на голове — бобровая шапка, под ним гарцевал, косясь глазом на толпу, белый аргамак. Плотно к нему, стремя в стремя, его телохранители — польские дворяне, разодетые в разноцветные бархатные костюмы. Следом — ближние бояре в меховых шубах, разукрашенные золотым шитьем и драгоценными камнями, и снова польские и казачьи эскадроны. Чуть поотстав, следовало русское войско, что присягнуло ему под Кромами.
Между царским поездом и Кремлем постоянно сновали гонцы, через которых Петр Басманов докладывал о положении в городе. У Калужских ворот царевича встречали бояре, именитые гости, лучшие посадские люди. Поклонившись в пояс, они подали Димитрию поднос с хлебом-солью, который он принял, не слезая с лошади и передав тут же своему личному секретарю Яну Бучинскому. Встречающие пали ниц, разразившись криками:
— Дай Бог тебе здоровья!
Их поддержали москвичи, облепившие стены Скородома и ворота.
Приподнявшись на стременах и подняв вверх правую руку, царевич ответил:
— Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия! Встаньте и молитесь за меня!
У моста через Москву-реку Димитрий, видимо, до конца не доверявший бывшему царскому воинству, приказал ему остаться в стрелецкой слободе, а сам с верными ему поляками и казаками перебрался на левый берег. Едва его конь миновал крепостную стену Китай-города, как внезапно налетел шквалистый ветер, поднявший тучи песка. Народ, встречавший царевича на Красной площади, повалился ниц, вопя:
— Господи, помилуй нас, грешных!
Ветер стих так же внезапно, как и налетел. Царевич беспрепятственно достиг Лобного места. Маржере, стоявший со своими солдатами в охранении от моста и до Фроловских ворот, готов был поклясться, что видел в глазах царевича слезы.
Посадские и торговые люди восторженно бросали вверх шапки. Особняком стояли пышно одетые московские дворяне. С откровенным любопытством оглядывали они царевича, стараясь определить, есть ли сходство с Иваном Грозным. Здесь же находился и Дмитрий Пожарский, только что вернувшийся из Мугреева. Он тоже пристально рассматривал царевича. Даже просторные царские одежды не могли скрыть мощных широких мышц шеи и груди, сильные руки беспокойно теребили поводья. Лицом царевич был смугл, но глаза, как у покойного Ивана, стального цвета и так же беспокойно сверлят окружающих. Родовым для Рюриковичей был и массивный нос, украшенный бородавкой синюшного цвета. Губы полные, чувственные. Бороды нет, только тонкие усики. Лицо подвижное, выразительное. Сейчас оно не скрывало радостного волнения от встречи с Москвой.
Царевич украдкой бросил взгляд вправо, на здание, где когда-то располагалось польское посольство. Отсюда два с лишним года назад он пробирался как тать в ночи, одетый в монашескую рясу… И вот волею судьбы, а главное, своей волей он вернулся сюда царем, нет, даже царем царей, императором!
Сосредоточив все свое внимание на царевиче, Пожарский не смотрел на всадников, составлявших его свиту. Вдруг он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Точно, он — Борька Лыков! В богатой боярской шубе и горлатной шапке, он глядел на Дмитрия презрительно-высокомерно, казалось, говоря: «Как ты был в захудалых стольниках, так и остался, несмотря на ратные отличия, а я уже — в боярах, отмечен близостью к трону!» Пожарский нахмурился и отвел глаза.
Его тихонько потрепал за плечо незаметно подъехавший Афанасий Власьев, также находившийся в царском поезде.
— Не горюнься, князь, — сказал он тихо, верно угадав по выразительному лицу князя, о чем тот думает. — Так ты не в родовом своем поместье?
— Только оттуда, сопровождал матушку. Еле спаслась она от гибели.
— Тише! — дал знак Власьев. — Будь дома, никуда не показывайся. Пока царевич не жалует бывших придворных Бориса. Но может и призвать в любой момент, и если откажешься, не миновать беды. Обиды он не прощает. Жди моего сигнала!
От Фроловских ворот послышалось стройное песнопение. Это шли встречать будущего царя священнослужители соборов и монастырей Кремля. Процессию возглавлял Терентий, протопоп Благовещенского собора, где испокон веку молилась царская семья. Был здесь же и отец Пафнутий, настоятель Чудова монастыря. Петр Басманов вместе с Иовом отправил его в ссылку, но по приказу царевича он был возвращен обратно, более того — с саном митрополита.
Сейчас Пафнутий смотрел во все глаза на царевича, проверяя, уж не расстрига ли он. Но нет, лицо ему было незнакомо, а уверенная осанка и жесты явно говорили о его царском происхождении.
— Эй, отец Пафнутий! — услышал он негромкий отчетливый зов.
Оглянувшись, невольно воскликнул:
— Батюшки светы!
Среди польских гусар крутился мешковато сидевший на лошади Гришка Отрепьев, одетый в бархатный кафтан с меховой оторочкой польского покроя. Узнали своего бывшего товарища и многие монахи, следовавшие за Пафнутием. Они начали толкать друг друга локтями, указывая на Гришку:
— Эк, вырядился! Чистый петух! А платьице-то короткое, ляжки видать. Тьфу, как был срамник, так и остался!
Отрепьев дружелюбно подмигивал им и пообещал вечером угостить вволю всю братию греческим вином.
Наблюдавший эту сцену царевич недовольно поморщился, подумал: «Неужели из благодарности надо таскать эту скотину за собой? Запрятать в тюрьму? Нехорошо как-то. Да и вокруг болтать начнут. Ведь многие знают, что мы вместе бежали на юг. Надо подумать…»
Отец Терентий тем временем благостным звучным басом обратился к царевичу, смиренно прося у него прощения за то, что долгие годы московский люд был обманут, думая, что царевича погубили в Угличе.
— Когда слышим похвалу нашему преславному царю, то разгораемся любославием к произносящему эти похвалы, — вещал Терентий, обводя глазами людей на Красной площади, стоявших с обнаженными головами. — Мы были воспитаны во тьме и привлекли к себе свет. Уподоблялся Богу, подвигшись принимать, благочестивый царь, наши мольбы и не слушай людей, влетающих в уши твои слухи ненадобные, подвигающих тебя на гнев, ибо если кто и явится тебе врагом, то Бог тебе будет другом. Бог, который освятил тебя в утробе матерней, сохранил неведомою силою от всех врагов и устроил на престоле царском. Бог укрепил тебя и утвердил и поставил ноги твои на камне своего основания: кто может тебя поколебать? Воздвигни милостивые очи свои на нас, пощади нас, отврати от нас праведный гнев свой!
Царевич, спешившись и сняв шапку, со смиренным, казалось бы, видом слушал речь Терентия, однако внутренне насторожился, когда тот завел речь о людях, «влетающих» в царские уши «слухи ненадобные».
«Это он о моих больших боярах говорит или о польских советниках? — подумал Димитрий. — Или хитрый поп, может, тайное прослышал о том, что иезуитов с собой вожу? Надо ухо востро держать!»
Не подав виду, что обратил внимание на намеки, царевич с благоговением троекратно, согласно обычаю, облобызал икону Божьей Матери из Благовещенского собора, которой благословил его святой отец.
— Наш, православный батюшка царь! — прошел облегченно ропот по толпе. — А злые языки баяли, будто то польский перевертыш!
Благолепие момента смазали польские музыканты. Желая усилить праздничность происходящего, они что было силы ударили в литавры и задудели в трубы, наигрывая веселую польскую мелодию.
Народ зашумел:
— Басурманы! Церковное пение испохабили!
Царевич тем временем вместе со всем кортежем направился в Кремль. Встречавшие его Голицын и Басманов хотели было его препроводить во дворец Бориса, но Димитрий только сверкнул глазами:
— Ноги моей там не будет! Приказываю снести до основания змеиное гнездо.
— Мы же тебе там опочивальню приготовили, — растерянно сказал постельничий Семен Шапкин.
— Перенесите во дворец Федора, моего старшего брата, — приказал царевич. — А пока побываю в усыпальнице моих предков.
В Архангельском соборе он рукой коснулся мраморного саркофага Ивана Грозного.
— Здесь покоится отец мой! — сказал с царским величием Димитрий и поцеловал надгробие.
Польские офицеры, которые, к ужасу священнослужителей, толпой последовали за ним в собор, обменялись понимающими усмешками: они помнили «царька» совсем другим, чем сейчас, — робким и суетливым, заискивающе просящим помощи шляхтичей. Димитрий, не скупившийся на слезы, тем не менее заметил эти усмешки. Заметил и запомнил.
Из Архангельского собора он отправился в Грановитую палату. Польские эскадроны выстроились под окнами, развернув свои знамена. Усевшись поглубже на трон так, что короткие ноги не доставали пола и свободно болтались, он внимательно осмотрел бояр, сидевших по лавкам. Были здесь и старые, родовитые — Мстиславский, Воротынский, Шуйские, Голицыны, были новые — Татев, Лыков, Басманов. Царевич, облокотившись боком на поручень трона, рассматривал их с ироническим видом, радуясь, что «начальные» бояре теперь не будут иметь той силы, что прежде. Неожиданно он резко выпрямился, подозвал жестом Петра Басманова:
— А где Васька Шуйский?
Тот бросил вопрошающий взгляд на среднего брата, Дмитрия:
— Где?
— Уж ты прости, царь-батюшка, занедужил наш братец Василий, лихоманка замучила…
— Проверь, — негромко сказал царевич Басманову. — Уж не гордыней ли та болезнь называется?
За стенами дворца не прекращался многоголосый шум.
— Что там еще? — встревожился Димитрий.
— Народ с площади не расходится, — объяснил Басманов.
— Чего им неймется? — досадливо поморщился тот.
— Ждут твоего прощения. Что не будешь их казнить, велишь миловать.
— Не хочу я с ними сегодня говорить, устал, — капризно сказал царевич. — Пусть Бельский, мой дядя, к ним выйдет.
Бельский не заставил себя упрашивать — ему лишь бы покрасоваться перед москвичами, сколько времени в безвестности провел. Выехав к Лобному месту, он зычно прокричал, что царь прощает всех и велит расходиться по домам. Не удержался и еще раз рассказал, как прятал царевича на своей груди от подлого Бориса и что теперь царь не пожалеет денег, чтобы облагодетельствовать всех, кто помог ему получить отцовский стол.
Тем временем царевич попросил у своего секретаря Яна Бучинского географическую карту России и стал советоваться с боярами, кого из верных людей послать воеводой в тот или иной город. Как только называлась та или иная фамилия, бояре начинали спорить, знатный или худородный назначенный воевода, похваляясь друг перед другом знанием княжеских родословных.
Димитрий каждый раз обрывал их с досадой:
— Да я ведь не про то спрашиваю, какого рода Иван Дмитриевич Хворостинин, из старой знати или, как вы говорите, из опричников, а про то, способен ли он астраханцев в повиновении держать, сможет ли разумно управлять и не оробеет ли, если на него вражеское войско придет? Я думаю, что справится, потому что он — верный нам человек!
Сверяясь с географической картой, Димитрий называл города один за другим. В Смоленск решено было послать воеводой Ивана Семеновича Куракина, в Белгород — Данилу Ивановича Мезенкова, в Ливны — Петра Ивановича Буйносова… Когда черед дошел до пограничного города Царева-Борисова, царевич твердо сказал:
— Впредь быть этому городу названием Царев-город. Негоже при жизни давать свое имя новому городу!
Утвердила дума, хотя начальные бояре хмурились, и другое решение Димитрия — снять опалу с родов Нагих и Романовых и вернуть им боярство и все их старые вотчины, а также отдать им вотчины Годуновых. Дядька царевича, Михайла Нагой, был назначен конюшим. Получил назначение главой Стрелецкого приказа Петр Басманов.
Наконец, когда все росписи по Разрядному приказу были сделаны, Димитрий резво соскочил с трона:
— Все! Пошли обедать.
Не успел и одного шага сделать, как с удивлением увидел, что старенькие Мстиславский и Воротынский цепко ухватили его под руки.
— Вы чего, аки псы, вцепились? — спросил удивленно.
— Не положено государю одному идти, — воркующим голоском сказал Федор Иванович. — Когда царь идет куда, его обязательно должны поддерживать бояре.
Димитрий пожал плечами, но подчинился. Пока дошли до столовой, сменилось еще несколько пар бояр, отпихивавших друг друга при оспаривании чести, кому вести государя.
Обед прошел скромно и быстро, Димитрий ничего не пил, лишь изредка пригубливал кубок с мальвазией. Не было и особенного разнообразия блюд — холодное мясо, потом рассольник да баранье жаркое. Попробовав на десерт засахаренные сливы, царевич решительно встал:
— Ну, пойдем теперь посмотрим, где будем мой дворец ставить. Чья очередь меня под руки брать?
Воцарилась неловкая тишина.
— Что такое? Что вы замолчали? — удивился царевич.
Мстиславский откашлялся смущенно и, потупив глаза, огладил правой пятерней свою окладистую бороду:
— Так, по обычаю, после обеда поспать положено. Иначе обед не впрок.
Царевич рассмеялся:
— Вот потому-то вы все такие толстые, что дрыхнете после обеда. И дела потому так медленно делаются. Нет, надо вас всех послать на выучку в Европу. Вы вон дьяка Афанасия Ивановича спросите, видел ли он при каком дворе, чтобы придворные после обеда спали!
— Нет у немцев да и у литвинов такого обычая, — ответил, поклонившись, Власьев.
— Вот видите! Впрочем, — махнул рукой Димитрий на кислые физиономии бояр, — я не неволю. Хотите дрыхнуть, ступайте!
Вскоре он остался наедине с Басмановым.
— А ты чего же не идешь? — спросил Димитрий. — Небось также о перине мечтаешь?
— Я верный слуга государю, — склонился Басманов. — Куда царь, туда и я.
— Ну, и ладно! — сказал царевич. — Идем прогуляемся. Устал я от этих сопящих боровов. Да и запах от них…
— Хочу предупредить государя, — снова склонился Басманов.
— Что такое?
— Будь осторожен, царь-батюшка. Старайся хоть внешне соблюдать обычаи предков. Ведь боярам только дай повод, разнесут по всей Москве, деи, царь от православной веры отказался. И так Василий Шуйский мелет незнамо что.
— Шуйский? Значит, ты что-то знаешь? Почему сразу не сказал?
— Зачем же при боярах? Вмиг его упредят, хоть и зело не любят Ваську за лукавство и желание других отпихнуть, а самому на трон сесть. Сколько он за это в опале перебывал — и при батюшке вашем, и при Бориске!
— Что знаешь, говори! — оборвал его Димитрий.
— Потерпи немного, — улыбнулся Басманов. — Сейчас Федьку Коня{26} приведут.
— Какого «коня»?
— Это наш знатный строитель. Стены Белого города здесь, в Москве, строил, а также крепость в Смоленске. Ты же ведь место для дворца хотел подобрать, а кто строить будет? Чаю, лучше, чем этого мастера, не найти. А вот и он!
Действительно, дверь в опочивальню приоткрылась, в ней показалась высокая плечистая фигура строителя. Слегка покачнувшись от толчка в спину, Конь увидел царевича и простерся ниц.
— Встань, встань, — быстро сказал Димитрий. — Не люблю я этих церемоний.
Строитель поднялся. Живые глаза на широком мужицком лице с окладистой бородой выдавали незаурядный ум, смотрели на царевича с нескрываемым интересом.
— Что ж, пойдем, Федор, на место! — приказал Димитрий. — Там и поговорим.
Незаметно для польских гусар, охранявших парадный вход, они прошли садом и через калитку в заборе вышли на холм у кремлевской стены, обращенной к реке.
— Знатное место! — сказал повеселевший царевич. — Вся Москва отсюда как на ладони. И Замоскворечье хорошо видно.
— Каменный дворец будем строить али деревянный? — деловито поинтересовался Конь.
— Два дворца, Федор, два, — поправил его Димитрий. — Один для меня, другой для царицы, смекаешь? Надо поставить их углом, чтобы из одного можно было перейти в другой. И поставить их надо к осени!
— Значит, из дерева, — кивнул Федор.
— Ничего, главное, внутри красно убрать — стены шелком, печи — изразцами. А уж потом приняться и за каменные палаты, чтобы на века память была.
Они обсудили все детали строительства, как вдруг вмешался Басманов и спросил вкрадчиво:
— Ну как, Федор, понравился царевич?
— Смекалист, — бросил Конь, смущенно опустив голову.
— Не похож на черта, как Шуйский тебя уверял? — обрушил неожиданный удар Басманов.
Вздрогнули оба — и царевич и строитель.
— Шуйский? — В глазах Димитрия вспыхнула подозрительность.
— Кто тебе сказал про тот разговор? — севшим от волнения голосом спросил Конь.
— Мир не без добрых людей, Федя. Костьку — лекаря Шуйского — знаешь? Лучше расскажи царевичу о том разговоре.
Конь понурился, потом нехотя выдавил из себя:
— Намедни позвал меня Шуйский, хочет свой терем достраивать. Вроде бы как жениться вздумал. А ему покойный царь запрещал, чтобы, значит, наследников не было. Я его и спрашиваю: «На милость царевича надеешься, говорят, он добрый?» А Шуйский возьми да и скажи: «Черт знает кто это, только не царевич. Я ведь убиенного младенца вот этими глазами видел!»
Царевич нахмурился:
— И все?
— А что еще? Все!
— Глаза бы этому Ваське выдрать, — процедил Димитрий.
— По мне, так лучше с головой! — ненавидяще хохотнул Басманов.
От его смешка Коню стало совсем не по себе.
— Может, я пойду? — робко сказал он. — Как сделаю чертеж, принесу на суд.
— Ступай! — рассеянно кивнул царевич, видать уже не думая о предстоящем строительстве.
Только Конь отошел, Димитрий повернулся к Басманову:
— Что делать будем? — В его голосе тот почувствовал явный испуг. — Ведь Шуйский должен быть главным свидетелем, что я жив. Он же вел угличское дело!
— Так ты — вот он! — недоуменно развел руками Басманов. Царевич с каким-то колебанием посмотрел на него, потом, будто решившись на что-то, глубоко вздохнул и сказал:
— Ладно! Все равно уж теперь мы одной веревкой связаны.
Еще раз внимательно оглядев подножие холма, на котором они стояли, Димитрий горячим шепотом продолжил:
— Я истинный царевич! Ты мне веришь, Петр?
— Конечно, верю, государь! Потому и служу тебе не на жизнь, а на смерть.
— Так вот, скажу самое тайное: я царевич, но не угличский, понимаешь?
— А какой же еще? — тупо уставился на него Басманов.
— Я сын старшего брата Ивана Грозного, его племянник, и тоже — Димитрий…
Царевич подробно рассказал о своем происхождении.
— Вот теперь ты все знаешь! — закончил он.
— А кто еще знает? — торопливо спросил Басманов.
— В Польше — Лев Сапега, ну, и мой воспитатель, а здесь — инокиня Марфа, бывшая царица. Она меня благословила и нательный крест своего сына отдала. Вот он!
Царевич расстегнул рубаху и достал обсыпанный бриллиантами платиновый крест. Поцеловал его и, слегка помешкав, вдруг протянул Басманову:
— Целуй!
— Что ты, государь! — даже попятился от такой неслыханной чести Басманов.
— Целуй и поклянись, что сохранишь эту тайну, даже если на смерть надо будет пойти.
Басманов долго и прямо смотрел в глаза Димитрию, потом бережно взял в руки крест, потянув за золотую цепочку, и впился в него губами.
— Ну и ладно, — сказал наконец царевич. — Верю. Теперь ты понимаешь, что для меня значит свидетельство Шуйского? Ведь еще несколько дней назад он с Лобного места, в присутствии моих гонцов Пушкина и Плещеева, во всеуслышание сказал, что царевич был подменен, что зарезали попова сына, а теперь — «черт знает кто»!
Басманов покачал головой:
— Лукав Васька. Видишь, и сейчас сказался больным. Когда надо было Федора Годунова с трона сбросить, он признал в тебе царевича. Но тогда ты еще был далеко. А как скинули, сам, видать, возмечтал о престоле. Вот и начал тайные козни чинить…
— Ну, Федор Конь, похоже, не поверил. А интересно, что это за птица — Костька-лекарь? Небось уже трепал мое имя всуе на посадах?
— Лекарь уже ничего трепать не будет, — махнул головой Басманов.
— Откуда ты знаешь?
— А откуда я вообще узнал об этом разговоре? — улыбнулся Басманов.
— Понятно. Значит, он и донес?
Басманов кивнул, но лицо его снова приняло озабоченное выражение.
— Если бы Шуйский случайно обронил это в разговоре с двумя знакомыми, было бы полбеды. У меня в Сыскном уже несколько купчишек сидят. Вот они действительно бродили по лавкам и передавали слова Шуйского, деи, угличский царевич доподлинно был зарезан.
— Отрубить болтунам головы, — вскипел Димитрий, — а Шуйского схватить немедля.
— Дело, государь, — ответил Басманов. — Только разреши всех троих братьев взять, чтобы разом с этим осиным гнездом покончить.
— Я думным боярам обещал никого из них не трогать, — растерянно возразил Димитрий.
— Правильно, но в том случае, если они не пойдут против тебя, — живо ответил Басманов. — Поверь мне, государь, не будет тебе спокойного царствия, пока Шуйские живы. Да и остальных остерегаться надо. Пока мы одни, я хотел о твоей охране сказать. Полякам бы я не доверял. Знаю, знаю, что ты хочешь сказать: они с тобой с самого начала. Однако вспомни, как шляхтичи бросили тебя под Новгородом-Северским, когда у тебя денег не хватило, чтобы с ними расплатиться! Ты уверен, что, если кто-то заплатит им больше, чем ты, они сохранят тебе верность? То-то!
— Где же найти таких, кого не подкупить? — тоскливо спросил царевич, и в его глазах Басманов вновь прочел затаенный страх.
— Есть такие! — сразу ответил тот как о давно обдуманном. — Это немцы. Если уж они принесли присягу, будут хранить верность до гроба. Поэтому я предлагаю: чтоб поляков да и казаков пока не обидеть, поручить им наружную охрану дворца и Кремля. Со временем, когда я стрельцов себе подчиню, мы их и здесь заменим. А внутри дворца пусть службу несут только немцы: всех стольников и стряпчих — с глаз долой. Их дело — только торжественные церемонии!
— Добро, — согласился Димитрий. — Приведи ко мне командира этих немцев!
Так Жак де Маржере предстал перед светлыми, точнее, темно-серыми очами царевича, ожидавшего его в полутемном зале дворца.
— Как зовут?
— В полку меня кличут на немецкий лад — Якоб Маржерет.
— А ты разве не немец?
— Нет, француз, ваше величество.
Димитрий оживился:
— Я слышал много интересного о твоем короле Генрихе. Ты с ним знаком?
— Конечно, ваше величество, и очень хорошо! Я ведь воевал под его знаменами, когда он еще был принцем Наваррским. О, это был могучий воин! Мог один обернуть вспять сотню хорошо вооруженных всадников!
— Почему же ты расстался с ним?
Маржере вздохнул:
— Кончилась война! Генрих победил и стал королем. И притом…
— Что, что — притом?
Маржере помялся, потом все же сказал:
— Притом — я ведь гугенот!
— Ну и что такого? Мой секретарь Ян Бучинский тоже гугенот, однако он предан мне, несмотря на разницу в вероисповедании!
— Генрих тоже был гугенотом, и мы вместе воевали с католиками. Однако когда он стал королем, одновременно стал и католиком.
— Почему?
— Так потребовал папа, иначе он бы не благословил Генриха на трон.
Царевич даже заерзал на кресле:
— Значит, Генрих стал католиком, чтобы стать королем?
— Именно так! — подтвердил Маржере. — Он сказал слова, которые облетели всю Францию: «Корона стоит двух обеден!»
— Так и сказал? — расхохотался Димитрий, очень довольный услышанным. — Какой молодец! А почему ты все же уехал от своего государя? Обиделся, что он сменил веру, так?
— Нет, я по-прежнему нежно люблю своего короля и готов отдать за него свою жизнь. Но я воин, а войны во Франции больше не предвидится. Кроме того, при дворе слишком много католиков, и бедному гугеноту трудно рассчитывать на карьеру и богатство. Так я очутился в Италии, затем в Трансильвании воевал с турками — и вот теперь здесь!
— Ты не прогадал! — убежденно воскликнул царевич. — У меня ты будешь сказочно богат. И мне пригодится твой опыт войны с турками.
— Спасибо, сир! — опустившись на одно колено, Маржере склонил голову так, что длинные волосы закрыли лицо.
— Ты сказал — «сир»?
— «Сир» — это государь по-французски.
Димитрий польщенно улыбнулся:
— А есть ли звание еще выше?
— Да. Император. Он государь над всеми королями, чьи королевства входят в его империю.
— Им-пе-ра-тор, — повторил по слогам звучное слово Димитрий. — Что ж, я тоже после коронации стану императором. Ведь, милостью Божьей, я, как и мой отец, не только самодержец всея Руси, но и царь Казанский и Астраханский, правитель северных областей, государь Иверских, Карталинских, Грузинских царей… Э, да долго даже и перечислить. Бог даст, придут под мою руку и другие королевства. И буду я, как это по-латыни? Император Деметриус!
Он еще раз повторил, смакуя и горделиво поглядывая вокруг, будто вместо стен, обитых парчой, перед ним простирались бескрайние просторы подвластных ему земель:
— Император Деметриус!
Потом снова обратил свой взор на коленопреклоненного капитана:
— Встань! Э-э… Ты сказал, по-немецки тебя называют Якоб, а как же по-французски?
— Жак.
— Я тоже буду называть тебя Жаком. Жак, ты знаешь, зачем я пригласил тебя?
— Мне сказал Басманов, что вы, ваше величество, хотите оказать великую честь мне и моим товарищам, доверив охранять вашу драгоценную особу во внутренних покоях дворца.
— Совершенно верно. Где твои солдаты?
— Сотня лучших конных стрелков стоит у ворот замка.
— Нужно, чтобы они сменили пищали на алебарды и встали по двое у каждой двери. Только как бы сделать, чтобы польские рыцари, мои боевые товарищи, проливавшие за меня кровь, не обиделись при этом?
Маржере улыбнулся:
— Нет ничего проще, сир!
— Как же? — встрепенулся Димитрий.
— Прикажите им явиться в Дворцовый приказ, где им заплатят обещанное вами жалованье. Они без оглядки умчатся из Кремля, чтобы присоединиться к своим друзьям, что уже гуляют по всей Москве.
— Хороший совет! — одобрительно хлопнул по плечу капитана Димитрий. — Мы так и сделаем. Позови мне Басманова…
Через несколько минут по всему дворцу раздался восторженный рев: «Димитрию — виват!» Царевич улыбнулся про себя: «Ну и хитер этот француз! Такого надо держать при себе».
Вернувшийся Басманов доложил, что все караулы заняли немцы.
— Вот и хорошо. Теперь можно спать спокойно, — кивнул царевич.
Однако Басманов не уходил, поглядывая на него вопросительно.
— Ты что-то хочешь мне сказать?
— Я хотел спросить… Не хочет ли государь развлечься после долгого путешествия?
— Развлечься? — не понял царевич. — Но как? Здесь же не Краков и балы не в русском обычае…
— Но есть зато русские красавицы, — вкрадчиво заметил Басманов, и на его красивом лице появилась циничная усмешка.
— Русские красавицы? — презрительно надул губы Димитрий. — Но мне нужна такая, ради которой я хотя бы на время забыл о своей драгоценной Марине!
— Я думаю, эта вам понравится, — еще циничнее усмехнулся Басманов, и в его черных глазах зажегся уже знакомый царевичу желтоватый огонек ненависти.
— Кто она? — глухо спросил Димитрий, начиная догадываться о необычности предложения.
— Дочь Бориса Ксения! — Отвратительная гримаса сделала лицо Басманова отталкивающе безобразным.
— Разве она не в монастыре, как мне сказывали?
— Князь Масальский замешкался и не успел отправить ее с подворья, которое ты ему подарил, — смиренно пряча усмешку, ответил Басманов.
— Нехорошо мешкать, выполняя царев указ, — притворно нахмурился Димитрий, принимая игру. — Ну уж коли она здесь… А что, действительно хороша собой?
— Красивей ее нет в Москве! — с жаром воскликнул Басманов.
Чувство его было столь неподдельным, что царевич взглянул на него с подозрением:
Уж не влюблен ли ты сам в нее, часом?
Басманов, покраснев, потупился.
— Было дело, государь! — тихо сказал он. — Даже сватал ее у Бориса…
Глаза его вновь блеснули ненавидяще.
— Да отказал он. Все принцев искал! Вот я и думаю, ты, царевич, да бывшая царская дочь — самая подходящая пара… на одну ночь!
Басманов дьявольски захохотал. Засмеялся и царевич, в котором уже разожглось желание.
— Что ж, это будет сладкая месть! Пусть Бориска перевернется в гробу этой ночью. Веди! Только куда? Здесь глаза и уши…
— После трудов праведных хорошо бы, по православному обычаю, сходить тебе, государь, в баньку, — распевно сказал Басманов, видно давно все обдумавший. — А если какая черница придет тебе спинку потереть, так кто же осудит?
В сопровождении Маржере царевич прошествовал за Басмановым, держащим в руках свечу. Через задний двор вышли к саду; на поляне, окруженной яблонями, стояла рубленая избушка без окон. Маржере остался стоять у двери, опершись левой рукой на шпагу. Басманов быстро вышел, оставив царевича внутри, но через какое-то время вернулся вместе с Мишкой Молчановым, тем самым, что помогал Шарафетдинову расправляться с царской семьей. Вдвоем они вели, крепко держа за руки, какую-то женщину, плотно закутанную в темное одеяние. Не входя в баню, они втолкнули ее внутрь и захлопнули дверь.
— Дело сделано! — хохотнул Басманов, потом испытующе взглянул на отсутствующее лицо Маржере.
— Якоб, тебе тоже можно пока смениться. Я думаю, что до утра ты царевичу вряд ли понадобишься.
Когда они скрылись за высоким частоколом, Маржере вдруг услышал из бани леденящий душу пронзительный крик. Крик этот был хорошо знаком бравому капитану. Так кричали женщины, когда его солдаты, упоенные победой, врывались в дома мирных жителей…
Ночь он прокоротал в караульной за игрой в кости со своими солдатами. На рассвете вернулся на пост. Отпустив ландскнехта, который умудрился придремывать стоя, опершись на алебарду, Маржере на цыпочках приблизился к двери и прислушался: жива ли ночная незнакомка? Прислушался и ушам своим не поверил: в бане смеялись. Причем не истерично, а заливисто-весело звучал женский смех. Ему вторил мужской. Маржере отошел, покачав головой: «О женщины, кто вас поймет? Недавно кричала, как обреченная на гибель, и вот уже смеется». Капитану вспомнилась белокурая красавица из терема Александра Романова. Он украдкой вздохнул и размеренно зашагал взад-вперед, от дверей до калитки в заборе. Появились первые лучи солнца.
Раздался скрип двери, в проеме стоял и сладко потягивался царевич. На нем была лишь нательная рубаха.
— А, мой старый, добрый Жак! И тебе не довелось поспать эту ночь! — сказал он с какой-то неожиданно мягкой, несвойственной ему улыбкой. — Ничего, друг, я тебе дам возможность поспать вволю.
— Такова служба, сир! — тоже с улыбкой ответил Маржере. От государевой ласки его усталость как рукой сняло.
Неожиданно из темной глубины бани показалась женская фигура в белом исподнем платье. Обхватив могучую шею царевича прекрасными обнаженными руками, она выставила свое круглое личико из-за его плеча. Опытным глазом Маржере мгновенно оценил необыкновенную красоту девушки — огромные черные глаза, обрамленные пушистыми ресницами, брови вразлет, полуоткрытый алый рот, пышная грива черных волос. Кого-то она мучительно напоминала капитану…
— Ксения! Как тебе не стыдно! Здесь же мужчина! — сказал царевич, целуя ее руки.
Девушка ойкнула и мгновенно исчезла в черной глубине, будто провалилась в пропасть. «Ксения? — подумал Маржере. — Дочь Бориса? Вот так дела — царевна милуется с врагом своего отца, с тем, кто приказал убить ее мать и брата!» Однако виду, что догадался, не подал. Напротив, повернувшись в профиль, дал понять, что никого, кроме царевича, не видел.
— Позови Басманова. Он, наверное, уже во дворце, — приказал Димитрий. — Иди, иди, меня сейчас охранять без нужды.
Когда капитан вернулся с Басмановым, который действительно уже сидел на лавке перед опочивальней царевича, тот уже ждал их, будучи полностью одетым. Но лучезарная улыбка, так красившая его, по-прежнему играла на припухлых губах.
— Спасибо, свет Федорыч, за утеху! — сказал Димитрий. — Однако и за дело пора. Сегодня патриарха избирать будем, верного нам. Да и кстати, ничего нового про Шуйского не узнал?
— Узнал, государь, как не узнать. В пыточной трое на дыбе висят. Пришлось ночь не поспать…
— Кстати напомнил. У меня в бане сокровище находится. — Царевич бросил искоса взгляд на Маржере, идущего чуть поодаль. — Надо его понадежнее спрятать. До вечера…
— Не волнуйся, государь. Мишка Молчанов все как надо исполнит.
После заутрени в Благовещенском соборе царевич, поддерживаемый боярами под локотки, направился в Успенский собор, резиденцию патриарха. Здесь собрались все высшие лица Русской Православной Церкви. Духовный собор должен был узаконить противозаконные действия Петра Басманова, который по указанию царевича содрал патриаршьи ризы с Иова без согласия остальных митрополитов. Поэтому сейчас перед Димитрием, сидевшим на высоком троне справа от алтаря, разыграли спектакль, долженствующий облечь царскую волю в законную силу. Сначала Иова, которого и не удосужились привезти из Старицкого монастыря, восстановили в должности патриарха и тут же освободили, учитывая его преклонный возраст и многочисленные болезни, мешающие должным образом исполнять столь высокие обязанности.
Затем столь же единодушно отцы Церкви избрали патриархом рязанского митрополита Игнатия, грека по происхождению, приехавшего в Россию с Кипра. Хоть и славился Игнатий отнюдь не благочестием, а, напротив, пристрастием к пьянству и блуду, однако несомненная заслуга его перед царским престолом заключалась в том, что он первым из высших сановников Церкви, по наущению Прокопия Ляпунова, благословил Димитрия на царство.
Отбыв молебен по поводу избрания нового патриарха, царевич вернулся во дворец и сразу прошел в Грановитую палату, где заседала боярская дума. Усевшись на трон, он обвел сумрачным взглядом притихших бояр.
— Стало мне доподлинно известно, что Васька Шуйский возводит клеветы на меня. Сегодня по моему указу будут повешены два купца, которые на допросе признались, что по наущению этого сучьего кобеля Васьки распространяли они в народе слух, деи, Шуйский больше имеет прав на престол, чем я. Утверждает он ложно, что царевича Угличского точно зарезали и что я не мог спастись никаким чудом!
Бояре сидели насупившись, опустив бороды на посохи, на которые опирались руками. Никто из них не пытался выразить негодования по поводу возмутительных Васькиных слов. Видать, сами они про себя думали так же. «Ну, погодите, сейчас я вам устрою!» — злорадно подумал Димитрий и повысил голос:
— Такая дерзость Васьки для меня, законного вашего государя, крайне огорчительна! И если я не накажу его примерно, народ обидится. Потому приказал я взять Шуйского под стражу и доставить сюда, на мой и ваш суд. Басманов, исполнил ли ты мой приказ?
Басманов поклонился и дал знак стоявшему на карауле Жаку де Маржере. Тот распахнул дверь, и двое дюжих стрельцов ввели Шуйского. Он простерся ниц у самых ног Димитрия. Тот брезгливо коснулся плешивой головы «принца крови» носком щегольского сафьянового сапога.
— Ну-ка, погляди на меня!
Тот, шмыгая носом, послушно поднял свое зареванное, покрытое сетью морщин лицо с кудлатой бороденкой.
— Почто так расстроился, князюшка? — притворно участливо спросил Димитрий. — Али обидел кто?
Шуйский зарыдал в голос:
— Ты прости меня, окаянного, государь-батюшка! Затмение нашло. Видать, бес попутал.
«Батюшка», будучи вдвое моложе, с удовлетворением слушал жалобные причитания. Потом вдруг взъярился.
— Пес вонючий! — вскричал он и ударил носком сапога Шуйского в подбородок так, что тот от неожиданности опрокинулся навзничь.
А Димитрий, в возбуждении соскочив с трона, наклонился над ним:
— С чего бы это ты меня узнать не можешь, своего царевича, а, Васька? На беса не греши! Сам аки бес!
Царевич с силой рванул ожерелье белой шелковой рубахи, так что посыпался жемчуг, и поцеловал нательный крест.
— Узнаешь? Был он у моего старшего брата Ивана, а как он погиб, безутешный батюшка, когда я родился, от радости повесил его мне, новорожденному. Узнаешь?
Не только Шуйский, но и все бояре впились глазами в крест.
— Точно он! Неподдельный! Его еще Димитрий Донской носил! — раздался говор бояр.
Царевич, бросив на них горделивый взгляд, бережно убрал крест и вновь вернулся на трон. Голос его неожиданно увял, и он сказал негромко:
— Многие, ох многие вины на тебе, Василий! Из-за твоей лжи, будто я сам в Угличе на свайку наткнулся и помер, матушка моя по повелению Бориски пятнадцать лет по дальним монастырям скитается. И мои дядья по тюрьмам все эти годы сидели. Как этот грех с себя сымешь?
— Прости меня, батюшка государь! — снова в голос зарыдал Шуйский. — Вестимо, Годунова боялся. Если бы тогда не показал, как он хотел, не видеть бы мне своей головушки.
— Бог простит! — покачал головой Димитрий, и глаза его снова сверкнули злобой. — Но то старые вины. А есть и новые. Показали твои людишки, что сегодня голов лишатся на Красной площади, будто велел ты, Василий, мутить народ, чтобы не меня, а тебя царем выкликнули. Деи, еще не поздно, пока царевич не коронован. Что, скажешь, наговоры?
— Наговоры, государь, наговоры. Никогда и не мыслил…
— Так что, прикажешь твоих людишек сюда привести? Пусть при всех покаются…
— Не надо! — испуганно закрыв лицо руками, тихо произнес Шуйский.
— Не надо! — согласился Димитрий и снова обвел тяжелым взглядом притихших бояр. — Так как решать будем, бояре? И как я матушке своей в глаза гляну, если этот ирод, из-за которого она столько мучений претерпела, будет процветать?
— Казнить собаку! — истерично выкрикнул Богдан Бельский. — Он и мне изрядно насолил!
— Голову отрубить всенародно, на Красной площади! — добавил Петр Басманов.
Шуйский завыл в голос. Не выдержал Дмитрий Шуйский:
— Прости, государь, ты его, неразумного!
— Вот как времена меняются! — усмехнулся царевич. — Младший брат старшего в неразумии укоряет.
Потом обратился к Мстиславскому:
— А ты как, Федор Иванович, считаешь? Или сам тоже тайно о троне помышляешь!
Тот испуганно, как ворон, взметнул руки, уронив посох:
— Нет, нет! Помилуй мя и спаси!
— Так, значит, и решили! — удовлетворенно сказал Димитрий и, повернувшись к дьяку, четко произнес: — Повелеваем в ближайшее воскресенье смутьяну и вору Ваське Шуйскому всенародно на Красной площади отрубить голову. А братов — Дмитрия и Ивана за то, что не сумели вразумить своего старшего, в опалу, в их галицкие вотчины…
После обеда царевич с Басмановым и Маржере отправились осматривать дворцовые мастерские. Капитан удивлялся пытливости Димитрия, который беспрестанно задавал вопросы портным, шившим царские одеяния для коронации, плотникам, получившим от него заказ на лавки и столы для нового дворца, бронщикам, ковавшим кирасы для телохранителей царевича, оружейникам, изготавливавшим пистоли не хуже европейских.
Царевич радовался, как дитя, глядя на своих мастеровых.
— Это тебе не бояре, которым бы только дрыхнуть после обеда! — весело сказал он Басманову. — Глянь, как работают!
Особенно долго он пробыл в ювелирной мастерской, наблюдал за отливкой пластин, а затем чеканкой золотых монет, предназначенных для коронации, любовался игрой граненых алмазов и рубинов, которые должны были украсить корону будущей царицы. Таких корон на Руси еще не делалось, поэтому царевич придирчиво рассматривал рисунки короны, которая украсит голову Марины.
— Где камни берете? — спросил он у старшего ювелира, немца.
— Выдают из казны вашей милости.
Царевич живо обернулся к Басманову и сказал с упреком:
— Как же мы мою казну до сих пор не осмотрели? Я ведь и не знаю толком, насколько я богат. Как туда пройти?
— В Благовещенском соборе за алтарем есть вход в подземелье, который денно и нощно охраняют специальные ключники.
— Так веди меня туда! — нетерпеливо воскликнул Димитрий.
Басманов покосился на ювелиров, занятых своим делом, и, нагнувшись к уху царевича, прошептал:
— Есть еще один, потаенный, ход, прямо из твоей опочивальни.
Царевич схватил его за руку:
— Если потаенный, то откуда ты знаешь?
Басманов поклонился:
— Для меня, охраняющего твою жизнь, государь, нет тайн во дворце.
В опочивальне узловая печь оказалась фальшивой — одна из ее стен, покрытых узорными изразцами, поворачивалась так, что открывала коридор, ведущий к винтовой лестнице. Маржере с зажженной свечой шел впереди, сзади царевич, последним — Басманов. Спустившись глубоко вниз, они вышли в прямой туннель, обложенный белым известковым камнем, с низким сводчатым потолком. Миновав сажен двести, уперлись в кованую дверь. На вопросительный взгляд Маржере Басманов молча протянул большой узорчатый ключ. С мелодичным звоном повернулся замок. Царевич, ухватившись за ручку, рывком открыл тяжелую дверь и, буквально вырвав свечу у капитана, поднял ее высоко над головой, чтобы оглядеть огромное подвальное помещение. В неверном пламени свечи светились золотом царские наряды из парчи, вспыхивали радугой разноцветные ткани, уложенные вдоль стен с пола до потолка, сверкали алмазными гранями мечи, сабли, шпаги, отделанные драгоценными каменьями, золотая и серебряная посуда, иноземные хрустальные кубки. В центре зала находилась особенно ценная часть казны. На высоком столе покоились золотые царские короны — Ивана Грозного, Бориса Годунова и третья, что изготовлялась для его сына Федора, но теперь она предназначалась для коронования Димитрия. Четвертой была старая великокняжеская корона, которую горделиво носили его предки. Здесь же лежал знаменитый посох, изготовленный из цельного рога единорога, имевшего, по преданию, целебную силу.
Царевич взял его в руки — тяжел! — и добавил с усмешкой:
— Однако не помог излечиться Бориске от его недугов.
Здесь же лежали золотые скипетры, державы. Рядом стояли огромные бочки, отлитые из чистого серебра, наполненные серебряными рублями. Далее шел ряд сундуков, обитых позолоченной кожей. Царевич распахнул один из них.
— Книги! — воскликнул удивленный Маржере.
— Это очень редкие книги греческих и латинских авторов, — ответил Димитрий. — Я слышал о них. Их привезла в Москву в качестве приданого моя прабабка, дочь византийского императора Софья Палеолог. Царь Иван хотел их перевести на наш язык, но так и не нашел порядочных толмачей. Таких книг нет ни у одного монарха.
— Это ценнее, чем все золото и бриллианты, что находятся здесь! — с жаром воскликнул капитан. — Мой друг Мишель Монтень говаривал…
— Потом расскажешь, — нетерпеливо оборвал его царевич. — Но ты прав, для книг надо будет найти особое хранилище.
— Кстати, — обернулся он к Басманову, — из моего нового дворца надо будет сделать несколько тайных ходов. И сюда, в казну, и к Москве-реке, и к конюшням. Мало ли что…
Басманов понимающе кивнул головой, а царевич, возбужденный увиденным несметным богатством, снова и снова перебирал, сыпал из одной кучи в другую алмазы, рубины, изумруды, топазы, жемчуг, не уставая наслаждаться их волнистым сиянием.
Потом в его глазах загорелся огонек:
— Я умножу эти богатства! Надо будет созвать со всей Европы лучших мастеров-ювелиров.
Вернувшись в опочивальню, царевич отпустил Басманова и велел Маржере позвать своего секретаря Яна Бучинского. Тот явился тотчас.
— Что-то я не вижу святого отца Левицкого?
— Важно, чтобы и другие его не видели, — сказал Бучинский. — Не хватало, чтобы русские узнали, что в свите государя есть не просто католики, а иезуиты.
Будучи сам протестантом, Ян терпеть не мог братство святого Лойолы.
— Как же он прячется?
— В том-то вся хитрость, что никак. Он носит обычное польское платье, и все его принимают за придворного шляхтича.
— Так позови его.
Бесшумной походкой к нему приблизился Андрей Левицкий. Благословив, сказал с чуть заметным упреком:
— Наконец-то вспомнил обо мне, сын мой!
Царевич упал на колени:
— Прости, отец, мои прегрешения.
Левицкий ласково обнял его за плечи и усадил в высокое кресло:
— Не ровен час, увидит кто. Не до чинов. Я прощаю тебя. Знаю, что ты все делаешь во имя нашего великого дела.
Сложив руки на груди, он с постным видом возвел очи горе.
— Есть ли какие новости? — нетерпеливо спросил царевич, не очень доверявший высоким чувствам иезуита.
Тот тоже перешел на деловой тон:
— Есть, и очень важные. Скончался папа Климент, благословивший тебя на великий подвиг. Избран новый римский владыка, Павел Пятый. Он тоже наслышан о тебе как о верном рыцаре Церкви и прислал свое благословение. Он ждет…
— Чего?
— Когда ты сдержишь свое обещание, данное курии, и откроешь в Москве и по всей России католические костелы.
Царевич порывисто вскочил:
— Папе легко из Рима командовать! Но ты, ты, отче, видишь, как шныряют вокруг меня бояре, шагу не дают шагнуть! Ты думаешь, зря настоятель Благовещенского собора говорил о каких-то упреках? Им только дай доказательства моей любви к Католической церкви — весь народ поднимут против меня! Неужели не ясно?
— Не горячись, сын мой! Я-то все вижу и все понимаю. Более того, призываю быть осторожным.
— Лучше бы папа помог мне! — сказал Димитрий, вновь усаживаясь в кресло.
— Каким образом, сын мой?
— Он должен признать за мной право именоваться императором! И должен оказать все свое влияние, чтобы это право признали все европейские владыки. Я хочу установить отношения и с французским и с испанским двором! За это я клянусь поднять войска против Оттоманской империи. Отпиши ему об этом от моего имени!
Иезуит склонился в поклоне:
— Я сделаю все, как ты просишь, сын мой.
…Ночью царский дворец полон тайн. Когда царевич в сопровождении капитана шел по бесконечным узким коридорам, неожиданно под лестницей, по которой они спускались, ему послышался шорох.
— Кто там? — спросил Димитрий с тревогой, хватаясь за рукоять длинного кинжала.
— Твоя совесть! — услышал он приглушенный ответ.
— Жак, посвети! — скомандовал царевич, подойдя к темному углу, откуда услышал голос.
— А-а, моя совесть, и, как всегда, пьяна! — облегченно рассмеялся он, оглядывая человека, прикрывавшего от света свечи лицо широким рукавом.
Человек опустил руку, и Маржере узнал Григория Отрепьева. Был он в бархатном, но рваном кафтане, под глазом огромный черный кровоподтек, и действительно от него шел устоявшийся густой запах, как от винной бочки.
— Выпил токмо ради смелости, — без капли смущения сообщил Отрепьев. — Чтобы язык развязался.
— Тебе язык скорей завязывать, чем развязывать надо! — со скрытой угрозой сказал царевич. — Слышал я, что болтаешь много по кабакам. Синяк небось там и получил?
— Твои паны руки распустили. Уж больно чванливо себя ведут. Вот мы с казаками их малость поучили вежливости.
— Еще мне этого не хватало, чтоб мои воины между собой передрались! Так говори, что тебя во дворец занесло? Я же, когда тебе деньги давал, наказывал не совать сюда свой длинный нос! А ты все-таки сунул. Не боишься, что тебе его прищемят?
Нимало не испугавшись, Григорий сделал елейной насколько возможно свою разукрашенную рожу и с надрывом сказал:
— Вспоминается мне, государь, как в одну голодную лютую зиму бежали из Москвы два нагих и босых инока, а один другому рек: «Вот как сяду на царский стол, сделаю тебя, Гриня, своим канцлером!»
Царевич рассмеялся:
— Ну куда же тебе, Гриня, канцлером? Погляди на себя — пьяница и лодырь. А канцлером работать надо, государственные дела решать! Нет, жаль, что я тебя из самборской узницы вызволил. Сидел бы там сейчас вместе с Варлаамом!
Тон голоса расстриги сделался плаксивым:
— Не хочешь делать канцлером, так хоть деньгами ссуди!
— Уже пропил? — неподдельно изумился Димитрий. — Сколько же в тебя входит!
— Друзей угощал, я человек добрый, а друзей у меня пол-Москвы, ты же знаешь! — хвастливо сказал Григорий. — А кроме того, женщины тоже денег требуют. Это тебе, государь, все даром дается, даже царевны.
Димитрий нахмурился:
— Уже болтают? Откуда только проведали?
— Разве у Масальского слуг нет? — оскалился расстрига, показывая гнилые зубы. — Это вы, великие мира сего, на них внимания не обращаете, а они ведь все видят и слышат!
Димитрий украдкой покосился на Маржере, но тот стоял с каменным лицом, глядя куда-то поверх головы Отрепьева.
— Ну вот что — приходи завтра утром, денег я тебе дам, сколько ты захочешь. Но при одном условии — уедешь в свое поместье, изведаешь матушку и поживешь там годик-другой.
— Я ж со скуки там помру! — возмутился Григорий. Уж разреши хоть в Ярославле поселиться.
— Черт с тобой! — махнул рукой Димитрий. — А теперь проваливай, видишь, я спешу!
— Небось на свидание? — опять оскалился расстрига. — Что ж, не смею мешать…
…Из кромешной тьмы в маленькой тесной келье, где едва умещается широкая лавка, жаркий шепот:
— Мой суженый! Наконец-то. Я уж заждалась. Молилась, чтоб скорее пришел. Скажи, ты меня долго прятать будешь? Нам бы пожениться… Вот славно-то было бы — род Грозного и род Годунова слились воедино. Какие у тебя сильные руки!
— Моя кохана…
Все знатные люди Москвы были позваны на казнь Василия Шуйского. На Красной площади, вокруг каре из иностранных гвардейцев, оцепивших Лобное место, яблоку негде упасть. В самом центре у плахи гарцевал, как всегда одетый щеголем, Петр Басманов. Ему доверено проведение казни. Толпа загудела, расступаясь под ударами алебард: за веревку, накинутую на тонкую жилистую шею, палач вел «принца крови». Был он лишь в одной исподней рубашке, голые ступни робко ступали по неровному булыжнику. Подведя к плахе, палач надавил обеими руками на плечи узника, опуская его на колени. Увидев вблизи деревянную колоду и огромный, остро отточенный топор, Шуйский заверещал как заяц:
— Прости меня, государь-батюшка, за несусветную дурость мою! Не разглядел сослепу, не узнал тебя, наше красное солнышко! Пред всеми свидетельствую, что ты истинный царевич, законный наследник престола.
Басманов, морщась как от зубной боли от пронзительных причитаний старика, нетерпеливо поглядывал на ворота Фроловской башни, откуда должен был появиться гонец с царским указом. В ожидании прошло более часа. Старик уже сорвал голос, народ начал выражать недовольство. Наконец в воротах показался всадник, отчаянно махавший руками:
— Погодите, остановите казнь! Царь велел новый указ читать!
Но вот из Кремля выехал и дьяк со свитком в руках. Надуваясь от важности, нарочито медленно, шагом ехал по площади, не обращая внимания на крики из толпы:
— Ну, что там? Скажи, не тяни! Казнить или помиловать?
Дьяк, надувая щеки, проследовал через расступившуюся цепь стражников и протянул указ Басманову:
— Читай!
Тот резко выхватил свиток из протянутой руки, быстро пробежал его глазами и снова вернул дьяку, потом, обведя глазами толпу, стражников, на миг бросил лютый взгляд на Шуйского, в надежде приподнявшего голову, и не прокричал, а буквально выдавил из себя осевшим голосом:
— Государь приказал помиловать. И отправить вместе с братьями в галицкое имение!
Толпа восторженно завопила, славя доброго царя, палач с сожалением снял веревку с шеи рыдающего от счастья Василия, а через строй стражников уже проталкивались братья Шуйские, чтобы закутать его в наспех снятые ими шубы.
— Век за царя-батюшку буду Богу молиться! — кричал Василий. — Никогда его милости не забуду!
Басманов что было силы хлестнул позолоченной плетью по крупу своего коня и наметом помчался в Кремль.
Димитрия он застал в Грановитой палате, он с улыбкой слушал Богдана Бельского, который кричал:
— Шуйский — твой лютый враг! Вчера же бояре и лучшие посадские люди, стрелецкие головы, гости, да все, утвердили твой приговор, а сегодня ты его милуешь!
Басманов простерся ниц перед троном.
— Ты чего, тоже не доволен? — спросил Димитрий.
— Лучше бы ты меня убил! — вскричал Басманов, поднимая голову. — Нельзя его оставлять в живых! Ну, хочешь, убийц к нему подошлю? Потом скажем, что сам отравился, хочешь? Пока он живой, твоя жизнь, государь, будет в постоянной опасности.
— Я понимаю ваши опасения, — мягко сказал Димитрий, — и благодарен вам, что вы так о моей пользе заботитесь. Но послушайте, что я скажу. У меня есть два способа удержать власть. Один — быть тираном. А другой — всех жаловать. Так вот, история государей разных народов учит нас, что лучше жаловать, а не тиранить.
— Ты это Ваське Шуйскому скажи, — процедил Бельский. — При случае он тебя пожалует. Ужо тогда не жалуйся!
Такая дерзость не понравилась Димитрию. Глаза его недобро сверкнули, но он тут же подавил вспышку — не время ссориться со своими ближайшими соратниками. Заулыбался приторно:
— А что, Петя, славили меня на Красной площади за то, что я казнь отменил?
— Еще как! Кричали: «Здоровья нашему доброму царю — красну солнышку!»
— Вот видишь! — торжествующе сказал Димитрий. — И добрым остался, и слово свое не нарушил — боярскую кровь не проливал, и острастку им всем дал! И Ваське Шуйскому урок на всю жизнь. А чтоб не думали, будто я хочу весь род Шуйских извести, племянника ихнего, Мишку, назначаю своим великим мечником.
— Мечник? Такого у нас отродясь не бывало! — с удивлением воззрился на него Бельский.
— Мечник — хранитель королевского меча, — объяснил Димитрий. — Такой чин есть при каждом европейском дворе. Мечник будет сопровождать меня в битвах.
— А не слишком молод? Ведь и двадцати нет, — засомневался Басманов.
— Так и сам царь — не стар! — рассмеялся Димитрий. — Зато я из него настоящего воина сделаю. Видишь, какую честь роду Шуйских оказываю? Если послушны будут, и с самих братьев опалу сниму. Ты уж, Петенька, последи, как они в своих поместьях себя будут вести и что будут говорить.
— И все-таки делаешь ошибку, государь, — покачал головой Бельский. — Плохо ты Ваську Шуйского знаешь, если собираешься ему доверять…
— Лаской я большего добьюсь, — снова улыбнулся Димитрий, потом снова посерьезнел: — Пора теперь и о коронации подумать. Однако не могу я принять царский венец без матушкиного благословения. Пора ее вызволять из Выкинского монастыря, куда ее Бориска по злобе своей упрятал. Надо, чтоб ехала в Москву со всей пышностью, как и полагается царице. Кого из князей отрядим?
— Масальского! — предложил Басманов. — Верный тебе человек, если что…
— Дело говоришь! — согласился Димитрий. — Но надо обязательно послать верховных бояр, оказать почесть царскую моей матушке — Мстиславского да Воротынского.
— Поедут ли? — усомнился Бельский. — Ломать шапку перед инокиней?
— После сегодняшнего урока поедут! — уверенно сказал Димитрий. — И Мишку Шуйского с ними заодно, чтобы не говорили, будто я род Шуйских прижимаю. Да подарки царские матушке приготовить — одежды парчовые, шелк, атлас. Каменьев и золота не жалеть для украшения. Отцу Макарию тоже быть, с иконой Божьей Матери.
— Когда посольство должно быть готово? — спросил Басманов.
— Завтра пусть и отправляются, благословляем. А пока постельничего моего, Сеньку Шапкина, сюда пришли.
С Семеном был разговор с глазу на глаз.
— Настал черед сослужить, Семен, для меня службу! — сказал Димитрий. — Ведь Нагие — сродственники тебе?
— Да, только дальние!
— Не важно. Главное, что инокиня Марфа тебе доверяет. Бери лучших коней и скачи скорей в Выкинский монастырь, чтоб был там допрежь посольства. Скажешь ей тихонько, чтобы никто другой не слыхал: «Пробил твой час. Тот, кому ты нательный крест сына отдала, в Москве, на престоле. Он свои обещания помнит — Годуновым за слезы твои отомстил. А сейчас готовит тебе палаты царские в Новодевичьем монастыре, где покойная Ирина, жена Федора Иоанновича, пребывала. А буде тебе бояре будут пытать, стой на своем — царевич спасся и ждет меня в Москве, чтобы прижать к любящему сердцу!» Запомнил? Тогда в путь, не мешкая. И не болтай, зачем едешь!
…И снова по Москве зазвонили все колокола, зазывая москвичей, на этот раз к Сретенским воротам, встречать матушку царя, инокиню Марфу. Четырнадцать лет прошло, как отослали ее из Москвы после слушания угличского дела у патриарха Иова — в глухом возке, простоволосую, в монашеском одеянии в сопровождении угрюмого пристава со стрельцами. Деревянная Москва пылала тогда, будто траурный костер на тризне, подожженная по приказу хитроумного Бориса, чтобы отвлечь людишек московских от бунта. А сейчас, солнечным июльским утром, Москва прозрачно сияет улыбками и яркими нарядными одеждами москвичей.
А вот и сам Димитрий, красно солнышко, в окружении телохранителей, бояр и дворян торжественно выехал навстречу матушке.
Встреча произошла у села Тайнинского. На зеленом лугу поставлен царский шатер, сделанный еще по заказу Годунова в виде замка с затейливыми остроконечными башенками.
— Едут, едут! — прокричал гонец, подскакивая к Димитрию.
Действительно, когда рассеялась пыль, поднятая копытами его коня, на излучине дороги показался поезд, составленный из нескольких колымаг, запряженных цугом. Впереди, осанисто держась на белом аргамаке, ехал великий мечник — юный князь Михаил Скопин-Шуйский. Следом колымага Мстиславского, затем — Воротынского и наконец царская карета, богато украшенная золотом. Не ожидая, пока поезд достигнет поляны, Димитрий рванулся вперед. Спешившись и сняв меховую шапку, открыл дверцы кареты. Казалось, в это мгновение замерли все — и толпы встречающих, и лошади, и даже птицы в небе. Тысячи глаз смотрели с напряженным вниманием: «Узнает или не узнает мать царевича?»
Марфа будто замешкалась в карете, но Димитрий, показав ей нательный крест, уже простирал руки для объятий. Повинуясь нахлынувшему чувству, Марфа прижала его голову к сердцу и, громко, навзрыд зарыдав, начала истово креститься, обратясь к кресту на куполе сельской церкви. Не скрывал своих слез и царевич, который что-то горячо говорил своей матери. Эта умилительная картина тронула сердца москвичей, поднявших невообразимый восторженный гвалт.
Димитрий ввел мать в шатер, где было готово роскошное угощение. Царица уже успокоилась, улыбалась благостно, кивая время от времени тем придворным, что были ей знакомы ранее. Напрасно бояре, не сводившие с них пристальных взоров, искали фамильного сходства. Несмотря на пережитое, лицо Марфы сохраняло редкостную красоту, Димитрий, если бы не очаровательная улыбка, оживлявшая его обычно угрюмые глаза, был довольно-таки дурен, с длинным носом и с бородавкой под правым глазом.
Маржере, сидевший со своими офицерами за одним из последних столов вместе со стрелецкими тысяцкими, услышал чье-то ироническое замечание: «Говорят, сын счастлив, когда похож на мать, а дочь — на отца. Навряд Димитрия ожидает счастье. Если, конечно, Марфа — его родная мать».
Наутро царский поезд двинулся в Москву, Димитрий с непокрытой головой прошел рядом с каретой матери еще с версту, затем ловко, без посторонней помощи вскочив на своего коня, загарцевал впереди, отвечая величественным взмахом правой руки на ликующие приветствия москвичей.
Через три дня состоялось коронование Димитрия, проходившее по его волеизъявлению без излишней помпезности. Правда, путь от дворца до Успенского собора, где ждали его патриарх и высшее духовенство, был устлан красным сукном, поверх которого шла дорожка из золотой парчи. После торжественного чтения молитв Игнатий совершил священное миропомазание и вручил Димитрию взятые из казны скипетр и золотое яблоко-державу. Затем высшие сановники государства, в том числе и сам патриарх, чередою прошли перед царем, смиренно целуя его руку, помазанную святым елеем. Отсюда под дождем золотых монет, которые пригоршнями бросали в него идущие по бокам Мстиславский и Воротынский, молодой царь отправился в Архангельский собор, где облобызал надгробия всех великих князей. Остановившись у могил Ивана Грозного и Федора Иоанновича, произнес пышную речь, поклявшись вести дела по заповедям предков и согласуясь с волей боярства. Здесь из рук архиепископа Арсения он получил заветную шапку Владимира Мономаха.
Затем во дворце был дан пышный пир для всех, кто пришел поздравить царя. А наутро, после богослужения в церкви, Димитрий уже зачитывал в Грановитой палате новые указы. Боярскую думу он, по примеру европейских дворов, преобразовал в Государственный совет. В него вошли патриарх, который отныне постоянно должен был сидеть по правую руку государя, рядом с ним — четыре митрополита, семь архиепископов и три епископа. Митрополитом Ростовским и Ярославским по настоянию царя стал вернувшийся из ссылки Филарет Романов. Получил боярскую шапку из рук царя и единственный оставшийся в живых из остальных братьев Романовых — Иван.
…Вернулась в Москву вместе с семьей Филарета вдова Александра Романова, некогда возлюбленная Маржере. Поселившись в старом подворье, она скоро дала о себе знать бравому капитану через Настьку Черниговку. Теперь им не нужно было бояться грозного мужа, и Жак, нашедший, что перенесенные страдания сделали «Елену Прекрасную» еще краше, часто уходил на службу во дворец прямо из ее высокого терема…
«Начальные» бояре, Мстиславский, Воротынский, Голицыны, Трубецкие, Шереметевы, Куракины, затаили крепкую обиду на государя, что посадил он на боярские лавки рядом с ними, а иногда и выше, выскочек Нагих. Мало того что Михайла с сизым носом носил самый высокий титул конюшего, так рядом расположились еще один дядя царя — Григорий, а также двоюродные братья, сыновья покойного Александра — Андрей, Михайла и Афанасий.
Почетный чин великого оружничего получил из рук государевых бывший опричник Богдан Бельский, а Васька Масальский, вознагражденный за свои злодеяния, стал великим дворецким.
Бок о бок с родовитыми расположились те, кто первыми признали законного царевича. По иронии судьбы с Иваном Романовым соседствовал Михайла Салтыков, который когда-то по приказу Годунова тащил его в Сыскную избу. За свою верность получил чин великого кравчего[45] Борис Лыков-Оболенский, Богдашка Сутупов, похитивший в свое время для царевича казну Годунова, стал печатником и великим секретарем, а Пушкин-Бобрищев, первым возвестивший на Красной площади манифест Димитрия, — великим сокольничим.
Вернулся из небытия попавший в опалу еще в царствование Федора дьяк Василий Щелкалов, чтобы вести дипломатические дела вместе с Афанасием Власьевым, получившим в награду за измену Борису польское звание надворного подскарбия.
Проявил молодой царь великодушие в отношении тех, кто некогда поднимал оружие против него. Был извлечен из тюрьмы, чтобы занять место в совете, князь Андрей Телятевский. Воеводой в Новгород Великий был послан князь Катырев-Ростовский. Здесь же неожиданно для всех оказался и Михайло Сабуров. Кому же могло прийти в голову, что царевич приблизил его в память о своей бабушке Соломонии Сабуровой. Вернул он поместья и остальным Сабуровым. Даже лютые недруги Годуновы получили из рук царя воеводства в Тюмень, Устюг и Свиящик.
Простерлись царские милости и на главных бояр. Федор Мстиславский, столь успешно выполнивший миссию с царицей, получил в награду старое Борисово подворье, которым недолго владел до этого князь Василий Голицын. Царь разрешил престарелому Федору жениться, более того, сосватал за него двоюродную сестру Марфы Нагой. Обширные поместья получил и Воротынский.
Уверившись окончательно в крепости своего престола, Димитрий пошел на шаг крайне опрометчивый, с точки зрения его секретаря Яна Бучинского: вернул в Москву и посадил в совет братьев Шуйских.
Напрасно возражал Богдан Бельский, предрекая царю новый заговор Шуйских. Димитрий, легко привыкший к льстивому нашептыванию начальных бояр, не захотел больше слушать дерзкого опричника и услал его вторым воеводой к Катыреву-Ростовскому в Новгород Великий. Так он нажил себе еще одного врага. А чтобы окончательно сломить Василия Шуйского своим великодушием, Димитрий милостиво разрешил ему жениться на пятнадцатилетней княжне Буйносовой, являвшейся дальней родственницей Нагим, поставив лишь одно условие — свадьба Шуйского должна состояться через месяц после его царской женитьбы на прекрасной Марине Мнишек.
Горячо желая завоевать народную любовь, Димитрий повелел глашатаям объявить по всей Москве, что по средам и субботам он будет лично принимать челобитные от каждого просителя. Сначала люди шли робко, и окруженный дьяками Димитрий явно скучал. Но вот сквозь строй телохранителей к нему прорвалась пожилая женщина в сбитом платке и простерлась ниц возле его щегольских сафьяновых сапожек.
— Спаси нас, царь-батюшка, от лихих людей.
— На кого челом бьешь, не реви, говори толком! — ласково успокоил ее Димитрий.
— На ляха твоего, Липского…
Царь нахмурился: он не любил, когда жаловались на его верных жолнеров.
— И чем же он перед тобой провинился?
— Пьяный ворвался в дом, хотел ссильничать мою младшую, а когда она вырвалась, начал рубить своим палашом все, что под руку попало! Не веришь мне, у народа спроси!
— Верно, верно, лютуют паны! — загомонили в толпе.
Димитрий чувствовал, что на него с вопросом и надеждой смотрят сотни глаз.
— Эй, пристав, приведите сюда Липского, выслушаем его.
— Он так не пойдет! — пробасил один из приставов. — Поляки только своих командиров слушаются…
— Привести силой, — начал злиться Димитрий.
Через какое-то время Липский появился в дворцовых воротах. Отпихивая локтями пытавшихся взять его под руки приставов, шатающейся походкой он направился прямо к крыльцу. Шляхтич попытался отдать поклон государю, но, едва не потеряв равновесия, судорожно распрямился и воскликнул заплетающимся языком:
— Пошто звал меня, цезарь? Оторвал от срочного дела… — Он подмигнул Димитрию и смачно икнул.
— Люди жалуются на твои безобразия, Липский, — строго сказал Димитрий.
— Люди? Какие люди? Вот эта чернь? И ты еще, государь, с ними имеешь терпение разговаривать? Это же быдло, чернь! Тьфу на них! — Смачный плевок опять лишил пьяницу равновесия.
— Покушался на честь девушки, имущество рубил, — продолжал тем же суровым голосом царь.
Шляхтич с удивлением воззрился на него:
— Что с тобой, Димитрий? Когда мы паненок в Путивле да в Туле щупали, ты был не против. Говорил: «Давайте, ребята, веселитесь!»
— Это Москва, а не Путивль, — оборвал его царь.
— Правильно! И я что говорю своим ребятам: в Москве баб больше, так что не зевайте!
Он оглушительно захохотал, вызвав гневный ропот толпы.
— Я запрещаю здесь вам самочинствовать! — крикнул Димитрий грозно.
Лицо Липского, только что расплывшееся в пьяной улыбке, стало злым. Ощерив зубы, он процедил:
— То-то мне ребята говорили, будто Димитрий наш сильно изменился. Как корону надел, так своих уже не признает! Забыл, забыл ты, ваша милость, как мы с тебя соболью шубку-то сдирали!
Димитрий в ярости вскочил:
— Подвергнуть этого пьяницу торговой казни! Провести по всем улицам и на каждой площади бить кнутом, чтоб другим неповадно было безобразничать!
Дюжие стрельцы с остервенением содрали с Липского верхнюю одежду и, обнажив его по пояс, под жалобные стенания поляка потащили с подворья. Толпа с торжествующими воплями двинулась следом. Возле крыльца, кроме охраны и дьяков, никого не осталось. Димитрий поспешно вернулся во дворец. Был он расстроен случившимся — из-за какого-то одного дурака можно поссориться со всеми поляками.
Мрачные предчувствия его не обманули. Не прошло и часа, как в его опочивальню буквально вбежал Петр Басманов:
— Бунт в Москве начинается!
— Что такое?
— Поляки отбили Липского у приставов и бросились с саблями на москвичей.
— Что же делать, у нас и стрельцов нет?
— Мы бердышами затолкали поляков, благо среди них трезвых не было, в посольское подворье. Но успокоить не удалось. Орут из-за стен, что всех москвичей перережут!
— Выкатить к подворью пушки! — командовал Димитрий. — Я думаю, это остудит их пыл.
Поздно вечером во дворец явились польские офицеры для переговоров.
— Неужели ты, государь, допустишь, — сказал с пафосом герой битвы у Добрыничей Станислав Борша, — чтобы пролилась кровь твоих верных союзников?
— Я не хочу этого! — живо возразил Димитрий. — Ты знаешь, я умею быть благодарным. И одарил вас всех сверх всякой меры. Но к чему это привело? От золота с ума посходили! Каждый вместо одного по десять слуг себе завел. Пьянствуете, развратничаете! Обижаете москвичей. Как будто в завоеванном городе находитесь! Служить, как принято у нас, не желаете, от поместий отказываетесь. Вам подавай только звонкую монету…
— Когда тебе было тяжело, ты любил нас такими, какие мы есть! — заносчиво произнес Борша. — А теперь условия ставишь? Мы — свободные рыцари, и наши шпаги охотно купит любой монарх!
— В таком случае я вас не задерживаю, — бросил Димитрий. — Получайте в казне жалованье за полгода и отправляйтесь по домам.
Такого отпора шляхтичи не ожидали. Борша переглянулся с остальными ротмистрами:
— Не боишься, государь, что твой трон без опоры останется? Твои князья только и ждут случая, чтобы нож тебе в спину воткнуть.
— Бог не выдаст, свинья не съест! — сверкнул глазами Димитрий. — Народ меня любит и не позволит покуситься на государя.
Ротмистры удалились, громко ропща на царскую неблагодарность. Басманов, присутствовавший при переговорах, спросил:
— А что с казаками будем делать? Тоже ведут себя как завоеватели.
— Тоже дать жалованье и отпустить на низ. Пусть только Андрей Корела со своей станицей останется. Он славный воин и нам еще пригодится.
— Если не сопьется, — буркнул Басманов. — Деньги, что ты ему в награду дал, прогуливает с утра до вечера. За ним вся московская голытьба из кабака в кабак шляется.
— Сопьется так сопьется, — вздохнул Димитрий. — Я ему не поп. Пусть живет как знает.
— Однако поляки правду говорили, — заметил Басманов. — Бояр наших, как они уйдут, пуще прежнего остерегаться надо.
— Что ж, на своих уже не надеешься? — усмехнулся Димитрий.
— Воины они не плохие, — ответил Басманов. — Да вот только поднимут ли руку против своих, русских?
— Маржере здесь? — вместо ответа спросил Димитрий.
— Здесь, за дверями.
— Зови, будем вместе думать, как лучше покой государев охранять.
По знаку Басманова в дверях склонился бравый капитан:
— Слушаю, мон сир.
— Жак, не надоело тебе в капитанах ходить?
— Для меня главное — служение государю, а не чины.
— Однако достойная награда не помешает, как думаешь?
Маржере пожал плечами, не зная, куда клонит молодой царь.
— Назначаю тебя, Маржере, полковником всей моей стражи. Будешь по-прежнему командовать своими пешими стрелками… Как они по-вашему называются?
— Драбанты.
— Вот-вот, будешь командовать своими драбантами и сопровождать повсюду. А во дворце должны нести охрану по очереди две сотни алебардщиков. Есть ли у тебя на примете пара надежных молодцов?
— Есть, — не колеблясь ответил Маржере.
— Тоже французы?
— Нет, один англичанин — Майкл Кнаустон, а второй шотландец — Альберт Лантон.
— Англичане — нам друзья, — согласился Димитрий. — А шотландцы?
— Шотландцы славятся своей верностью. Многие французские короли имели гвардию из шотландцев.
Ссылка на французских королей убедила царя, и он обратился к Басманову:
— Надо одеть моих стражников примерно! Чтоб все завидовали даже самому виду телохранителей императора. Видели, как он ласкает тех, кто ему предан!
Из казны не пожалели выдать самые лучшие ткани. Полковник и его драбанты были одеты в красные бархатные плащи и такие же куртки и штаны, одежда алебардщиков была сшита из добротного фиолетового сукна с отделкой из синего и зеленого бархата. Рукояти алебард были украшены серебряной нитью.
Празднично одетые телохранители сопровождали царя всюду — и при входе в храм, и в Грановитой палате, и во время его частых увеселительных поездок. Получив долгожданную корону, Димитрий не жалел ни времени, ни денег на развлечения.
Но недолго пришлось государю пребывать в безоблачном настроении. Димитрию не терпелось получить подтверждение своего императорского титула от других государей. Однако Сигизмунд в своих посланиях по-прежнему называл его лишь великим князем. Не спешили признать за ним императорские права и Габсбурги. Наконец Андрей Левицкий тайно сообщил ему о том, что пришло письмо от Павла Пятого.
— Он благословляет тебя, — шептал иезуит. — С радостью видит в тебе оплот всего христианства…
— Подожди, — нетерпеливо перебил его Димитрий. — Как он ко мне обращается?
Иезуит стал было уклончиво говорить, что утверждение царских титулов — это мирское дело, Церкви не касается, но Димитрий снова прервал:
— Как ко мне обращается его святейшество?
— Как и прежний духовный владыка — «экс нобилис».
— «Экс нобилис». Благородный, — с горечью перевел Димитрий. — Только и всего? И это после моего обещания встать во главе всего христианства против мусульман?
Левицкий, смиренно опустив глаза, повторил:
— Это не дело папы римского…
— Неправда! — с силой ударил кулаком по подлокотнику кресла Димитрий. — Одно его слово, и все короли признают меня императором.
Он критически окинул взглядом иезуита, носившего теперь, когда поляков стало при дворе мало, монашескую рясу, чтобы не бросаться в глаза.
— Поедешь с моим наказом в Рим. Делай что хочешь, но ты должен, слышишь, должен привезти мне буллу на императорский титул. Озолочу!
Наставление, данное для памяти отцу Андрею Левицкому, члену братства Иисуса, для святейшего владыки Государя Павла V, первосвященника.
1. Прежде всего он объявит Его Святейшеству о нашем намерении предпринять войну против турок и ради этого заключить союзы с некоторыми христианскими государями. Он будет просить, чтобы властью Его Святейшества было оказано давление на светлейшего Императора Римского, дабы он не слагал легко оружия и не забывал о турецкой войне, а, напротив, заключил с нами против турок союз или лигу.
2. Да способствует Его Святейшество заключению подобного же союза и священного единения со святейшим Королем и Королевством Польским.
3. Он будет просить Его Святейшество, чтобы, приняв во внимание намерения наши и светлейшего Императора Римского относительно сей угодной Богу войны, Его Святейшество сообщил о них Сейму Королевства Польского, где будут и наши официальные послы…
4. Он укажет Его Святейшеству, что для этой цели мы решили отправить в возможно скором времени нашего посла к светлейшему Императору Римскому. Он должен просить, чтобы у Его Святейшества было также какое-нибудь лицо при Императоре для ведения переговоров от лица Его Святейшества по тому же делу. Если же лицо это прибудет раньше нашего посла, пусть оно его дожидается.
5. Он заметит Его Святейшеству, что между нами и светлейшим Королем Польским существует некоторая распря по поводу императорского титула, от которого мы легко не откажемся, ибо владеем им по полному праву. Он попросит Его Святейшество принять это во внимание и быть нам судьею.
Деметриус Император
Ближе к осени царь переехал в новый дворец, отстроенный из дерева по его планам Федором Конем. Хоть своим внешним видом здание и уступало каменным строениям итальянских мастеров, было оно внутри не в пример просторнее старых дворцовых помещений и намного светлее благодаря большим окнам. Не поскупился Димитрий и на роскошную отделку палат: двери, наличники и оконные рамы были из черного дерева, дверные петли и засовы окон и дверей сверкали золотом, шкафы и столы также сделаны из черного дерева, печи были покрыты зелеными изразцами и до половины обнесены серебряными решетками. Первый покой был обит золотым тканым покровом, второй — парчой, а зал для приема гостей и столовая — драгоценной золотой персидской тканью.
Полы во всех комнатах были устланы роскошными персидскими коврами с затейливым орнаментом.
Приглашенные бояре ворчали на расточительность царя, втайне завидуя виденному великолепию. Вообще в совете они не раз упрекали Димитрия за то, что слишком много денег из казны тратит на покупку иноземных товаров и ювелирных изделий, которые везли купцы со всей Европы, прослышавшие о щедром покупателе.
Впрочем, Димитрий приглашал в новый дворец бояр крайне редко, а без его зова сюда войти было невозможно: вход в палаты преграждали невозмутимые алебардщики, плохо понимавшие русский язык. Во дворце бывали лишь самые близкие к царю придворные. Остальным оставались только пересуды. Говорили всякое: будто покои будущей царицы, стоящие под углом к основному зданию, отделываются еще великолепнее; будто из дворца по повелению царя сделаны тайные ходы, благодаря чему он внезапно появляется и в соборе, и в Грановитой палате, и в саду, и в иных местах; будто, не дожидаясь ночной поры, водят по этим ходам к царю московских девиц его прихлебатели Петька Басманов да Мишка Молчанов…
Жак де Маржере, ставший с недавних пор постоянной тенью царя, не уставал дивиться его неутомимости, жадности до всего нового, будто Димитрий спешил жить, спешил насладиться всеми прелестями самовластия. «Ведь ему и двадцати четырех нет, — размышлял полковник. — Все еще впереди. Так зачем так спешить?»
Впрочем, он отдавал должное трудолюбию царя, отводившего развлечениям лишь немногие часы. С утра, после богослужения и посещения матери, жившей в Вознесенском монастыре здесь же, в Кремле, он заседал в Государственном совете, подробно интересуясь делами в приказах, доходами, поступающими в казну, положением на украйнах. Часто взрывался, слушая бояр, честил их, невзирая на возраст, приговаривая: «Нет, надо всех вас непременно послать учиться в Европу, чтобы дремучесть собственную изжить». Он поражал тугодумцев острым умом, неожиданными решениями, смелыми планами.
Неустанно заботился царь о развитии торговли, не жалел времени, чтобы поговорить с английскими, голландскими, немецкими, итальянскими купцами, обещая им всем льготы и отмену пошлин. Но с некоторой поры Димитрий все чаще и чаще заговаривал о предстоящей войне. С кем? Посланник Сигизмунда, знакомец царя еще по Кракову, Александр Гонсевский склонял его воевать против шведского короля, Карла Девятого. Римский император просил войск против турок, обещая в награду выдать за него замуж одну из племянниц. Димитрий охотно соглашался на предложения, но Маржере, зная его лукавый нрав, догадывался о намерении царя повести войско по той самой дороге, что привела его в Москву, только в обратном направлении. Уж слишком часто Маржере проводил в покои царя гонцов из Польши и Литвы, прибывавших тайно, отнюдь не по воле короля. Однажды краем уха полковник слышал, как, провожая в Краков своего личного секретаря Яна Бучинского, Димитрий произнес на прощание фразу:
— А главное, скажи, мол, император готов дать на опалу шляхты сто тысяч форинтов и что в Смоленск отправляется воинский наряд — пушки да порох. В скором времени я и сам там с войсками буду!
«Не похоже, что царь на войну с турками собирается. Дорога на Анатолию[46] лежит куда южнее!» — подумал про себя Маржере.
Впрочем, вскоре догадки француза сменились уверенностью. Димитрий часто расспрашивал его о Генрихе Наваррском, о том, как отважному принцу удалось перехитрить Гизов и самому ухватить французскую корону.
— Да, хитрость нам, владыкам, нужна! — сказал он однажды, задумчиво глядя на пламя в печи. — Вот и я сам…
Он испытующе взглянул на полковника, прислонившегося спиной к теплым изразцам, и, решившись, продолжал:
— Когда я был в Кракове в качестве безвестного просителя, то обещал Сигизмунду все, что он просил, — северские земли, Смоленск, Новгород. Почему я так охотно это делал? Потому что доподлинно знал, что ему недолго сидеть на троне. Краковский воевода Николай Зебржидовский, Юрий Мнишек и его дальняя родня — Старицкие уже тогда затевали против Сигизмунда рокошь.[47] Они предложили мне помощь, чтобы я занял отцовский престол. За это я обещал, что поддержу рокошан в борьбе с королем, и дал согласие быть государем обоих царств — Русского и Польского. В залог того, что не обману своих друзей, — Димитрий понизил голос, хотя вокруг стояла надежная охрана, — я тайно принял католическую веру… Видишь? — улыбнулся он Жаку. — Совсем как твой Генрих. Как он говорил? «Корона стоит двух обеден». Теперь настал мой час — сдержать слово, данное Зебржидовскому и Мнишекам. Держись, Сигизмунд!
— А Лев Сапега знает о предстоящей рокоши? — не удержался Маржере.
— Лев Сапега? — Царь с мрачной подозрительностью взглянул на полковника. — Почему ты вдруг заинтересовался Сапегой?
Маржере понял, что сказал лишнее. Но его спасла обычная находчивость. Не меняя мины рассеянного любопытства, он проронил:
— Ну, как же! Сапега, я слышал, один из влиятельнейших вельмож, великий канцлер Литвы. От того, на чьей стороне он будет, зависит очень многое.
— Ты прав, — согласился, успокоившись, Димитрий. — Что я могу сказать? Со Львом Сапегой мы — старые знакомцы. Его главное устремление — вернуть свои родовые поместья под Смоленском. Я обещал ему эти земли, потому он — мой союзник. Однако этот ясновельможный пан — великий хитрец и всегда делает ставку на сильнейшего. Если рокошане будут побеждать, он будет за меня, а если — король, может перебежать в его лагерь…
Маржере убедился, что слово Димитрия не расходится с делом. Почти ежедневно они бывали на Пушечном дворе, где царь наблюдал за отливкой мощных орудий, делал из них испытательные выстрелы, удивляя бывалых пушкарей своей меткостью.
Думал он и о будущей армии. Дал указ окольничему Михаилу Борисовичу Шеину собрать ко двору дворян, отличившихся воинской доблестью. Так князь Дмитрий Пожарский вновь оказался в Кремле. Царь не торопясь объехал строй всадников, оглядывая каждого с прищуром, будто лошадник, оценивающий коней. Осмотром он остался доволен и велел Шеину разбить отряд на две армии. Одну возглавил сам Димитрий, подобравший себе воинов помоложе, другую, в которую вошел цвет московской знати, — Шеин.
Армии двинулись одна за другой в царское село Вяземы, где на высоком холме по приказу царя уже была построена настоящая бревенчатая крепость. Здесь всадники вновь выстроились строем, друг против друга. Царь, выехав на середину, прокричал зычным голосом:
— Помните Кромы? Несколько десятков тысяч воинов не могли одолеть шестьсот казаков доблестного Андрея Корелы. И не потому, что не хватало храбрости! Не было умения! С сегодняшнего дня мы будем учиться брать крепости и оборонять их, чтобы потом каждый из вас вел своих воинов только к победе!
Всадники спешились, сняли с себя оружие. Каждому была вручена длинная палка, которой можно было действовать как копьем, а в случае нужды — и как мечом. Был брошен жребий. Армия Шеина заняла крепость, а армия Димитрия стала готовиться к штурму.
Выпавший накануне первый снег решил проблему оружия. В осажденных полетел град снежков — причем Маржере, который находился со своими гвардейцами в составе царской армии, приказал внутрь снежков закладывать камни, так что попадания в лицо были весьма ощутимы. После «обстрела» Димитрий повел своих солдат на штурм.
Сначала осажденным удавалось отпихивать лестницы, приставляемые к стенам. Но град снежков усилился, и, воспользовавшись замешательством, часть воинов Димитрия забрались на стены с противоположной стороны. Вскоре рукопашная схватка уже велась в самой крепости. Пожарский, находившийся подле знамени, с уханьем, как во время колки дров, сшибал увесистой палкой одного противника за другим. Вот отлетел старый приятель Иван Хворостинин, получивший неожиданный удар по ногам! За ним подскочил Михаил Шуйский, которого князь ткнул палкой в грудь с такой силой, что тот потерял равновесие. Пожарский боковым зрением увидел, как один из воинов, обойдя его сзади, схватился за древко знамени. Пожарский в длинном прыжке достал противника, вложив всю свою богатырскую силу в удар палкой по шлему. Воин со стоном опрокинулся навзничь.
— Ты что наделал, медведь! — услышал он крик поднявшегося Хворостинина. — Это же государь!
Пожарский смущенно опустил палку, и в этот момент удар обрушился на его серебряный шишак. Оказалось, что отомстил за царя подкравшийся сзади Маржере. На миг в голове князя все помутилось, он припал на одно колено, но тут же пришел в себя и открыл глаза. На него в упор смотрел царь, еще продолжавший сидеть на земле. Сжав плечи, он озабоченно ощупывал голову.
— Это ты меня так ударил? — спросил грозно.
— Б горячке не разобрал, кто к знамени лезет, — смущенно пробормотал Пожарский.
— Смотреть надо, — ворчливо заметил Димитрий и, оглядывая вмятину на шлеме, вдруг захохотал: — Вот это удар! А если бы саблей или палашом — так и разрубить мог?
— Бывает, и разрубаю, — заулыбался князь, поддаваясь веселью царя.
Тот живо, как ни в чем не бывало вскочил на ноги и крепко ударил князя по плечу:
— Кто ты, славный воин?
— Князь Дмитрий Михайлов сын Пожарский-Стародубский.
— Род знатный, — отметил царь, — и дерешься неплохо. Однако от моего Жака ты, по-моему, тоже получил приличную затрещину!
Он снова захохотал, смеялись и окружающие. Пожарский вспыхнул:
— Немец сзади, по-воровски ударил. Если бы лицом к лицу сошлись, я бы ему показал, где у нас раки зимуют.
— Ой ли! — подзадорил князя Димитрий. — Мой полковник — рыцарь знатный, сотни турок порубил.
— Турок не русский! — запальчиво возразил Пожарский. — Попадись он мне на узкой дорожке…
— Кто же нам мешает помериться силой? — холодно проговорил Маржере, меряя противника надменным взглядом с головы до ног. — Можем и на шпагах, если его величество разрешит.
— Нет, нет, только на палках! — возразил Димитрий в ожидании интересного зрелища. — А ну, шире круг.
Жак ловко отбил концом своей палки палку Пожарского в сторону и сам устремился в атаку, пытаясь ударить князя другим концом. Пожарский еле успел отскочить назад, палка просвистела перед самым его носом. Гвардейцы Маржере одобрительно завопили, поддерживая своего командира.
Пожарский снова и снова отступал по кругу от наседавшего Маржере. Когда тот на мгновение задержался, чтобы перевести дух, князь, схватившись за конец палки и второй рукой, нанес удар ужасающей силы. Однако Маржере успел подставить свою палку, но та от удара переломилась как спичка, а палка Пожарского, превратившаяся в его руках в грозное оружие, с хрустом опустилась на правое плечо француза. Хотя на нем были латы, удар был столь силен, что Маржере упал на колени, выронив обломок своей палки. Теперь радостно завопили русские.
— Довольно, довольно! — властно приказал царь. — Вы мне оба нужны живые и здоровые для будущей войны. Принести обоим по кубку вина!
Когда к вечеру возвращались в Москву, рядом с Пожарским, вроде невзначай, оказался Иван Хворостинин.
— Ты на меня обиду не держи, — добродушно сказал Дмитрий.
— Я и не держу! — своим тенорком певуче ответил Хворостинин. — Как говорит Жак Маржере, на войне как на войне!
— Ты что же, успел с ним подружиться? — удивился Пожарский.
— Меня согрел своей милостью государь, — потупив глаза, с каким-то непонятным кокетством сказал Хворостинин. — Кстати, сегодня ты ему глянулся. Если хочешь, замолвлю за тебя словечко. Он ко мне прислушивается. Будешь постоянно при его особе. Как я…
— Как ты — не надо! — неожиданно загоготал ехавший с другой стороны Пожарского Никита Хованский.
— Что ты имеешь в виду? — вспыхнул Хворостинин.
— А то, что наш молодой царь перенял нравы своего батюшки. У того для этого Федька Басманов был, у этого — ты!
Хворостинин смешался, пробормотал:
— У древних эллинов это за обычай считалось.
— Нам древние эллины — не указ, — пробасил Хованский.
Хворостинин, не желая продолжать спор на столь скользкую тему, вновь обратился к Пожарскому:
— Так как, поговорить мне насчет тебя?
— При дворе мне невместно, — упрямо тряхнул головой князь. — Если уж просить, так чтоб послал меня государь куда-нибудь на воеводство.
— А не молод ли ты, батюшка?
— Двадцать восемь скоро, возраст мужа!
— Ну, что ж, может, и попрошу, — капризным голосом сказал Хворостинин и, пришпорив коня, стал догонять царскую свиту.
— Кто как себе чины зарабатывает, — ехидно бросил ему вслед Хованский. — А настоящим воинам место — на задворках.
— Ничего, придет и наше время! — уверенно заявил Пожарский, еще переживавший сладостное чувство победы над иноземным рыцарем.
Редкая неделя проходила без учений. Строили все новые крепостцы, по которым стреляли из пушек. Царь добивался, чтобы не только пушкари, но и каждый воин мог метко стрелять как ядрами, так и «кувшинами с зельем».[48] Он подробно рассказывал и показывал, как действуют польские гусары при атаке и обороне. Дмитрий Пожарский, с увлечением принимавший участие во всех учениях, убеждался в их пользе — раз от раза русские воины действовали все более дружно и слаженно.
Царь был неутомим на новые придумки. Когда лед сковал Москву-реку, приказал выкатить на торжище перед Кремлем, где обычно торговали зимой целиковыми освежеванными тушами быков, что, замороженные, стояли как живые, чудную крепость на колесах. Изготовили ее на Пушечном дворе плотники да пушкари, однако потрудились и богомазы. На воротах были изображены гигантские слоны, вроде тех, что были в войске Александра Македонского. Амбразуры были выполнены в виде врат ада, в пламени и дыму, а окошки, из которых торчали жерла полевых пушек, изображали головы страшных чертей. Когда пушки по команде царя начали палить, извергая огонь, москвичи, стоявшие на крутом берегу, стали испуганно креститься:
— Сатанинская затея, воистину!
Страху прибавила юродивая старица Елена, которая, протолкавшись вперед, начала грозить царю сучковатым пальцем:
— Чую, что смерть уже идет к тебе, Димитрий! Дьявол скоро заберет тебя!
Испуганно отшатнулись от юродивой люди, ожидая неминучей кары. Но царь только рассмеялся, радуясь успеху своей затеи:
— Если мне москвичей удалось попугать, то что будет с дикими татарами! При виде такого чудища бросятся врассыпную и передавят друг друга!
Однако снова поползли по Москве слухи о том, что сильно не тверд государь в православной вере. Напрасно Димитрий по совету Басманова совершил шествие на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, напрасно проявлял неустанную заботу об изготовлении церковных книг, торопя известного печатника Ивана Невежина. Напрасно исправно посещал церковные службы и навещал матушку в монастыре.
Чтобы окончательно развеять все сомнения, Димитрий хотел было приказать, чтобы выбросили из Угличского собора останки мальчика, якобы поповского сына. Но Марфа, которая вроде бы действительно полюбила молодого царя как сына, вдруг превратилась в лютую тигрицу.
— Только осмелься! — шипела она, выставив вперед руки. — Ославлю так, что покатится твоя головушка!
Димитрий понял, что совершил непростительную ошибку, начал каяться, внешне они помирились, но Марфа больше никогда не была с ним сердечна. И опять слухи о самозванце поползли по столице…
— Шуйский мутит воду! — жарко убеждал Димитрия Басманов.
— Доказательства есть?
— Чует мое сердце, что корень зла в этой гадине!
Царь покачал головой:
— Не верю! После того как я простил его и снова приблизил, он — верный столп нашему трону!
…В Польшу собирали царских послов. Дьяк Афанасий Власьев принимал по описи многочисленные подарки, предназначенные для будущей царицы.
Городу Кракову, а точнее, его воеводе, Николаю Зебржидовскому, предназначался подарок со значением — необычайно красивый персидский ковер, на котором было изображено сражение. Знатным шляхтичам посылались дорогое вооружение и конское снаряжение.
Воеводе сендомирскому Юрию Мнишеку дьяк вез сто тысяч рублей. Однако это вовсе не означало, что Димитрий вдруг собрался сдерживать те обещания, что столь щедро надавал в Польше. Эти деньги предназначались для найма жолнеров, которые должны были войти в состав будущего войска царя. И вскоре в Москву прибыл первый отряд шляхтичей, которым командовал Матвей Доморацкий. С приездом жолнеров вновь возобновились воинские учения.
Царь слал все новые нетерпеливые письма Юрию Мнишеку и Афанасию Власьеву, торопя приезд невесты. Отнюдь не только пылкая любовь к Марине, но трезвый политический расчет руководил Димитрием. Он надеялся, что этот брак сблизит его с родовитой польской шляхтой, которая с восторгом преподнесет ему польскую корону.
В ответных письмах Мнишек призывал царя к терпению — рокошь еще не набрала необходимой силы. Намекнул будущий тесть и о необходимости блюсти целомудрие. До самборского замка дошли слухи о дочери Годунова, которая, по словам Мнишека, была чересчур прекрасна, чтобы не вызвать подозрений. Через несколько дней горько рыдающую Ксению, получившую вместе с монашеской рясой новое имя — Ольга, отправили в Кирилловский монастырь, расположенный на Севере, почти в пятистах верстах от Москвы.
Наконец шляхтич Липинский привез от Власьева весть об обряде обручения Марины, о пылкой речи Льва Сапеги, горячо поддержавшего этот союз, о роскошном пире, где король оказал высокую честь царскому послу, усадив Власьева вместе с Мариной рядом с собой, по правую руку. Подробно следовал перечень подарков, преподнесенных обрученной. Такого великолепия не видывали и польские королевы: сапфировый крест, жемчужный корабль, плывущий по серебряным волнам, золотой бык, внутри набитый алмазами, и чудо из чудес — золотой слон, на спине которого были установлены затейливые часы с фигурками людей, танцующими под мелодичную музыку флейт. Липинский рассказал и о том, о чем не было написано в письме: когда начались многочисленные тосты, дьяку пришлось изрядно попотеть: при каждом упоминании имени царя он с немалым грохотом раболепно падал ниц.
Димитрий очень развеселился и велел поблагодарить дьяка за удачно выполненную миссию. Письмо с изъявлениями царской милости повез его личный секретарь Ян Бучинский. Вез он также двести тысяч червонцев Юрию Мнишеку для снаряжения торжественного поезда царской невесты. Имел личный секретарь императора, однако, и тайное поручение — встретиться с вождем рокошан Николаем Зебржидовским, чтобы условиться о совместных действиях.
Вернулся Бучинский в Москву через месяц с тревожными новостями. Жак де Маржере, от которого у Димитрия давно уже не было никаких тайн, присутствовал при рассказе секретаря.
— Мне не хотелось бы расстраивать тебя, государь, особенно когда ты готовишься к радостному событию — свадьбе, но мой долг предупредить — здесь зреет заговор.
— Надо было ехать в Краков, чтобы узнать, что делается в Москве, — деланно рассмеялся Димитрий. — Впрочем, думаю, что жало нам удалось вырвать. Ты помнишь Шарафетдинова? Ну, того, что Федора Годунова… отправил на тот свет?
Бучинский молча кивнул.
— Так внезапно бросился на меня с ножом! Не знал, что я постоянно ношу кольчугу под ферязью. А мой верный Жак тут же проткнул его шпагой. Чтобы не было лишних разговоров, труп сунули под лед. Жаль, конечно, что у полковника столь твердая рука. Мы не успели узнать, кто его нанял. Может, ты узнал в Кракове?
— К сожалению, мне мало что удалось узнать.
— Так, может, и заговора нет?
— Нет, есть! — твердо сказал Бучинский.
— Рассказывай все, что узнал.
— Когда я приехал в Самбор, меня, признаться, удивило, что Мнишек явно не спешит со сборами. То ему помешала свадьба короля, то русские платья для коронации Марины не готовы. Потом, когда я тайно повстречался с Зебржидовским, все это стало понятно. Самый мощный твой союзник, Лев Сапега, который, не стесняясь присутствия короля, на обручении Марины громогласно назвал тебя царем, переметнулся в стан Сигизмунда.
Димитрий, вспомнив давний разговор, посмотрел на Маржере:
— Видать, какую-то выгоду почуял!
— Почуял Сапега другое, — возразил Бучинский. — Когда Зебржидовский приехал к нему для объяснений, гетман ему сказал, что в рокоши участвовать не будет, потому как ему доподлинно известно, что дни твоего царствования сочтены.
— Вот как? — криво ухмыльнулся Димитрий. — Какая же гадалка ему нагадала?
— Имени гетман не открыл. Сказал только, что был у него тайный гонец из Москвы, от бояр. Хотел было к королю попасть, да у того медовый месяц с Констанцией, племянницей кесаря, никаких дел не ведает. Вот он и пришел к Сапеге.
— Зачем?
— Чтобы понять, зачем король дал русским такого негодного правителя — в православии некрепок, постов не соблюдает, распутничает…
Димитрий, придя в ярость, забегал по комнате, пиная шныряющих под ногами собак:
— Ох, доберусь я до этих умников! Песья кровь!
— И просят нижайше те бояре короля, — невозмутимо продолжил Бучинский, — чтобы не поддерживал он тебя в случае твоего свержения…
— Вот им, — сделал непристойный жест Димитрий.
— А чтобы короля задобрить, просят заговорщики его согласия, чтобы на престол возвести сына королевского Владислава.
— Этого щенка? Он же католик! — Приступ ярости царя сменился смешливостью. — Ну, мудрецы толстопузые! Дознаться бы, кто это осмелился такое удумать!
— Я думаю, что это интриги Шуйского! — твердо сказал Бучинский.
— Думаешь или знаешь? — испытующе глянул царь.
— Думаю. Ведь я предупреждал, не возвращай его ко двору!
Димитрий отмахнулся со смехом:
— Что вы с Басмановым этого старого дурня боитесь? Согбенный, глаза слезятся, улыбка постная. Кто его послушает? Уж скорее способен на такое Васька Голицын. Вижу, таит он на меня обиду с тех пор, как я Нагого, а не его сделал конюшим, первым лицом в государстве!
— Он же первый прибежал к тебе под Кромами! — напомнил Маржере.
— Вот-вот. Запомни, мой верный Жак, кто раз изменит, изменит и второй. Молод, воин знатный. За таким могут пойти. Впрочем, я и его не боюсь. Петька Басманов, если что, измену за версту почует. Да и ты, Жак, со своими гвардейцами целой армии стоишь. Пусть только сунутся! И покровителю ихнему, Сигизмунду, мы кровь испортим. Как Зебржидовский, не передумал?
— Рвется в бой.
— Ну и отлично. Мы с ним и без Сапеги обойдемся…
На совете Димитрий держался по-прежнему. Был весел, приветлив, не упуская случая посмеяться над кем-нибудь. По-прежнему удивлял бояр-тугодумов неожиданностью своих решений. Когда он принимал делегацию терских казаков, все были уверены, что никому из посланцев голытьбы не выйти живым из Кремля. Еще бы! Голодранцы в присутствии царя завели неслыханные по дерзости речи. Они уверяли, будто у них на Тереке объявился племянник Димитрия, сын его старшего брата Федора, царевич Петр. И сказку складно складывали: деи, царица Ирина родила в 1592 году мальчика Петра, хитроумный Годунов подменил его девочкой Феодосиею, которая вскорости померла. Мальчику удалось чудом спастись, бежать на Терек, откуда он шлет своему дяде привет и пожелание служить ему верой и правдой!
Возмущенные бояре начали громко хулить самозванца — многие из них были очевидцами рождения Феодосии и ее ранней смерти. Никакой подмены быть не могло. Тем более что казаки даже и не заботились о правдоподобии: наследнику, если бы таковой и существовал, должно было быть лишь четырнадцать лет, а тому, кто претендовал на эту роль, перевалило за двадцать.
Накричавшись вдосталь, бояре уставились на царя в ожидании приговора, однако Димитрий продолжал улыбаться как ни в чем не бывало. Будто не замечая всей нелепости выдумки, он поинтересовался, сколько казаков может привести с собой новоявленный племянник. Узнав, что более четырех тысяч, явно обрадовался и приказал немедленно послать гонца к «племяннику» с любезным приглашением прибыть поскорее в Москву. Более того, всем воеводам по пути следования казаков предписывалось снабжать их продовольствием.
— Но это же самозванец! — неистовствовали бояре. — Грязный вор и обманщик!
— Вот мы и посмотрим! — с улыбкой парировал Димитрий. — Пусть здесь, в совете, он и докажет нам свое царское происхождение.
Наиболее проницательные поняли, что Димитрий не хочет раздувать пламя мятежа на Волге, что неминуемо случится, если казнить послов. А царь шепнул стоящему рядом Петру Басманову:
— Мне лишние четыре тысячи воинов в походе не помешают!
Да, царь готовился не только к свадьбе, но и к войне. По его тайному указу к Москве двигался двенадцатитысячный отряд новгородцев. К Москве тронулся и двухтысячный отряд польских гусар и пехотинцев, якобы сопровождавший поезд царской невесты. Василий Масальский, встретивший по приказу царя поезд у Смоленска, передал Юрию Мнишеку его просьбу: пусть Марина в сопровождении фрейлин и двора движется не торопясь, услаждая себя увеселениями, а воевода чтобы со своими жолнерами поспешил. Царю не терпелось увидеть и испытать в деле нанятое им воинство.
Наконец 4 мая воевода сендомирский торжественно въехал в Москву. Наутро он в сопровождении брата, сына и зятя — Константина Вишневецкого был проведен в царские покои. Димитрий ожидал его, сидя на троне, сделанном из чистого золота, под балдахином, составленным из четырех щитов, увенчанных великолепным двуглавым орлом, сидящим на шаре. Рядом с троном стояли рыцари в белых бархатных одеждах, отделанных горностаем, опоясанные золотыми цепями, с железными бердышами на золотых рукоятках. Слева от царя с обнаженным мечом стоял его мечник Михаил Скопин-Шуйский. Справа в окружении высшего духовенства сидел патриарх, перед которым слуги держали золотое блюдо, на нем лежал крест, усыпанный драгоценными каменьями. Слева, сзади трона сидели и стояли бояре, члены Государственного совета.
Юрий Мнишек ловко извлек из рукава свиток с заранее написанной речью и зачитал ее с большим воодушевлением. Чувствовалось, что над ней усердно поработал человек, несомненно обладающий поэтическим даром:
— «Язык не в состоянии изъяснить моего восхищения! Я могу только поздравить ваше императорское величество и в знак неизменной глубочайшей покорности с благоговением облобызать ту руку, которую прежде я жал с нежным участием хозяина к счастливому гостю. Молю Бога всемогущего даровать вашему величеству здравие и мир, во славу Его святого имени, в страх врагам христианства, в утешение всем государям европейским; да будете красою и честью этой могущественной державы!»
По свидетельству участников этой трогательной сцены, от умиления царь «плакал как бобр». С ответными словами приветствия от имени царя выступил Афанасий Власьев. Чтобы сделать гостям приятное, царь вышел к обеду в одежде польского гусара, что вызвало явное неудовольствие бояр, не привыкших к кургузым кафтанам. Димитрий ел мало и почти не пил, но радушно угощал присутствующих. Сто пятьдесят стольников, в том числе и князь Пожарский, вносили одно блюдо за другим и непрерывно наполняли чаши гостей. Многие польские офицеры захмелели, даже будущий тесть, на радостях допустивший лишнего, почувствовал себя дурно и вынужден был досрочно покинуть столовую избу.
На следующий день царь с ближайшими соратниками вел переговоры с Мнишеком в узком кругу, уточняя свадебный церемониал, а также будущие военные действия. Сделать это царь предпочел сейчас, пока поезд невесты находился в Вяземах. Ведь Марину сопровождали в виде особой чести два королевских посла — Николай Олешницкий и Александр Гонсевский. А то, что говорилось в царских палатах, отнюдь не предназначалось для королевских ушей.
…Такого великолепия москвичи еще не видывали. Каждый, кто имел лошадь, обязан был выехать в восемь часов утра к Можайской дороге — пути следования царской невесты.
Когда колымага с невестой, миновав Воскресенский мост и стену Китай-города, въехала на Красную площадь, с помоста, устроенного над воротами Никольской башни Кремля, грянул оркестр, составленный из флейтистов, трубачей и литаврщиков, создавший дикую и пронзительную какофонию звуков, так что лошадей было трудно удержать.
В Кремле Марину с ее фрейлинами препроводили в Вознесенский монастырь, где ее встретила царица Марфа и отвела в специально приготовленные палаты, украшенные отнюдь не по монашескому чину. Юрий Мнишек со своими родственниками и слугами разместился во дворце, некогда принадлежавшем Годунову. Польские солдаты отправились в свои казармы, в Замоскворечье.
На следующий день перед обедом придворные невесты были приглашены в Грановитую палату для представления государю. Бравые шляхтичи шли веселой гурьбой, с любопытством крутили головами, осматривая восточную роскошь дворца, не обращая внимания на строй неподвижно замерших дворян, одетых в одинаковые парчовые армяки и мохнатые шапки из черно-бурых лисиц, отпускали весьма непочтительные замечания:
— Окошки-то какие маленькие!
— Зато ковры, поглядите, все турецкой работы!
Их ввели в большой, сумеречный из-за малого освещения зал с массивным столбом посредине, поддерживавшим сводчатый потолок. И сам столб, и стены, и потолок были расписаны золотом. Воевода Юрий Мнишек призвал своих придворных к молчанию. Однако они по-прежнему вертели головами, осматривая непривычную обстановку. Царь сидел на возвышении, к которому вели три ступени, обитые красным сукном. Сам трон, узкий и высокий, напомнил полякам, по словам одного из остроумцев, те кафедры, с которых профессора читают в европейских академиях. Над головой царя висела кисть с огромным красным камнем. Царь был одет в армяк, весь прошитый жемчугом. На голове корона в виде замка, усыпанная драгоценностями. Вдоль стен пятью ярусами располагались лавки, также обитые красным сукном. На нижних сидели самые родовитые бояре, вверху стояли менее заслуженные. Справа от царя на небольшом кресле сидел патриарх в тиаре, унизанной жемчугом.
Бояре и духовенство смотрели на веселых, уже с утра подвыпивших панов в кургузых одеждах угрюмо, с мрачной подозрительностью. Царь же, напротив, милостиво улыбался гостям. Юрий Мнишек передал дьяку Афанасию Власьеву список придворных. Каждый, кого выкликал дьяк, подходил к царю для целования руки, затем отступал к стене, давая проход следующему. Когда обряд рукоприкладства завершился, с речью к царю обратился гофмейстер царицы Мартын Стадницкий. Афанасий Власьев громко переводил цветастые фразы красноречивого поляка:
— Приятели и весь двор светлейшей девицы и супруги, нареченной вашего царского величества, приветствуют устами моими ваше цезарское величество, прежде всего земной поклон отдавши Господу Богу, который пожелал ваше цезарское величество породнить с народом, мало разнящимся в языке и обычаях, равным силою, сердцем и жаждою к бою, от века славным в храбрости!
Покосившись на угрюмых бояр, Стадницккй с вызовом сказал:
— Если же кому кажется новшеством, что это из Польши, то Господь Бог уже от давних времен в государстве вашего цезарского величества восславил эту свою волю: прадед или дед — не твердо держу это в памяти — имел в священном супружеском состоянии дочь Витольда. Да разве священной памяти отца вашего цезарского величества не Глинская родила? В какое же это время предкам из такой крови вашего цезарского величества жилось несчастливо?
Димитрий с потаенной усмешкой поглядел на насупившихся бояр: ловко шляхтич ответил на их потаенное неодобрение предстоящей свадьбы.
Стадницкий тем временем с пафосом продолжал:
— Итак, остается твердая надежда на счастливый, с Божьей милостью, результат, Отец Господь Бог чудесным образом обратил сердце вашего цезарского величества к тому народу, с которым предки ваши роднились и ты сам благоизволишь породниться. Уже теперь погаснет та притворная дружба из сердец обоих народов. Уже то суровое, истинно нехристианское пролитие крови между нас престает. Уже, с Божьим благословением, общие силы того и другого народа мы будем с успехом обращать против поганых, чего не только мы, но и все христианство с великим вожделением ожидает…
В упоминании об общих силах Димитрий уловил намек хитроумного поляка на возможность объединения двух государств под одной державной рукой. По поручению государя Власьев сказал несколько благодарственных слов, и гостей усадили на принесенные лавки возле столба.
Дьяк Афанасий Власьев громогласно возвестил:
— Господа послы пресвятейшему и непобедимому самодержцу и великому государю Димитрию Ивановичу, Божьей милостью цезарю и великому князю всея Руси и иных татарских царств и иных многих государств, московской монархии принадлежащих, государю, царю и обладателю, от пресветлейшего и великого господина Сигизмунда Третьего, Божьей милостью короля Польского и великого князя Литовского и иных, послы Николай Олешницкий и Александр Гонсевский вашему императорскому величеству челом бьют.
При этих словах послы, сняв шапки, поклонились. Вперед вышел Олешницкий и произнес с достоинством, граничащим с вызовом:
— Пресветлейший и великий государь Сигизмунд Третий, Божьей милостью король Польский и великий князь Литовский, Русский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Киевский, Волынский, Инфляндский, Эстонский и иных, соизволил прислать нас, послов своих: меня, Николая Олешницкого из Олешницы, каштеляна малаговского, и господина Александра Корвина-Гонсевского, старосту велиженного, дабы мы, именем его королевского величества, всемилостивого нашего государя, вашему пресвятому государскому величеству, Божьей милостью великому государю и, — в этом месте посол сделал особое ударение, — великому князю Димитрию Ивановичу всея Руси, Володимирскому, Московскому, Новгородскому, Казанскому, Астраханскому, Киевскому, Тверскому и иных, братский поклон учинили, здоровье вашего пресвятого государского величества уведали и оглядели и счастливого царствования на престоле предков вашего государского величества пожелали, приязнь и братскую любовь его королевского величества государя нашего вашему пресветлому государскому величеству объявили, на что и верительную грамоту дальнейшего посольства от его величества короля, премилостивого государя нашего вашему пресветлейшему государскому величеству вручаем!
С лица Димитрия внезапно слетела благостная улыбка, с которой он слушал приветствие. Нахмурившись, он резко повернулся к дьяку:
— Я не ослышался? Сигизмунд меня только великим князем называет? Или посол оговорился? Посмотри, как в грамоте записано.
Власьев, взяв протянутый ему Олешницким свиток, быстро пробежал его глазами, подошел к царю и негромко сказал:
— И в грамоте так — только великий князь.
Димитрий побелел от нанесенного ему оскорбления. Да, Бучинский прав: Сигизмунд знает о готовящемся против него заговоре и сделал ответный ход. Не признать за ним, Димитрием, не только императорского, но и даже царского титула! Причем оскорбление нанесено публично, в присутствии цвета польской аристократии, в присутствии его бояр.
Димитрий ткнул перстом в сторону свитка:
— Такую грамоту мне, императору, принимать неприлично. Верни немедля, пусть катятся к чертям собачьим!
Власьев испуганно взглянул на царя: ведь это тайна!
— Иди, иди, чего стал! — прошипел царь, не глядя в сторону послов.
Дьяк вышел вперед и, протянув поднос с лежащей на нем грамотой, сурово произнес:
— Николай и Александр! Вы пресветлейшему и непобедимому, Божьей милостью императору, великому государю и великому князю Димитрию Ивановичу, всея Руси самодержцу от пресветлейшего Сигизмунда Польского (лукавый дьяк, чтобы нанести удар побольнее, опустил слово «король») и великого князя Литовского вручили грамоту, на которой титула императорского величества нет. Так, какому-то князю всея Руси, а не императорскому величеству. Тут нет какого-то князя всея Руси, здесь только его императорское величество. Вы эту грамоту возьмите и возвратите своему государю.
Прижав к груди свиток, Олешницкий с показной учтивостью, сквозь которую прорывалось негодование, ответил:
— Мы, конечно, принимаем грамоту с признательностью и готовы немедленно с нею вернуться назад. Однако должен сказать, что еще ни от одного христианского монарха не наносилось такого бесчестия и его королевскому величеству, государю нашему, и нашей Речи Посполитой, какое в эту минуту наносится от вашего государского величества! Мы ехали сюда с такой радостью, чтобы передать полное доброжелательство нашего короля, а что мы получили? Мало того, что ты даже не захотел распечатать грамоту, чтобы узнать, что в ней написано, так лишил вдобавок нашего государя королевского титула, чтобы всю Речь Посполитую оскорбить.
Димитрий не выдержал, закричал в запальчивости:
— Не в обычае государю на престоле разговаривать с послами. Но и молчать невозможно, когда умаляют наши титулы. Ведь мы объявляли об этом не раз королю Польскому через наших посланников. Говорили мы и Гонсевскому, когда он был здесь прошлой осенью. Говорим и сейчас: мы не князь, мы не государь, мы не царь, но мы император в своих обширных государствах. Мы употребляем его не на словах, как это делают иные. Ни ассирийские и мединские монархи, ни римские цезари не пользовались этим титулом с большим правом и достоинством, чем мы. Чтобы мы были только князь и государь!
Димитрий снял корону, повертел ее в руках перед послами и снова водрузил на голову.
— Не только князей и государей, но Божьей милостью и королей мы имеем под собой, которые нам служат! Мы в этих полунощных странах не видим никого, равного нам в царствовании. И иметь не желаем, кроме Господа Бога, а затем — нас. Все монархи там императорским титулом нас наделяют, один король Польский чинит нам в том умаление…
Глаза Димитрия гневно сверкали, и он с угрозой продолжал:
— Когда польский король умаляет наши титулы, это не только нас, но и самого Бога, все христианство должно оскорбить! Мы объявили себя польскому королю, что в нас он имеет соседа, имеет брата, имеет приятеля такого, какого корона польская еще не имела; а теперь нам приходится беречься от короля Польского больше, чем от которого-либо отдаленного поганского монарха. Вижу, что замысел наш, который мы имели против поганых, придется обратить против польского короля. Свидетельствуем перед всемогущим Господом Богом, что не по нашей вине, а по вине польского короля может произойти пролитие христианской крови!
Бояре начали испуганно креститься, шепча друг другу: «Быть войне!»
Посол попытался сказать:
— Ваше величество благоволит знать, что его величество король царствует в вольной Речи Посполитой, в которой без согласия всех сословий ничего нового против прежних обычаев не вводится. Вопрос о ваших титулах должен рассматриваться на сейме. Я был на сейме всего один день, поэтому не знаю, как решилось дело.
— Зато я знаю, — проворчал государь, — чем сейм кончился. Знаю, что многие ваши вельможи советуют королю тех титулов нам не давать. Впрочем, нам не идет вступать с вами в многословные прения.
Наступила тягостная пауза. Неожиданно, нарушая этикет, к трону подскочил Юрий Мнишек, зашептал жарко царю в ухо:
— Если послы уедут, свадьба будет незаконной! Удержи их, государь! Еще не время вступать в открытую ссору с Сигизмундом.
Димитрий хмуро кивнул головой, соглашаясь, потом прервал перепалку Власьева с послами:
— Господин Олешницкий! Спрашиваем мы вас, если бы от кого-то было послано к вам такое письмо, на котором бы не было вашего дворянского титула, принял бы ты его или нет? Однако мы, зная расположение ваше в бытность нашу в государствах его величества короля, зная также, что ты желаешь быть нам доброхотом, мы желаем почтить тебя в государствах наших не как посла, а как нашего приятеля. Ну же, подойди к нашей руке, но не как посол!
Царь протянул руку, но Олешницкий остался на месте, борясь с самим собой. Наконец он умоляюще произнес:
— Пресветлейший, милостивый государь! Я признателен за то благоволение, которое ты, ваше пресветлое государское величество, изволишь оказать. Но так как ты, ваше пресветлое государское величество, желаешь принять меня не как посла, я не могу этого сделать.
Димитрий, мгновенно сменивший гнев на милость, рассмеялся:
— Шут с тобой. Иди, целуй руку. Принимаю как посла.
Подошел целовать руку и Гонсевский. Послы быстро, боясь, что царь вновь разгневается, отбарабанили заранее заученные речи.
В конце приема едва не вспыхнула новая ссора. Когда царь, отвечая требованиям этикета, учтиво справился о здоровье Сигизмунда, Олешницкий не преминул заметить, что, по обычаю, иные государи, спрашивая о здоровье короля, привстают, на что Димитрий тут же ответил, что, по русскому обычаю, государь привстает лишь по выяснении доброго здоровья.
Когда посол сообщил, что оставил Сигизмунда в добром здравии и благополучии царствующим, царь привстал со словами:
— Мы радуемся доброму здоровью польского короля, нашего друга.
При этом он не удержал недоброй усмешки. Затем дьяк зачитал по реестру, какие подарки послы привезли царю. В их числе были два турецких и один неаполитанский кони, золотая цепь на панцире, тринадцать бокалов, два позолоченных жбана, красавец пес британской породы. Охотничьей собаке Димитрий обрадовался особо, приказал псарям, ее приведшим, дать двести злотых на водку и два сорока соболей.
Прием послов, казалось бы, завершился благополучно, однако царь не пригласил их, как обычно, к обеду, послав лишь в знак своей милости к ним на подворье сто блюд на золотой посуде, а также обильное количество напитков. Сам же отправился обедать в свой дворец в окружении польских офицеров. Переодевшись в костюм польского гусара, он, уже не скрываясь, вел разговор о совместном выступлении против Сигизмунда.
Пока послы у крыльца ожидали, когда подадут их лошадей, Гонсевский вроде бы невзначай задержался возле полковника Маржере, вышедшего проводить гостей.
— Вы — Якоб Маржерет? — спросил он. — По-моему, я вас видел еще в свой первый приезд.
Тот кивнул головой, приняв слова посла лишь как проявление светской любезности. Гонсевский тем временем произнес негромко, но отчетливо:
— Вам передает привет Лев Иванович Сапега.
Маржере внутренне напрягся, однако внешне остался невозмутимым.
— Нам надо переговорить.
— Это опасно. Особенно сейчас.
— Хорошо, вы могли бы прислать кого-то?
— Помните голландского купца, что передавал мои письма?
— Такой разбитной малый?
— Это Исаак Масса. Он навестит вас вечером.
…Исаак Масса пребывал в дурном настроении. Он так рассчитывал подзаработать на царской свадьбе: ведь каждый вельможа захочет одеться понарядней. Однако откуда ни возьмись налетели со всей Европы, как пчелы на мед, купцы с разнообразным товаром. Исаак Масса усердно ругал про себя легкомыслие государя, разрешившего беспошлинную торговлю. В таких условиях его солидная голландская фирма по продаже шелка и сукна может разориться.
С утра маленький розовощекий Исаак уже обежал все дворы, где остановились иноземные гости, и сейчас огорчительно бормотал, привычно ведя счет с присущей ему аккуратностью:
— Только Андрей Натан привез из Аугсбурга товаров на триста тысяч флоринов. И еще двое из Аугсбурга от купца Филиппа Гольбейна — на тридцать пять тысяч флоринов. Из Милана Амвросий Челари прибыл с товаром на шестьдесят шесть тысяч флоринов. А поляки! Даже знатные из них не гнушаются торговлей. Знатный дворянин, камердинер принцессы Анны, сестры короля, привез от нее для продажи царю драгоценностей на двести тысяч талеров. А другой дворянин, Вольский, продает боярам дорогие шитые обои, всего на сто тысяч талеров! Нет, сплошной разор. Мои шелка падают в цене!
Горестные размышления молодого негоцианта прервались от звука твердых, уверенных шагов. Так и есть — в дверях лавки показалась знакомая высокая фигура в красном бархатном плаще.
— Господин полковник! Какая честь! — Исаак выскочил из-за длинного стола с тканями, склоняясь в поклоне, изящности исполнения которого явно мешало уже солидно намечавшееся брюшко купца, любившего сладко поесть.
— Ладно, ладно! Какие церемонии между друзьями! — насмешливо отмахнулся Маржере, усаживаясь в кресло и вытянув длинные ноги в высоких сафьяновых сапогах.
— Брабантские кружева привезли, специально для вас! Они украсят ваше мужественное лицо, сделают его неотразимым при купидонских делах!
— Кружева — это хорошо! — рассеянно согласился Жак, оглядывая тем временем просторное помещение лавки.
Убедившись, что они одни, он вдруг весело взглянул на Массу:
— Что-то не густо идет торговля, а, Исаак? В городе суматоха, все как с ума посходили, готовят праздничные наряды к свадебным торжествам, а у тебя пусто?
Исаак скорчил жалобную гримасу:
— С этими поляками понаехало столько купцов, со всех концов света.
— Не похоже на тебя, мой старый друг, чтобы ты так легко отступился. Где твоя всегдашняя ловкость и предприимчивость? — продолжал подсмеиваться в усы Жак.
— Что вы мне посоветуете?
— Помнится, ты учил меня русскому языку, не так ли? Так вот, у русских есть хорошая поговорка: «Как потопаешь, так и полопаешь!» Зачем же сиднем в лавке сидеть? Надо пройти по всем богатым дворам…
— Мои покупатели из знатных москвичей не спешат с приготовлением к свадьбе, говорят, пусть царь одаривает! А то он только к панам щедрый.
— А ты постучись в другие ворота!
— К полякам? — недоверчиво спросил Масса. — У них свои купцы.
Маржере решил, что пора говорить серьезно:
— Когда ты передавал мои письма Сапеге в Вильно, встречал ли ты в его замке некоего Гонсевского?
— Конечно!
— Узнаешь его в лицо, не перепутаешь?
Масса сделал обиженное лицо:
— Как можно! Тем более я был в толпе, когда выезжали королевские послы. Он ехал вторым за паном Олешницким.
— Точно! — удовлетворенно кивнул Маржере. — Так вот, немедленно возьмешь несколько образцов тканей и пойдешь на посольский двор. Тебя, купца, стрельцы впустят. Гонсевский тебя ждет, хочет передать мне что-то важное. Но в Кремль не ходи. Я сам зайду вечером за кружевами.
…Гонсевский принял купца, как только вышел из-за обеденного стола. Качество царских блюд, сытных, но однообразных, без столь любезных желудку шляхтича изысканных соусов, не способствовало улучшению его состояния, раздраженного исходом переговоров с царем. Морщась от изжоги, посол мрачно бросил:
— Ну, разворачивай, показывай свой московский товар.
— Это самые лучшие шелка, привезены нами из Лиона. А это добротное сукно делают английские ткачи. В платье из такой ткани не страшны самые лютые московские морозы, — певуче говорил Исаак.
Посол щупал, мял ткани, пробовал их на разрыв, косясь на торчащего в дверях дворецкого, наконец сказал:
— Эй, Стас! Сходи за моей шкатулкой с деньгами. Да распорядись там, на кухне, чтобы сделали мне какой-нибудь напиток от изжоги.
— Моченая брусника помогает!
— Давай бруснику.
Только дворецкий удалился, Гонсевский отшвырнул ткань и уставился на Массу.
— Передай французу — их королевское величество отвернуло свое милостивое лицо от Димитрия!
— Что это значит? — спросил Исаак. — Что полковник должен сделать?
— Он должен об этом сказать князю Шуйскому.
— У полковника одна голова на плечах. Стоит ему только войти на подворье Шуйского, как ее не будет. Уж Басманов об этом позаботится.
— А ты сможешь? Ведь ты купец?
Масса хитро улыбнулся:
— Ваше сиятельство правильно сказал, что я только купец, и хотел бы знать, сколько получу за эту услугу. Ведь одно дело — просто передать письма, а другое — самому участвовать, да еще неизвестно в чем.
Гонсевский поколебался, видимо борясь со скупостью, наконец решился:
— Хорошо, если дело будет сделано, получите с французом сто тысяч флоринов. Ну и, конечно, милость королевскую.
— Это значит — право на беспошлинную торговлю в польских и литовских землях?
— Безусловно!
— Хорошо, я согласен. Однако я человек простой и эзопов язык понимаю плохо. Пусть ваше сиятельство объяснит толком, в чем заключается дело и о чем говорить с Шуйским.
Гонсевский подошел к двери, захлопнул ее поплотнее и приблизился к купцу, вновь взяв ткань из его рук:
— Шуйский сообщил с нарочным, что в Москве составлен заговор против Димитрия. Просил, чтобы Сигизмунд не препятствовал и дал согласие в случае благополучного исхода, чтобы на Русское царство пришел королевич Владислав. Так вот — король согласен.
Исаак напряженно слушал, потом натянуто засмеялся:
— Ничего не получится.
— Почему?
— Царский двор полон вооруженных поляков.
— Поляков я беру на себя.
— А триста головорезов Маржере?
— Маржере должен знать, что произойдет, если Димитрий узнает о его службе Сапеге.
— Значит?
— Значит, в урочный час его с телохранителями не должно быть во дворце.
— Это невозможно! Царь не ложится, не проверив посты.
— Такие умные головы, как ваши, что-нибудь придумают. Скажи лучше, как ты попадешь к Шуйскому? Нужно, чтобы он тебе поверил.
— Думаю, что со мной он будет откровенен, — самоуверенно заявил Масса.
— Поверит твоей хитрой роже? — хмыкнул Гонсевский и снова поморщился от изжоги.
— Я в хороших отношениях с одним отважным офицером из его свиты. Этот офицер был тяжело ранен под Кромами и только сейчас начал выходить из дому. Пока он болел, я помогал ему бальзамами. А главное, он во время болезни учился рисовать. И вот нарисовал мне подробный план Москвы. Подобного ему я не видел…
— И что же? — Глаза Гонсевского хищно блеснули. — Где этот план?
— Этот план — у принца Оранского, моего государя. Да будет тебе известно, что его картографы — лучшие в мире.
— Постой, так…
— Да, офицер продал план мне, хотя и понимал, что очень рискует. Русские ведь очень подозрительны! Но сумма была так велика…
— Ясно. Значит, он полностью в твоей зависимости?
— Ну зачем так прямо? Просто он мне очень доверяет и беспрекословно окажет протекцию для визита к Шуйскому.
— Действуй. Сообщишь мне, когда заговорщики намерены выступить. Мой совет — сразу же после свадьбы, пока царь будет увлечен своими амурными делами.
Неожиданно он замолчал, рывком распахнул дверь, за которой стоял дворецкий, с невозмутимым видом державший в одной руке шкатулку, в другой — кувшин.
— Ты чего, Стас? Долго так стоишь? — с подозрительностью спросил Гонсевский.
— Нет, только что подошел. Раздумывал…
— О чем? — с еще большей подозрительностью спросил Гонсевский.
— Да чем стучать в дверь, — флегматично пояснил камердинер. — Шкатулку можно попортить, а кувшин — разбить. Разве что лбом? Он у меня крепкий!
Гонсевский, а за ним и Исаак Масса расхохотались.
— Находчивый у вас слуга, — заметил купец.
— Да, звезд с неба не хватает, зато готов за хозяина лоб расшибить, — продолжал смеяться Гонсевский, глотая прямо из кувшина кисленький напиток. — Я беру весь твой товар, купец, и принеси мне еще те ткани, что обещал.
— В следующий раз я непременно вам покажу изумительные кружева из Брабанта, — поклонился гость.
Вечером, как и обещал, Маржере вновь был в лавке голландца. Его встретила жена, такая же маленькая и пухленькая, как и сам хозяин.
— Исаак еще не приходил! — сообщила она встревоженно. — Может, поляки пьяные напали? Вон как они буйствуют на улицах!
Маржере, делая вид, что слушает болтовню женщины, тревожно думал: неужели купца схватили? Хотя Масса — такой осторожный и ловкий малый. Он было повернулся, чтобы уйти, как едва не столкнулся с вбежавшим в лавку запыхавшимся толстяком.
— Прошу извинить меня, господин полковник! Такая клиентура привередливая пошла. То не этак, то не так! Клара, приготовь бутылочку вина для нашего высокого покровителя! Мы пройдем в заднюю комнату, а ты побудь здесь!
Видно было, что важные вести буквально переполняют негоцианта, и он за руку потащил Маржере к двери, ведущей на семейную половину. Плюхнувшись за стол и сделав жадный глоток из венецианского бокала, он испуганно уставился на Маржере, причитая:
— Что будет, что будет!
Тот неторопливо цедил вино из своего кубка, бесстрастно глядя на взволнованное лицо собеседника.
— Хорошо, что я сам пришел сюда. Представляю, какой переполох ты бы учинил, если бы появился в казарме с таким лицом!
— Заговор, боярский заговор! — выпалил Исаак.
— Я знаю, — столь же бесстрастно заметил Маржере. — Кто во главе?
— Шуйский, Голицын и Татищев. Я их застал всех вместе! Они очень обрадовались поддержке Сигизмунда…
— Это Гонсевский тебе сказал? — быстро спросил француз. — Так я и знал. Сегодня на приеме он вел себя вызывающе, будто вел дело к войне… Что он еще велел передать боярам?
— Что постарается, чтоб поляков не было, когда заговорщики придут в Кремль. Но еще больше их обрадовало, что не будет твоих алебардщиков…
Маржере вскочил как выпрямленная пружина:
— Гонсевский выжил из ума! Я за Димитрия их всех уничтожу.
Масса опустил голову и печально вздохнул.
— Что ты вздыхаешь?
— Гонсевский предвидел и это. Он сказал: «Передай Маржере, что царь будет знать о его службе Сапеге!»
— Димитрий не поверит. Он меня любит!
— Гонсевский сказал, что у него есть твои письма. Те, что я отвозил в Литву.
Полковник плюхнулся, загремев шпагой, на лавку.
— Это ловушка. Что же мне делать?
— Хочешь дружеский совет? Тебе надо заболеть в этот день.
— Они же его убьют!
— Голицын сказал, что, если Димитрий докажет, что он действительно царский сын, ни единого волоса не упадет с его головы. А если самозванец, отправят в монастырь.
— Ты не веришь, что он подлинный сын Ивана Жестокого? — воззрился на купца Маржере.
— Не только не верю, а точно знаю, — хитро улыбнулся Исаак.
— Каким образом?
— Вот на этом самом месте сидел недавно Басманов.
— Ну и что?
— Он любезно согласился попробовать нового заморского вина. Крепче водки. Ром называется. Так вот, когда Басманов выпил изрядно, то начал меня было выспрашивать, нет ли каких слухов среди купцов о царе-батюшке. Я так осторожненько сказал, будто действительно ходят разговоры среди приезжих о самозванстве Димитрия. И он вдруг говорит, что Димитрий не тот, за кого себя выдает. Но он наш государь, и мы все обязаны ему служить! Вот так-то!
— Может, он хотел тебя проверить? Басманов хитер! — возразил Маржере. — А я верю, что он царевич.
— Почему?
— Я много повидал государей разных. У Димитрия властвовать — в крови. Так не может себя вести простой смертный.
— Значит, твоему Димитрию ничто не угрожает?
— Не верю я в клятвы бояр! — усомнился Маржере.
— А куда им деваться? — горячо заспорил Исаак. — Ведь они все присягали ему. Что они народу скажут?
— Они и Федору присягали. Тот же Голицын, который потом был среди его убийц.
— Среди заговорщиков не только Голицын. Есть и благородные люди, что не позволят…
Маржере с сомнением продолжал качать головой, затем поднес бокал ко рту, дрожащая рука выбила на зубах стеклянную дробь.
— Когда?
— В свадебную ночь. Хотя у них не все готово. Они ведут переговоры с новгородским войском. Воеводы Катырев и Бельский, недруги Димитрия, позаботились, чтоб в ополчение попали им недовольные. Шуйский тайно поехал к новгородцам. Они должны будут в ночь заговора поменять все стрелецкие посты на всех воротах города и Кремля.
…Их императорские величества тем временем в беззаботном веселии готовились к свадьбе.
Нетерпение заставило Димитрия сделать еще одну непоправимую ошибку: свадьбу он назначил на четверг, накануне Николина дня. Бояре, обычно строптивые, на этот раз смолчали. Не к добру! Зато новгородцы по их навету уверились точно: на троне — антихрист!
Затемно, при свете литых свечей, которые несли сто московских слуг, Марину перевезли в царские чертоги, а в час дня по всей Москве затрезвонили колокола. Широко распахнулись тяжелые железные двустворчатые двери Фроловских ворот. Однако стрельцы пропускали с выбором: только именитых бояр и дворян, польских панов со слугами да нарядно одетых купцов. Простой люд, тоже принарядившийся, толпился на Красной площади, питаясь слухами.
— Слышь, сначала повели царя и царицу в Грановитую палату.
— А почему не в храм?
— Отец Федор, духовник царский, должен благословить корону царицы и бармы.
— А потом?
— Патриарх с митрополитами отнесет их в Успенский собор, где будет венчание…
Из Кремля донеслись пронзительные звуки труб и удары в барабаны.
Толпа заволновалась:
— Идут, идут!
Исаак Масса, пробившийся в первые ряды, крутил головой, жадно впитывая впечатления от красочного зрелища. Дорожка от Грановитой палаты до собора была устлана красным голландским сукном, которое продал предприимчивый негоциант в казну. Поверх сукна в два полотнища была уложена сверкающая на солнце темно-коричневая турецкая парча.
Первыми прошли, построившись парами, стольники царя в парчовых длинных кафтанах с высоким, в три пальца, ожерельем и в ермолках, сплошь покрытых жемчугом. У всех лбы, по случаю особо торжественного случая, соскоблены до синевы. Все они были без оружия.
За ними шли четыре рыцаря в белых бархатных костюмах, опоясанные золотыми цепями, и с массивными секирами на плечах. Великий мечник Михаил Скопин-Шуйский, одетый в парчовую шубу на соболях, шел перед царем, держа обеими руками длинный и широкий меч великих московских князей.
По обеим сторонам дорожки шли алебардщики Маржере, одетые в красные и фиолетовые костюмы с нарядной отделкой. А вот с крыльца спустился и сам царь — в парчовом, вышитом жемчугом и сапфирами одеянии, с массивной короной на голове и со сверкающими бармами на плечах. Его поддерживали за руки королевский посол Олешницкий и постельничий Федор Нагой. За ним шла царица, одетая по-московски: в парчовом вышитом прямоугольном платье до лодыжек, из-под которого были видны подкованные червонные сапожки. Распущенные черные волосы струились до плеч и были украшены великолепным алмазным венком. С правой стороны ее поддерживал отец, а с левой — княгиня Мстиславская в атласном платье и золотом кокошнике, широкое лицо согласно моде было густо намазано белилами и румянами. За ними шли дамы государыни и жены именитых сановников.
У входа в собор царя и царицу встретил патриарх с митрополитами, благословил и подвел к иконам, перед которыми Димитрий и Марина били челом. На высоком помосте стояли три низких бархатных престола без поручней: черный — для патриарха и красные — для жениха и невесты.
После молебна, который одновременно вело несколько священников, нараспев читавших молитвы по книгам, поляки поняли лишь часто повторяемое речитативом «Господи, помилуй», двое владык взяли корону, лежавшую на золотом подносе перед алтарем, и отнесли ее патриарху. Благословив и окадив корону, патриарх возложил ее на голову Марины и, благословив ее самое, поцеловал в плечо. В свою очередь царица, склонив голову, поцеловала его в жемчужную митру.
Затем митрополиты попарно стали сходить на помост и благословляли царицу, касаясь двумя перстами ее чела и плеч крестом, затем целовали ее в плечо, та отвечала, касаясь губами митры. В том же порядке происходило облачение ее в бармы.
Была брачная церемония вполне невинна, однако царь почему-то не захотел лишних глаз. Жених и невеста стали перед патриархом, который, вновь благословив новобрачных, дал им по кусочку пресной лепешки, затем протянул хрустальный бокал с вином. Царица пригубила его, а Димитрий выпил до дна и бросил бокал об пол. Но на мягком сукне он не разбился. Тогда патриарх, чтоб избежать дурной приметы, раздавил бокал каблуком на мелкие осколки.
Обратно шли во дворец тем же порядком. Среди бояр, шедших за молодыми, слышался неодобрительный ропот. Оказывается, Димитрий грубо нарушил обряд, не пойдя в алтарь за причастием. Не причащалась и царица, что вновь породило сомнение бояр в желании ее быть православной. Не улучшил их настроения и град золотых монет, которые бросал Власьев через головы молодых на толпу придворных. Монеты, специально отчеканенные к этому дню, на одной стороне изображали особу императора до пояса с мечом в руке, на другой — двуглавый орел, в груди которого находился единорог, вокруг по-русски был написан императорский титул.
Молодых проводили в опочивальню, сообщив, что свадебный обед состоится на следующий день в Золотой палате, что также вызвало неудовольствие среди ревнителей старых порядков: устраивать праздник в день поста — это ли не грех!
Весь следующий день на площади перед дворцом беспрестанно трубили в трубы тридцать трубачей, били в барабаны пятьдесят барабанщиков, звонил самый большой колокол на Ивановской площади, язык которого дергали двадцать четыре звонаря.
Обед начался поздно. Вход гостей застопорился из-за конфликта дьяка Грамотина с польским послом. Тот, памятуя о чести, которую оказал Сигизмунд Афанасию Власьеву, усадив его во время обеда по поводу обручения Марины за один стол с собой, потребовал подобной чести и для себя.
Маржере, встретивший со своими алебардщиками гостей в просторных сенях, видел, как растерялся дьяк и побежал советоваться с Власьевым. Тот вскоре вышел, круглое лицо его выражало надменность.
— Их цезарское величество велели сказать, что даже если бы сам римский император приехал на его свадьбу, то все равно сидел бы за отдельным столом!
— Но их величество король не погнушался и посадил тебя с собою рядом!
— Их цезарское величество, — невозмутимо парировал дьяк, — изволил сказать, что Сигизмунд поступил совершенно правильно, оказывая уважение в моем лице непобедимому императору. А ты всего лишь посланник короля.
Взбешенный Олешницкий, не желая больше унижать свою гордость, повернул к выходу, расталкивая остальных гостей. Его взгляд встретился с глазами полковника. Нахмурившись, посол выразительно поглядел на шпагу Маржере, мимикой требуя от него незамедлительных действий. Маржере слегка пожал плечами, показывая, что сигнала до сих пор не последовало. Тут кстати подвернулся и Исаак Масса, шедший в толпе приглашенных иноземных купцов. Протиснувшись к полковнику и якобы разглядывая золотую посуду, выставленную на двух столах вдоль стен, шепнул:
— Они еще не готовы. Скорее всего — дня через три-четыре.
В зале, расписанном золотом, что и послужило к его названию — Золотая палата, перед большим столом стояли тронные кресла — для царя побольше, для царицы поменьше.
Царь сидел в знаменитой шапке Мономаха, которую, впрочем, вскоре снял, оставшись в ермолке, унизанной жемчугами. Марина на этот раз уже была в польском платье с фижмами, однако с высокой короной на голове, водруженной накануне патриархом.
Двадцатичетырехлетний царь и восемнадцатилетняя царица, и так невысокие ростом, казались, сидя в огромных креслах, совершенными детьми. Ноги их болтались, не доставая до пола. Сердце Маржере сжалось при мысли о заговоре: «Как агнцы при заклании!» Но нет, никакой тени предчувствия беды не набегало на их надменные лица! Напротив, царь сделал повелительный жест приблизиться Димитрию Шуйскому. Когда тот подошел, молча указал ему на свои болтающиеся ноги. Раболепно кланяясь и едва не целуя сапожки царя, Шуйский бережно уставил его ноги на принесенную специальную скамеечку. Такую же процедуру с царицей проделала княгиня Мстиславская. А Димитрий улыбался, победно поглядывая на поляков: «Видите, в каком страхе и раболепстве держу я своих бояр!»
…Обед уже шел несколько часов, по раз и навсегда заведенному церемониалу. Хотя было выпито много, веселья не было. Царь, а особенно царица тяготились скучным ритуалом. К концу обеда перед государем были поставлены два подноса с квашеными сливами. Снова к нему подходили попарно стольники, и каждого Димитрий одаривал в благодарность за хорошую службу. В одном из стольников царь узнал Дмитрия Пожарского.
— А, удалец! Не скучаешь по воинской потехе?
— Скучаю, ваше величество.
— Ну, ничего. Скоро попробуем в деле вот этих молодцов! — улыбнулся царь, показывая на польских офицеров.
Приподнявшись и опершись на стол, Димитрий стал потчевать на прощание своих думных бояр, протягивая каждому чарку с водкой. Наконец после молитвы царь с царицей в сопровождении гостей отправились в свои покои. Здесь москвичи простились с царем, а полякам Димитрий дал знак остаться. Велел принести вина и пригласить музыкантов. Стряхнув с себя скуку официального обеда, царь стал необыкновенно оживлен и остроумен. Двигаясь по залу от одной группы поляков к другой с неизменной рюмкой из горного хрусталя, предлагал выпить за торжество Гименея. За ним следом бегал шут Антонио Реати, которого царский тесть выписал из Болоньи. Он смешно изображал лиц, которых высмеивал Димитрий.
— Ну разве можно всерьез считать императором австрийского Рудольфа? — говорил он. — Император должен блистать, должен как можно чаще показываться во всем великолепии народу, уметь быть красноречивым. А Рудольф? Мне мой Афанасий сказывал, что тот, скрывшись за своими пробирками, никого не принимает, боится, всюду видит измену. Император должен мужественно встречать опасность лицом к лицу, быть отважным воином!
Реати потешно изобразил Рудольфа, прячась за рядом золотых чаш, уставленных на столе.
— Да и ваш Сигизмунд не лучше! — сказал Димитрий, прерывая хохот.
Станислав Немоевский попытался обидеться за своего короля.
— Брось! — сказал ему царь, дружески положив руку ему на плечо. — Ну какой он славянин? Угрюмый швед и плохой вояка. Со своим дядей без моей помощи справиться не может. Знает только молитвы да танцы. Кстати, не стесняйтесь, если кому-то хочется потанцевать…
Князь Вишневецкий предложил руку одной из фрейлин царицы, они первыми вышли в круг в торжественном менуэте. Царь отступил к окну в окружении доблестных офицеров с чарами вина в руках. Смотрели они на молодого царя влюбленными глазами, выражая готовность хоть сейчас выступить под его знаменами против любого врага.
— Эх, жаль Александр Македонский жил много раньше! — мечтательно сказал Димитрий. — Это был настоящий полководец, вот с кем бы я померился силами! Но я продолжу его дело — и Персия и Индия будут в моей империи…
Внезапно он прислушался к какому-то неясному шуму, шедшему из сеней.
— Там кто?
— Твои телохранители и наши солдаты, — ответил Доморацкий.
— Хлопцы скучают, а господа веселятся, нехорошо. Надо как на поле брани — все поровну!
Он вышел в сени:
— Эй, парни! Вы должны выпить за здоровье императора и императрицы.
По его приказу солдатам и алебардщикам вынесли золотые кубки с вином, которые те стали быстро поглощать с бурными изъявлениями восторга.
На общем фоне смеющихся и орущих лиц Димитрий заметил одно угрюмое, принадлежащее его полковнику.
— Мой верный Жак! — воскликнул царь, поднося ему бокал. — Ты что, не рад счастию своего государя?
Маржере, обычно умеющий владеть своим настроением, при виде пышущего весельем молодого лица побледнел еще более:
— Что-то мне нехорошо, сир. Наверное, на обеде съел что-нибудь…
Царь поглядел пытливо снизу вверх на осунувшееся лицо француза.
— Тебе действительно нужно полечиться, мой верный Жак. Завтра я пришлю к тебе лекаря домой.
— А как же охрана? — со страхом спросил Маржере, понимая, что беспечность государя ведет его к гибели.
— Твои алебардщики на что? Впрочем, и они в таком количестве сейчас не нужны, когда торжества закончились. Для охраны шести дверей достаточно человек двадцать-тридцать. Отправляйся в постель, Жак, и восстанавливай силы. Через недельку мы проведем с гусарами учения, а там, глядишь, и в поход!
Польские солдаты, услышавшие последние слова царя и изрядно подогретые винными парами, выразили желание немедленно продемонстрировать свое воинское искусство.
— Турнир! Давайте проведем рыцарский турнир! — поддержали солдат и офицеры.
— Поединки не в русском обычае, — нерешительно возразил царь, хотя по глазам было видно, что предложение для его воинственной натуры было заманчивым.
— Так здесь нет русских, — убедил его Доморацкий, — некому и осуждать.
— Ладно, идем на двор, к конюшему. Дам для поединка своих лучших скакунов!
Польские офицеры высыпали во двор, каждый выбирая себе коня и соперника. Первыми выехали шляхтичи Щука и Ораневский с тяжелыми старинными щитами и тупыми копьями. По сигналу трубы во весь опор помчались навстречу друг другу. Копье Щуки оказалось более точным, угодив противнику в голову. Турецкий конь Ораневского остановился как вкопанный, а его пришлось выволакивать из-под ног коня и едва удалось привести в чувство.
Димитрий решительно пресек дальнейшие забавы, повторив то, что сказал и Маржере:
— Вы мне нужны живыми и здоровыми для будущих великих дел!
Услышавшие эти слова конюхи тут же передали их боярам, и по Москве пополз слух, деи, царь собирается с помощью польских наемников уничтожить всю московскую знать. А польские паны, расходясь из Кремля, в подпитии задирали горожан, приставали к женщинам и тем самым обильно удобряли почву для этих слухов. Наутро Басманов докладывал Димитрию о челобитных москвичей с жалобами на бесчинство поляков.
Царь недовольно хмурился, слушая доклад, наконец приказал:
— Прими меры по охране стрельцами польских подворий. Народ надо успокоить.
И, обернувшись к окну, спросил:
— Что там за крики?
— Народ ликует. Бегают и кричат: «Нашей государыне дай, Господи, многие лета!»
Хмурые складки на лбу царя разгладились. Он улыбнулся:
— Видишь, как народ любит меня и царицу! Сегодня в Грановитой палате она будет принимать поздравления и подарки от москвичей.
Однако новости в это утро не кончились. Появился Юрий Мнишек.
— Как, батюшка, себя чувствуешь? — приветствовал его Димитрий. — Как твоя подагра, получше?
Полное лицо воеводы было багровым от волнения, голубые глаза смотрели испуганно.
— Ваше цезарское величество! Я же предупредил, будь с послами поласковее!
— Дело сделано — брак заключен! — беспечно рассмеялся Димитрий. — Зачем же метать бисер перед свиньями?
— Послы в гневе собираются покинуть двор! А это значит — война!
— Так и я этого хочу! — жестко стиснул зубы Димитрий.
— Надо потянуть! — настаивал воевода. — Мы должны послать гонцов к Николаю Зебржидовскому, а главное — к Сапеге. Уверен, что, узнав о благополучном бракосочетании и о том, какая сила на твоей стороне, он перейдет в наш стан. Тогда Сигизмунда мы отправим в Швецию, в объятия его дяди. Но надо выиграть время.
— Каким образом?
— Пригласи послов снова на обед.
— Но Олешницкий опять потребует, чтобы я усадил его за свой стол!
— Уступи!
— Ни за что! — вспыхнул Димитрий.
Однако обычное его хитроумие победило вспыльчивость.
— Давай сделаем так: я посажу Олешницкого рядом с собой, но за отдельный от других гостей столик. Думаю, гордый пан тоже должен делать уступку.
— Хорошо, я ему передам, — не без колебаний ответил Мнишек. — И будь с ним поласковее.
— Постараюсь, — согласился царь. — Хотя постой — какой же званый обед без стольников. Я же их отпустил.
— Снова позови.
— Негоже.
— Тогда пусть подают слуги царицы! — выкрутился воевода. — Будем считать, что обед дается от имени царицы…
Перед обедом послы вручили царице подарки короля — тридцать золотых и серебряных кубков, серебряный фонтан с тазом. От себя лично Олешницкий преподнес шаль с бриллиантами и диадему. Димитрий, осмотрев подарки, не удержался от презрительного замечания:
— Господин посол дал, что имел!
Послов провели в обеденный зал нового дворца. Когда Олешницкий убедился, что его столик находится всего в половине локтя от царского стола, его самолюбие было удовлетворено.
Хотя царь старался быть любезным с послами, без ссоры все же не обошлось. После первого кушанья кравчий Хворостинин, чье миловидное личико вызывало усмешки поляков, говоривших между собой, что юноша является «секретом» государя, поднес ему рюмку из горного хрусталя. Димитрий, приподнявшись и сняв шапку, предложил выпить за здоровье посла, затем сел вновь и выпил. Потом из рук Хворостинина взял золотую чарку, наполненную вином, и протянул ее послу. Олешницкий вынужден был подняться, подойти к царю и выпить ее стоя. Затем царь предложил выпить таким же образом за здоровье Гонсевского. Однако тот, обиженный оказанным невниманием, отказался. К нему подошел Ян Бучинский.
— Пусть сам царь подойдет ко мне! — заносчиво изрек шляхтич. — Я представляю здесь особу короля!
Бучинский доложил царю, тот, вспыхнув, сказал:
— Передай, если он немедленно не подойдет, я прикажу выбросить его из окна!
Бучинский вновь вернулся к Гонсевскому, обратился к нему с умоляющим видом:
— Бога ради, иди за той «полной», его величество император сильно обижен, и будет слишком дурно, если ваша милость не подойдет.
Гонсевский вынужден был подчиниться и, встав рядом с царем, выпить объемистую чашу до дна под его пристальным хмурым взором.
После того как сели за стол, в свои серебряные сидения, великий князь и государыня и пред ними наставили несколько кушаньев, посадили и нас по шинку. Как и на иных обедах, ставили по два и по три кушанья… а было всего тринадцать. Прежде всего:
1. Лебяжье коленко с медом вместо подливки.
2. Крыло печеного тетерева, тонко покраянное в тарелочки, сверху обложенное лимонами, которые они называют «яблочками», квашенными как огурцы.
3. Заячья головка, под нею капуста.
4. Кусок барана с сладкой зеленью.
5. Четверть курицы, набело, с кислотой, в которой плавало несколько круп.
6. Другая часть курицы, нажелто, с борщом, в котором также двигались крупы.
7. Тесто в виде паштета, с начинкою из мелко накрошенного бараньего мяса, вместе с жирною и свежею свининой.
9. Тесто, в котором переложены яйца с творогом.
10. Немалый кусок теста, вышиною с брауншвейгскую шапку, сверху помазано медом.
11. Полено, покрытое тестом, в виде шишки, тесто несколько припечено, а сверху полито сырым медом.
12. Пирог из бараньей печенки и ячной крупы.
13. Мелко рубленные легкие, с просом, медом, перцем и шафраном, который они называют «мхом».
Был также десерт, как и при других обедах; при конфектах ковриги хлеба, печенье с медом, а сверху также политые медом; повидел большие столбы, длиннейшие прутья корицы, которые они называют трубками.
На всех столах подавали есть на золоте, и эти тринадцать кушаньев довольно тесно вдоль стола помещались, ибо поперек столы были так узки, что нельзя было поставить рядом двух мисок, хотя тарелок не было. Золото-то, однако, никакого вкуса не придавало кушаньям…
Станислав Немоевский.Дневник… Писан на Белом озере, в 1607 году, в месяце январе, в задержании или, скорей, в плену московском
Жак де Маржере крутился на своей постели, обуреваемый противоречивыми чувствами. Только что забегал к нему шустрый Исаак Масса. Хитро кося глазом то на бравого француза, утопающего в пышных подушках, то на его оруженосца Вильгельма, тараторил скороговоркой:
— Мне знамение явилось сегодня. — Слово «сегодня» Исаак произнес с нажимом в голосе.
— Какое же? — вяло поинтересовался Маржере, отлично поняв намек.
— Со стороны Польши появились внезапно, будто упали с неба облака, подобные горам и пещерам. Посреди них мы с женой явственно увидели льва. — На слове «льва» Исаак снова сделал ударение, и Жак снова кивнул, давая знак, что понял. — Лев поднялся и исчез. Зато появился верблюд, вдруг превратился в великана в высокой шапке, который тоже вскоре исчез, будто заполз в пещеру…
Вильгельм слушал голландца с разинутым ртом.
— И вдруг из облаков поднялся город со стенами и башнями, из башен шел дым. Такой красивый город, будто нарисовал его художник.
— И что потом? — не выдержал Вильгельм.
— А потом — ничего! — вздохнул Исаак. — Все исчезло, как мираж.
Вильгельм рассмеялся:
— Это что за знамение. Вот я однажды две луны видел, и обе красные…
— Пьян был, как всегда, — строго сказал Маржере.
Вильгельм смешался и занялся приготовлением отвара для больного. Исаак притворно вздохнул:
— Конечно, вам, военным, чего бояться! А вот мы с женой решили: сегодня вечером, — он снова подчеркнул голосом последние два слова, — припрячем все наше добро, накопленное таким трудом.
От жалости к себе Исаак даже всхлипнул, поднял к глазам кружевной платок из тончайшего батиста. Маржере глянул на него с усмешкой:
— А что в городе слышно?
— Ничего, — торопливо ответил Масса. — Тишина полная…
— А во дворце?
— Там веселятся. Царица собирается устроить маскарад на европейский лад, готовит забавные маски…
Когда он упорхнул, Маржере предался тревожным раздумьям. Предупредить царя! Но как? Если это сделает он сам и об этом узнает Гонсевский, головы ему не сносить. Надо придумать что-то похитрее. Наконец он позвал:
— Вилли! Когда приготовишь отвар, позовешь ко мне Конрада Буссова. И оставишь нас одних. Понял?
…Располневший на царских харчах вояка ввалился без стука, увидел сбитую постель и с сочувствием проговорил:
— Мой бедный старый боевой друг! Могу ли я чем-то облегчить твои страдания? Мой зять, известный тебе патер Мартин Бер, знает секрет какого-то волшебного бальзама. Хочешь, я приглашу его к тебе?
— Вряд ли какой-нибудь бальзам мне поможет! — покачал головой Маржере. — Меня отравляет тревога за его величество, уж очень он беспечен.
— Ты прав, Якоб, — согласился Конрад, называя Маржере на немецкий лад.
Он сел поудобнее в кресле и, широко расставив ноги в огромных сапогах, оперся руками на эфес палаша.
— Наш император по молодости легковерен, тебе приходится нелегко, чтобы обеспечить его безопасность, — разглагольствовал лифляндец. — А все почему? Назначил командирами рот этих юнцов — Кнаустона и Лантона. Нет чтобы рекомендовать меня! Ты же знаешь, я предан как пес!
— Да, да, — притворно согласился Маржере, знавший историю жизни Буссова, столь богатую предательствами. — Но что я мог поделать? Ведь ты сам сказал, что государь молод, он и приближает к себе тех, кто помоложе. Впрочем, если бы тебе представился случай доказать ему свою преданность, он наверняка приблизил бы тебя. Наш государь умеет быть благодарным.
— О, конечно! Вон как он озолотил Мнишека! А за что? Ведь тот бросил его после первого сражения! Но где найти тот случай? — Лифляндец с надеждой взглянул на Маржере.
Тот с удовлетворением убедился, что Буссов готов заглотнуть наживку, и продолжал слабым голосом человека, прикованного к смертному одру:
— Ты видишь, я не могу подняться. Поэтому не могу сообщить государю важную весть…
— Что за весть? — подался вперед Буссов.
Маржере медлил, как бы колебался.
— Давай я передам, ну, говори же! — теребил его с загоревшимися глазами ландскнехт.
— У меня есть достоверные сведения, что сегодня ночью на дворец нападут заговорщики. Государь должен быть готов к отпору.
— Я расскажу ему обо всем, как только наша рота заступит на дежурство. И буду как лев биться с изменниками! — вдохновился Буссов, вскакивая. — Так я пойду, надо надеть кольчугу под платье. Береженого Бог бережет, как любит говорить мой зять…
— Иди, и да благословит тебя Господь! — слабым голосом напутствовал его больной, донельзя довольный проделанным маневром.
Буссов вроде бы почувствовал угрызение совести, во всяком случае вернулся от порога.
— Я скажу государю, что это известие исходит от тебя.
— Ни в коем случае! — вскричал Маржере так испуганно, что вновь породил подозрение в голове лифляндца.
— Почему? Это будет не по-рыцарски с моей стороны…
— Я и так уже обласкан государем, — печально сказал Жак, снова входя в роль больного. — Да и не знаю, смогу ли и дальше удерживать в руках шпагу. А ты, мой друг, по досадной случайности оказался в стороне от милости монарха. Так лови удачу за хвост. А мне достаточно от тебя бочонка рейнского, если, конечно, поправлюсь.
Он снова упал на подушки и махнул рукой Буссову:
— Скажи моему Вилли, что мне пора пить отвар, прописанный царским лекарем.
Хитрость Маржере удалась. Когда Димитрий к вечеру направился было в покои царицы, Конрад вырос на его пути, застыв в почтительном поклоне.
— Что тебе, немец? — ласково спросил Димитрий.
— Государь, тебе грозит сегодня опасность, — сказал Конрад.
— Откуда знаешь? Смотри на меня! — вскричал царь, хватая лифляндца за поручень алебарды.
Буссов поднял голову, прямо глядя честными, преданными глазами:
— Наши гвардейцы слышали разговоры по Москве, что сегодня заговорщики собираются напасть на дворец.
— Какие заговорщики?
— Точно не знаю. Наверное, кто-то из князей со своим отрядом.
Димитрий обернулся к шедшему следом Басманову:
— Слышишь?
— Я давно говорю, государь, что есть против тебя заговор. Я б схватил этих Шуйских — и на дыбу. Живо все выведаю!
— Шуйских не трогай. Не пойман — не вор. Вон Дмитрий как мне скамеечку подносил и ноги гладил. Эти на всю жизнь напуганы. Что сейчас делать будем?
— Надо поднять стрельцов!
— Ты их до утра собирать будешь, не соберешь: по печкам с бабами лежат. А потом, если тревога ложная, сраму не оберешься. Шли гонца в казармы, пусть все алебардщики и драбанты являются сюда. А я напишу записку князю Вишневецкому, чтоб подослал своих гусар и пехоту Доморацкого.
Вскоре дворец был оцеплен тройной охраной алебардщиков, появившиеся в Кремле гусары открыли отчаянную стрельбу в воздух.
Заговорщики так и не появились, хотя на темных улицах Москвы то там, то сям лазутчики Басманова углядели какое-то движение людей. Схватили с оружием, однако лишь одного. Боярин Татев, взявшийся за расследование, скорбно доложил царю поутру:
— Умер на дыбе.
— Но он же кричал: «Смерть царю!»
— Кричал, пока пьяный был. А протрезвел, так оказался скорбен умом. Так и помер, не покаявшись.
— А кто таков? Чей слуга? — с подозрением спросил Димитрий.
— Не дознались, — горестно развел руками, высунувшимися из длинных рукавов, Татев. — По одежде — так вроде посадский. Говорю, пьян был.
Димитрий облегченно рассмеялся. С насмешкой взглянул на вытянувшегося в рост у двери Буссова.
— Русские говорят, у страха глаза велики. Мои солдаты должны ничего не бояться. И всякие бабьи слухи поменьше слушать. Тебе ясно, мой солдат?
Буссов пунцовел от гнева: «Ну, плут Маржере! Разыграл меня, старого дурака!» Придя в казарму, он излил обиду на голову больного полковника.
— Чтобы меня, заслуженного ветерана, какой-то мальчишка называл трусом! И я тебе поверил!
Маржере терпеливо, что было не похоже на него, слушал брань приятеля, а когда тот выдохся, задумчиво спросил:
— Так ты говоришь, поляки подняли пальбу?
— Да, в пьяном раже орали и стреляли, когда еще шли по Арбату.
— Вот они и спугнули заговорщиков, — убежденно сказал Маржере. — Надо было бы спокойно выжидать, как в засаде. Ты-то — старый охотник, должен понимать, что зверя так в ловушку не загонишь!
— Есть заговорщики, нет, однако после такого шума они не сунутся! — хвастливо заявил Буссов.
— Дай Бог, дай Бог! — согласился Маржере, а про себя подумал: «Наверное, это — рок!»
В этот же день забежал проведать больного и Исаак Масса. С недоверием взглянул на Маржере:
— Так и лежишь, не встаешь?
— Куда же мне, — прокряхтел «больной».
— Ладно, — захихикал молодой купец и тут же стал серьезным: — Кто-то дал знать царю о заговоре. Гонсевский в гневе. Грешит на меня и тебя. Шуйский едва успел остановить свои отряды. Однако своего замысла не оставил.
— Когда?
— Не говорит, больше никому не доверяет.
— Может, сегодня? — продолжал допытываться полковник.
— Сегодня — вряд ли. Бал во дворце. Царь устраивает для послов как для частных лиц. Будет поляков полно, соваться опасно. Но и тебе Гонсевский настоятельно рекомендует не покидать кровати…
Бал прошел весело, хотя во время танцев произошел инцидент. Когда царь приветствовал Олешницкого, он заверил его, что в этот вечер в зале не будет ни императора, ни королевского посла. Однако когда в танце посол, проходя мимо Димитрия, осмелился не снять шапку, тот в ярости закричал Бучинскому:
— Скажи всем: кто не будет снимать передо мной шапку, останется без головы!
Гонсевский, стоявший рядом, понял, что вызвало ярость государя, и с усмешкой заметил:
— Посла здесь сегодня действительно нет, а государь есть!
Придя же домой, немедля послал своего верного Стаса к Исааку Массе. Тот поднял трясущегося купца с постели и сказал всего четыре слова:
— Мой господин говорит — завтра!
Наутро Мнишек, решивший справиться о здоровье посла, встретил у посольского двора камердинера Гонсевского, отправившегося на рынок за покупками. Взяв лошадь воеводы под уздцы и якобы приветствуя его, Стас тихо сказал:
— Сегодня вечером царя хотят убить.
— Что ты мелешь! — вскричал Мнишек, хватаясь за саблю.
— Я умоляю не спрашивать меня больше ни о чем! Иначе мне не жить. Предупредите государя — пусть будет осторожен.
«Гонсевский не из тех, кто любит попугать!» — подумал Мнишек и решительно повернул коня назад.
— Ваше величество! Вас хотят убить! — вскричал он взволнованно, едва вбежав в опочивальню.
— Когда? — спокойно спросил Димитрий, отрываясь от письма, которое он набрасывал для Льва Сапеги.
— Сегодня вечером! Вы должны принять немедленные меры.
— Батюшка, не верьте слухам! — так же спокойно продолжал улыбаться Димитрий, не кладя пера. — Вы, увы, уже не первый, кто сообщает мне о заговоре. Сначала мой телохранитель, потом Стадницкий на балу. Теперь вы, батюшка. А когда я начинаю выведывать, кто же именно в заговоре против меня, ничего сказать не могут. Вот вы, батюшка, знаете, кто умыслил меня убить, тем более не позднее чем сегодня вечером?
— Не знаю, — растерянно ответил Мнишек.
— Вот видите! — торжествующе рассмеялся Димитрий. — Откуда такие страхи? Вы ведь видите отлично, что народ меня боготворит. Меня окружают верные войска! Надо не о заговорщиках каких-то думать, а к войне готовиться. Сядьте лучше и помогите мне составить письмо для Сапеги. Медлить больше нельзя!
Когда Мнишек, переписав письмо по-польски набело, собрался уходить, Димитрий попросил:
— Скажите, батюшка, Станиславу Немоевскому, пусть принесет мне к вечеру драгоценности принцессы Анны. Может, мы что-нибудь и подберем для нашей прекрасной императрицы.
…Пламя свечи играло, переливаясь всеми цветами радуги на гранях драгоценных камней.
— Изрядно, изрядно, — приговаривал Димитрий, бережно извлекая из железной шкатулки, окрашенной в зеленый цвет, ювелирные изделия европейских мастеров.
— А это что? Как сверкает!
— Брошь. Видите — один крупный алмаз, а вокруг двенадцать мелких. Их высочество оценивает ее в десять тысяч злотых, — с готовностью отвечал благородный поляк, сидевший с противоположной стороны небольшого столика из слоновой кости.
— А это?
— Нечто вроде браслета. Очень красивое сочетание — восемь рубинов и столько же крупных жемчужин. А это, прошу внимания вашего величества, ожерелье из алмазов и жемчугов. Стоит восемнадцать тысяч злотых. Очень пойдут вашей венценосной супруге.
— О, мой герб?
— Да, эта брошь сделана в виде двуглавого орла. К сожалению, нет цепочки и не хватает одного крупного алмаза вот здесь и одного мелкого. Поэтому цена всего лишь пять тысяч злотых.
— Алмазов в моей сокровищнице хватает, — самодовольно протянул Димитрий. — А вещь мне нравится. Пожалуй, буду носить как знак нашего императорского достоинства. Так на какую сумму здесь драгоценностей?
— Всего на шестьдесят тысяч злотых, — без запинки ответил Немоевский.
— Торговаться я не буду, — сказал Димитрий, опуская золотого орла обратно в шкатулку. — Впрочем, скажу утром. Я хочу посмотреть на игру камней при свете солнца. Кстати, если желаете, покажу вам и свои драгоценности.
— Почту за великую честь! — наклонил голову Немоевский. — Так я оставлю у вас шкатулку.
— Да, конечно! Кстати, почему принцесса Анна вдруг решила расстаться с такими красивыми вещами?
— О, их высочество — человек необыкновенный! Она очень много раздает денег нуждающимся ученым. Сама любит заниматься науками. Сейчас разбила необыкновенный ботанический сад, куда собирает флору всего Старого и Нового Света! — с жаром стал рассказывать придворный.
Димитрий слушал внимательно, опершись щекой на руку, потом задумчиво сказал:
— Я бы тоже хотел заниматься столь благородным делом! Если бы не воинские заботы! Но ничего, наступит время и для занятий науками. К сожалению, постоянные скитания не дали мне в юности возможности получить хорошее образование… А вы где учились?
— В Падуанском университете. Многие юноши из польских знатных родов учатся в Италии. Как известно, там самые лучшие профессора.
— Надо будет их пригласить в Россию! — оживился Димитрий. — В Москве, дай Бог, тоже будет университет…
В этот момент в опочивальню вошел Петр Басманов, желающий, видимо, что-то сообщить, поэтому Димитрий в знак прощания милостиво протянул руку. Целуя ее, Немоевский никак не предполагал, что последним из поляков видит царя живым…
Инстинкт старого воина рождал в Маржере чувство острой тревоги. Уж слишком тихим был этот субботний вечер. Не слышно на арбатских улочках ни пьяных криков, ни конского топота.
— Такое затишье бывает перед грозой, — пробормотал он, поглядывая в небольшое окно, потом негромко позвал: — Вилли!
В дверном проеме появился юноша.
— Еще отвару, господин полковник?
— Спасибо, Вилли. Я чувствую себя лучше, видишь, даже встал с постели.
— Слава тебе, Господи!
— Кто сегодня ведет караул?
— Кнаустон.
— Сколько с ним алебардщиков?
— Как ты приказал — тридцать.
Маржере помедлил, пытливо оглядывая широкоплечего парня.
— Вот что, Вильгельм! — внушительно, как о хорошо продуманном, сказал он, положив свою тяжелую руку воина на плечо юноши. — Ты сегодня тоже возьмешь алебарду.
Фирстенберг удивленно посмотрел на него.
— Да, да, так нужно… Какое-то у меня тревожное чувство. Скажешь капитану, чтобы поставил тебя у дверей в опочивальню. Даже мышь не должна проникнуть к его императорскому величеству.
Ночь, вопреки опасениям Маржере, прошла спокойно. Но в восемь утра со стороны Кремля вдруг раздался набатный колокольный звон. Маржере, выглянув в окно, увидел, как строятся, поднятые по тревоге, под знаменами своих рот польские солдаты. Но ушли они недалеко. Им навстречу скакал всадник, размахивая венгерской шапкой с перьями:
— Стойте, стойте! Где ваш командир?
— Пан Гонсевский? — удивленно воскликнул Доморацкий, подъехав вплотную.
— Вы куда направились? — резко спросил посол. — Вас кто-нибудь звал?
— Ты же слышишь — колокол бьет тревогу! В Кремле что-то происходит!
— Обыкновенный пожар! Я советую возвратиться в казарму. И как можно скорее.
— Похоже, пан посол мне угрожает? — вспыхнул Доморацкий.
— Не угрожаю, а предупреждаю, — вкрадчиво сказал Гонсевский. — Дело в том, что, когда начался набат, мои слуги слышали, как на Красной площади бояре кричали этим московским канальям, что поляки хотят убить их государя Димитрия! Возбужденная толпа взялась за колья. Если твоя рота появится на площади, может произойти кровопролитие!
Доморацкий махнул рукой, давая команду роте повернуть назад. Тем временем над Кремлем продолжал плыть тревожный гул. Потом раздались яростные крики толпы, сопровождаемые оружейными выстрелами. Маржере, не выдержав, выскочил на улицу и увидел, что к нему бегут его алебардщики без алебард, в разорванных камзолах, с испуганными лицами. Они остановились возле командира с воплями:
— Беда, беда! Заговорщики!
— Где Кнаустон? Почему вы бежали?
— Кнаустон — первый, кто крикнул: «Бегите, пока не поздно! Царь убит!»
— Убит?! — недоверчиво переспросил Маржере. — Или захвачен в плен?
— Убит! — услышал он мрачный ответ.
Обернувшись, увидел Кнаустона верхом на чужой лошади, с окровавленной шпагой в руке.
— Почему, капитан, вы не выполнили свой долг? — грозно загремел Маржере. — Вы должны были умереть, но не пропустить заговорщиков. Поглядите, эти жалкие трусы побросали даже свои золотые алебарды, которыми так гордились.
Солдаты пристыженно опустили головы.
— Живо все в казарму! — скомандовал Кнаустон. — И приготовьтесь к обороне. Сюда идет толпа москвитян. Правда, они идут бить поляков, но могут сгоряча перепутать.
Еще недавно столь бравые гвардейцы трусцой бросились к воротам. Кнаустон не торопясь спешился и засунул шпагу в ножны. С кривой ухмылкой взглянул на своего полковника:
— Я смотрю, стоило государю отдать Богу душу, как ты поправился, Якоб? Тебе ли упрекать меня в трусости? Ты получишь польские злотые, а мне предоставил право умереть за царя? Хорошо, что у нас оказался общий советник…
— Кто?
— Забыл? Гонсевский! Он-то намедни и шепнул мне, чтобы я не совался не в свое дело. Зачем же мне умирать в бедности, когда можно жить с потяжелевшим карманом.
— Подожди! — прервал Маржере зубоскальство капитана. — А где мой Вильгельм? Ты его видел?
— Боюсь, что его нет в живых, — покачал головой капитан. — А ведь я говорил этому мальчишке: беги, пока не поздно.
Маржере, вырвав из рук капитана уздечку, вскочил на коня.
— Ты куда? Там действительно идет толпа…
— Я должен найти Вильгельма, он погиб по моей вине…
При выезде на Воскресенский мост Маржере встретил стрельцов, бегущих с криками:
— Бей ляхов! Они убили царя!
Выхватив шпагу, Маржере решительно направил храпящую лошадь на вооруженных пищалями людей. Однако те расступились, узнав в нем царского телохранителя. Объехав огромное скопище, гудевшее у Лобного места, он проскакал через ворота прямо ко дворцу.
— Дорогу, дорогу! — повелительно покрикивал он, и, подчиняясь команде, воины, в которых Маржере признал новгородцев, тащившие всевозможную утварь и одежду, послушно расступились. Справа остался каменный дворец Годунова, где находился Мнишек со своим двором. Там шла пальба.
Маржере спешился и решительно, оттолкнув стражу, прошел в покои Димитрия, где были видны следы борьбы и крови. Пройдя к царской опочивальне, споткнулся о чьи-то ноги. Быстро нагнувшись, обнаружил труп какого-то русского дворянина. Неожиданно услышал стон у темного угла за печкой, шагнул туда. Это лежал окровавленный Вильгельм. Маржере бережно приподнял его голову:
— Куда тебя?
— В живот, — простонал юноша.
— За что?
— Они увидели, что я услышал признание царя.
— Признание?
— Да! Дай мне попить, — прохрипел умирающий.
Маржере отрицательно мотнул головой:
— Если ты ранен в живот, пить нельзя. Потерпи. Расскажи, если можешь, как это случилось?
— Утром, когда зазвонили, я заметил человека, крадущегося вдоль стены с ножом в руке, и поднял тревогу. Мы с Басмановым схватили его. Он признался, что его подослал Шуйский убить царя. Басманов пристрелил его и выскочил на крыльцо, чтобы позвать на помощь, но было уже поздно. Весь двор был запружен новгородскими стрельцами. Они ночью тайно поменяли все караулы московских стрельцов. Говорили, что царь отпускает их выпить за свое здоровье… Пить!
— Потерпи, мой Вилли. Сейчас я отвезу тебя домой. Так царя убили? Это точно?
— Я не знаю. Когда застрелили Басманова, царь высунулся из окна и крикнул: «Меня не возьмете, я вам не Борис!» Те начали пальбу, наши бросились врассыпную, а Димитрий перебежал на половину царицы.
— А где был ты?
— Сюда уже прибежали бояре, самые знатные: Шуйские, Голицыны, Татищев, Татев… Это они, они погубили императора! — зашептал жарко Вильгельм. — Я спрятался за печкой и все слышал. Сначала кричали, что государь скрылся. И вроде бы все стихло. Потом снова раздались крики: «Поймали! Поймали!» Его нашли под окнами дворца со сломанной ногой. Здесь, в этой комнате, на него набросились бояре: «Скажи, кто ты такой?» Император мужественно держался до конца. Он говорил: «Спросите у моей матери!» Шуйский кричал: «Она говорит, что ты не ее сын! Ты самозванец! Расстрига! Мы дознались, что ты бегал по монастырям вместе с Гришкой Отрепьевым и Варлаамом Яцким! Варлаам сейчас в Москве, он подтвердит!» И вдруг император ясным звонким голосом сказал: «Так знайте же! Я действительно не Димитрий Угличский! Но я истинный царевич! Я вам открою свою тайну!»
Умирающий застонал.
— Какую тайну? — похлопал его по щеке Маржере.
— Я этого уже не услышал. Я неосторожно высунулся из-за печи. С криком «Нас слышит немец!» кто-то из бояр ударил меня ножом в живот, и я потерял сознание.
— Держись, мой храбрый Вилли! — воскликнул Маржере и, взяв юношу на руки, вышел беспрепятственно на крыльцо, усадил его впереди себя на лошадь и медленно тронулся в путь. Но, увы, осторожность не помогла: едва они достигли Арбата, как юноша вскрикнул и обмяк окончательно.
У казармы царских телохранителей никого не было, зато напротив москвитяне осадили двор Вишневецкого, кидали через забор камни, палки, однако опасаясь подходить слишком близко: раздававшиеся из окон редкие, но прицельные выстрелы оставляли то там, то здесь корчащиеся от боли фигурки людей.
Весь день по Москве раздавались пальба, торжествующие крики толпы и жалобные стенания жертв. На следующий день шум стих, везде на крестцах встали караулы стрельцов. В доме, где жил Маржере, появился Исаак Масса.
— Тебя пропустили? — удивился хозяин.
— Да, я сказал, что пользуюсь особым расположением Василия Шуйского. Этого достаточно. Ведь он собирается венчаться на царство.
— Василий Шуйский? Этот плюгавый старик?
— Это страшный по своему вероломству человек, — зашептал Исаак. — Ты помнишь, что Димитрий его помиловал в свое время? А что он сделал с Димитрием?
— Что? — Маржере приподнялся на постели.
— Я сейчас был на Красной площади! Более страшного надругательства я еще не встречал. Его, голого, облитого нечистотами, бросили на торговый прилавок, надев на лицо маску. Привязали один конец веревки к его детородным органам, а другой — к ноге Петра Басманова, который, тоже совсем обнаженный, лежит под прилавком!
— Господи Иисусе! — прошептал Маржере. — Но это точно он?
— Он, он! — возбужденно сказал Масса. — Я подошел совсем вплотную, чтобы посчитать количество ран. Его изрубили, так что целого места не осталось. Двадцать одна рана, а голова разбита выстрелом из ружья так, что мозги наружу. Но узнать его все равно можно. Шуйский, чтобы оправдаться в этой страшной смерти, велел кричать бирючам, что убит вовсе никакой не царевич, а Гришка Отрепьев. Из-за чего ввел москвитян в недоумение: если убит Отрепьев, то где истинный царевич? Открыто говорят, что он спасся и скрылся со своим верным клевретом Мишкой Молчановым в Северскую землю. Но чудес не бывает!
— Жаль мне государя! — вздохнул Маржере. — Но что я мог сделать? Как послы? Конечно, торжествуют?
— Вероломный Шуйский и их оставил в дураках! — возбужденно продолжал Масса. — Напрасно они ждали от него благодарности! Он приказал оцепить тройной цепью охраны посольский двор, а также дворы Мнишека и Вишневецкого. Более пятисот поляков, тех, что жили по отдельным дворам, перебиты. Так что воздадим Господу хвалу, что мы сами еще живы!
Бояре схватили разбившегося в падении царя и повлекли его так, что он мог бы сказать с пленником Плавта: «Слишком несправедливо тащить и колотить в одно время». Его внесли в комнаты, прежде великолепно убранные, но тогда уже разграбленные и изгаженные. В прихожей было несколько телохранителей под стражею, обезоруженных и печальных. Царь взглянул на них, и слезы потекли из глаз его; он протянул к одному из них руку, но не мог выговорить ни слова; что думал, известно только Богу-сердцеведу; может быть, он вспомнил неоднократные предостережения своих верных немцев! Один из копьеносцев, ливонский дворянин, Вильгельм Фирстенберг, пробрался в комнаты, желая знать, что будет с царем; но был заколот одним из бояр подле самого государя. «Смотри, — говорили некоторые вельможи, — как усердны псы немецкие! И теперь не покидают своего царя; побьем их до последнего!» Но другие не согласились.
Принесшие Димитрия в комнату поступали с ним не лучше жидов: тот щипнет, другой кольнет. Вместо царской одежды нарядили его в платье пирожника и осыпали насмешками. «Поглядите на царя сероссийского, — сказал один, — у меня такой царь на конюшне!» «Я бы этому царю дал знать!» — говорил другой. Третий, ударив его по лицу, закричал: «Говори, кобель сучий, кто ты, кто твой отец и откуда ты родом?» «Вы все знаете, — отвечал Димитрий, — что я царь ваш, сын Иоанна Васильевича. Спросите мать мою: она в монастыре; или выведите меня на Лобное место и дозвольте мне объясниться». Тут выскочил с ружьем один купец, по имени Валуев, и, сказав: «Чего толковать с еретиком? Вот я благословлю этого польского свистуна!» — прострелил его насквозь.
Между тем старый изменник Шуйский разъезжал на дворе верхом и уговаривал народ скорее умертвить вора. Все мятежники бросились ко дворцу; но как он был уже наполнен людьми, то они остановились на дворе и хотели знать, что говорил польский шут, им отвечали: «Димитрий винится в самозванстве» (чего он, впрочем, не сделал). Тут все завопили: «Бей его, руби его». Князья и бояре обнажили сабли и ножи: один рассек ему лоб, другой — затылок; тот отхватил ему руку, этот — ногу; некоторые вонзали в живот ему ножи. Потом вытащили труп убиенного в сени, где погиб верный Басманов, и, сбросив его с крыльца, кричали: «Ты любил его живого, не расставайся и с мертвым!» Таким образом тот, кто вчера гордился могуществом и в целом свете гремел славою, теперь лежал в пыли и прахе. Не худо было бы и другим остерегаться такой же свадьбы: она была не лучше парижской. Димитрий царствовал без 3 дней 11 месяцев.
Конрад Буссов. Московская хроника
Часть третья
Власть во лжи
Англичанин Майкл Кнаустон, Жак де Маржере и его капитаны, и шотландец Альберт Лантон, были званы в Кремль только через три дня после той страшной ночи. Въезжая на Красную площадь через крытый Воскресенский мост, полковник увидел, как на противоположной стороне площади, обращенной к Москве-реке, вдоль торговых рядов вздымается облако пыли. Маржере пришпорил свою лошадь и приблизился к толпе, скучившейся у Лобного места. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь происходит. Пьяный мужичонка из «божедомников» в рваном зипуне и в невыносимо грязном треухе, сидя верхом на пегой кляче, орал богохульные проклятья и нахлестывал по крупу свою лошаденку, тащившую страшный груз. К веревке, притороченной к седлу, был привязан за ноги обнаженный, начавший уже разлагаться синюшный труп. Старый вояка, навидавшийся за свой бурный век немало покойников, подъехал поближе и, вглядевшись попристальнее в изуродованное сабельными ранами лицо покойника, узнал Димитрия, точнее, то, что от него осталось после надругательства толпы.
Невольно сняв шляпу с пышным белым пером, Жак с ужасом перекрестился, прошептав:
— Сколько же ты нагрешил, Димитрий, если тебя постигла такая страшная участь!
В толпе, с улюлюканьем сопровождавшей «траурный поезд», вдруг раздался ясный, звучный голос, говоривший с мягким украинским акцентом:
— Та не он это! Точно вам говорю!
Маржере увидел говорившего. Это был комнатный слуга царя Иван Хвалибога, которого начальник телохранителей много раз встречал во дворце. Возбужденно отталкивая стрельцов, напиравших на него с бердышами, Хвалибога продолжал орать:
— Вы только гляньте, люди добрые! Этот толстый какой-то и ростом ниже. А Димитрий ведь был благолепен. Точно вам говорю — подменили царя нашего батюшку!
Хвалибогу неожиданно поддержал мужик, сидевший на телеге, полной речной, резко припахивающей рыбы:
— Жив Димитрий, воистину жив! Вот мой крест! Я самолично видел, как он у Серпухова через Оку перебирался. Когда на тот берег высадился, то рек паромщику: молись, деи, за меня, я государь твой!
В толпе началось смятение.
— Глядите, Бог от Москвы отвернулся! — пронзительно закричал юродивый, воздев руки к небу.
Из внезапно налетевшей черной тучи повалил крупными хлопьями снег, покрывая пушистым белым одеялом только что буйно распустившуюся сочную майскую зелень.
— Свят, свят, свят, — начали креститься на Покровский собор мужики и бабы. — Прогневался Господь на нас за Димитрия…
Потуже напялив шляпу и поплотнее запахнув плащ на меховой подкладке, чтобы спастись от налетевшего ледяного вихря, Маржере повернул коня к Фроловским воротам Кремля:
— Не забывайте, господа, нас ждут.
Во дворце, еще носившем следы побоища, их встретил думный боярин Михаил Татищев. Никогда не отличавшийся воспитанностью, сейчас он был особо груб и заносчив. Широкое румяное лицо выражало нескрываемое торжество. Татищев чувствовал себя героем дня. Еще бы! В те поры, когда Васька Шуйский бился лбом об пол, вымаливая прощение, а Митька Шуйский, стоя на коленях, неловко подставлял скамеечку под ноги самозванцу, он, Михайла, во всеуслышание рек о греховной любви Димитрия к телятине, за что едва не поплатился головой. И в ночь мятежа не прятался боярин за спину наемных убийц. Когда Петька Басманов, отбиваясь мечом от наседавшей черни, повернулся к нему боком, всадил ему прямо под сердце длинный нож, вытащенный из-за голенища сафьянового сапога. Сейчас боярин надменно поглядывал на иноземцев маленькими, налитыми кровью глазами и вместо приветствия вдруг спросил Маржере, стоявшего несколько впереди:
— Что, полковник, здоровье на поправку пошло?
И, не дожидаясь ответа, зычно захохотал, тряся здоровенным брюхом, выпирающим из собольей шубы. Его торжествующая ухмылка давала Маржере ясно понять, что Татищев хорошо знает истинную причину болезни командира гвардейцев. Несомненно, что он присутствовал на том тайном совещании во дворце Василия Шуйского, где Исаак Масса передал сообщение польского посланника Александра Гонсевского о том, что полковника не будет во дворце в день мятежа.
Жак, слегка покосившись на своих капитанов, не догадываются ли они о причине веселости боярина, сделал вид, что не понял насмешки, и невозмутимо ответил:
— Старая рана в левом боку открылась. Должно, к непогоде. Вишь, как снег повалил.
Боярин глянул в слюдяное оконце, удивился:
— В мае снег? Такого пять лет не было. С того самого голода… — Помрачнел, подумав про себя: «Дурной знак для нового царя…» Вслух же произнес: — Почто звал я вас? На то воля государя…
Иностранцы, встрепенувшись, вопросительно уставились на говорившего.
— Чай, слышали уже? Вчера по Москве царем выкликнули Василия Ивановича Шуйского!
Истово крестясь на красный угол с иконами, Татищев тем не менее не спускал испытующего взора с бывших телохранителей Димитрия, проверяя, как отнесутся они к такому известию.
Маржере почтительно склонил голову и сказал нечто противоположное тому, что говорил в своей квартире с глазу на глаз Исааку Массе:
— Мудрый выбор сделали московиты. Не случайно Василия Шуйского в Польше и Литве, в Римской империи и иных землях давно называют «принцем крови».
— Что это значит? — подозрительно спросил боярин.
— Имеется в виду, что Шуйский по знатности своего рода имеет наибольшие права на престол.
Татищев задумчиво пожевал бороду и не согласился:
— Федор Мстиславский, пожалуй, познатнее будет. Не случайно рядом с Шуйским на Лобном месте стоял. Однако же выкликнули Шуйского. По заслугам его! Это ведь он поднял Москву на самозванца Гришку Отрепьева, блядова сына! Не убоялся, что второй раз на плаху потащат. А когда с площади пришли в Успенский собор, Шуйский крест целовал в том, что править будет, согласуясь с боярским приговором. На том все бояре стояли…
Маржере показалось, что занавес в дальней части палаты шевельнулся. Уж не подслушивает ли их беседу хитрый лис Шуйский?
Поэтому он не поленился и снова сделал поклон:
— Какие указания будут нам, его телохранителям?
— Государь крепко держится отцовской веры и иноземцев не жалует. Все льготы, что были даны прежде торговым немцам и литве, собирается отменить. И войско сократит, бо злодей Гришка казну здорово опустошил своим разгульством…
Телохранители переглядывались, не скрывая разочарования.
— Однако вас сказанное не касается! — повысил голос боярин. — Если вы будете служить царю-батюшке верой и правдой, он проявит к вам свое благоволение.
Понизив свой громоподобный бас почти до шепота, что уверило Маржере в присутствии невидимого свидетеля, Татищев добавил:
— Не верит Шуйский стрельцам. Может, и правильно делает.
Маржере горделиво приосанился:
— Когда прикажете выходить в караул нашим ротам?
— Государь завтра переберется в Кремль со своим скарбом. Будет жить в старом, годуновском, подворье. Здесь не желает, поскольку дворец осквернен мерзким еретиком. Так что завтра с утра и заступайте…
…На площади их вновь встретил шум толпы. На телеге везли какой-то труп, покрытый попоной.
— Кого хоронить собрались? — окликнул Маржере зеваку-лоточника.
— Петьку Басманова, — ответил тот, флегматично жуя собственный товар — пирожок с вязигой.
— Тоже в яму?
— Не-а. Сказывают, у церкви Николы Мокрого, рядом с могилой матери. Ведь его сводный брат — князь Голицын.
— Вот как! — протянул Маржере. — Один брат защищал государя, а другой поднял на него меч!
— Бывает, — флегматично бросил лоточник, отправляя в рот следующий пирожок. — Вон отец Петьки, Федор, своего отца Алексея, по указу Ивана Грозного, перед его очами прирезал. Прямо на пиру. А потом и сам на плаху пошел. Так что промеж сродственниками все бывает.
— Однако тело брата все же хоронить собрался, — кивнул на проезжавшую телегу Маржере. — А у Димитрия и такого родственника не нашлось. Даже родная мать не заступилась…
— Не заступилась? Так она же его анафеме предала, — сказал лоточник. — Вон послушай, что дьяк кричит. Это он ее грамоту читает.
Маржере двинул лошадь поближе к Лобному месту, где дьяк Сыскного приказа натужно выкрикивал:
— «…А мой сын Димитрий Иванович убит в Угличе передо мною и перед моими братьями и теперь лежит в Угличе. Это известно боярам и дворянам. А когда этот вор, называясь ложно царевичем, приехал из Путивля в Москву, за мною долгое время не посылал, а прислал ко мне советников и велел беречь, чтоб ко мне никто не приходил и никто со мной не разговаривал. И когда он велел нас привезти в Москву, то был на встрече у нас один, и не велел к нам пускать ни бояр, ни других каких людей, и говорил нам с великим прельщением, чтоб мы его не обличали, угрожал и нам, и всему роду нашему смертным убийством. Он посадил меня в монастырь, приставил за мной своих советников, чтобы оберегать меня, и я не смела объявить в народе его воровство, а объявила боярам и дворянам и всем людям тайно…»
«Какая бесстыдная ложь, — подумал про себя Маржере. — Ведь царицу вся Москва встречала! И все братья ее в Государственном совете заседали».
Будто отвечая на его мысли, в толпе кто-то воскликнул:
— Люди добрые! Не слушайте! Не писывала Марфа эту грамоту. Я сам слышал, что, когда царя убили, Васька Шуйский к ней гонцов послал, чтоб подтвердила, деи, самозванец не сын ее! А Марфа отвечала: «Вы бы спрашивали меня об этом, когда он был еще жив, теперь он уже, разумеется, не мой».
Маржере увидел, что это кричит тот самый лоточник, который только что равнодушно поедал свои пироги. Этот малый оказался далеко не так прост! Толпа загалдела, чувствуя себя обманутой. Не впервой Шуйский обманывал москвичей. Сбил их с толку, когда звал в Кремль, якобы защищать царя от поляков, а теперь и Марфу втянул.
Дьяк, однако, не оробел перед напиравшими на него людьми:
— Стойте. У меня здесь подлинные грамоты самозванца на латинском, взятые в его хоромах. Ссылался он по-воровски с Польшею, Литвою и папой римским, хотел попрать истинно христианскую веру и учинить латинскую и лютеранскую! А писарь его Ян Бучинский на пытках показал, что хотел вор с помощью Литвы перебить бояр, дворян и иных московских людей. Доподлинно известно также, что под личиной Димитрия скрывался расстрига Гришка Отрепьев. О том показал бывший его сотоварищ Варлаам Яцкий, что сидит сейчас в Кремле под стражей!
От такого вороха вестей помутнело у людей в головах. Даже Маржере, знавший царя и видевший Гришку Отрепьева, недоуменно покачал головой. Такого нагромождения лжи даже ему, человеку бывалому, слышать не доводилось. Он молча направил коня в сторону от Лобного места.
«С этим Шуйским надо держать ухо востро! — сделал он единственный вывод. — Соврет — не дорого возьмет, как говорят русские».
Тем не менее наутро во главе своих драбантов он приступил к караульной службе в старом дворце. Здесь уже распоряжался Дмитрий Шуйский, младший брат будущего государя, также не отличавшийся дородностью и с такими же юркими бесцветными глазками. Он велел Маржере находиться в зале, где царь будет держать совет с ближними боярами.
Скрестив руки на груди и опершись на колонну, поддерживающую потолок в центре зала, Жак с иронией наблюдал за суетой слуг, раскатывающих ковры и расставляющих покрытые красным сукном лавки вдоль стен. Внесли кресло с высокими подлокотниками, отделанное затейливой резьбой из слоновой кости. Маржере узнал трон, на котором обычно сидел Борис Годунов. Давно ли он принимал здесь польских и шведских послов, очаровывая их своим величавым видом! А рядом тогда стоял трон поменьше, где сидел его сын, будущий наследник. Умным воспитателем был царь Борис, натаскивал сына, как породистого щенка, сызмальства приучая его к нелегкому делу управления государством. Да не суждено было Федору поцарствовать…
От печальных мыслей о бренности жизни полковника отвлекли пронзительные звуки тулумбасов.
— Государь пожаловал! — почтительно произнес Дмитрий Шуйский и бросился встречать старшего брата.
Маржере не удержался от любопытства и глянул в слюдяное оконце. Хотя Шуйский еще не был коронован, ему спешили оказать царские почести. Извлекали его из колымаги два знатнейших вельможи — Федор Мстиславский и Василий Голицын и повели по ковровой дорожке к высокому крыльцу, держа под локотки так высоко, что руки беспомощно болтались в воздухе. Это создавало известное неудобство будущему государю, да и шапка Мономаха, которую он поспешил напялить, была ему явно велика и сползла на нос. Но что не перетерпишь ради престола!
У Красного крыльца, низко склонясь в поясном поклоне, так что виднелись одни обритые затылки, встречал нового царя весь цвет старой московской знати. Пропустив Шуйского, они, бесцеремонно толкая друг друга, устремились вслед.
Маржере скомандовал: «На караул!» — и его гвардейцы замерли, эффектно опершись на алебарды, подаренные им Димитрием, — с серебряными рукоятями и двуглавыми орлами на шишаках. Сам полковник встретил Шуйского у входа в зал, поклонившись так, что страусовое перо его шляпы задело за носки сапог. Шуйский одобрительно кивнул ему и бросил, уже устремляясь к трону:
— Ужотко поговорим.
Полковник занял свое место у створчатых дверей, продолжая в правой руке держать шляпу, а левую положив на рукоять шпаги. Он с интересом наблюдал, как рассаживаются на лавках бояре, строго соблюдая свои места. Шуйский тем временем взгромоздился на трон, поправил наконец шапку и не без удовольствия поелозил по сиденью задом. Давно, ох как давно мечтал «принц крови» восседать на этом троне. Наконец-то мечта, в которой он едва ли признавался даже самому себе, сбылась.
Шуйский поглядел на лица своих советников и товарищей по заговору, однако следов радости и торжества по случаю одержанной победы не углядел. Напротив, многие из бояр казались смущенными и подавленными.
Шуйскому это не понравилось, но, как всегда, он ничем не выдал своих чувств. Сделав благостное выражение лица, начал расточать милостивые улыбки направо, где сидело высшее духовенство, и налево, где расположились члены думы.
Не получив ответных улыбок, Шуйский вдруг вспомнил, на чьем кресле он сидит, и произнес писклявым голосом:
— Надо государя Бориса и его семью похоронить, как подобает по чину. В Архангельском соборе, где находится прах владык московских — Рюриковичей, ему, конечно, не место. А вот Троице-Сергиев монастырь — и почетно, и по чину!
— Тело царевича же Угличского, — продолжал он, — надо перенести тоже. С подобающими почестями — к могиле отца его, Ивана Грозного.
Шуйский истово перекрестился. Остальные последовали его примеру.
«Не великий князь, а великий похоронщик», — подумал с иронией Маржере.
Взгляд Василия устремился вправо, туда, где расположилось духовенство. В кресле патриарха сидел митрополит Ростовский Филарет. В день, когда на Лобном месте выкрикивали имя будущего царя, бояре назвали и будущего патриарха, взамен Игнатия Грека, сподвижника Димитрия.
Шуйский, умудренный в дворцовых интригах, хорошо понял это решение своих сподвижников. Филарет, он же Федор, старший в Романовской династии, пользовался любовью москвичей и обладал огромным влиянием среди знати. Такой человек с помощью Церкви смог бы, по мнению бояр, противостоять действиям нового царя, если тот начнет своевольничать.
Хитроумный лис сделал вид, что несказанно рад такому решению, а сам в то же время искал и нашел ловкий ход, как убрать хотя бы временно будущего патриарха из столицы.
— Тебе, Филарет, поручаем мы это благородное дело. Пусть раз и навсегда замолкнут злые языки, деи, царевич чудом спасся. Я лично видел убиенного младенца и твердо говорю вам, что его зарезали по приказу Бориса! Крест целую на том.
Шуйский торжественно поцеловал свой нательный, усыпанный драгоценными каменьями крест, снятый с тела предшественника, когда оно еще не остыло. По округлым щекам государя потекли неподдельные слезы.
Бояре смотрели на это лицедейство с плохо скрытыми ухмылками. Трижды на их памяти клялся Шуйский в связи с делом удельного князя Угличского, и все три раза — по-разному. Первый раз, когда еще царь Федор поручил ему возглавить следственную комиссию. Тогда Шуйский всенародно заявил, что царевич истинно мертв и что он порезался сам, играя в тычку острым ножичком. Второй раз, когда войско самозванца шло к Москве, Шуйский так же всенародно, на Лобном месте поклялся, что царевич был спасен, а он видел труп какого-то поповича. Теперь он поклялся в третий раз.
Пристально вглядывался в круглое лицо Шуйского и Жак де Маржере, он даже слегка подался вперед, нарушая этикет. В одном случае из трех Шуйский непременно сказал правду. Ведь действительно, царевич либо был мертв, либо остался жив. Если же он был мертв, то могло быть лишь две возможности — либо он зарезался сам, либо его зарезали. Так как угадать, когда этот великий лжец все же умудрился не соврать? Было ясно только одно — каждый раз Шуйский клялся, нисколько не заботясь о правде, а лишь о выгоде. Сейчас ему было нужно, чтобы царевича убили. Ведь Церковь не может канонизировать самоубийцу.
Понимали это и все присутствующие. Понимал важность своей миссии и Филарет. Но восторга не выразил. Подавляя вспыхнувшее подозрение, глухо произнес:
— Почто такая честь? Есть и более достойные.
— С тобой и будут самые достойные! — снова благостно улыбаясь, ответствовал Шуйский. — Святейшие отцы, астраханский епископ Феодосий, архимандриты спасский и андрониевский, бояре Иван Воротынский да Петр Шереметев, а также брат царицы Григорий и племянник Андрей.
Шуйский не скрывал довольства — ведь одним махом он убирал еще одного опасного для себя человека из партии Мстиславского — Шереметева.
— Как видишь, все самые достойные. Но тебе быть на челе! — сказал Василий. — Не будешь же ты спорить, что Романовы ближе всего к прежним государям. Твоя тетка, Анастасия, была первой женой Ивана Грозного.
Филарету ничего не оставалось, как поклониться, благодаря за честь. Чтобы окончательно усыпить его подозрения, Шуйский продолжал:
— А быть вам обратно повелеваю к моему величанию на царство. К тому времени и духовный собор утвердит тебя патриархом.
— Сначала надо, чтоб собор снял сан патриарха с Игнатия, — качнул высокой митрой Филарет. — А сделать это можно только с его согласия.
— И вовсе нет! — возразил Шуйский. — У нас в руках письмо православных владык из Польши, что расстрига был тайным католиком. А Игнатий хотел это скрыть. Потому по нашему указу он заточен в Чудов монастырь, откуда в свое время бежал расстрига, чтоб начать свои дьявольские козни.
Шуйский свирепо насупился, и шапка Мономаха начала опять сползать на его вислый нос. Поправив шапку, он твердо произнес, обращаясь к боярам:
— Думаю, настал черед и тех, кто творил злодеяния рядом с самозванцем. Всех их из Москвы — по дальним городам: Афоньку Власьева, что с поляками якшался да католичку в Москву, в царицы привез, — в Уфу, Михайлу Салтыкова, как ближнего советника самозванца, — в Ивангород, Рубца-Масальского за то же — в Корелу, а Богдана Бельского, что врал, будто он царевича спас, в Казань. Полюбовника же расстриги, «латынянина» Ваньку Хворостинина — в монастырь. Пущай в вере православной укрепляется!
Бояре согласно закивали своими длинными бородами. Однако Татищев, любящий говорить наперекор, ехидно заметил:
— Государь наш еще три дня назад крест целовал, будто не станет никому мстить за мимошедшее.
Шуйский насупился еще больше и угрожающе произнес:
— По черному цвету соскучился, Михайла? Я тебе не самозванец и обид так легко не прощаю, ты же знаешь! Могу и собственноручно тебе по губам надавать, чтоб глупостей не рек!
Шумливый и наглый Татищев вдруг оробел. Да и другие бояре притихли. Ярый приверженец старины, Шуйский напомнил им об обычае, что царил при русском дворе еще до Ивана Грозного. Боярин, попавший в опалу, обязан был носить одежду черного цвета. Подвергался провинившийся и другому, более изощренному наказанию. На заседание думы приглашался дьяк, который пальцами выщипывал бороду опального, а думные приговаривали: «Что это ты, мерзавец, бездельник, сделал? Как у тебе и сором пропал!» Ходить с голым, как задница, лицом, да еще в черном кафтане, всем на смех не хотелось. Татищев, смешавшись, забормотал:
— Ты прости, государь, меня, окаянного! Не подумавши сболтнул.
Смирение известного строптивца успокоило Шуйского, и он вновь благостно заулыбался:
— Я ить вовсе не держу зла на холопей, что около расстриги терлись. Но ведь народ не поймет, — в голосе Шуйского послышался кликушеский пафос, — если мы их при нашем дворе оставим! Надо бы и всех стольников перебрать. Тех, кто в службе самозванцу усердствовал, — отнять поместья и вотчины!
Подьячий Разрядного приказа старательно заносил на свиток каждое слово нового государя, беспрестанно обмакивая гусиное перо в висевшую на груди чернильницу. Бояре, соревнуясь друг с другом, припоминали и выкликали все новые и новые имена тех, кто, по их мнению, был в особой милости у Димитрия. Число опальных перевалило за сотню, пока наконец Шуйский не остановил думных:
— Буде, буде! Так я совсем без двора останусь. Многие ведь служили по неразумению. Проклятый еретик умел глаза застить. Еще по сю пору некоторые верят, что он был истинный царевич. Сатанинское отродье!
— На площадях сказывают, будто его тело земля не принимает! — боязливо перекрестившись, произнес Мстиславский. — Нищие видели, как он ночью по пояс из земли высовывается и скалится, а из глазниц — зеленое пламя пышет.
— То колдовские чары действуют, — внушительно произнес Филарет. — Церкви доподлинно известно, что расстрига, как из Чудова монастыря сбег, душу дьяволу запродал.
Глаза Шуйского наполнились ужасом. Он безумно боялся колдунов. Заерзав на троне, робко спросил у митрополита:
— Что же делать, чтоб от него избавиться?
— Колдуны огня боятся. Труп надо сжечь.
— Сжечь? — По лицу Шуйского пробежала хитрая усмешка. — В Коломенском его крепостица стоит, что «Адом» прозывают. Пусть он в «Аду» и сгорит. Для верности труп смолой облить. А пеплом из пушки выстрелить в сторону Польши. Пусть знают, как к нам колдунов засылать!
— Польские послы приема у твоей милости требуют! — подал голос Воротынский, приставленный к посольскому двору.
— Вот как! «Требуют»! — насмешливо повторил Шуйский.
— Особенно Гонсевский шумит, — не унимался Воротынский. — В неблагодарности тебя уличает. Деи, если б не он, не царствовать тебе.
Маржере почувствовал, как налились жаром его смуглые щеки. «Неужто Гонсевский проболтался?» — мелькнуло в голове. Тем не менее, внешне невозмутимый, он с напряжением ждал, что ответит Шуйский. Тот, однако, ничуть не смутился и даже гнева не проявил, лишь покачал головой:
— За дерзость такую, хоть и посол, смертной казни достоин. Но не в наших планах сейчас с Жигимонтом, королем Польским, в раздор вступать. Чести видеть государя посолишка недостоин. Примите его вы, думные бояре. Только не сразу, погодить надо. Да выскажите ему все вины польского государя за то, что самозванца к нам послал и войско свое дал!
Шуйский в сердцах ударил об пол посохом, а потом, не скрывая злой насмешки, добавил:
— Что касается благодарности, которую хочет этот холоп, так пусть спасибо скажет, что в ту ночь сам жив остался…
Бояре одобрительно закивали горлатными шапками, однако Воротынский возразил:
— Жигимонт обиду своим послам не простит, войско свое на нас пошлет. До того ли сейчас нам…
— Жигимонт пусть сначала со своими дворянами справится, что мечи на него подняли, — парировал Шуйский. — А послов его мы из Москвы не выпустим, пока королишка не подтвердит прежние условия перемирия, что заключил с ним царь Борис.
— Истинно молвит государь, — внушительно произнес Василий Голицын. — Пущай послы подольше побудут у нас в гостях, да и другие знатные вельможи тоже. Глядишь, охолонут, не будут болтать, деи, самозванец вовсе не Гришка Отрепьев, а истинный царевич! Нам сейчас такие разговоры на Литве ни к чему.
Шуйский милостиво улыбнулся в знак полного согласия с самым влиятельным из заговорщиков и, не желая продолжать разговор на столь скользкую тему, пригласил думных отобедать с ним. В столовой избе, где стены еще помнили пиры Годунова, государю прислуживал новый, назначенный им кравчий — Иван Черкасский, который то и дело наполнял блюда, стоявшие перед Василием.
Размягший от великолепного меда, доставленного во дворец из погребов Шуйского, старик Мстиславский воскликнул:
— Пора тебе, царь-государь, о наследнике подумать. А то, глядишь, боярышня Буйносова, которую тебе в невесты самозванец определил, в девках пересидит. Поди, ей пятнадцать уже минуло?
— Сейчас — не могу! — благостно вздохнул Шуйский, облизнувшись как кот на сметану. — Ведь царице, — он сделал ударение на слове «царица», — по чину отдельные хоромы требуются. А дело это — не скорое…
— Почто так? — не удержался от ехидства Татищев, обсасывающий лебяжье крылышко. — Вон Гришка Отрепьев для себя и своей крали мене чем за полгода хоромы отгрохал.
— Потому что казна государская — пуста! — с надрывом воскликнул Шуйский и даже прослезился. — Расстрига нас по миру пустил. После брачной ночи своей потаскухе на радостях пятьдесят тысяч отвалил. А сколько раздал тестю и прочим сродственникам — не счесть.
— Так отобрать немедля! — не унимался Татищев.
— Силой негоже, — возразил Шуйский. — Пусть сами вернут. Ты, Татищев, завтра и пойдешь к Марине, а потом к ее родителю и скажешь, что не отпустим ее к отцу, пока все до копейки не возвернут.
Когда после обеда бояре чинно отправились по домам, чтобы соснуть до вечера, Шуйский велел Маржере следовать за собой в опочивальню. Дав постельному слуге знак, чтоб подождал со сниманием с него многочисленных одежд, государь обратился к начальнику стражи:
— Доволен, что оставил тебя при дворце?
Жак склонился, бормоча слова благодарности.
— Ладно, ладно! Будешь верно служить, милостью не оставлю.
Маржере, осмелев, не удержался:
— По-моему, я вправе ждать государевой милости после той ночи.
— Той ночи? — покраснел от досады скупой Шуйский. — А разве я тебе что-нибудь обещал?
— Гонсевский обещал…
«Наследный принц» гнусно захихикал, ощеря гнилые зубы:
— Так пусть тебе Гонсевский и платит. Если сможет.
Маржере понял, что вознаграждения ему не видать как своих ушей, и поклонился, чтобы побыстрей ретироваться.
— Погоди, — остановил его Шуйский. — Завтра пойдешь с Татищевым к Мнишекам. Дьяк не силен в посольской науке, может нагрубить и все испортить. Будешь вести переговоры как переводчик. Переводи не все, что он будет говорить, особенно если ругаться будет! Главное, добейся, чтобы Мнишеки вернули все подарки в государеву казну. Вот тогда можешь рассчитывать на мою милость, в том тебе мое слово.
Маржере очень засомневался в слове Шуйского, тем не менее, расправив грудь, изъявил готовность исполнить монаршью волю.
Наутро Маржере пошел разыскивать Татищева. Искать его долго не пришлось: дьяк уже околачивался возле Красного крыльца. Предупрежденный Шуйским, он ждал переводчика. Идти им было недалеко — Марина содержалась все в том же дворце, где стала русской царицей. Стрелецкая стража у крыльца расступилась, и гости вошли в приемный зал, куда вскоре вошла и Марина, предупрежденная фрейлиной. Жак встретил ее с чувством смущения, ожидая увидеть женщину, измученную трагическими переживаниями. Но прекрасное лицо бывшей императрицы было по-прежнему упруго-свежим, а огромные глаза выражали лишь любопытство и, пожалуй, лукавство. Она даже милостиво улыбнулась, узнав в статном офицере начальника телохранителей своего супруга.
Жак изящно поклонился, взмахнув шляпой, однако дьяк, не снимая своей высокой шапки и не подумав ради приличия сказать какие-то слова приветствия, с грубым нажимом спросил:
— Сказывают, плачешься, будто к отцу не пускают?
Маржере, памятуя о напутствиях Шуйского, сообщил по-польски, что присланы они сюда новым государем, который приносит свои соболезнования и осведомляется, в чем нуждается вдова и не хотела ли бы она вернуться под родительский кров. Дьяк подозрительно вслушивался, улавливая отдельные, схожие с русскими, слова, и хмуро осведомился:
— Чего это ты распетушился, как на именинах? Скажи, что будет сидеть здесь под стражей, пока не отдаст все, что ей самозванец подарил.
Жак постарался перевести это как можно деликатнее, но Марина, было прослезившаяся при словах о соболезновании, поняв смысл ультиматума, заговорила горячо, с вызовом:
— Пусть забирают все — и драгоценности, и дукаты, и лошадей, и даже платья. Да, да! Даже платья! Хотя видит Бог, что я шила их еще в Кракове. Уйду к отцу в одной рубашке! Об одном лишь прошу — отпустить со мной моих фрейлин. Бедные женщины! Они столько натерпелись от этих грубых мужиков. И если можно, прошу отдать моего арапчонка, мне так без него скучно.
При этом Марина уныло вздохнула, а Маржере подумал: «Боже мой, ведь она совсем дитя. Потеряла корону, а жалеет об утрате арапчонка!» Перевел же Татищеву красноречивый и пылкий ответ царицы весьма лаконично:
— Она согласна на все!
Дьяк довольно хохотнул:
— Почувствовала, что у меня не отвертишься. Ну, пошли теперя к ее родителю. Сегодня же все и заберем, а они пусть друг с другом милуются сколько влезет.
— Мы идем к вашему отцу. Что-нибудь ему передать? — «перевел» Маржере.
Марина лишь грустно покачала головой:
— Передайте то, что слышали.
Когда Маржере повернулся к выходу, до него донеслись тихие слова, произнесенные по-французски:
— Скажите, полковник, правда ли, что император чудом спасся?
«Так вот оно что, — мелькнуло в голове старого вояки. — Бедная девочка верит, что Димитрий жив!» Ему так хотелось оставить ей надежду, но он решил, что Марина должна знать правду, какой бы горькой она ни была.
— Не верьте слухам. Я вчера видел тело государя. Он мертв.
— Чего она еще хочет? — недовольно спросил Татищев, остановившись в дверях.
— Просит вернуть своего слугу-арапчонка.
— Эту нечисть черную? Кажись, Шуйский себе прибрал. Тоже всякую погань во двор тащит: и ведунов, и бабок, и шутов, и юродивых. Тьфу, дьявольское отродье!
…Не чувствовалось особого уныния и в хоромах тестя императора, Юрия Мнишека. Он встретил послов хитроватой усмешкой:
— А что, говорят, новый государь еще холост? И не спешит жениться на дочери русского князя?
Маржере удивленно взглянул на хозяина: быстро же весть о том, что говорилось за обедом у Шуйского, долетела сюда.
Видимо, и Татищев подумал о том же самом. Буравя поляка злыми заплывшими глазками, пробасил:
— Коль об этом знаешь, значит, знаешь, зачем и мы сюда пожаловали, — за добром, что тебе зять на радостях подарил!
— Поверьте, панове, добра того не так уж и много. А против нашего с ним договора, можно сказать, совсем ничего! Так, несколько камешков.
Дьяк сделал глумливый жест, выражающий крайнее недоверие, и хмыкнул:
— В дворцовых росписях точно указано, чего и сколько тебе выдавалось из царевой казны. Все заберем!
— Как ты смеешь не верить мне, вельможному пану! — вскипел Мнишек. — Я истратил на эту свадьбу в десять раз больше, чем мне пожаловал Димитрий.
— Думаешь, мы не знаем, сколько денег тебе передал Власьев еще в Кракове? А сколько изделий из золота и серебра? А кони? А седла и уздечки, украшенные каменьями? Все отдашь! Иначе не видать тебе твою дочку!
Упоминание о Марине направило мысли воеводы в прежнее русло. Вдруг игриво заулыбавшись дьяку, он миролюбиво сказал:
— Ну, полно, полно! Да и какие счеты могут быть между государем и государыней!
Татищев тупо воззрился на живо жестикулирующего пана:
— Жена самозванца, католичка — государыня?
— Конечно! Подумай сам — Шуйскому теперь негоже брать в жены ниже себя по родству. А кто такие Буйносовы? Кто про них в Европе слышал? Дошло? А прежнюю государыню, сиречь мою дочь, знают и король Польский, и римский император. Сам Бог велел Шуйскому жениться на моей дочери. И королю Сигизмунду, что благословил Марину на брак с Димитрием, никаких обид не будет. Все исполняется, как он хотел, — полячка остается русской царицей. А это залог вечного мира между Речью Посполитой и Русью. И, учитывая, что Сигизмунд не крепко на троне сидит и все глядит в сторону своей родины — Швеции, глядишь, будущий наследник станет во главе уже двух славянских государств.
Маржере, быстро переводивший остолбеневшему дьяку блестящие логические построения сендомирского воеводы, ощущал чувство все возрастающей брезгливости. Сам не веривший ни в Бога, ни в черта, Жак тем не менее не мог понять такого цинизма: еще не остыла постель новобрачных, а чадолюбивый папаша подсовывает свою дочь под одеяло новому претенденту на трон. И кому — гундосому, слюнявому старику!
До Татищева наконец дошел смысл того, что с таким жаром вдалбливал Мнишек.
— Так что, он сватает свою дочь за Шуйского? — переспросил он у Маржере, словно не веря своим ушам.
Жак молча кивнул, с любопытством ожидая от дьяка вспышки необузданной ярости. Но ее не последовало. Хитрый дьяк понял, что может впутаться в политическую интригу, которая неизвестно чем кончится. Ведь он знал, что Шуйский озабочен реакцией польского короля на происшедшие события. И чем черт не шутит, вдруг он клюнет на приманку хитрого пана. Тем более что Марина очень недурна собой.
Поэтому он только произнес односложно:
— Не можно!
— Почему?
— Государь крепко держится старых порядков и не женится на католичке.
— Старых порядков? Но позволь — ведь бабка убиенного Димитрия была урожденной Глинской, полячкой, и благополучно родила наследника, будущего великого Ивана Четвертого.
— Убиенный, как ты говоришь, Димитрий — вовсе не сын Грозного, а расстрига Гришка Отрепьев, которого постигла Божья кара.
— А я и не утверждаю, что покойный государь был сыном Ивана…
— Кем же еще?
— Ты же отлично знаешь, что у Ивана был старший брат, Григорий, рожденный в монастыре.
Татищев похолодел: значит, этот проклятущий поляк знает великую тайну, которую поведал умирающий Димитрий заговорщикам. Значит, ее знают и Жигимонт, и папа римский? Однако, не подав виду, что испугался, дьяк обрушился на воеводу с руганью:
— Враки все это. Гнусные измышления дьявола, чтоб сбить с толку добрых людей! Что же он, выдавал себя за сына Ивана и Марфу называл родной матерью?
— Так было проще заставить народ идти за собой. Ведь кто знал о Григории, кроме самого Ивана, который искал старшего брата по монастырям, чтобы убить? Разве что только ближние бояре. Да мало кто из них избежал гнева Грозного. А легенду о спасенном младенце знали все. Как говорится, ложь во спасение.
— Ложь есть ложь! Не может святое дело ею прикрываться. Так что выбрось эти глупости из головы и жди сегодня людей из Дворцового приказа. Они все твое имущество опишут и заберут. Тогда и милуйся со своей дочкой.
— Но что мы будем есть и пить?! — возмутился Мнишек.
— Будете получать в достатке милостыню с царского стола! — усмехнулся Татищев. — Маринка, как убили ее повара, уже ест блюда из царской кухни — и ничего, не жалуется!
— А что я буду пить, если вы заберете мое любимое венгерское вино? О мой золотистый токай! — возопил воевода. — В моих погребах — тридцать бочек.
— Ничего, медом обойдешься! А бочки твои пригодятся к цареву столу.
— У меня от вашего меда изжога и голова болит!
— Привыкать надо, коль к нам непрошеный явился, — оскалился дьяк.
Татищев поспешил рассказать о разговоре Шуйскому. Тот выслушал со все возрастающим страхом и велел немедля позвать из Посольского приказа князя Григория Волконского, который вместе с дьяком Андреем Ивановым готовился к поездке в Польшу для переговоров с королем.
Волконский, войдя в опочивальню, где Шуйский шептался с Татищевым, удалив не только ближних слуг, но даже родных братьев, пал на колени и довольно сильно стукнулся лбом об пол. Шуйский неодобрительно взглянул на тщедушные плечи князя: «Худосочен уж больно, где ему до дородности Афоньки Власьева!» Однако, привычно скрыв истинные мысли, рек благолепно:
— Как, князюшка, когда готов отправиться с посольством?
— Недели через две, государь. Дел много, грамоты еще не готовы, подарки, да и с поездом…
— Что с поездом?
— Уж больно беден — лошади поистощали, да колымаги бы заново сафьяном обить надобно, а денег, сказывают, в казне нету.
— Нету, — подтвердил привычно Шуйский, затем, потеребив в задумчивости бороденку, осилил свое привычное скупердяйство: — Ин ладно, велю по твоей бедности выдать тебе триста рублев. Как, управишься?
— Постараюсь, батюшка царь.
— Ин ладно, — снова благолепно произнес Шуйский, но тут же голос его стал властным и даже угрожающим: — Теперь слушай и запоминай как следует. Коли будут тебя Жигимонт и его сенаторы допытывать, откуда, мол, знаем, что на троне сидел расстрига Гришка Отрепьев, отвечай, что как съехались в Москву дворяне и всякие служилые люди, то царица Марфа и великий государь наш Василий Иванович, а также бояре обличили богоотступника, вора и расстригу Гришку Отрепьева и что, деи, он сам сказал перед великим государем и перед всем многонародным множеством, что он прямой Гришка Отрепьев и делал все то, отступя от Бога, бесовскими мечтами. Понял? Поэтому весь народ московский, осудя истинным судом за злые богомерзкие дела, его убил. Хорошо запомнил?
— И еще, — Шуйский перешел на зловещий шепот, — если Жигимонт спросит тебя с глазу на глаз, мол, куда девался тот юноша, что показывал ему тайные царские знаки, отнекивайся, деи, ничего про то не знаешь доподлинно, но как бы слышал разговоры, будто погиб тот юноша еще в Самборе, а в Россию въехал с войском уже точно Гришка Отрепьев. Запомнил? Смотри не перепутай! А коль ссылаться будет Жигимонт на свидетельство дьяка Афанасия Власьева, реки, что Афанасию верить нельзя было, потому что он — вор, разоритель веры христианской и ездил в Польшу без ведома бояр. Ну, ступай!
Татищев, едва дверь закрылась, спросил:
— Зачем про Самбор наказывал?
— Мне Варлаам Яцкий сказывал, что королю известно, будто в Самборе по приказанию Димитрия был казнен подосланный к нему убийца. А ежели наоборот — того, что за царевича себя выдавал, убили, а вместо него Гришку поставили?
— Так ведь Мнишек при этом был! Он эту ложь обличит.
— Мнишек короля увидит не скоро. А когда время пройдет, пусть болтает чего хочет.
— И послы могут подтвердить, что тот, кого они видели при королевском дворе, занял московский престол. Да и другие знатные вельможи молчать не станут! — не унимался Татищев. — Их же мы не сможем долго под стражей держать!
— Сможем, если хитростью будем действовать! — Глазки Шуйского заблестели, предвкушая желанную интригу. — Главное — сбить их с толку!
…На следующий день Маржере обнаружил, что трон, по которому так усердно елозил своим плоским задом Шуйский, здорово шатается. Сначала один из его драбантов встревоженно сообщил, что ночью на воротах многих домов, в том числе и тех, где на квартирах размещались иностранные воины, появились надписи. В них народ московский именем государя призывался громить эти дома, как дома предателей.
Маржере во главе своих гвардейцев заспешил во дворец. Его лошади приходилось то и дело объезжать группы простолюдинов, спешивших на Красную площадь. На лицах некоторых читалась озлобленность против чужеземцев, их останавливал только вид грозных алебард. Однако большинство из посадских и стрельцов выражали недоумение: зачем нужна новая резня. И так уж на весь свет опозорились, когда бросились спасать своего царя от поляков, а в результате Шуйский с заговорщиками его же и убили. Теперь вот на всех углах кричат, что это был Гришка Отрепьев, продавшийся дьяволу, а приезжающие с Запада гости толкуют, что царь жив, скоро снова будет в Москве и тогда несдобровать тем, кто шел против него по наущению Шуйского.
— Ахти мне! — сокрушался мужик в зипуне и с топором за поясом, видимо плотник. — Я же этим топором пять поляков порешил, не простит мне царь-батюшка. И поделом мне, дураку, поделом! Зачем только послушался людишек этого «шубника»! (Так звали москвичи Шуйского за то, что тот имел на Севере меховые промыслы.)
Постепенно настроение толпы менялось. Если сначала больше слышались возбужденные голоса тех, кто не прочь был снова пограбить богатых господ да попить дармового винца, то теперь стала расти озлобленность против Шуйского, причем умело подогреваемая. То здесь, то там слышались выкрики:
— Незаконно Васька престол занял! Кто его избирал? Никто не приехал из других городов! Пусть сначала докажут, что Димитрий мертв. Вот вернется, покажет боярам кузькину мать! Тащите Ваську на Лобное место!
Во дворце были встревожены нарастающим гулом толпы.
— Что они хотят? — спросил Шуйский дрожащим голосом у вошедшего командира гвардейцев.
— В толпе кричат, что это ты, государь, велел собраться всем на площади, чтобы идти бить неугодных тебе знатных вельмож, а также иностранцев.
— Вранье! — тонко возопил Шуйский. — Это чьи-то козни! Хотят стравить меня с дворянством.
Он обратился к Татищеву и Дмитрию Шуйскому:
— Ступайте туда, скажите, что их государь никого не собирал, пусть уходят восвояси.
Пока посланцы отсутствовали, Шуйский бегал из угла в угол, по-бабьи всплескивая длинными рукавами тяжелой бобровой шубы. Маржере с удивлением заметил, что государь… плачет.
— Придумать этакое! И ведь наверняка кто-то из ближних людей это сделал! Замутить народ, чтоб поднять кого-нибудь на кол, а потом обвинить во всем меня и под шумок и меня… убить?!
Он испуганно поглядел на полковника. Маржере сохранял невозмутимость, но про себя подумал: «Однако этому хитроумному псу не откажешь в проницательности. Впрочем, если бы он сам был в числе заговорщиков, то поступил бы, наверное, точно так же».
Вбежал Татищев, за ним толпой вошли бояре. Татищев пробасил:
— Они требуют, чтоб ты сам вышел на площадь.
— Не ходи. Василий Иванович, свет, не ходи! — жарко запричитал брат Иван. — А то, не ровен час, тебя, как Димитрия…
Он не закончил, а Шуйский-старший неожиданно взорвался:
— Все! Надоели мне эти ваши козни!
— Почему наши? — возразил кто-то из братьев Голицыных.
— Ваши, ваши! — упрямо подтвердил Шуйский. — Сначала сами же меня избрали, а теперь хотите от меня избавиться. Пожалуйста, я не против. Кто из вас желает стать царем? Ты, Мстиславский?
— Чур меня, чур. Я же уже говорил, если мне придется занять престол, сразу уйду в монастырь.
— Может, ты, Голицын? — обратился Шуйский к старшему из братьев, Василию, и протянул ему посох, символ царской власти.
Тот отшатнулся, испуганно отмахнувшись от посоха.
— Ну, берите, берите же! Владейте государством! — вопил Шуйский, протягивая посох то одному, то другому из бояр.
Наконец, успокоившись и поправив на голове шапку Мономаха, Шуйский сурово потребовал:
— Коль я остаюсь на престоле, пусть накажут тех, кто кричал супротив меня.
Вскоре государю доложили, что стрельцы изловили пятерых зачинщиков, а толпу разогнали бердышами.
— Бить плетьми до тех пор, пока не назовут, кто их против меня науськивал.
Следствие было недолгим — все пятеро единодушно указали на сторонников Мстиславского, особенно на Петра Шереметева. Называлось имя и Филарета.
— Ловко удумали! — усмехнулся уже совсем успокоившийся и снова егозящий на троне Шуйский. — Решили, что раз они уехали в Углич, то, значит, к московским делам касательство иметь не могут. Не тут-то было! Филарет — лицо духовное, обижать не будем. Как приедет, сразу пусть отправляется в свой Ростов на митрополитство. Митры патриаршей ему не видать. А Шереметева — в опалу, воеводой в Псков. Чтоб воду здесь не мутили.
Внезапная мысль осенила Маржере: «Уж не придумал ли этот „заговор“ сам Шуйский, чтобы расправиться с влиятельными недругами. Ведь в выгоде он один остался!»
Рев толпы с площади долетел и до стен посольского подворья. Ночь поляки провели в тревоге. Наутро Александр Гонсевский, несмотря на сопротивление охраны, выехал с подворья и отправился в Кремль, в Посольский приказ. Дмитрий Шуйский твердо пообещал ему, что назавтра послов примут в думе.
Действительно, на следующее утро торжественный кортеж выстроился у ворот посольского подворья. Гвардейцы Маржере с почестями везли Николая Олешницкого и Александра Гонсевского по Москве, к Боровицким воротам. Сам Маржере к карете не подъехал, лишь знаком показал, что не время. Послы с жадностью осматривались и не узнавали жизнерадостных москвичей — люди смотрели понуро, с затаенным страхом. Парень в драном зипуне, улучив момент, проскользнул мимо гвардейца и что-то возбужденно крикнул. Тут же алебардщик толкнул его так, что тот полетел в лужу. Однако обычного в таких случаях добродушного хохота толпы не последовало. Люди сомкнулись плечами еще теснее. Олешницкому стало не по себе, и он спросил Гонсевского, хорошо знавшего русский язык:
— Что он кричал?
— Уверяет, что прежний царь жив.
— Неужели такое может быть?
Гонсевский пожал плечами:
— В России все может быть.
Его это известие не удивило. Гонсевский продолжал поддерживать связь со своими тайными лазутчиками и уже знал о слухах об успешном бегстве царя из Москвы. У дверей в тронный зал их ждал Маржере. Подчеркнуто не глядя в их сторону, он процедил по-французски:
— Не очень рассчитывайте на успех. И будьте крайне осторожны.
Войдя в зал, послы убедились, что трон пуст. Шуйский не удостоил их чести вести переговоры самолично.
— Государь занят важными делами, — поспешно объяснил Волконский.
«Государь. Вот как!» — прикусил губу Гонсевский. Давно ли этот «государь» вместе с этим быдлом, что, важно надув животы, принимает сейчас послов, — давно ли они слали ему, Гонсевскому, тайные послания, умоляя помочь им свергнуть Димитрия и прося согласия короля на то, чтобы посадить на русский престол малолетнего принца Владислава. И он, которому хорошо знакомо коварство бояр, попался на удочку старого лиса Шуйского! Теперь он — «государь» и «очень занят». «Ну, погоди, дай только нам выбраться из этой западни!»
Усевшись вместе с Олешницким на отведенное им место, Гонсевский усилием воли заставил себя слушать то, что зачитывал по длинному списку старший боярин Федор Мстиславский.
Напомнив о перемирии, установленном между Россией и Польшей на двадцать лет, Мстиславский вдруг набросился на послов с упреками в адрес короля, который, по его мнению, нарушил условия этого перемирия.
— Когда по дьявольскому умышлению Гришка Отрепьев, чернец, диакон, вор, впал в чернокнижие и, за то осужденный от святейшего отца патриарха, убежал в государство вашего короля, назвался князем Димитрием Ивановичем, то был принят Жигимонтом. И мы, бояре русские, посылали к сенаторам великим литовским с грамотою Смирнова-Отрепьева, родного дядю этого вора, чтоб он обличил его и показал бы перед вашими сенаторами, что это не настоящий Димитрий, каким он себя сказывал. Потом патриарх и архиереи наши посылали к архиепископам и епископам вашим о том же самом. Но король Жигамонт, и паны, и рада не приняли нашего известия, забыли договор, который утвердили присягой: чтобы никакому неприятелю нашему не помогать ни казною, ни людьми. Все это мы вам, послам, объявляем, чтоб вы знали неправду короля вашего и всего государства вашего, что вы поступаете не по-христиански!
Гонсевский, переговорив шепотом с Олешницким, вышел вперед. Бледный от гнева, он начал язвительно-вкрадчиво:
— Если Сигизмунд и принял к себе изгнанника, то он не нарушил этим мирного договора. Ведь даже варвары не отказывают в убежище гонимым и просящим приюта. Борис же принял к себе Густава, сына короля сиверского Эрика в то время, когда Сигизмунд воевал со Швецией! Ни король наш, ни люди его не верили сначала рассказам этого человека, пока не пришли ваши люди — несколько десятков человек из разных городов, — и все они уверяли, что этот человек — настоящий Димитрий Иванович. И потому король дал изгнаннику милостыню…
Гонсевский обвел взглядом лица думных бояр — братьев Шуйских и Голицыных, брата Марфы Нагой, одного из Романовых, Татищева и воскликнул:
— Не все ли вы и князь Шуйский, нынешний государь, и другие приезжали к нему в Тулу, признавали государем, присягали, а потом привели в столицу и венчали на царство? Теперь, после этих уверений и присяги, вы убили его. За что же винить короля и Речь Посполитую? Во всем ваша вина. Мы не жалеем этого человека. Вы же сами видели, с каким высокомерием он с нами обращался, как требовал императорского титула, как не хотел принимать грамоты от короля…
Гонсевский чуть было не сказал, что послы поддержали заговорщиков, но вовремя удержался. После паузы продолжил, опустив голову:
— Нам жаль только многих почтенных людей, которых вы перебили, перемучили, разграбили состояние, да еще же нас и вините, будто мы перемирие нарушили!
Ярость снова заклокотала в Гонсевском, и он в запальчивости начал угрожать, чего, видимо, и ждали от него бояре:
— Если вы нас, не по обычаю христианскому, задержите и оскорбите этим короля и Речь Посполитую, корону польскую и Великое княжество Литовское, тогда уж трудно будет вам на чернь ссылаться, и случившееся пролитие невинной крови братий наших останется не на черни, а на вашем государе и на вас, думных боярах. Из этого ничего не выйдет хорошего ни для вашего, ни для нашего народа!
Маржере даже поморщился от досады. Ведь именно такого заявления и ждет Шуйский, чтобы задержать послов подольше!
Туповатый Татищев, не поняв, что дело сделано, решил еще больше подзадорить послов и начал оскорблять короля:
— Ну какой Жигимонт король? Никто его не слушается, многие дворяне его не признают и хотят прогнать с престола. Воевать не умеет, с одной стороны татары лезут, с другой — шведы. Как с таким королем переговоры вести?
Однако Гонсевский, поняв, что допустил дипломатическую ошибку, на удочку не попался и ответил холодно-презрительно:
— Мы ничего не знаем о внутренних наших беспорядках, о которых здесь толкуют, и не думаем, чтобы они были. Правда, мы люди свободные, привыкли говорить свободно, охранять права, вольности и свободу народную. Но это нельзя считать беспорядком. Хоть бы и случились в нашем отечестве какие-нибудь недоразумения между людьми, в нашем народе достанет доблести, чтоб пожертвовать своими частными выгодами для отечества. И если осмелится оскорбить нас посторонний неприятель, то наши легко между собою согласятся и не дозволят чужеземцам посягать на свободу и вольность нашу.
Мстиславский поспешил замять бестактность дьяка, вернувшись к прежней теме разговора. Со вздохом он сказал:
— Все это сделалось за грехи наши. Вор этот и нас и вас обманул. Вот Михайло Нагой, родной брат царицы, он назвал себя его дядею — спросите его! Он вам скажет, что это был вовсе не Димитрий, настоящий Димитрий в Угличе, за его телом поехал митрополит Филарет Никитич с архиереями, они привезут его и похоронят между предками его. А ваше слово об отпуске вашем и всех польских людей мы доложим великому государю и дадим вам ответ.
Обманутый миролюбивым тоном, Гонсевский попросил позволения повидаться с Мнишеками, но Мстиславский наотрез отказал, памятуя наставление Шуйского ни в коем случае не допускать такой встречи.
На выходе Маржере будто невзначай оказался рядом с Гонсевским:
— Боюсь, вы дали выгодный козырь Шуйскому. Теперь у него есть повод подольше не отпускать вас в Польшу. Он будет жаловаться королю на вашу угрозу и требовать замену посольства. А это дело долгое…
— Но каков бестия! Обвел нас вокруг пальца.
— Я это понял, когда спросил о своем вознаграждении…
— И что же? Неужели отказался заплатить обещанное?
— Он сказал: «Послы тебе обещали, пусть они и платят».
— Увы, Маржере, посол беден, как и ты. Единственная надежда на короля. Можешь ли ты срочно выехать в Краков, чтобы поведать о происходящем?
— Меня не выпустят так просто. Я тоже слишком много знаю, как и господин посол. Правда, есть купец Масса…
— А, это тот пронырливый молодой человек с лукавой рожицей? Он сможет проникнуть ко мне?
— Сейчас вряд ли. Шуйский приказал усилить охрану. С меня ведь тоже глаз не спускают.
Маржере убедился в этом, навестив в последний раз свою возлюбленную. Рыдая, она рассказала, что ее деверь Иван, видно по поручению Шуйского, дознавшегося о ее связи с Маржере, приказал ей немедленно выйти замуж за соседа, боярина-вдовца.
На обратном пути посольство миновало дворец, где располагался воевода Мнишек. Гонсевский увидел его стоявшего у окна рядом с дочерью Мариной. Гонсевский замахал кружевным платком. Воевода заметил его, что-то хотел крикнуть, но передумал, лишь растерянно улыбнулся и развел руками. Шуйский лишил его всего имущества, включая тридцать бочек токайского. Марине же вернули ее арапчонка, платья и… пустые сундуки.
…Князь Дмитрий Пожарский в числе немногих оставшихся при дворе стольников был зван на государево венчание. Видно, наслышан был Шуйский, что князь отказался в свое время от лестного предложения вельможи Ивана Хворостинина войти в число близких людей императора.
Вместе со своим неразлучным Надеей и десятком верных дружинников он скакал из родового имения Мугреева. При подъезде к Москве ему встретился возок, в котором отправлялся в Уфу бывший дьяк Посольского приказа старый знакомец князя Афанасий Власьев.
Не думая о возможных неприятных для него последствиях, Дмитрий спешился и властным жестом приказал приставу, сопровождавшему возок, остановить поезд.
— Как живешь, подобру ли? Здоров ли? — участливо спросил Пожарский, не ожидая, пока Власьев, покряхтывая с непривычки, самостоятельно выберется из возка.
— Далеко ли собрался? — осведомился князь.
Власьев покосился на пристава, который с любопытством слушал разговор, и ответил коротко:
— В Уфу, на воеводство.
— А что не по Казанской дороге?
— Там казаки пошаливают. Сказывают, идут на Москву с царевичем Петром.
— Петром? — удивился князь.
— Сын у покойного Федора появился. Не слышал?
— Не сподобился. А что в Москве делается?
Власьев вновь покосился на пристава:
— Завтра государь наш законный, Василий Иванович, венчается на царство.
— Знаю. Сам зван ко двору.
Пристав неожиданно отвлекся, увидев скачущего из Москвы одинокого всадника, и Власьев произнес слова, которые Пожарскому потом довелось слышать слишком часто:
— Смутное время наступило, князь. Смута — в умах, смута — в душах, смута — в сердцах. Люди не знают, кому и чему верить. Димитрий не сумел удержать царство, но и Шуйский — не царь.
— Что так? И знатен вельми, и умом не обижен.
— Умен-то умен, да недогадлив. Глупость за глупостью делает, — досадливо сказал дьяк. — Я, конечно, не советчик ему, но поглядел — с поляками поссорился, чужеземцев со двора гонит. Самых отъявленных недругов своих воеводами на границу с Москвой прогнал, они же первые ему и изменят. На престол сел без Земского собора, не понимает, что власть Москвы ничто без поддержки всех городов. Стоит им откачнуться — и Москве не бывать! Попомни мои слова!
В этот момент пристав, видя, что всадник проскакал мимо, вновь повернулся к старым знакомым.
Опытный дипломат, не меняя голоса, переключился на другую тему:
— И мой тебе совет, князюшка: служи верно государю нашему, и он тебя вниманием не оставит.
Пожарский тепло взглянул на осунувшееся от переживаний лицо дьяка, потрепал по плечу:
— Держись! Надеюсь, что скоро вернешься в свой московский дом.
Власьев усмехнулся:
— Мой дом — теперь не мой.
— В казну взяли?
— Мой дом удостоен высокой чести: в нем царица будет жить.
— Царица?
— Марина со своим отцом и братьями. Под крепкой стражей, конечно. Думал ли я, что мой скромный терем под царские хоромы пойдет? — Он досадливо покачал головой и повторил: — Смутное время, ох смутное…
Долго еще ехал князь, не торопя коня и низко опустив голову. Он вспоминал Земский собор, когда люди со всей Русской земли умоляли Бориса надеть шапку Мономаха. Ликование в войсках, когда будущий царь закатывал пиры сразу на десять тысяч человек. Его венчание на царство, когда он давал обет Богу, что поделится последней рубахой с нуждающимися. И вдруг страшный голод, калики, голосящие на площадях, что Бог проклял Бориса за злодейское убийство царевича Димитрия и что проклятие это ляжет на головы его детей.
«Неужели прав дьяк и Россию снова ждут грозные испытания? — размышлял Пожарский. — Коли так, то слава Богу, что представитель рода Рюриковичей, не раз спасавшего Россию, снова на троне. Пусть Шуйский слаб, но он — Рюрикович. И Пожарский — тоже Рюрикович. Значит, он должен, если нужно, жизнь отдать за государя Шуйского!»
Укрепившись духом от принятого решения, князь пришпорил коня.
…Венчание Шуйского никак не напоминало тот пышный праздник, который устроил год назад по случаю своей коронации Димитрий. Скупой Василий пожадничал даже в день своего долгожданного торжества. Не было ни ковровых дорожек, ни пышных нарядов челяди. Не было в этот день и полагающегося, по обычаю, народного гуляния с дармовой выпивкой и закуской. «Пожалел „шубник“ четыреста рублев, — недовольно гундосили мужики у кабаков, — а ведь обещал нам, когда поляков резали. Ну, да мы ему еще припомним!» Не было и пышного царского пира, лишь обычная трапеза с ближними боярами.
Митрополит Новгородский Исидор и митрополит Крутицкий Пафнутий, венчавшие Шуйского на царство, после свершения обряда подводили знатных людей к крестному целованию в знак верности государю и заставляли расписываться в записи, сделанной от его имени. Князь Никита Хованский попросил свояка расписаться за него, поскольку за прошедшие пять лет знаний в грамоте не прибавил.
— Что в записи сказано? Прочти, — попросил он Дмитрия.
Тот скороговоркой прочитал:
— «Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Василий Иванович всея Руси, щедротами и человеколюбием славимого Бога и за молением всего освященного собора и по челобитью и прошению всего православного християнства, есми на отчине прародителей наших, на Российском государстве царем и великим князем, его же дарова Бог прародителю нашему Рюрику, иже бе от римского кесаря. И потом многими леты и до прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского на сем Российском царстве бытие прародители мои…»
Хованский даже не возмутился, а скорее восхитился:
— Что за умелец, помилуй Бог! Прямо-таки апостол Петр. Тот трижды отрекался от Учителя, еще не запел петух, а этот уже трижды соврал, еще не сев на царство.
— Почему трижды?
— Священный собор еще не собирался, патриарха не выбрали, а уже «моление» было. Это раз. «Прошение всего христианства» тоже придумал. Кроме Москвы, еще ни один город его царем не называл. Это два. И зачем врать, будто его прародитель — Александр Невский, когда всем известно, что род князей суздальских — от его младшего брата Андрея?
— Рюрик создал Российское царство, — негромко, но внушительно произнес Пожарский, — значит, Рюриковичам его и укреплять. Шуйский — самый знатный из нас, значит, мы — его опора.
— Э, ты, святая душа! — ухмыльнулся Хованский. — Ин ладно, ставь свою подпись, а я крестик начертаю. Как тут сказано?
— «Целую сей святый и животворящий крест Господень на то, что мне, государю своему, царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Русии, служити и прямости и добра хотети во всем вправду безо всякие хитрости, потому как в сей записи писано и до своего живота по сему крестному целованию».
— Безо всякие хитрости, — повторил Хованский и с сомнением оглядел окружающих его бояр и дворян. — Ну и рожи. Помяни мое слово, князь, и петух не прокукарекает, как многие из них трижды изменят государю. Нельзя на вранье и хитрости Русью долго управлять!
Через день Москва встречала у Сретенских ворот гроб с мощами Димитрия Угличского. Еще накануне на площадях зачитывали грамоту Филарета о том, что, когда гроб извлекался из склепа и открыли, «неизреченное благоухание» наполнило церковь. Мощи были целы, на голове остались нетронутыми рыжеватые волосы, на шее — ожерелье, низанное жемчугом. Тело было покрыто саваном, поверх которого лежал кафтан камчатный на беличьих хребтах с нашивкою из серебра пополам с золотом. В руке младенца нашли горсть орехов, также не тронутых временем. Говорили, что в момент убийства дитя играло с орешками, и орешки эти были облиты кровью, поэтому их и положили с ним в гроб. Филарет сообщал также, у что у гроба, выставленного в соборе, произошли чудесные исцеления.
Однако благая весть была воспринята москвичами по-разному. Кое-кто свято поверил, однако большая часть, продолжавшая верить в чудесное спасение царевича, встретила процессию враждебно. Когда Шуйский, сопровождаемый инокиней Марфой, выбрался из колымаги, чтобы собственноручно нести гроб к Архангельскому собору, в толпе раздалось улюлюканье и в царя полетели камни. Стольники, в том числе и Пожарский, бросились навстречу толпе и начали своими конями теснить напиравших на процессию людей. Увидев остро отточенные сабли, сверкавшие над их головами, простолюдины попятились, а затем стали разбегаться. После того как подоспели гвардейцы Маржере и стрельцы, порядок был восстановлен, но благолепие нарушено.
Гроб внесли в Архангельский собор, где после молебна его поместили в склеп рядом с могилой Ивана Грозного. Толпа не расходилась, ожидая чуда. Двое монахов, выйдя из храма, цепко оглядели собравшихся на паперти калек и слепых, взяли одного под руки и ввели в храм. Через несколько секунд слепой выскочил оттуда, размахивая руками и вопя:
— Вижу, воистину все-все вижу. Прозрел, слава тебе, Господи. Слава святому царевичу Димитрию.
В толпе истово закрестились, ударил большой колокол Кремля. И тут же по всей Москве весело затрезвонили тысячи колоколов. А монахи уже бережно вносили не могущего ходить человека. И чудо повторилось вновь. Маржере и Конрад Буссов, который непременно хотел о чем-то срочно переговорить с полковником, стояли чуть поодаль и считали вместе с толпой:
— Седьмой… девятый… двенадцатый.
На тринадцатом, вот и не верь приметам, произошла досадная заминка. Проходила минута, вторая. Наконец монахи вытащили калеку, но не исцелившегося, а умершего. В народе началось шевеление, поползли голоса:
— Люди добрые, обманывают нас, никакой Димитрий не святой.
— Да и не Димитрий это вовсе! Говорят, Филарет купил за большие деньги у одного стрельца сына. Вот его и зарезали, а потом показали, якобы нетленного.
— А звали мальчика Романом, — сказал кто-то авторитетно.
— Поглядите, монахи ведь не всякого берут, а только тех, с кем сговорились.
Движимые любопытством, Маржере и Буссов подошли вплотную к паперти, где сидело несколько десятков калек.
— А вы почто в храм не идете, не исцеляетесь?
— Боимся, — ответил один бойкий калека.
— Чего же? Святого?
— Нет, своего маловерия. Бог может наказать.
Посмеиваясь, иностранцы пошли прочь.
— Так что ты мне хотел сказать, Конрад?
Буссов остановился, с таинственным видом оглянулся и прошептал на ухо Маржере, жарко дохнув перепревшим чесноком и водкой:
— Он в Путивле. С войском.
— Ну и дела! — присвистнул Маржере. — Я же своими глазами видел труп.
— А кого это интересует! Шуйскому не усидеть, это ясно. А тот, кто будет ближе к трону, тот больше и получит… Ну, как, махнем?
— Меня не пустят. Да и тебя, пожалуй, тоже. Шуйский строго присматривает за иностранцами…
— Меня-то выпустят. Ты забыл? Мое поместье — возле Калуги. Требуется хозяйский глаз… Ну, что ж, легкого пути!
В году 7114-м (1606) после царствования расстриги сел на престол Московского государства царь Василий Иванович, именуемый Шуйским, происходивший из рода князей суздальских. Суздальскими же именуются по такой причине. Было два сына у великого князя Ярослава Всеволодовича, внука Юрия Долгорукого, правнука Владимира Мономаха, праправнука Всеволода Ярославича; а был старший сын у великого князя Ярослава Всеволодовича — великий князь Александр, именуемый Невский, княживший во Владимире, здесь же и положен был в монастыре Богородицы, честного ее Рождества. У него родился сын — князь Даниил Московский, и другие были от этого рода, поколение за поколением. А другой был сын — князь Андрей Ярославич, младший брат Александра Ярославича Невского. И тот был великим князем суздальским, а после него княжил сын его князь Василий Андреевич, а у князя Василия был сын — князь Константин, а у князя Константина — князь Димитрий. Тот был великим князем новгородским. А у князя Димитрия — князь Василий Кирдяла, а у князя Василия Кирдялы — князь Юрий, а у князя Юрия — князь Федор, а у князя Федора Юрьевича, у Кирдялина внука, — князь Василий Шуйский, а у князя Василия Шуйского — князь Иван, а у князя Ивана дети — князь Андрей и князь Петр. И из рода их царь и великий князь всея Руси Василий Иванович.
Из хронографа 1617 г.
А царь Василий ростом невысок, лицом некрасив, глаза имел подслеповатые. В книжном учении достаточно искусен и умен был. Очень скуп и упрям. В тех только заинтересован был, которые в уши ему ложь нашептывали, он же с радостью ее принимал и с удовольствием слушал, к тем стремился, которые к восхвалению склонность имели.
Шаховской С. И. Летописная книга
Загудела как улей вся Европа. До папского нунция в Кракове, наставника Димитрия на духовном пути, графа Александра Рангони дошли слухи, что русский царь жив и скрывается в Самборе, в монастыре бернардинцев. Далее следовали подробности таинственной истории: шли по дороге трое неизвестных. К одному из них путники относились с чрезвычайным почтением. Вдруг подъезжает экипаж. Таинственный незнакомец сел в него и уже не выходил. Затем этот экипаж видели в Самборе. Его сопровождали двое всадников. После этого путешественники как в воду канули. Но в замке все преобразилось. До того времени воевода был погружен в печаль. Теперь он не плачет больше, и на лице его играет улыбка. Одна из служанок замка разболтала тайну на базаре: оказалось, что причиной радости воеводы является возвращение Димитрия в Самбор.
Нунций, осведомленный, что Юрий Мнишек с дочерью находится в Москве под стражей, не придал значения этим нелепым слухам. Но вот исповедник короля Сигизмунда отец Барч сообщил Рангони о своем допросе бывшего офицера армии Димитрия Валевского и его слуги Сигизмунда Криноского. Оба утверждали, что Димитрий имел двух двойников. Одного звали Борковский, другой был племянником Масальского. За исключением знаменитой бородавки возле носа, они были точной копией царя. В ночь мятежа роль царя играл Борковский, и он пал под выстрелами заговорщиков. Сам же Димитрий умчался из Москвы на лихом скакуне.
Получив сообщение отца Барча, нунций начал колебаться, уж очень ему хотелось, чтобы царь остался жив и интрига, начатая Рангони по распространению католицизма в России, получила свое продолжение. Еще больше сбило его с толку письмо бывшего духовника царя, отца Андрея. Тот сообщал, что, глубоко удрученный катастрофой, отправился в Самбор, рассчитывая проверить слухи о чудесном спасении Димитрия. Однако здесь его ожидало горькое разочарование, сменившееся внезапно бурной радостью, — во Львове один офицер показал ему письмо от супруги сендомирского воеводы. Мачеха Марины категорически заверяла, что Димитрий жив.
Нунций аккуратно сообщал о всех доходивших до него известиях о русском царе папе Павлу V, порождая в папском дворце то надежду, то сомнение.
Лишь в ноябре 1606 года Павел V окончательно уверился в гибели Димитрия и вынужден был признать, что блистательный план присоединения России к Католической церкви рухнул. «Злополучная судьба Димитрия, — произнес он в своей поминальной речи, — является новым доказательством непрочности всех человеческих дел. Да примет Всевышний душу его в царство небесное, а с ним вместе да помилует и нас».
В отличие от папского двора в Кремле точно знали, кто поселился в Самборе. Маржере, охранявший тронный зал, слышал, как в присутствии думы зачитывалось письмо из Кракова посла Григория Волконского. Через тайных осведомителей-поляков тот получил точный словесный портрет нового самозванца:
«Димитрий возрастом не мал, рожеем смугол, нос немного покляп, брови черны, не малы, нависли, глаза невелики, волосы на голове курчевавы, ото лба вверх возглаживает, ус черен, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы, по-польски и по-латыни говорить умеет».
Подьячего Посольского приказа громогласно прервал Татищев:
— Тут и гадать нечего — Мишка Молчанов. Он, вор, точно он! Верный слуга самозванца!
— Кто-то ему помогал непременно, — заметил Василий Голицын. — Иначе как он из царской конюшни трех коней увел?
— Знамо дело, вор!
Маржере, стоя как изваяние у створчатых дверей, тем временем размышлял:
«Если это действительно лишь слуга Димитрия, не могла жена Мнишека спутать его с женихом своей дочери. Ведь она наверняка запомнила будущего зятя».
Он хорошо помнил лукавую рожу приближенного Димитрия. Тот благороден, статен, а этот — суетлив, глаза бегают, всегда от него дурно пахло чесноком.
«Нет, пани Мнишек никак не могла бы поверить чужому человеку. Значит, он приехал с чьей-то рекомендацией. Постой-ка, не потому ли воевода и его дочка были в хорошем настроении, когда мы с Татищевым пришли требовать подарки Димитрия? Не сам ли воевода дал рекомендательное письмо Молчанову? Ведь тот вполне мог соврать, что уберег царя и хочет тайно переправить его в Польшу?»
Кажется, мысли Шуйского шли по тому же пути. Он неожиданно крикнул:
— Мнишека с Маринкой и весь их двор немедля отослать подальше от Москвы. В Ярославль. И охраны не жалеть. Сколько у них челяди?
— Почитай, больше трехсот, — ответил подьячий.
— Значит, послать триста стрельцов, а к ним приставов ненадежнее. И остальных полячишек разослать по городам с охраной.
— И послов?
— Послы пусть сидят здесь, в своем подворье, пока Волконский ответ короля о перемирии не привезет.
— Тут Волконский еще пишет… — робко заметил подьячий.
— Чего?
— На Украйне, у казаков, появились письма царя Димитрия Ивановича, сообщает, что жив и зовет на Москву!
— Царь-то не настоящий.
— Царь не настоящий, но печать, как сказали послу, подлинная, красная.
Татищев заскрипел зубами и что было силы ударил посохом об пол:
— Это все его проделки, Мишкины! То-то мы печать никак не дождемся, думали, в приказе Дворцовом пропала, а она вона где! То-то я еще удивился: челядь вся давно разбежалась, а он все по покоям шнырял. Значит, он печать и спер.
— Что же, его и не обыскивали? — спросил государь.
— Обыскивали. Да такой ловкач, наверняка успел куда-нибудь запрятать, а потом, как бежал, ее и прихватил.
— И где самозванец сбор назначил? — обратился Василий Иванович к подьячему.
— В Путивле.
— Понятно дело. Ведь расстрига в благодарность за помощь всех путивльских на десять лет освободил от всех налогов и податей.
— И воевода там больно ненадежный! — подал голос Воротынский. — Гришка Шаховской. Его отец — Петька один из первых князей к самозванцу перебег, за что и сидел в его ближней думе в Путивле. Сын, видать, недалеко от батюшки ушел! А ты, милостивый государь наш, его в опалу туда сослал!
— Бросили щуку в реку! — тоненько захихикал Мстиславский.
— Что же делать? — растерянно спросил Шуйский. — Патриарх, скажи свое слово.
На патриаршем троне сидел митрополит Казанский Гермоген, только что единодушно избранный первым лицом Православной Церкви Священным собором. Был Гермоген ровесником Ивана Грозного: в год его избрания ему исполнилось семьдесят пять. Будучи, как говорили знавшие его священники, «словечен и хитроречив, но не сладкогласен, а нравом груб и прекрут в словесах и воззрениях», Гермоген прославился не только ожесточенной борьбой за души язычников, но и тем, что его прямоты побаивались русские цари. Во всяком случае, Борис Годунов, созывая Земский собор для избрания его царем, Гермогена пригласить «забыл». Гермоген был единственным из митрополитов, кто открыто осудил брак Димитрия с католичкой.
Сейчас, пронзительно глядя на бояр так, что те начали смущенно отводить глаза и даже креститься, Гермоген резким пронзительным голосом произнес:
— Раньше надо было думать, что делать. Коли послушались бы меня и, объединившись, не допустили католичку к престолу, не было бы сейчас этой смуты.
Он презрительно глянул на Шуйского, которого явно недолюбливал за его двоедушие и корысть, однако поддерживал, как законного правителя.
Прямо отвечая на заданный Шуйским вопрос, Гермоген сказал:
— Уже писаны мною и разосланы грамоты по всем церквам, чтоб знакомили верующих, что на престоле был истинно расстрига и злодей, продавший душу дьяволу. Говорится также о погребении в Архангельском соборе великомученика царевича Димитрия Ивановича. Но словесы живые лучше писаных. Потому считаю, что настала пора Нагим публично искупить свой грех, что приняли на себя, признав самозванца истинным царевичем. Пусть один из братьев, а лучше если с инокиней Марфой, отправится туда, на юг, и расскажет людям о своем великом прегрешении. И пора снова открыть всем страждущим доступ к погребальнице царевича: пусть слава о чудесах исцеления, им творимых, разойдется по всея Руси.
Он помолчал и, видимо вспомнив боевой опыт своей юности, вновь обратился к Шуйскому:
— А тебе, государь, мой совет — не распускай войско, что собрал самозванец для войны с турками. Оно тебе еще понадобится.
И немного спустя почал и мятеж быта в северских градех и у в украинских, и стали говорите, что жив царь Дмитрей, утек, что был Рострига, не убили его. И с тех мест стали многие называтца воры царевичем Дмитреем за грехи наши всех православных християн. И назывался некоторый детина именем Ильюшка, послужилец Елагиных детей боярских, нижгородец, а назвался Петр-царевич, сын царя Федора Ивановича, а жил в Путивле и многие крови пролил бояр, и дворян, и детей боярских лутчих, и всяких людей побил без числа.
Пискарвеский летописец
Уже в июле 1606 года Москва превратилась в военный лагерь. После очередного волнения на посадах, кончившегося взрывом главного порохового погреба, Шуйский приказал поднять все мосты, ведущие в Кремль, и выкатить на крепостные стены пушки.
Государь становился все более подозрительным. Разослав по городам всех вельмож, которые, по его мнению, мутили москвичей, Шуйский вспомнил о злополучном Симеоне Бекбулатовиче. При самозванце Симеон был пострижен в монахи и жил в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Стефана. Теперь по приказу Шуйского слепого, дряхлого старца Стефана отправили еще дальше — на Соловки.
Недоверие государя почувствовал и Маржере. Он и его гвардейцы больше не допускались в царские покои, им поручалось лишь сопровождать царя во время торжественных выездов. Что ж, причина для охлаждения к иноземным воинам у Шуйского была основательная. Когда царское посольство отправлялось в Польшу, он разрешил отпустить на родину мелкопоместных шляхтичей. Мало что зная, они не могли своей болтовней принести ущерб царскому двору в глазах короля. Разрешено было покинуть Москву и прочим иноземцам — купцам, ремесленникам. Причем купцы, приехавшие на свадьбу Димитрия с Мариной, чтобы поживиться, уезжали и без денег, и без товара. Тут уж постарались приставы Шуйского. Часть гвардейцев во главе с капитаном Кнаустоном заявила о своем желании покинуть двор, так и не дождавшись обещанного вознаграждения от государя. Василий Иванович вынужден был их отпустить, а затем поползли слухи, будто кое-кого из ландскнехтов видели в Путивле в войске повстанцев.
Донесения воевод с юга России становились все более тревожными: один город за другим объявляли о непризнании царем Шуйского: Моравск, Новгород-Северский, Стародуб, Ливны, Кромы, Белгород, Оскол, Елец.
Провалилась затея Гермогена с поездкой Нагих в Елец, бывший центром мятежа при первом самозванце. Поехал один Григорий Нагой с грамотой сестры, инокини Марфы. Однако покаяние его было принято ельчанами с насмешкой — они не верили ни рассказу Нагого о том, что они были обмануты кознями дьявола, не верили и в святые мощи убиенного Димитрия Ивановича, якобы творящие чудеса. Нагой был с позором изгнан из города.
Рать восставших все росла, Шуйскому стали известны имена предводителей. Это были боярский сын Истома Пашков, служивший прежде стрелецким сотником в Белеве, неподалеку от Тулы, и бывший боевой холоп князя Андрея Телятевского Иван Болотников.
Шуйский лихорадочно собирал войско. Каждый день из уездов прибывали новые отряды ополченцев, которые направлялись в стан главного воеводы Ивана Воротынского. Государь и в час опасности остался верен себе — вновь прибывающим воинам сообщалось, что им придется вступить в сражение с татарскими войсками, идущими из Крыма. Только при подходе к Ельцу они узнали правду, что драться придется с такими же православными, как и они сами.
Рать самозванца вновь неотвратимо двигалась к Москве, с той лишь существенной разницей, что самозванца на этот раз в ней не было. Снова по городам летели грамоты государя и патриарха с увещеванием, но оказывали они скорее обратное действие.
Стрельцы то и дело хватали пришлых людей, возвещавших на папертях и площадях о скором приходе в Москву доброго царя Димитрия Ивановича. Их нещадно били кнутом и топили в Москве-реке. Одного даже всенародно посадили на кол. Но истязуемые упрямо кричали, что царь жив, и пророчили палачам скорую смерть.
Неистощимый на выдумки Шуйский сделал для москвичей новое представление. На Лобном месте люди увидели старую изможденную женщину и молодого человека, одетого в дворянское платье будто с чужого плеча. Пока они испуганно таращились на гомонящую толпу, дьяк возвестил, что это из Галича привезены по указу царя мать и младший брат Гришки Отрепьева.
Мать и брат наперебой стали говорить, что они очень давно не видели своего злополучного родственника, но сызмальства Гришка отличался буйным нравом и злыми выходками, пока окончательно не убег из дома.
— А как царем стал, его вы видели?
— Нет, не видели. Не приглашал он нас, — поджала обидчиво губы мать.
— Так как вы можете говорить, будто царь это и есть ваш сын?
— Так нам сказывали! — ответила мать, вопросительно обернувшись к дьяку.
Под хохот толпы родственников Отрепьева увели с площади.
Неожиданно Маржере, который бесцельно слонялся по Москве, был позван к государю. У дворца он встретил Дмитрия Пожарского, который что-то досадливо объяснял юнцам в неуклюжих ферязях.
— Новобранцы? — насмешливо спросил Маржере, учтиво раскланявшись с князем.
— Новая затея государя, — не меняя досадливого тона, ответил тот. — Всегда при дворе было тридцать стольников, не более. А он решил набрать двести.
— Несмотря на свою скаредность? — удивился Жак.
Дмитрий глянул на него:
— Видать, не от хорошей жизни. Стольник не только за столом прислуживает, это — телохранитель государев. Видать, твои гвардейцы в опалу попали.
— Платил бы больше, не попали бы! А то уж разбегаться начали. Я бы и сам… — Жак поперхнулся, не договаривая о потаенном.
— Уехал бы? — понял Дмитрий.
— Увы, не отпустит меня государь подобру…
— Что так? Уж очень люб ты ему сделался? — усмехнулся князь.
Маржере картинно поднес указательный палец в перчатке к губам:
— Тс-с-с! Слишком много видели мои глаза и слышали мои уши. А голова-то у меня одна. Так что о том, чтобы уехать, не то что говорить, думать боюсь.
На самом деле Маржере постоянно думал, как бы унести ноги из Москвы целым и невредимым. Его шпага становилась ненужной Шуйскому, а знал он действительно слишком много. Значит, жди ссылки куда-нибудь подальше, где никакой европеец не выдерживает лютых морозов. А то и просто как-нибудь ночью пустят под воду. Кто будет интересоваться безвестным французом? Существовала и другая опасность, от которой Жак постоянно просыпался в холодном поту: вдруг узнают, что он — шпион! Вряд ли его «друзья» оставят Маржере в покое. Английский посланник Джон Мерик сразу же после мятежа в Москве был благосклонно принят Шуйским и отправился в Англию за поддержкой нового правительства королем Яковом. Но тут же как ни в чем не бывало вернулся из Англии Давид Гилберт. Правда, никаких конкретных поручений он не давал, однако, отправляясь с Конрадом Буссовом на юг, к новому самозванцу, посоветовал Жаку «быть начеку и подробно записывать все дворцовые новости». И наконец, старый воин почувствовал, что стосковался по родной речи гасконцев, по милым француженкам, по своему обожаемому королю. Не такой человек Жак де Маржере, чтобы что-нибудь не придумать!
И вот нежданная удача! Маржере, почтительно нагнув голову, внимательно слушал Шуйского, который пригласил его к себе в опочивальню, как только Жак появился во дворце, слушал и ушам своим не верил.
— Есть у меня, полковник, для тебя секретное поручение. Поедешь с моим приставом в Ярославль. Чтобы не было лишних разговоров, наденешь платье стрелецкого сотника. Пристав даст тебе возможность переговорить с Юрием Мнишеком с глазу на глаз. Нам стало доподлинно известно, что неведомым путем он переписывается с женой. Про то мой посол проведал, а потом и сам Мнишек приставу проговорился. Стал спрашивать у него, все ли спокойно в России, тот и сказал, что Воротынский разбил мятежников под Ельцом, тут воевода не выдержал и стал кричать, что нехорошо обманывать, что ему доподлинно известно, что Воротынский бежал от Болотникова. А когда пристав спросил, откуда, мол, такое известие, Мнишек смешался и начал говорить, деи, слышал это от стрельцов. А стрельцы-то ничего слыхом не слыхивали про войну с мятежниками. Когда они из Москвы съезжали, то все говорили, будто войско собирается на войну с татарами!
— Так мне следует разузнать, как он передает письма? — живо поинтересовался француз.
— Нас это не интересует. Наоборот, пусть почаще пишет! — хитро заморгал подслеповатыми глазками государь. — Главное, чтобы он написал то, что нам надобно. Уяснил? Когда будешь с ним разговаривать, скажи, что хочешь поведать великую тайну, деи, в его замке в Самборе появился человек, который его жене сообщил, будто Димитрий жив. Скажи, что стало точно известно, что этот человек — слуга Димитрия, Мишка Молчанов. Чтобы проверить, пани достаточно хорошенько натопить баньку и послать с этим человеком своего верного слугу, чтобы спинку ему потер.
Шуйский хихикнул от удовольствия.
— На спине слуга без труда сосчитает двадцать полос от кнута. Ровно столько было дадено Мишке Молчанову в царской пыточной. И скажи, что байку про Димитрия сам Молчанов вместе с Гришкой Шаховским придумал, чтоб смуту затеять. Потом вздохнешь и скажешь, что, мол, хорошо бы, чтоб об этом узнал король. Тогда Сигизмунд замолвит, деи, словечко Шуйскому насчет воеводы, а тот немедля отпустит его с дочерью домой. Тебе Мнишек должен поверить. Русским не поверит, а тебе — должен!
Маржере хотел что-то сказать, но Шуйский остановил его жестом:
— И еще одно есть поручение, еще более тайное. Ты вчера на площади мать расстриги видел?
Маржере утвердительно кивнул.
— Надо в Ярославле поискать следы того человека, который выдавал себя здесь в Москве за Гришку Отрепьева. Местный воевода сообщил, что он исчез, а когда и куда — то ему не ведомо. Если ты этого человека найдешь, за его голову получишь тысячу рублев. Только голову, остальное можешь оставить в Ярославле.
Шуйский снова гнусно хихикнул:
— Но не ровен час, если ты его не отыщешь, а потом вдруг он объявится где-нибудь… Народ потребует, чтобы его с матерью свели. И если она в нем своего сына вдруг признает… Большая беда будет! Для всех нас.
Нажимая на слово «нас», Шуйский выразительно глянул на Маржере. Тот поклонился, чтобы дать понять, что понял, думая про себя: «Бежать, непременно бежать! Другого выхода теперь нет».
Шуйский проницательно взглянул на полковника, словно догадался о его тайных мыслях, и неожиданно сказал:
— Коль выполнишь, проси чего хочешь!
Маржере схитрил:
— Царского жалованья я давно не видал…
Шуйский нетерпеливо мотнул головой:
— Я же сказал, получишь от воеводы тысячу рублев. Мало?
— Премного благодарен…
— А еще чего?
Маржере вдруг решился:
— Соскучился я по Франции. Отца и мать десять лет не видал. Не знаю, живы ли…
Глаза Шуйского удовлетворенно блеснули — видать, он ждал этой просьбы, и, как понял полковник, его отъезд именно во Францию, а не в Польшу вполне устраивает государя, потому что он сказал как о уже решенном:
— Пристав, что с тобою будет, в Ярославле вручит тебе охранную грамоту до Архангельска, а оттуда на каком-нибудь чужеземном корабле достигнешь своей любимой Франции…
В дорогу предусмотрительный Жак захватил бочонок с мальвазией, чем с первого же привала крепко расположил к себе пристава. Ехали они без охраны — для тайного поручения лишние свидетели были не нужны. На каждой заставе пристав предъявлял охранную царскую грамоту — и им давали самых лучших, свежих лошадей.
Свидание Маржере с Мнишеком прошло очень убедительно. Мнишек поверил всему, что ему говорил полковник, и вскоре король и нунций, а затем и папа узнали, кто скрывается под личиной самозванца.
Повезло Маржере и со вторым поручением Шуйского. В доме, где жил Отрепьев, действительно не могли сказать ничего вразумительного: исчез ночью, ни с кем не попрощался, оставил весь свой немудреный скарб.
Маржере вышел из деревянного домика, внимательно огляделся. Интересно, почему Гришка выбрал это место, случайно? Так и есть — на противоположной стороне он увидел вывеску кабака. Жак решительно направился туда. Сев на лавку напротив хозяина, потребовал:
— Давай штоф.
Тот послушно достал штоф и поставил оловянную кружку.
— Давай и себе. Здорово живешь!
Насупленный хозяин, глотнув «полным горлом» изрядную дозу живой воды, обмяк.
— Из немцев, что ли? Одежа вроде наша, а говоришь как-то не так.
— У царя в стрельцах служу!
— Ну и какой он, новый царь? Лучше старого, поди?
— Скуп больно.
— Это плохо, — посочувствовал целовальник и еще хлебнул «полным горлом».
Маржере понял, что пора переходить к делу, и как можно простодушнее спросил:
— Этот-то часто к тебе заглядывал?
— Кто?
— Ну, этот, Гришка Отрепьев.
— А теперь говорят, что вроде это вовсе и не Гришка Отрепьев, а другой. А Гришка царевичем Угличским сказывался. Ты-то при царе что слышал?
— Темное дело! — вздохнул Маржере. — Я когда в Москве с ним познакомился, тоже считал, что это Гришка Отрепьев. Сколько с ним выпили!
— Значит, дружки!
— Вроде того, — осторожно ответил Жак.
— Так, почитай, он от меня и не уходил! Знатный питух. Штоф за раз опорожнит и давай псалмы распевать. Красиво так! А умный! Все знает. Я ему, бывалочи, говорю: «Гриня, тебе с таким умом надо в Москве жить, а не в Ярославле пропадать». А он в ответ: «Я здесь по царскому поручению!» Я, честно говоря, не верил, врет, думал. Ему — что соврать, что… И вдруг приходит он как-то под вечер, а с ним мужик такой важный, весь в бархате, все золотом отделано! «Вот, — говорит, — привел я к тебе царского гостя. Угости нас как следует». — «В долг?» — спрашиваю. «Зачем в долг! Царь мне денег прислал, как я и просил». А сам мешком трясет с серебряными рублями. До этого он с месяц в долг у меня пил, деньги кончились. Здесь же он царю и письмо написал: «Милостивый государь-батюшка! Очень по вас скучает слуга ваш верный Гришка Отрепьев. Только одно может нашу разлуку скрасить — побольше серебра». Я прямо живот надорвал, а тут, надо же, и впрямь царь гонца с деньгами прислал. Выпили, и стал гонец прощаться. Гриня ему говорит: «Куда же ты, Мишка, пьянющий такой поедешь?» А тот: «Ничего, в дороге протрезвею. Спешить надо — срочные царские дела!» А Гриня ржет как жеребец: «Знаю я ваши дела: баб из монастыря царю в баньку таскать». Тот как зыркнет глазами: «Ну, полно болтать. Проводи меня лучше до заставы».
— Ну, а что Гриня?
— А ничего. Исчез. Как в воду канул…
Слова, сказанные им про воду, вдруг породили в целовальнике какие-то смутные воспоминания:
— Постой-ка. Потом, эдак через неделю, тут у меня один мужик гулял. Рыбу полякам продавать приезжал. Выпил изрядно и язык-то и развязал. «Вчера, — говорит, — тащу сеть из Волги, чую — тяжелое, не иначе осетр. Вытащил, глянул — мужик голый. Я скорее его в воду, чтобы никто не видал». Может, это Гриня был, а? Полез спьяну купаться и захлебнулся?
— А ты мужика-то не расспрашивал, каков, мол, с виду мертвец?
— Спрашивал. Он говорит: «Что я, смотрел, что ли? Голый и голый! Я его скорее в воду!» Так что, может, и не Гриня!
— Дай-то Бог! — согласился Жак, бросая на стол гривенник, и, уже поднимаясь, как бы невзначай спросил:
— А каков он из себя, царев слуга?
— А-а. Чернявый такой. Брови насуплены, а глаза зырк-зырк по сторонам.
— На щеке бородавка?
— Так ты и его знаешь?
— Знаю, — вздохнул Маржере, — очень даже хорошо знаю.
Наутро они отправились в обратный путь. У развилки сделали привал, и пристав вручил Жаку объемный кошель с серебром и охранную грамоту. Тот быстро развернул ее и, прочтя, вздохнул с облегчением — Шуйский не обманул. Втайне Маржере до конца ждал подвоха от лукавого государя.
Попрощавшись и подарив приставу бочонок с остатком мальвазии, он поскакал прочь.
Жак гнал лошадей, меняя их, без остановки весь день и всю ночь. Заставы попадались редко, и, увидев охранную грамоту, стрельцы пропускали всадника беспрепятственно, давая ему свежую лошадь. Поздно вечером он въехал в Архангельск и направился к порту. В трактире гуляли английские моряки с корабля, на котором вернулся в Россию английский посланник Джон Мерик. Он привез поздравление своего короля Шуйскому по поводу воцарения. Узнав, что корабль возвращается в Англию на следующий день, Маржере купил у одного из матросов кафтан и шляпу и превратился в бывалого моряка. В таком виде он отправился на английское подворье разыскивать Джона Мерика. После короткого разговора с посланником он беспрепятственно попал на корабль, где ему была предложена каюта помощника капитана.
Ранним утром ветер наполнил паруса корабля, и Маржере устремил свой взор вперед, где за горизонтом его ждала прекрасная Франция.
Его величеству Генриху IV, королю французскому.
Государь!
…Я могу уверить, что Россия, описанная мною, по приказанию вашего величества, в этом сочинении, служит христианству твердым оплотом, что она гораздо обширнее, сильнее, многолюднее, изобильнее, имеет более средств для отражения скифов и других народов магометанских, чем многие воображают. Властвуя неограниченно, царь заставляет подданных повиноваться своей воле беспрекословно; порядком же и устройством внутренним ограждает свои земли от беспрерывного нападения варваров.
Государь! Когда победами и счастием вы даровали Франции то спокойствие, которым она теперь наслаждается, я увидел, что моя ревность к службе не принесет пользы ни вашему величеству, ни моему отечеству, ревность, доказанная мною во время междоусобий под знаменами Г. де Вогревана при С. Жан де Лоне и в других местах герцогства Бургундского, посему я удалился из отечества и служил сперва князю трансильванскому, потом государю венгерскому, после того королю польскому в звании капитана пехотной роты; наконец, приведенный судьбою к русскому царю Борису, я был удостоен от него чести начальствовать кавалерийским отрядом; по смерти же его Димитрий, вступив на царский трон, поручил мне первую роту своих телохранителей. В течение этого времени я имел средство научиться русскому языку и собрал очень много сведений о законах, нравах и религии русских: все это описываю в представленном небольшом сочинении с такою простотою и откровенностью, что не только вы, государь, при удивительно здравом и проницательном уме, но и всяк увидит в нем одну истину, которая, по словам древних, есть душа и жизнь истории.
Внимание вашего величества к моим изустным донесениям подает мне надежду, что книга моя принесет вам некоторое удовольствие: вот единственное мое желание! В ней вы найдете известия о событиях весьма замечательных, отчасти поучительных для великих монархов; самая участь несчастного государя моего Димитрия может служить для них уроком: разрушив неодолимые преграды к своему престолу, он возвысился и ниспал скорее, нежели в два года; мало того: его называют еще обманщиком! Ваше величество узнаете равным образом многие подробности о России, достойные внимания и совершенно доселе неизвестные как по отдаленности этой державы, так и по искусству русских скрывать и умалчивать дела своего отечества.
Молю Бога даровать вашему величеству благоденствие, вашей державе мир, преемнику желание подражать вашим добродетелям, мне же неизменную, всегда постоянную ревность делами своими оправдать имя, государь, всепокорнейшего подданного, вернейшего и преданнейшего слуги вашего величества.
Состояние Российской империи и великого княжества Московии. С описанием того, что произошло там наиболее памятного и трагического при правлении четырех императоров, а именно с 1590 года по сентябрь 1606-го. Капитан Маржере. Париж, 1607
Часть четвертая
«…Земля наша овдовевшая…»
Наконец настал черед князя Дмитрия Пожарского. Он был зван в боярскую думу, где сам Василий Шуйский сообщил, что, памятуя о его заслугах, жалует князя званием воеводы и назначает командовать полком, отряженным в помощь гарнизону Коломны.
— Воевода коломенский Иван Пушкин просит подкрепления, — объяснил Дмитрий Шуйский, ведавший обороной Москвы. — Прослышал он от перебежчиков, что Лисовский собирается из Владимира повернуть к Коломне, а оттуда — на Рязанскую землю, чтобы перехватить обозы с хлебом, идущие на Москву. Уже сейчас в городе дороговизна, сам знаешь, а коль перекроет поляк дорогу, будет голод. Много войска дать тебе не можем: возьмешь полк из подымных[49] людей, да ты у нас горазд воевать не числом, а уменьем!
В голосе Шуйского Пожарскому послышалась насмешка, поэтому он заметил:
— Так «дымные», чую, в боевом деле впервые?
— Аль заробел? — вроде как обрадовался Шуйский-младший.
Пожарский гордо вскинул голову:
— Я никогда не робею.
— Ишь ты! — то ли восхищаясь, то ли продолжая издеваться, воскликнул Дмитрий.
— Знаем, знаем, что смелый. Да только и Лисовский не робкого десятка.
Пожарский, не желая спорить, лишь спросил деловито:
— А много ли у него войска?
— Про то не ведаем. Но думаем, что пока немного, только ляхи. Но во Владимире и Суздале он может новый отряд из воров собрать. Так что держись, воевода!
В голосе Шуйского вновь послышалась насмешка, но настроение Пожарского не омрачилось, настолько рад был самостоятельному делу.
— Когда выступать? — весело спросил он.
Шуйский удивился, решил, что молокосос радуется из-за тупоумия, и скучно сказал:
— А как соберешься, так и ступай.
…Дымные — вчерашние крестьяне, одетые в тягиляи[50] да шапки, обшитые кусками железа, были вооружены в основном рогатинами, не имея ни сабель, ни тем более пищалей.
— Откуда будете, воины? — спросил он довольно хмуро.
— Из-под Нижнего Новгорода мы, — ответили мужики нестройно.
Старший в отряде, из дворян, одетый в кольчугу, хитро подмигнув своим, заговорил, заметно «окая»:
— Небось не зря говорят про нас: «Нижегородцы — не уродцы: дома каменны, а люди — железны!»
Князь, смягчившись, рассмеялся:
— Ну, коль «железны» — поляков побьем!
— А нам не впервой! — воскликнул все тот же словоохотливый дворянин.
— Вот как?
— Тушинский вор к нам для усмирения войско польское заслал с воеводой Сенькой Вяземским, так наш воевода Андрей Алябьев то войско враз разметал, а Сеньку на городской площади повесил в назидание: пусть попробуют еще сунуться.
— Дельно, дельно! — закивал совсем повеселевший Дмитрий. — Лошади-то у вас есть? Верхом ездить можете?
— Только я один, а остальные больше на санях…
— А огненному бою обучались?
— А луки и стрелы на что? Р-раз — и белке в глаз! А потом — у нас вот что есть. — Парень показал рогатину. — Хоть сохатого, хоть медведя один на один завалю.
Пожарский поставил головой над «дымными» этого говорливого малого, Ждана Болтина, уже раньше бывавшего в ратном деле. Всего пехоты в отряде насчитывалось двести человек да двадцать всадников — служилые люди самого князя из поместья и московского посада.
Коломна встретила недружелюбно, в крепость их не пустили, а подскакавший к воротам воевода Иван Пушкин с презрением окинул взглядом ратников Пожарского:
— Это что? Вся государева помощь?
— Государь сам в осаде, скажи и на этом спасибо! — сверкнул глазами Дмитрий, обидевшись за своих нижегородцев, к которым за время короткого похода успел привязаться.
— Ладно, — смилостивился Пушкин. — Располагай их по избам здесь, в Ямской слободе.
— А что, в крепости места нет?
— Пока не готово. Твоим «ратникам» самим себе придется шалаши ладить. Я чаю, что к топорам у них руки привычнее, чем к саблям.
Хоть воевода, конечно, был недалек от истины, но Пожарский вспылил:
— Коль тебе помощь не нужна, так и скажи, мы и обратно можем пойти. В Москве дел хватит.
— Ладно, ладно! Не горячись! — засуетился Пушкин. — Прошу тебя, князь, в мои хоромы откушать с дороги!
— Людей размещу и буду. А ты пока своих голов собери, будем совет держать!
Пушкину властный тон Пожарского явно не понравился, он молча повернул коня и ускакал в ворота высокой Пятницкой башни. Слобожане, в отличие от воеводы, встретили ратников дружелюбно, понимая, что коль поляки появятся под стенами Коломны, то, не будь защиты, первые пострадают слободы. Скоро во дворах разгорелись костры — это приступили к отрадному для каждого воина делу кашевары.
Дмитрий с верным дядькой Надеей и головой нижегородцев Болтиным отправился в город, который выглядел сумрачным и настороженным, как перед грозой. Торговые ряды на центральной площади пусты, не видно людей и на улицах.
Боярин не встретил его на крыльце, а ждал в горнице, дав понять, что гость — не ровня ему по чину. Пожарский, однако, сдержал свои чувства, решив, что не время разводить местничество. По знаку хозяина в горницу вплыла густо накрашенная белилами и румянами дородная хозяйка с чаркой водки на подносе, но князь остановил ее:
— Спасибо! Угощение потом! Зови, воевода, своих голов.
В горницу вошли три рослых стрелецких сотника. Сдержанно поприветствовав гостя, уселись на лавке у стены. Пожарский спросил:
— Что известно о Лисовском?
— Идет сюда.
— Откуда знаете?
— Лазутчики только приехали.
— Давайте их сюда!
Два мужика в тулупах вошли, сняв поярковые шапки, и встали у дверей.
— Ну, рассказывайте, что видели, без утайки, — потребовал Пожарский. — Вы кто будете, воины аль ряженые?
— Стрельцы мы, — ответил один из них, — а оделись будто местные из крестьян, вроде как за лесом поехали.
Пожарский одобрительно усмехнулся, одобряя хитрость лазутчиков.
— И где Лисовского повстречали?
— У села Высокого.[51]
— Далеко это?
— Верстах в тридцати будет.
— Давно повстречали?
— Вчера к вечеру.
Пожарский взглянул на Пушкина:
— Это же совсем близко! Медлить нельзя — надо посадских в крепость забирать.
Воевода побагровел:
— А чем мы их кормить будем? Лишние рты! Осада может быть долгой.
— Осада? — переспросил Пожарский и повернулся к лазутчикам: — Так их много?
— Да нет, сотни две-три!
— Как же он с таким отрядом осадит? Ведь в Коломне, чай, не меньше тысячи бойцов.
— Стрельцов сотни три, — ответил один из голов. — Остальные — из горожан…
— Это у него сейчас три сотни! — сказал Пушкин. — А сколько за ним еще идет? Мы же не знаем! Если бы государь внял моему прошению и армию прислал, тогда другое дело! А теперь только остается — садиться в осаду.
— Ждать нечего! — не согласился Дмитрий. — Пока их мало, надо немедленно разогнать. Готовьте, головы, свои сотни. Сегодня же и выступим, встретим Лисовского как надо.
Головы, повеселев, поднялись.
— Стойте! Куда? — заорал Пушкин. — Здесь я воевода, мне и командовать!
— Здесь я — воевода! — хладнокровно и веско возгласил Пожарский. — Грамоту ты читал: государь меня прислал сюда, чтобы защитить Коломну, а главное — не дать ляхам отрезать путь хлебу из Рязани. А ежели мы за стенами укроемся, как раз дорогу-то и перекроют!
— Нету в грамоте ничего, что тебя первым воеводой прислали! Я первый воевода! — орал Пушкин. — И никуда моих стрельцов не пущу. Разобьют их, как Коломну удержу? Ты с Лисовским еще не сталкивался, вот и хорохоришься! Он тебе перышки живо ощипает!
Пожарский не привык сносить оскорбления. Он резко вскочил, сделал решительный шаг в сторону хозяина так, что тот испуганно отскочил в угол. Князь рассмеялся:
— Ладно, сиди со своими стрельцами у печки, попивай винцо вместе с хозяйкой. Справлюсь и без тебя!
— Куда это ты собрался? Своевольничать не позволю. Коль прислали мне на помощь, так и помогай город защищать.
— А я это и собираюсь сделать! Только не за стенами. Надо Лисовского припугнуть, пока он силы не набрал.
— Не пущу!
— Только попробуй! — усмехнулся Пожарский, многозначительно положив левую руку на рукоять сабли, затем обернулся к лазутчикам: — А вы, ребята, за мной! Дорогу мне покажете!
Еще раз смерив воеводу презрительным взглядом, он пошел из горницы. Пушкин не осмелился его задержать, только тоненько выкрикнул вслед:
— Все государю-батюшке отпишу про твое ослушание и недоумие!
К селу Высокому вышли окольной дорогой к рассвету. Двигались тихо, чуть поскрипывая по только что выпавшему снежку. Вдруг уже на самой опушке Пожарский услышал странный звук. Он остановил лошадь. Сомнений не было — вскрикнул и тут же затих грудной ребенок. Он осторожно поехал на звук, увидел: что-то белое мелькнуло под елкой. Его опередил Ждан Болтин, метнувшийся туда.
— Дура! — внезапно закричал он. — Что ты с ребенком делаешь? Задушишь!
— Чтоб не кричал, вдруг ляхи услышат, — ответил неестественно спокойный женский голос.
Ждан вытащил за руку упирающуюся, с распущенными волосами молодую женщину в одной полотняной рубахе. Другой рукой она прижимала платок, в котором был задернут младенец. Придушенный матерью, он еле-еле хныкал.
Пожарский участливо спросил:
— Как ты здесь очутилась?
— От ляхов убегла. Они по селу всех баб ловят, ни одну не пропускают!
— Накиньте на нее что-нибудь и посадите в сани!
Лазутчики тем временем вышли к околице, помахали оттуда:
— Ушел Лисовский!
Деревня представляла собой страшное зрелище — от большой части домов остались лишь угли. У плетня окровавленные трупы мужиков, возле которых столпились воющие бабы.
Пожарский почувствовал, как в нем закипает ярость такой силы, что голову стиснуло будто каленым обручем. Опустив глаза, он глухо спросил:
— Давно они уехали?
— Как только светать начало.
— Почему же мы их не повстречали?
— А они не в Коломну, а к Тушину сразу подались. Бахвалились: деи, еще вернемся, людишек побольше наберем, тогда и Коломну возьмем.
— С обозом?
— Саней сто будет, всех наших мужиков с лошадьми занарядили, весь скот угнали…
— Значит, далеко не ушли. Догоним! — твердо сказал князь.
Вдруг у Пожарского мелькнула неожиданная мысль. Он спросил лазутчиков:
— А обогнать мы их не можем? Только чтобы незаметно?
— Ежели лесом напрямки пойдем, а там через горушку, то сможем. Только пеши придется идти, там верхом не проехать через бурелом.
Уговаривать никого не надо было. Все горели желанием побыстрее повстречать поляков.
…Отряд Лисовского, огибая невысокую, но длинную гору, растянулся почти на версту. Полковник оглянулся и самодовольно покрутил ус: «Добыча изрядная!» Впереди, где дорога снова уходила в лес, он увидел несколько всадников, скачущих навстречу.
«Не иначе царский гонец! — догадался Лисовский. В нем пробудился азарт охотника: — Попался, голубчик! Сейчас пощекочем тебе ребра!»
Всадники тоже увидели польский отряд, на мгновение замешкались, затем повернули своих коней назад.
— Гусары, за мной! — закричал Лисовский, ударив своего коня нагайкой по крупу. — Ату их, ату!
Отоспавшиеся всласть на крестьянских лавках гусары рванули за ним, а кое-кто резво начал обходить.
«Пусть разомнутся мальчики!» — добродушно ухмыльнулся Лисовский и только крикнул:
— Гонец мне нужен живым!
Вся кавалькада углубилась в лес, оставив обоз плестись хвоим ходом под охраной небольшого числа жолнеров, удобно расположившихся на санях и играющих в зернь.[52] Когда и обоз полностью въехал в лес, перед передней лошадью вдруг с треском завалилась огромная сосна, перегородив дорогу. Не успели жолнеры очухаться от неожиданности, как из-за деревьев выскочили ратники с рогатинами. Пришедшие в себя мужики помогали вязать жолнеров.
— А теперь поворачивайте назад, к дому! — скомандовал один из ратников.
— С этими че делать? — спросил один из мужиков, крутя в руках трофейный палаш.
— Оставьте здесь, на снегу, — сказал старший из ратников, но поглядел на лица мужиков и вспомнил виденное утром село. — Делайте что хотите! Только чтоб шума не было. А нам пора туда. — Он показал в глубь леса, откуда слышалась канонада.
— Мы с вами!
Несколько десятков мужиков вскоре догнали ратников, на ходу вытирая об армяки окровавленное оружие.
— Крысы! — хрипло произнес один из них. — И смерть им — крысиная, безголовая.
…Гусары почти настигли беглецов, когда те вдруг бросились врассыпную по обе стороны дороги. Пока удивленные ляхи крутили головами, раздался залп из пищалей.
— Засада, панове! — крикнул Лисовский, нагоняя их. — Скорей назад.
Но было поздно: и спереди и сзади им преградили путь сосны, а из-за деревьев молча приближались ратники с рогатинами и саблями. Откуда-то сверху посыпались стрелы. Стреляли с верхушек деревьев.
— Спешиться! — скомандовал Лисовский. — Открыть огонь!
Но выстрелить успели немногие, завязалась рукопашная. Гусары, искусные фехтовальщики, успешно отбивали сабельные удары и наносили ответные. Но против широких и острых лезвий рогатин им пришлось туго. Вскоре все было кончено — дорога и лесная поляна вокруг были устланы трупами. Русских полегло около сотни, поляки — практически все.
— Найдите Лисовского! — приказал Пожарский.
Однако нашли только голубой шелковый, на беличьей подкладке плащ Лисовского и меховую шапку, брошенные в кустах. Видимо, полковник, поняв, что дело худо, накинул на себя плащ кого-то из убитых и выскользнул из окружения с несколькими наиболее близкими ему людьми.
— Оборотень, как есть оборотень! — крестясь, произнес Болтин.
— Ничего, рано или поздно достанем! — уверенно сказал Пожарский. — Славно сегодня потрудились. Молодцы нижегородцы, воистину — не уродцы!
Вернувшись в Высокое, князь вернул награбленное владельцам, а отбитый у поляков обоз с рязанским хлебом взял с собой, в Москву. В Коломну он решил не заезжать, оставив спесивого боярина с носом.
— А то, глядишь, себе припишет победу над Лисовским!
Царю-государю и великому князю Димитрию Ивановичу всея Руси бьют челом и кланяются сироты твои, государевы, бедные, ограбленные и погорелые крестьянишки. Погибли мы, разорены от твоих ратных воинских людей, лошади, коровы и всякая животина потеряна, а мы сами жжены и мучены, дворишки наши все выжжены, а что было хлебца ржаного, и тот сгорел, а достальной хлеб твои загонные люди вымолотили и развезли: мы, сироты твои, теперь скитаемся между дворов, пить и есть нечего, помираем с женишками голодною смертью…
Из челобитной крестьян Тушинскому вору
И переменились тогда жилища человеческие и жилища диких зверей: медведи, волки и лисицы стали обитать на местах сел человеческих, и хищные птицы из дремучих лесов слетались над грудами человеческих трупов, и горы могил воздвигли на Руси.
«Сказание» Авраамия Палицына
Пока Пожарский вел обоз в Москву, расторопный коломенский воевода, прослышав от лазутчиков о его победе, чтобы избежать укоризны, примчался с доносом к государю, деи, Пожарский не по чину вознесся, ослушался государева указа, самовольно бросил Коломну, уйдя неведомо куда.
Доносительство было мило государеву сердцу, поэтому он лишь пожурил воеводу за трусость, явно им проявленную при появлении неприятеля, а Пожарскому, поздравив его нехотя с боевой удачей, выговорил за неуважение к старшему. В душе Шуйский был рад такому исходу: не надо было тратиться на награждение победителя.
Но как ни старались умалить Пушкин да Дмитрий Шуйский значение совершенного князем, вся Москва заговорила о Пожарском как о замечательном воине, которому удалось разбить наголову, будучи в меньшинстве, польских гусар, да еще во главе с полковником Александром Лисовским, имя которого приводило в трепет многих русских воевод.
Назначение на пост воеводы князь Пожарский получил 8 февраля 1610 года. Дмитрий Шуйский, ведавший по-прежнему Разрядным приказом, вручая ему доверительную грамоту, заметил:
— Крепостца у Николы Зараского[53] невелика, но для обороны способна. Людей тебе не дадим, все, что было, — у Скопина. Рассчитывай на себя. Места тебе знакомые.
Говорил на этот раз Шуйский-младший без издевки, а вроде бы даже уважительно. Пожарский поблагодарил за честь, только поинтересовался, сколько ратников в крепости.
— Две сотни стрельцов да дети боярские окрест, кто, конечно, остался.
Последнее было сказано с известной долей сомнения.
Сборы были недолги. Вся семья Пожарских в это тревожное время жила в Москве, в своем доме у Сретенских ворот. За время осады князь приказал укрепить тын вокруг подворья новыми толстыми бревнами, превратив его в небольшой острог.
— Зачем зван был во дворец, князюшка? — живо поинтересовалась мать, Мария Федоровна, когда Дмитрий, не задерживаясь в горнице, сразу пошел на женскую половину.
Здесь была и жена, Прасковья Варфоломеевна. За эти годы, родив князю трех сыновей и трех дочерей, супруга заметно раздобрела, но по-прежнему кожа ее была свежей, а глаза — лучистыми, и потому казалась она значительно моложе своих лет.
Женщины были заняты вышиванием. Возле них крутились девочки — Ксения, Анастасия и Елена, которых тоже исподволь приучали к рукомеслу.
— Воеводой послан на город, что у Николы Зараского, — с напускным спокойствием ответил князь, но обе женщины, хорошо знавшие Дмитрия, почувствовали, что он гордится новым назначением.
— Поздравляю, князюшка! Наконец-то наш род снова в чести! И не богатством, а верной службою! — воскликнула Мария Федоровна.
Прасковья Варфоломеевна всплеснула руками:
— Собираться надо. А скоро ехать?
— Завтра с утра.
— Я же не успею! Ведь сколько с собой надо брать!
Дмитрий ласково обнял жену за плечи:
— Не хлопочи. Приедете позже, когда обоснуюсь. Ужо дам весточку.
— Может, нам в Мугреево уехать? — спросила мать. — Поместье-то наше совсем захудало. Да и на подаренное государем село Нижний Ландех посмотреть надобно. Хозяйство большое — двадцать деревень, семь починков да двенадцать пустошей.
— Не время сейчас! — покачал головой Пожарский. — В тех краях Лисовский со своими разбойниками лазит. Жаль, что я прошлой зимой его не достал… В Москве сейчас спокойнее всего. Князь Скопин со своим войском уже на подходе. Скоро он и Жигимонта, глядишь, от Смоленска отгонит.
— А самозванец? — с тревогой спросила мать.
— Для его острастки государь лучших военачальников воеводами по городам вокруг Калуги разослал, — снова не без горделивой нотки ответил князь и перешел к хозяйственным делам: — По весне, дай Бог, суздальские земли от воров очистятся, тогда и поедете. А там, глядишь, к лету и ко мне на жилье переберетесь. С вами для защиты оставляю Надею. Да и пора младших — Федора да Ивана к военному делу приучать.
— А Петра? — спросила жена.
— Петра я возьму с собой! — твердо ответил Пожарский.
— Ему же и шестнадцати нет! — воскликнула Прасковья Варфоломеевна.
— Самая пора. Мне десять было, когда я княжить начал. А мои сыновья должны быть воинами не хуже меня! Лучше не мешкайте, готовьте для нас с Петром что нужно.
Наутро Пожарский со своим маленьким конным отрядом выступил в поход. За день он преодолел расстояние, отделявшее Зарайскую крепость от Москвы. Здесь его ждали. На площади собрались и ратники, и служилые люди, и посадские. Приехали поприветствовать воеводу окрестные дворяне. Князь убедился, что его имя здесь хорошо известно с той поры, как в расположенном невдалеке селе Высоком он наголову разгромил Лисовского.
Когда Пожарский, устроившись в кремле, вышел к ожидавшим его людям, первый вопрос был: не вернутся ли ляхи?
Князь лукавить не стал:
— Могут и вернуться. Могут и казаки от самозванца набежать. И пощады не ждите — после неудачи под Москвой они еще пуще злодействовать будут.
— Что же делать? — со страхом застонали в толпе.
Пожарский ободряюще улыбнулся:
— Главное — не падать духом. Пословицу знаете: «На Господа надейся, а сам не плошай». Всегда надо быть готовыми дать отпор разбойникам.
— Где ж нам, с вилами? — уныло возразил какой-то мужичонка в рваном треухе.
— А вон стрельцы на что? Гляди, какие ребята! Орлы! Такие любого Лисовского разобьют.
Стрельцы, стоявшие кто как, опершись о берданки, гордо приосанились.
— Молодцы, что говорить! — продолжал тот же мужичонка, видать самый бойкий из всех. — Так мало их! Им крепость бы удержать. А как нам быть?
— Я вот что вам предлагаю, — заметил Пожарский, — весь хлеб, что вы сейчас по лесам да оврагам прячете, в кремль свезти, а весной, когда сеять будете, его возьмете. Так надежнее будет. А то, скажем, на тебя, не дай Боже, лях нападет, приставит саблю к шее, ты же ему откроешь, где запасы хранишь, да еще и покажешь. А он тебе в благодарность башку и снесет. А коль в кремле зерно-то, пусть оттуда его берет. Глядишь, зубы и обломает.
— Мудро говоришь, князь, — заговорили одобрительно.
— Лучше, конечно, ни ляху, ни казаку не попадаться, — продолжал воевода. — А что для этого надо? Кремль у нас хороший, каменный, любую осаду выдержит. Но места в нем мало. Дай Бог стрельцам разместиться. А куда посадским да крестьянам прятаться? Крепость-то дырявая. Вон там стена завалена, здесь вал поосыпался. Значит, надо, не мешкая, крепость укрепить. И еще. Вон сколько мужиков здоровых. Надо оружием запастись — копьями и рогатинами, да и топоры сгодятся. А бою обучим, не впервой.
Незаметно текли дни в трудах. Избранные от посада доверенные люди принимали добро, раскладывая в амбары и подземелья кремля, везли бревна и камни для стен, как потеплело, углубили ров. К счастью, враг близко не подходил. Лазутчики доносили о небольших группах всадников, но те в бой вступать не решались.
Пожарский тем временем списался с соседями — воеводами Коломны, Каширы, Переяславля-Рязанского. Особенно рад был Пожарскому Прокопий Ляпунов.
Часть пятая
Пожар Московский
Однако, подойдя со своим отрядом к Пронску, Пожарский обнаружил, что Ляпунов сидит в осаде. Город окружило пестрое воинство бродяг-черкасов (так на Руси звали запорожцев), к которым примкнули невесть откуда появившиеся татары и русские воины из Москвы, присланные боярским правительством во главе с Исаем Сунбуловым. Число дружинников Пожарского было невелико, но это были испытанные воины, которые участвовали с князем во всех сражениях. Не раздумывая, Пожарский ударил с тыла. Ляпунов, увидев, что пришла помощь, со всеми имевшимися у него воинами вышел из-за стен. Взятые в клещи черкасы, в панике побросав оружие, удрали к Михайлову, где находилось их становище. Дмитрий и Прокопий встретились как друзья, будто и не было промеж них никаких неурядиц. Да и не время было вспоминать старое! Прокопий показал Пожарскому присланные к нему две грамоты.
Одна из них была писана дворянами из посольства под Смоленском. Ее Прокопий получил благодаря брату Захарию, который участвовал в заговоре против Шуйского. Он сумел попасть в состав посольства, чтобы сообщать старшему брату о ходе переговоров. Он же был и одним из авторов присланной грамоты. В ней говорилось:
«Мы пришли к королю в обоз под Смоленск и живем тут более года, чуть не другой год, чтобы выкупить нам из плена, из латинства, от горькой, смертной работы, бедных своих матерей, жен и детей… Собран был Христовым именем откуп — все разграбили; ни одна душа из литовских людей не смилуется над бедными пленными, православными христианами и беззлобивыми младенцами… Во всех городах и уездах, где завладели литовские люди, не поругана ли там православная вера, не разорены ли Божьи церкви? Не сокрушены ли, не поруганы ли злым поруганием божественные законы и Божие образы? Все это зрят очи наши. Где наши головы, где жены и дети, и братья, и сродники, и друзья? Не остались ли из тысячи десятый, из сотни один, и то с одной душой и телом… Не думайте и не помышляйте, чтоб королевич был государем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят этого. У них в Литве на сеймище было много думы со всею землею, и у них на том положено, чтобы вывести лучших людей и опустошить всю землю и владеть всею Московскою землею. Ради Бога, положите крепкий совет между собою. Пошлите списки с нашей грамоты в Новгород, и в Вологду, и в Нижний, и свой совет туда, чтобы всем про то было ведомо, чтобы всею землею обще стать нам за православную христианскую веру, покамест еще мы свободны, и не в рабстве, и не разведены в плен».
Затем Ляпунов дал Пожарскому прочитать грамоту, полученную им из Москвы:
«Поверьте этому нашему письму. Не многие идут вслед за предателями христианскими Михаилом Салтыковым и за Федором Андроновым и их советниками. У нас Первопрестольной Апостольской Церкви святой патриарх Гермоген прям яко сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает несомненно, и ему все христиане православные последствуют, только неявственно стоят».
Пожарский, дочитав грамоты, молча протянул их Ляпунову.
— Так что посоветовать, князь?
— Сажай немедля всех, сколько есть грамотных людей, чтоб сделать как можно больше списков. Надо собирать ополчение со всех городов.
— И я так думаю! — радостно произнес Ляпунов.
— А тебе быть во главе! — столь же решительно сказал Пожарский.
— Достоин ли? — заскромничал рязанский богатырь.
— Тебя по всем землям знают, за тобой пойдут! — твердо ответил князь. — Где думаешь сбор объявить?
— Под Шацком, — уже как о решенном сказал Ляпунов.
— Удобное место для сбора, — согласился Дмитрий. — Но это для южных городов — Тулы, Калуги, Коломны, Каширы. А из северных сюда долго будут добираться. Советую, чтобы они в Ярославле собрались. Вместе с двух сторон и ударите!
Выражение «ударите» неприятно резануло ухо рязанца.
— А ты разве не со мной, князюшка? — спросил приторно-ласково.
— Нет, — отрубил Дмитрий.
Лицо Ляпунова исказила гневливая усмешка:
— Что, про присягу выблядку польскому забыть не можешь?
Лицо Пожарского осталось невозмутимым. Глянув прямо в черные глаза Прокопия, отчеканил:
— Не дело в такой час плохое о союзнике мыслить. Своих ополченцев из Зарайска я сам под Шацк приведу, а как войско сладится, вперед вас буду в Москве!
— В Москве? — удивился Ляпунов, еще не понимая замысла князя.
— Да, в Москве. У меня же поместье на Лубянке и своих посадских хватает. Кто же мне запретит?
А как же воеводство?
— Воеводой меня Шуйский назначал, так что я от слова, данного ему, свободен. Нашу семью москвичи многие знают, думаю, поверят мне. Вооружу посадских, и как только вы подойдете, ударим изнутри. Запомни, Прокопий, — без воли москвичей тебе Москвы никогда не взять.
— Ловко удумал, — не скрыл восхищения Ляпунов. — Ай да князюшка!
…Пожарский уже был на подходе к Зарайску, когда к его отряду подскакал какой-то отрок на взмыленной лошади.
— Беда, князь, беда! Черкасы острог обманом взяли! У ворот ихний вожак сказал, что это ты их прислал. А как в острог вошли, всю стражу и повязали.
— Город грабили?
— Нет, пока в остроге сидят, жрут да пьют из твоего погреба.
— Ну, воры, — скрипнул зубами князь. — Я-то, дурак, подумал, что они и взаправду к Михайлову убегли. Ну, ужо я вас накормлю досыта!
Отряду же скомандовал:
— Отдыхайте пока, ребята. К городу подойдем затемно, чтобы враг не видал.
…По заснеженному руслу реки Осетр они пешими тихо подошли к стене крепости, возвышающейся на обрыве. Лошадей оставили в ближней роще под присмотром подростка, Князь внимательно осматривал высокий берег. Наконец указал на куст ракитника:
— Отбросьте снег!
За пластом снега обнаружился большой камень.
— Отодвиньте, только без шума.
Один за другим дружинники ползли на четвереньках по потайному лазу, пока не очутились на дне башни под названием «Наугольная, что у тайника». Пожарский, убедившись, что башня пуста, приказал одному из дружинников подняться наверх, на стену. Через несколько томительных минут тот тихо спустился вниз.
— Где они?
— Мальчишка правду сказал: бражничают. Часть в твоем тереме, а часть — прямо во дворе, под навесом.
— Пьяны?
— Зело!
— А стража?
— У ворот — с десяток. А на стенах никого не видать. Не ждут так скоро.
— Снова лезь наверх, положи пороху, да побольше. Когда я ухну филином, подожжешь. Посадские ждут сигнала, подбегут к воротам. Ну, с Богом.
Часть дружинников князь направил к воротам, чтобы снять охрану и открыть запоры. С большей частью окружил терем. Удар был внезапен и яростен. Черкасы бегали по двору как испуганные крысы. Их лошади, выпущенные из коновязи, тоже носились как бешеные. Многие падали под точными ударами сабель. Пожарский приказал не стрелять, чтобы в сутолоке не поранить своих. Немногим удалось вскочить на лошадей, но у распахнутых ворот, выстроившись коридором, их встречали с рогатинами и топорами горожане.
…Все это вспомнилось князю сейчас, при чтении летописи.
Завершала страницу совсем свежая запись: «…за ево Богу молити и родителей ево поминати и в Сенаник написати, а Бог сошлет по ево душу, и ево тем же поминати, довлеже и град Св. Николы стоит». Далее следовал Помянник, исчислявший предков Дмитрия Михайловича Пожарского.
Обычно суровый князь на этот раз не сдержал слез умиления. Склонив голову, подошел под благословение священника:
— Спасибо за память, отче.
— Бог тебя благословляет, князь.
Пожарский вышел на соборную площадь. Здесь уже собрались все горожане: и стар и млад. Отдельным строем стояли с оружием в руках ополченцы.
Пожарский поднял могучую руку в знак, что будет говорить.
— Люди зарасские! Вы помните нашу клятву здесь, на соборной площади? — зычно произнес князь. — Прямить Шуйскому. А если Шуйского не будет, другому законному государю. Мы по совету с Москвой крест целовали польскому королевичу, коли он примет православную веру. Но отец его, король Польский и Литовский, Жигимонт, отказался от своего обещания!
Толпа возмущенно заревела. Пожарский вновь поднял руку.
— Со мной рядом стоит протопоп Дмитрий. Он прочитает новую крестоцеловальную запись. Кто согласен, подходи и ставь крест!
Дмитрий начал читать:
— «Обещаем перед Господом Богом стоять за православную веру, не отставать от Московского государства, не служить польскому королю и не прямить ему ни в чем, не ссылаться с ним ни словом, ни письмом, ни с поляками, ни с литвою, ни с московскими людьми, которые королю прямят, а бороться против них за Московское государство и за все Российское царствие и очищать Московское государство от польских и литовских людей! Во все времена войны быть в согласии, не произносить смутных слов между собою, не делать скопов и заговоров друг на друга, не грабить и не убивать и вообще не делать ничего дурного русским, а стоять единомысленно за тех русских, которых пошлют куда-нибудь в заточение или предадут какому-нибудь наказанию московские бояре.
Вместе с тем обещаемся заранее — служить и прямить тому, кого Бог даст царем на Московское государство и на все государства Российского царства.
А буде король Жигимонт не выведет польских и литовских людей с Москвы, и из всех московских и украинных городов не выведет, и из-под Смоленска не отступит, и воинских людей не отведет, и нам — биться до смерти!»
— Биться до смерти! — гремело на площади.
Князь тронул коня и медленно, шагом, проехал вдоль выстроившихся ополченцев, вглядываясь в лица и привычно оценивая их военное снаряжение. Да, это были совсем не те зарайцы, которых он увидел год назад, когда впервые вступил в этот город. Испытания, выпавшие на их долю, сделали этих людей стойкими и мужественными, готовыми в любой миг дать отпор ляхам и прочим лихим людям, а рогатины, на которые они сейчас опирались, как и топоры, заткнутые за пояса из лубяных веревок, стали поистине грозным оружием в рукопашном бою. Из-под самодельных боевых треухов на воеводу глядели глаза ополченцев, в которых светилась решимость не на словах, а на деле отдать свои жизни ради мира и спокойствия Русской земли.
Отряд зарайцев неторопливо двинулся в поход к Шацку, собиралось главное ополчение.
…Из города в город мчались гонцы из числа детей боярских и посадских людей. Они везли грамоты, извещая соседей, что встали за православную веру и собираются идти на поляков и литву биться за Московское государство. В свою очередь из городов по окрестным селам рассылались посыльщики. Везде, где они появлялись, звонили в колокола, собирая людей окрест. На сходках делался приговор, по которому в свой город спешили все, кто мог держать в руках оружие, даточные люди из монастырей везли сухари, толокно и другие разные снасти, включая порох и свинец, для оснащения будущего ополчения.
Шалаши в военном лагере под Шацком росли, как грибы после дождя. К заставам то и дело подъезжали и подходили новые ополченцы: и небольшими отрядами, а то и просто поодиночке. Ляпунов и Пожарский встречали будущих ополченцев радушно, живо интересуясь, кто и откуда прибыл. Бывалых воинов было в их числе мало, да и то сказать — за годы войн и междоусобиц большая часть служилых сложили свои головы на Русской земле. В основном приходили крестьяне да посадский люд из ближних рязанских городов да украинных, из многострадальной Северской земли, больше всех пострадавшей от поляков.
…Наступил март. Лазутчики доносили, что ополчение с трех сторон неуклонно движется к Москве. Обстановка в городе становилась все накаленнее. Гусары держали коней все время оседланными, поскольку приходилось выезжать из казарм по пять-шесть раз в день. Все четырнадцать рынков находились под постоянным наблюдением. Приближалось Вербное воскресенье, и в Москву стали съезжаться люди из окрестностей. Поляки осматривали каждый воз и, если находили спрятанное оружие, владельцев без суда и следствия опускали под лед Москвы-реки. По наущению шпионов поляки врывались в дома москвичей, где проходили тайные сборища, и разгоняли собравшихся плетками.
По традиции, в Вербное воскресенье патриарх являлся народу. Он выезжал из Кремля к храму Покрова на «осляти», которого вел под уздцы сам царь. На этот раз Гермоген находился под стражей, и бояре, убоявшись столь большого стечения народа, решили было отменить шествие. Ропот поднялся великий. Несколько тысяч москвичей бросились к Кремлю освобождать патриарха. Их остановили немецкие мушкетеры, вышедшие из стен замка под барабанный бой. Казалось, небольшая искра — и начнется побоище. Однако толпа отступила, а Гонсевский приказал освободить в этот день Гермогена из-под стражи. Шествие состоялось. Престарелого патриарха, поддерживаемого священнослужителями, показали народу. Осла вел вместо несуществующего царя боярин Гундуров, известный Москве своим благочестием. Взрыва народного негодования не произошло. Более того, многие москвичи, будто действуя по чьей-то команде, не пришли на площадь, чтобы избежать кровопролития. Лишь на окраинах Москвы произошло несколько столкновений между поляками и русскими. Однако польские военачальники не решились на какие-либо действия.
Салтыков в сердцах сказал Гонсевскому:
— Вот вам! Москва сама дала повод, — вы их не били, смотрите же, они сами вас станут бить во вторник! А я не буду ждать, возьму жену и убегу к королю!
В понедельник стало известно, что русские ополчения уже совсем близко от Москвы. Лазутчики донесли, что войско Ляпунова, двигающееся от Коломны и насчитывающее восемьдесят тысяч человек, находится всего в двадцати милях от столицы. От Калуги идет рать Заруцкого, в которой пятьдесят тысяч казаков, а с севера движется Андрей Просовецкий с пятнадцатью тысячами воинов.
На тайном военном совете многие из военачальников предложили выйти навстречу ополченцам в поле и, используя маневренность и боевые качества польской кавалерии, разгромить их по частям. Но Гонсевский понимал, что стоит только его воинам выйти за стены города, как москвичи ударят в тыл. Он приказал всем польским частям немедленно оставить Белый город и расположиться в Китай-городе и Кремле. Гусары не снимали латы всю ночь, ожидая нападения.
Однако утро 19 марта 1611 года началось в Москве как обычно. Казалось, ничто не предвещало грозы. Московские торговцы и ремесленники открыли все свои сорок тысяч лавок, на рыночные площади спешил народ. Разве что внимательный взгляд заметил бы на улицах возле рынков небывалое скопление извозчиков. Это не понравилось ротмистру Николаю Коссаковскому, который выехал со своей ротой из ворот Кремля. Он справедливо заподозрил, что извозчики собрались здесь не случайно: в случае схватки они могли мгновенно перекрыть узкие московские улицы своими санями, чтобы не дать маневра польской кавалерии. Держались эти мужики в широких овчинных тулупах вызывающе: при виде гусар не спешили освободить проезд, осыпая их насмешками.
Впрочем, Коссаковскому такое поведение было на руку, он и выехал из Кремля с тайным поручением Гонсевского вызвать драку. Он махнул рукой, и польские всадники кольцом оцепили стоянку извозчиков.
— Эй вы, лапотники! Следуйте за мной в Белый город! — крикнул ротмистр, вплотную подъехав к первому ряду извозчичьих меринов.
— Почто? — сказал один из мужиков, видимо бывший за старшего. — Че мы там не видали? У нас тут свои дела.
— Будете пушки стаскивать с башен и возить сюда, в Китай-город. Мои гусары покажут, где ставить.
— Это же с кем вы воевать собрались? — не унимался извозчик, подбоченясь.
— С таким же быдлом, как ты сам! — насмешливо ответил Коссаковский.
— Хитер пан! Пушки против нас, а мы же их сами должны сюда везти! Эй, мужики! — обернулся он к остальным. — А ну айда к стенам Китай-города. Сделаем супротив. Снимем здесь пушки и свезем в Бел-город. Там они нашим как раз пригодятся.
— Эй, эй, полегче, приятель! — заорал ротмистр, выхватывая палаш и напирая конем на вожака.
Но тот не оробел, а выхватил кол, лежавший на его возке, и огрел что было силы коня ротмистра по крупу. Заржав от боли, тот встал на дыбы, помешав Коссаковскому нанести ответный удар. Остальные гусары тоже обнажили палаши, но извозчики встретили их заранее приготовленным дрекольем. Началась свалка. Сани мешали гусарским лошадям подъехать вплотную к сбившимся в кучу мужикам, которые ловко доставали всадников длинными оглоблями. И хотя латы защищали их от ударов, все же несколько кавалеристов попадало с лошадей.
— Играй сбор! — приказал ротмистр своему трубачу.
Под пронзительные звуки трубы ворота Кремля распахнулись, и оттуда сотня за сотней стали выезжать польские гусары. Они направили своих лошадей прямо на толпившихся у прилавков людей, рубя всех подряд. Под ударами палашей падали женщины, старики, дети. Пронзительные крики пытавшихся убежать, стоны раненых заполнили Китай-город. Через несколько минут торговая площадь и примыкающие улицы — Варварка, Ильинка, Никольская — превратились в кровавое месиво из тел и разбросанных повсюду разбитых и втоптанных в снег товаров. Зазвонили колокола церквей, поднимая всех москвичей.
Гонсевский, с удовлетворением наблюдавший за лютым побоищем с кремлевской стены, приказал передать сотням, чтоб те немедля, пока москвичи не опомнились, произвели столь же устрашающее опустошение и в Белом городе. С веселым гиканьем гусары, опьяневшие от крови, направили своих коней за стены Китай-города.
— Твой черед, немец, — сказал Андронов Буссову, который вместе с другими немецкими солдатами находился в казарме, ожидая команды. — Польский караул ушел от дома Голицына следом за своими товарищами. Поспеши, а то, не дай Бог, удерет. И еще мой совет — не оставляй свидетелей.
Буссов, который заранее отобрал в своей роте с десяток солдат, готовых на все ради добычи, немедленно направился к выходу. Маржере проводил его внимательным усмешливым взглядом, но окликать не стал.
Тем временем атаки польских гусар неожиданно захлебнулись. Пока шла резня в Китай-городе, москвичи успели подготовиться к бою. На какую бы улицу ни направляли поляки своих коней, везде их встречали завалы из бревен, лавок, столов, бочек и прочего, что попадалось под руку оборонявшимся. Вынужденные остановиться всадники сразу же попадали под град пуль и камней, летевших с крыш домов, а из-за завалов палили пушки, снятые со стен Белого города. Стоило полякам начать пятиться, как москвичи сами переходили в наступление: одни тащили, держа перед собою, лавки и столы, другие стреляли из пищалей. Но стоило гусарам броситься в атаку, как вновь возникал завал. А из-за заборов высовывались длинные шесты, которыми посадские ловко сбивали всадников с коней. Польским сотням ничего не оставалось, как вернуться назад, за спасительные стены Кремля. Идущие по пятам за ними москвичи были остановлены залпами орудий, бьющих со стен Китай-города.
Тем не менее жителей Москвы охватило бурное ликование по поводу победы над шляхтой. Но радость эта была недолгой: Гонсевский бросил в бой немецкую пехоту. Три роты мушкетеров, которыми командовал Жак де Маржере, тайно вышли через Боровицкие ворота, чтобы ударить в тыл восставшим. Открыв беспощадный огонь из своих тяжелых мушкетов по мирным жителям и добивая раненых шпагами и алебардами, немцы, практически не встретив сопротивления, дошли до Никитских ворот Белого города. Отсюда они повернули направо, по направлению к Лубянке. Но здесь их встретил князь Дмитрий Пожарский.
…Он въехал в город со своими воинами через Сретенские ворота прошлой ночью, воспользовавшись тем, что поляки по приказу Гонсевского оставили Белый город. На башнях остались лишь стрелецкие караулы. Стрельцы, хорошо знавшие князя и уведомленные о его прибытии заранее, беспрепятственно пропустили отряд Пожарского к его дому. Хозяина уже ждали. Верный дядька Надея Беклемишев, присланный князем сюда на неделю раньше, собрал на совет посадских старост, голов стрелецкой и пушкарской слобод, что на Трубе. Дмитрий подробно расспрашивал каждого, сколько воинов может выставить в день восстания, сколько имеется пушек и пищалей. Расспросами остался доволен — получалось, что под его руку должно встать не менее трех тысяч бойцов.
— Сегодня в ночь от Ляпунова должны подойти еще два отряда, — сказал князь. — Иван Бутурлин должен встать от Покровских до Яузских ворот, а Иван Колтовский со своими воинами займет Замоскворечье. А мы будем держать оборону от Сретенских до Тверских ворот.
— Когда прикажешь выступать, князь? — нетерпеливо спросил стрелецкий голова. — Руки чешутся, чтоб до этих «пучков» добраться.
— Спешить нам никак нельзя! — ответил Дмитрий. — Ополчение подойдет не раньше чем через неделю. Вот тогда сообща и ударим. А пока надо установить связь с Колтовским и Бутурлиным…
Однако утренние события опрокинули расчеты Пожарского. Гонсевский решил начать первым. Но когда немецкие мушкетеры миновали Кузнецкий мост и стали подниматься к Лубянке, раздался дружный залп артиллерии. Пожарский успел собрать часть своих сил в вооруженный кулак. Немцы, потеряв часть солдат, отступили к Китай-городу. Здесь на подмогу к ним вышли польские гусары. Тогда Маржере решил обойти очаг сопротивления и повел своих солдат восточнее, чтоб затем ударить с фланга. Но у Яузских ворот, на Кулишках, его встретили воины Бутурлина. Пожарский, разгадавший замысел противника, прислал к нему своих пушкарей. Немцы, несолоно хлебавши, вынуждены были вернуться в Кремль.
Польские военачальники были в унынии: первый день сражения не принес ожидаемого успеха. Но и Пожарский радоваться победе не спешил. Он позвал на совет Колтовского и Бутурлина. Решено было как следует укрепить свои позиции, чтобы продержаться во что бы то ни стало до подхода основных сил. Пожарский приказал строить острог у Введенской церкви на Сретенке. Колтовский решил устроить укрепление у наплавного моста через Москву-реку, чтобы обстреливать Кремль. Бутурлин начал ставить заграждения на Кулишках.
…Ранним утром со стены Китай-города замахали белым полотенцем:
— Не стреляйте. К вам бояре идут поговорить.
Из ворот выехали бояре во главе с Мстиславским. Увидев, что они без сопровождения поляков, москвичи опустили пищали.
Не спешиваясь, Мстиславский обратился с призывом сохранять присягу королевичу Владиславу.
— Поляки не хотят кровопролития!
— Не хотят? Погляди, сколько безоружных людей вчера побито! Страсть Господня! — кричали из-за завалов.
— Так вы сами задирались, угрожали!
— Мы и сейчас скажем, что литве из Москвы живой не уйти! И вас, бояр-изменников, повесим! Особо несдобровать дьякам Андронову и Грамотину!
— Подмоги ждете? Так не дождетесь! — орал в ответ Салтыков. — Скоро сам король сюда пожалует. Лучше винитесь. Зачинщиков, конечно, казним, а остальных помилуем, только выпорем!
— Лучше свою шею побереги!
Вдруг к толпе подбежал испуганный подросток с вымазанным сажей лицом:
— Люди добрые! Литва Чертолье запалила!
И действительно, за западными стенами начал подниматься черный дым.
— Бежим! Тушить надо! — закричали в толпе.
Воспользовавшись возникшей сумятицей, бояре повернули своих коней и на рысях пустились к воротам. Тут только до толпы дошло, что переговоры с боярами — обман. Вслед полетели пули, но со стен ударили пушки, разгоняя атакующих.
Гонсевского бояре нашли на Ивановской площади, где он встречал гонцов от своих отрядов и одновременно перекликался с наблюдателями, сидевшими на колокольне Ивана Великого.
— Что видно? — крикнул он нетерпеливо.
— В Чертолье горит хорошо, все в дыму, — ответили сверху. — А у Яузы — бой, наши застряли.
В этот момент Гонсевский увидел скачущего всадника. Это был Маскевич.
— Что у вас, поручик, случилось?
— Никак поджечь не можем! Мои пахолики раза четыре поджигали, гаснет, как будто заколдованный. Мы уж и смолой, и паклей пробовали…
— Подожгите другой! — нетерпеливо воскликнул Гонсевский.
— Рады бы, да русские мешают. Палят и справа и слева. Надо, чтоб наши со стен палить начали! Я видел, тут, как раз напротив моста, одна диковинная пушка стоит — с сотней стволов. Ядра, правда, небольшие, с голубиное яйцо, но зато далеко летят, должны накрыть их засады.
— Дело, — одобрил полковник и дал команду открыть огонь, потом повернулся к Маржере, стоявшему рядом и ждущему приказа: — Пора две твои последние роты выводить на подмогу.
Капитан отсалютовал шпагой, но с места не сдвинулся.
— Что такое? — насупился Гонсевский.
— На Москве-реке еще лед крепкий.
— Ну и что? — не понял полковник.
— Я пройду по льду и ударю русским в тыл.
Пятьсот мушкетеров, стараясь не греметь оружием, вышли из Кремля через Водяные ворота и, пройдя мимо навесов опустевшего ныне мясного рынка, внезапно очутились у моста и открыли прицельный огонь по русским, засевшим и справа и слева от моста. Застигнутые врасплох воины Ивана Колтовского, оставляя на снегу трупы, в панике бежали в Замоскворечье, чтоб укрыться за земляным валом Скородома. Мушкетеры соединились со своими товарищами, а вскоре черный дым поплыл и возле Яузских ворот. Спешившиеся польские гусары и немецкие солдаты неторопливо шли за пламенем, расстреливая людей, выскакивавших из горящих домов. Пожар заставил отступить из Белого города и отряд Ивана Бутурлина.
Однако центр Белого города, от Покровских ворот и до Трубы, пока оставался не тронутым пожаром. Этот район контролировал Дмитрий Пожарский. Его пушкари и стрельцы не давали подойти поджигателям, отбрасывая их назад смелыми контратаками. Сам князь, казалось, был вездесущ. Он подбадривал воинов, давая где нужно подкрепление.
К ночи оккупанты вернулись в крепость, где от бушующего вокруг пламени было светло как днем. Из Замоскворечья вдруг раздались торжествующие крики. Это прибыл первый отряд ополченцев из Серпухова под командой Ивана Плещеева.
Пожарский обрадовался:
— Нам еще день-два продержаться, и подойдет Ляпунов с основным войском. Тогда уж, литва, держись!
Утром в четверг поднялся сильный ветер, и пожар усилился. Гонсевский приказал поджечь и Замоскворечье, где скопилось немало русских воинов. Мушкетеры Маржере снова ступили на лед Москвы-реки, открыв огонь по противоположному берегу. Однако теперь их ждали, и многие из немцев падали под пулями, не добравшись до укрытий на берегу. Но фортуна и в этот раз повернулась лицом к иноземцам: в момент, когда стало очевидно, что исход боя в Замоскворечье складывался явно не в пользу оккупантов, дозорные на колокольне Ивана Великого увидели, что к бревенчатой стене Скородома приближаются польские всадники. Это прибыл на подмогу полякам полк Николая Струся.
Взятые неприятелем в клещи, русские воины вынуждены были бежать за пределы города. Полк Струся под торжествующие вопли поляков, столпившихся на стенах, победно въехал в Кремль.
…Осталась одна цитадель — острожек Пожарского у Воскресенской церкви на Лубянке. Сюда Маржере повел всех своих мушкетеров. Его союзником был сильный ветер, дувший в сторону острожка от Китай-города. Один за другим все ближе к острожку вспыхивали строения, заполняя все вокруг удушливым дымом. Под его прикрытием Дмитрий решил сделать вылазку из острожка, чтобы вбить мушкетеров, как это делал не раз, обратно в Китай-город.
Началась рукопашная. Немцы, отбросив тяжелые мушкеты, встретили атакующих алебардами. Но воинов Пожарского это не смутило. Ловко отбивая удары щитами, они нещадно рубили соперников саблями, порой рассекая даже тяжелые каски. Пожарский и Маржере столкнулись лицом к лицу.
— А, старый знакомый! — злобно усмехнулся Жак, вставая в более удобную позицию. — Давненько я мечтал о настоящем поединке с тобой!
— Что ж, значит, час настал! — ответил Пожарский, взмахнув тяжелой булатной саблей.
Казалось, встретились равные по боевому искусству бойцы, но Маржере уступал князю в силе и начал уставать. Каждый новый выпад он отражал все с большим трудом. Вот сабля князя рубанула по правой руке француза, заставив выронить шпагу и отступить. Их поединок увидел Буссов, как всегда окровавленный, как мясник. Он подкрался к Дмитрию сзади…
— Князюшка, поберегись! — закричал Надея, пробивавшийся к Пожарскому на помощь, но было поздно.
Буссов нанес сокрушительный удар по голове. Пожарский упал, из-под шлема, застилая лицо, хлынула кровь, Маржере сделал шаг, чтобы добить шпагой поверженного, но на него налетел Надея. Маржере отступил под защиту своих мушкетеров. Воспользовавшись замешательством, дружинники унесли тело князя в острожек. Тем временем немцы подкатили пушки, снятые со стен Китай-города, и начали расстреливать острожек в упор. Число защитников редело. Вот упал раненный ядром в ногу Надея. Однако старый воин продолжал командовать. Видя, что стены вот-вот будут разбиты, он обратился к Федору Пожарскому:
— Быстро увози отца! Я их задержу!
Сани с бесчувственно распростертым телом Пожарского мчались в ночи. Князь неожиданно очнулся и застонал. Сын нагнулся к отцу, услышал шепот:
— Где я?
— Подъезжаем к Сергееву монастырю.
Федор увидел слезы на щеках отца и услышал его прерывающийся голос:
— О, хоть бы мне умереть… Только бы не видать того, что довелось увидеть…
Москва горела еще два дня. Гонсевский по настоянию бояр посылал все новые и новые отряды поджигателей. Москвичи уже не оказывали сопротивления, многие из них бежали, следуя за остатками отряда Пожарского, к Сергееву монастырю, где настоятель, архимандрит Дионисий, повелел привечать всех страждущих — бесплатно давать кров, кормить голодных, лечить раненых.
К воскресенью от Белого города остались лишь башни и стены — все остальное превратилось в зловонное пепелище. Непогребенные трупы лежали грудами выше человеческого роста около опустелых рядов. Наконец Гонсевский приказал объявить о прощении немногочисленным москвичам, прятавшимся в уцелевших каменных погребах и подклетьях. В знак покорности каждый обязан был опоясаться белым полотенцем. Оставшиеся в живых должны были стаскивать трупы в Москву-реку. Хотя ледоход прошел, от обилия трупов не было видно воды.
Немцы и Поляки ничего более не делали, как только собирали сокровища; им не нужно было ни дорогих полотен, ни олова, ни меди; они брали одни богатые одежды, бархатные, шелковые, парчовые, серебро, золото, жемчуг, драгоценные каменья, снимали с образов дорогие оклады; иному Немцу или Поляку досталось от 10 до 12 фунтов чистого серебра. Тот, кто прежде не имел ничего, кроме окровавленной рубахи, теперь носил богатейшую одежду; на пиво и мед уже не глядели; пили только самые редкие вина, коими изобиловали Русские погреба, рейнское, венгерское, мальвазию; каждый брал, что хотел. Своевольные солдаты стреляли в Русских жемчужинами, величиною в добрый боб, и проигрывали в карты детей, отнятых у бояр и купцов именитых: с трудом возвращали несчастных малюток в объятия родителей. Никто не заботился о сбережении съестных припасов, масла, сыра, рыбы, солода, ржи, хмелю, меду и прочих жизненных потребностей, коими замок мог бы целые шесть лет довольствоваться: безумные Поляки все истребили, воображая, что им ничего не надобно, кроме шелковых одежд и драгоценных каменьев.
Московская хроника. Смутное состояние Русского государства в годы правления царей — Федора Ивановича, Бориса Годунова и, в особенности, Димитриев и Василия Шуйского, а также избранного затем принца Королевства Польского Владислава, от 1584 до 1613 год за годом без пристрастия описанная в весьма обстоятельном дневнике с такими подробностями, какие нигде более не приводятся, одним проживавшим тогда в Москве немцем, свидетелем большинства событий, господином Конрадом Буссовом, е. к. в. Карла, герцога седерманландского, впоследствии Карла IX, короля шведского, ревизором и интендантом завоевавшим у Польской короны земель, городов и крепостей в Лифляндии, позже владетелем поместий — Федоровское, Рогожна и Крапивна в Московии.
Ополченские отряды появились в виду Москвы лишь на следующий день, в понедельник Святой недели, когда уже весь город был в руинах — оставались лишь обгорелые остовы каменных церквей да черные трубы печей.
Только в ночь на 6 апреля ополченцы заняли стены и башни Белого города. В руках поляков осталась лишь небольшая часть от Москвы-реки до Никитских ворот и Пятиглавая башня у моста.
Рязанские и северские полки Ляпунова выдвинулись от Симонова монастыря к Яузским воротам. Рядом с ними, до Покровских ворот, заняло место воинство Дмитрия Трубецкого. Покровские ворота занял Иван Заруцкий. У Сретенских ворот стал Артемий Измайлов с владимирцами, рядом — Андрей Просовецкий с казаками, далее, на Трубе, Борис Репнин с нижегородцами, у Петровских ворот — Иван Волынский с ярославцами и Федор Волконский с костромичами, у Тверских — Василий Литвин-Масальский с муромцами и стрельцами Троице-Сергиева монастыря. Подошли ополченцы из Галицкой земли во главе с Петром Мансуровым, из Вологодской земли и поморских городов — с воеводой Петром Нащокиным, князьями Иваном Козловским и Василием Пронским.
В Замоскворечье по приказу Ляпунова были построены два острожка, соединенных глубоким рвом. Отсюда из привезенных орудий постоянно обстреливался Кремль.
Обилие воевод и атаманов не способствовало объединению усилий ополченцев во взятии Москвы. Каждый действовал на свой страх и риск, ограничиваясь вылазками в сожженный город, чтобы пошарить по погребам в поисках съестного. Нередко при этом русские ополченцы сталкивались нос к носу с польскими искателями легкой наживы. К Ляпунову пришло известие, что у Можайска появились воины Сапеги, и неизвестно было, к какой стороне он в конце концов примкнет. Ляпунов, державшийся до того крайне надменно по отношению не только к казацким головам, но и земским воеводам, решился поступиться гордостью и собрать военный совет. На совете избрали трех главных воевод: двух думных бояр самозванца — Трубецкого и Заруцкого и думного дворянина при Шуйском — Ляпунова. Отныне все грамоты ополчения должны были подписывать все трое, без этого ни одна грамота не считалась действительной.
Хотя подпись Ляпунова формально по старшинству должна была ставиться в грамотах третьей, он твердо занял на совете главенствующее положение, к неудовольствию Трубецкого и Заруцкого. Но рязанца поддерживали единодушно все воеводы городов и даже казацкие атаманы Просовецкий, Беззубов, искренне желавшие скорейшего освобождения Москвы.
Часть шестая
Земский собор
Сначала была кромешная мгла, сквозь которую Пожарский лишь порой чувствовал осторожные прикосновения чьих-то рук. Потом он надолго вновь впадал в небытие, ощущая, что отрывается от своего неподвижного бренного тела и улетает в бесконечную высь, навстречу ослепительному свету, играющему всеми цветами радуги. Жгучая тоска охватывала его душу, ибо он понимал, что улетает навсегда. Однако через какое-то время возвращался и слышал бормотание инока:
— Благословен будь раб Божий Дмитрий!
Наконец однажды, напрягши всю свою волю, он сумел разлепить сомкнутые веки. Сквозь розовую пелену сначала смутно, а затем все явственнее ему удалось разглядеть милое, родное лицо жены.
— Прасковьюшка! — одними губами произнес Дмитрий.
— Князюшка! Очнулся! Наконец-таки! Слава тебе, Господи! — расцвела радостной улыбкой Прасковья Варфоломеевна.
Она нежно отерла влажным полотенцем осунувшееся лицо супруга. Дмитрий попытался повернуться и охнул от нестерпимой боли в голове, снова погружаясь во тьму.
Но сознание с той поры стало возвращаться к нему все чаще и чаще. Он уже знал о том, что находится в обители Троице-Сергиева монастыря, и уже не удивлялся постоянному бормотанию из угла кельи: монахи, сменяя друг друга, денно и нощно молились о его выздоровлении. Каждый день к нему приходил посланец архимандрита, старец Дорофей, он делал перевязки, поил раненого отварами из целебных трав.
Навестил его, когда князь пошел на поправку, и сам архимандрит Дионисий, настоятель монастыря. Был владыка высок ростом, статен, с благородным челом, украшенным роскошною русой бородой до пояса. Голос его был мягок и благозвучен. Большие голубые глаза излучали доброту. Он благословил раненого, коснувшись крестом его лба, вознес благодарность Господу, спасшему воеводу.
— Слава о тебе, Дмитрий Михайлович, идет по всей земле Русской. О твоем подвиге по защите Москвы молвят все, кто приходит оттуда!
Дмитрий, услышав добрые слова, прикрыл глаза. Скупая слеза прокатилась по его впалой щеке. Он прерывисто вздохнул, чтоб удержать всхлипы.
— Не смог я от ворога Москву-матушку охранить. Видать, слаб для такого дела оказался. Не ждал, что немцы с литвой дома жечь начнут. Теперь вся надежда только на Прокопия Ляпунова. Он — опора всему ополчению.
Дионисий перекрестился:
— Вечная ему память! Нет более воина великого, столпа веры — Прокопия.
Пожарский, будто не ощущая боли, приподнялся на подушках:
— Что ты говоришь, владыка? Как же так? В бою против Прокопия никакой польский гусар не устоит!
— Не поляки, а свои, казаки Заруцкого, обманом воеводу зарубили, по вражескому навету.
Пожарский, упав на подушки, заплакал, уж не скрывая слез:
— Неужто пришла погибель для всей Руси?
— Не надо отчаиваться, князь, — утешил его Дионисий. — Не даст Бог православным от литвы проклятой сгинуть. Хоть и светоч наш и учитель Гермоген в заточении томится, голос Церкви не утишится! Писцы нашего монастыря пишут денно и нощно грамоты для всех городов, чтоб вновь объединялись именем пастыря нашего преподобного Сергия!
Пожарский благодарственно поцеловал легкую сухую руку архимандрита, вновь возложенную на его чело.
Богатырский организм князя брал свое. Настал день, когда он, поддерживаемый своими новыми стремянными, казаками Семеном и Романом, которые пристали к его отряду еще в Москве, смог первый раз выйти на прогулку. Его сопровождал Дорофей.
Пожарский был потрясен, увидев, сколько раненых и больных находилось в монастыре и его окрестностях.
— Когда тебя привезли сюда без памяти, — поведал ему Дорофей, — то за тобой потянулись тысячи людей, бежавших от зверств литвы. Многие ползли из последних сил, чтоб в монастыре исповедаться и умереть. Как увидел этих страдальцев наш преподобный настоятель, заплакал от боли душевной горючими слезами, созвал всю братию и сказал, что надобно изо всех сил помогать людям, что ищут приюта у святого Сергия. Но келарь Авраамий Палицын, а с ним некоторые из иноков воспротивились сему, убоясь за монастырскую казну. Ответил им на их сомнения Дионисий: «Дом Святой Троицы не запустеет, если станем молиться Богу, чтоб дал нам разум, только положим на том, что всякий был промышлен чем может!» Тогда пришли к архимандриту и братии монастырские крестьяне и сказали: «Если вы, государи, будете давать из монастырской казны бедным на корм, одежду, лечение и работникам, кто возьмется стряпать, служить, лечить, собирать и погребать, то мы за головы свои и за животы не стоим». Так все и устроилось Божьим промыслом.
— Сколько же людей вы приняли? — спросил Пожарский.
— Многие тысячи, — ответил старец. — Прежде всего начали строить домы — больницы в Служней слободе и в селе Клементьеве, особо для мужчин и особо для женщин, и избы на странноприимство всякого чина людям. Монастырские люди стали ездить по селам и дорогам, собирая раненых и мертвых. Похоронили уже более трех тысяч. Женщины, что нашли у нас приют, шьют рубашки и саваны, стирают, еду готовят. А преподобный настоятель наш со своими служителями молит Бога за страждущих. Встает Дионисий каждый день во время соборного утреннего благовеста, бьет триста земных поклонов у образа Пречистой Богородицы, потом велит будить братию к заутрене. Сам ведет службу, поет шесть, а то и восемь молебнов.
— Истинно благочестивый муж! — восхитился Дмитрий.
— Воистину! — привычно перекрестился монах.
Как-то в одну из прогулок они посетили келью, где при постоянно горящих свечах трудились писцы. Здесь князь познакомился с монахом Алексеем Тихоновым и попросил показать грамоту, списки с которой были разосланы по городам.
Вот что в ней было написано:
«Православные христиане! Вспомните истинную православную христианскую веру, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатаю, святым крещением, обещались веровать во Святую Троицу; возложите упование на силу креста Господня и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтоб быть всем православным христианам в соединении и стать сообща против предателей христианских, Михаилы Салтыкова и Федьки Андронова, и против вечных врагов христианства, польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам, видите, какое разорение учинили они в Московском государстве; где святые Божии церкви и Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием; не пощажены ни старики, ни младенцы грудные. Помяните и смилуйтесь над видимою общею смертию-погибелью, чтоб вас самих также лютая не постигла смерть. Пусть служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам. Сами знаете, что всякому делу одно время надлежит, безвременное же всякому делу начинание суетно и бездельно бывает, хотя бы и были в ваших пределах какие неудовольствия, для Бога отложите все это на время, чтобы всем нам сообща потрудиться для православной христианской веры, пока к врагам помощь не пришла. Смилуйтесь, сделайте это дело поскорее, ратными людьми и казною помогите, чтоб собранное теперь здесь под Москвою войско от скудости не разошлось».
Последние строчки Пожарский читал нахмурившись.
— Что, не все лепо? — встревоженно спросил Тихонов.
— А кто теперь вместо Ляпунова за старшего воеводу?
— Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
— Боярство то незаслуженное! — зло бросил Пожарский. — Он его из рук Тушинского вора получил! Да и какой из него воевода? Уж я-то видел его в бою — горазд только назад скакать!
— А наш келарь Авраамий Палицын, что только что оттуда приехал, рек, деи, Трубецкой крепко за веру святую стоит! — возразил монах.
Пожарский с сомнением взглянул на него:
— Дай Бог, конечно. Но думаю, что слаб он для этого дела. Ополчению нужен такой вождь, как был Ляпунов или князь Василий Васильевич Голицын. Но он далече, в послах у Жигимонта…
— Уже не в послах, а в королевской тюрьме! — торопливо откликнулся Тихонов.
— В тюрьме? Как же можно посла в полон взять? — не поверил Пожарский.
— Мне наш келарь сказывал, — настаивал монах. — Он-то уж верно знает, сам был в этом посольстве.
— Ну и вездесущ ваш келарь! Видать, суемудрый муж, — не сдержал усмешки Дмитрий. — Как же он избежал плена?
— Хитростью! Втайне от митрополита Филарета присягнул на верность королю Жигимонту.
— Так это не хитростью, а предательством называется! — не удержался Дмитрий.
— Он же не для себя старался! — укоризненно ответил монах. — Отец Авраамий об обители нашей пекся. Ведь он получил от Жигимонта тарханную утвердительную грамоту на все монастырские вотчины. Жигимонт его так возлюбил, что в грамоте назвал Авраамия своим «богомольцем» и повелел архимандриту и братии за него, господаря, и сына его, Владислава, Богу молити.
— Это же страшный грех! Чтоб Православная Церковь молилась за католика! — в ужасе воскликнул князь.
— Тот грех отпущен преподобным Дионисием! — важно провозгласил монах. — Ибо делалось сие во имя процветания обители.
— Ложь во спасение! — грустно усмехнулся Дмитрий. — Но ложь все равно остается ложью! И значит — это зло, в какие бы красивые слова она ни облекалась.
…Наконец решено было перевезти Пожарского из монастыря в его поместье Мугреево. Здесь его ждало новое огорчительное известие. Его сосед, давний завистник Григорий Орлов, в момент московского восстания находился в Кремле, в услужении думским боярам. Узнав об участии Пожарского в восстании и его тяжелом ранении, Орлов тут же накатал донос на имя польского короля:
«Наияснейшему великому государю Жигимонту, королю польскому и великому князю литовскому, и государю царю и великому князю Владиславу Жигимонтовичу всея Руси бьет челом верноподданный вашие государские милости Гришка Орлов. Милосердные великие государи! Пожалуйте меня, верноподданного холопа своего, в Суздальском уезде изменничьим княжь Дмитриевым поместенцом Пожарского, селцом Ландехом Нижним з деревнями; а князь Дмитрий вам государем изменил, отъехал с Москвы в воровские полки, и с вашими государевыми людми бился втепоры, как на Москве мужики изменили, и на бою втепоры ранен. Милосердные великие государи! Смилуйтеся, пожалуйте».
Это прошение Орлов подал Гонсевскому, и тот милостиво приказал Мстиславскому выдать изменнику жалованную грамоту. Дума, не замедля, известила крестьян Нижнего Ландеха о их новом владельце: «И вы б все крестьяне, которые в том селе и в деревнях и в починках живут и на пустошах учнут жити, Григория Орлова слушели, пашню на него пахали и доход ему помещиков платили».
От неприятных волнений вновь начала кровоточить рана на голове. Мать князя, Мария Федоровна, велела срочно доставить знахарку, бабку из дальней лесной деревни. Бабка ловко обрила отросшие за время болезни волосы на голове раненого, обнажив страшный кровавый рубец.
— Фу-ты, Боже мой! — бормотала старушка. — Рана чистая, нет синей опухоли.
Она ловко сжала шрам указательным и большим пальцами и, поплевав на него, зашептала слова заговора:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, аминь, аминь! Лягу благословясь, стану перекрестясь; выйду из дверей в двери, из ворота в ворота; погляжу в чистое поле — едет из чистого поля богатырь, везет вострую саблю на плече, сечет и рубит он по мертвому телу, не течет ни кровь, ни руда из энтова мертвого тела! Дери дерись, земля крепись, а ты, кровь, у раба Божия Дмитрия Михайловича уймись!
Все это старушка повторила три раза, не переводя дыхания. Потом она смазала рану смесью из медвежьей желчи, куриных яиц, дрожжей и горелого вина. Кровотечение остановилось, и князь сразу почувствовал себя легче. Прошло немного времени, и в одно прекрасное утро он смог без посторонней помощи сесть на своего доброго коня, а рука его, как прежде, сжимала рукоять сабли.
Но радость оказалась преждевременной. После того как Дмитрий проскакал несколько верст и спешился у крыльца, он неожиданно рухнул на землю, и его руки и ноги задергались в судорогах.
— Черная немочь! — в ужасе воскликнула мать, выбежавшая на крыльцо, чтобы встретить сына.
Да, хотя страшная рана на голове и совсем зарубцевалась, однако князю навсегда теперь было суждено страдать от приступов черной немочи, или падучей, как еще называли эту болезнь. После каждого приступа он лежал в бессилии по нескольку дней, страдая от мучительной головной боли. Отныне он выходил из дома только в сопровождении своих стремянных, чтобы не разбиться во время внезапного приступа. К счастью, припадки постепенно стали приходить реже.
Однажды, когда Дмитрий отлеживался на широкой лавке в горнице после очередного приступа, к нему приехали гости из Нижнего Новгорода. Это был старый знакомец Пожарского, с которым вместе они разгромили банду Лисовского, сын боярский Ждан Петрович Болтин, а с ним печерский архимандрит Феодосий и несколько именитых купцов.
Жена подложила под спину князя подушки повыше, так что он смог встретить гостей сидя. После учтивых приветствий гости чинно расселись на лавках напротив князя. Пожарский был смущен, он не любил показывать свою слабость на людях.
— Какие новости привезли, гости дорогие? — спросил он наконец.
Гости переглянулись, решая, кто заговорит первым. Слово взял на правах человека, уже знаемого князем, Ждан Болтин:
— Нижний Новгород гудит, что твой пчелиный рой!
— Что так?
— Были у нас на посаде первого сентября, по случаю Нового года, выборы. Избрали среди прочих земским старостой Козьму Захаровича Минина-Сухорукого. Может, слыхал о нем, князь?
— Знаком я с ним. Добрый муж, честный, — ответил Пожарский. — В голодное время, еще при царе Борисе, он закупил для меня скот в понизовье. Без его помощи мне бы моих крестьян не прокормить…
— Он с нами был в ополчении под Москвой, — продолжал Болтин. — А когда Ляпунова убили и казаки бесчинствовать над земцами начали, мы и пошли прочь по домам…
— Позволь, Минин — в ополчении? — недоуменно переспросил князь. — Ведь у него одна рука…
— Точно, левая плохо действует. За что и прозвище Сухорукий получил, — ответил Болтин. — Он еще в малолетстве, когда с отцом соль варил, упал в яму, откуда соль брали. Вот руку и сломал, она и расти перестала. Потому Козьма в город и подался, торговлей стал промышлять.
— Да ведь наш Минин и с одной рукой неплохо управляется! — не выдержал один из купцов. — Он одним ударом кулака любого быка завалит.
Все рассмеялись, но тут поднял руку архимандрит Феодосий, гася неуместный смех. Он продолжил рассказ:
— Когда Минина в старосты избрали, он здесь же, на площади, ко всему народу и обратился. Рассказал, что, когда грамоту от Гермогена у нас в Нижнем на посаде зачитали, в следующую же ночь будто бы ему диковинное видение было. В эти дни он не в доме, а в саду ночевал, в повалуше. Так вот, лежит он в темноте, вдруг сверху яркий свет и голос: «Повелеваю тебе, Козьма, казну собирать, ратных людей наделять и с ними идти на очищение Москвы от ворогов». И понял Козьма, что слышит он голос святого Сергия! Однако когда проснулся поутру, сомнение его взяло — точно ли видение было? Да и видано ли, чтобы ему, черному мужику, такое дело было доверено? Никому ничего он не сказал, а ночью снова голос слышит: «Разбуди всех уснувших и иди на Москву». И опять Козьма не поверил. А на третью ночью — тот же голос, но уже грозно рек: «Вставай и иди! На то есть Божие изволение помиловать православных христиан и от великого смятения привести в тишину!»
Все перекрестились на красный угол, где находился иконостас с горящими свечами. Пожарский, опершись на локоть, жадно слушал рассказ святого отца.
— И что же Минин? — нетерпеливо спросил он.
— Пришел Козьма в трепет от этого нового видения и долго лежал не шевелясь. Как раз в этот же день избрали его земским старостой, и понял Козьма, что это случилось по Божию указанию. И тогда обратился Минин ко всем людям посадским, рассказал им о своих видениях и рек еще: «Московское государство разорено, люди посечены и пленены, невозможно рассказать о таковых бедах. Бог хранил наш город от напастей, но враги замышляют и его предать разорению, мы же нимало об этом не беспокоимся и не исполняем свой долг!»
— Ну и что люди на это ответили? — спросил снова Пожарский.
— Сначала многие, особенно из лучших людей, сомневались, — ответил один из купцов. — Особенно стряпчий Иван Биркин разорялся. Обидно ему показалось, Господь Минина избрал, а не кого-нибудь из более достойных, вроде его самого. Вот он и начал кричать, что не верит Козьме. Тут посадские вступились за своего старосту: «Зато мы верим! Он никогда не кривил, всегда честным был. А ты, Ивашка, Тушинскому вору служил». Тут Минина протопоп Савва из соборной церкви поддержал, призвал всех стать за веру. Так мы и решили — будем ополчаться!
— Молодцы, истинно молодцы! — воскликнул Дмитрий. — Как это у вас говорится: «Нижегородцы — не уродцы. Дома каменные, люди железные!»
— Запомнил, князь? — удивился Болтин.
— А как же таких воинов забыть?
— Да вот только воинов-то у нас маловато, — сокрушенно ответил Ждан. — Посадские люди не искусны в ратном деле, потому решили клик кликать по вольных служилых людей.
— А где такую большую казну возьмете?
— Сбор начали. Уже две тысячи пятьсот человек посадских, каждый третью деньгу отдал, всего тысячу семьсот рублев набрали. У Минина было накоплено триста рублев, так он сто отдал. А одна вдова десять тысяч отдала в сбор, а себе оставила всего две.
Пожарский порывисто приподнялся на постели:
— Великое дело творите, мужи нижегородские!
— И не только нижегородские! — ответил ему архимандрит печерский Феодосий. — Удивительно то, что по всей Руси соблюдается пост во имя очищения! И не по повелению Церкви, а во исполнение воли Божьей! Это откровение свыше явилось благочестивому человеку по имени Григорий у нас, в Нижнем Новгороде. Велено было ему это Божие слово проповедовать по всей Руси. Этот Григорий сподобился страшного видения в полуночи: будто снялась с его дома крыша, и свет вечный облистал комнату, куда явились два мужа с проповедью о покаянии, очищении всего государства нашего! Сказывают, будто и во Владимире было такое же видение. И после этого во всех городах всем православным народом приговорили поститься, от пищи и питья воздержаться три дня даже и с грудными младенцами. И по приговору, по своей воле христиане постятся: три дня — в понедельник, вторник и среду ничего не едят и не пьют, а в четверг и пятницу — едят сухо…
— Воистину — то диво дивное! — перекрестился Пожарский, а следом и гости.
Князь опустил голову, задумался, потом твердо сказал:
— Спасибо вам, гости дорогие, за вести добрые. Верьте, что как только силу почувствую, буду я в вашем ополчении, буду сражаться за землю Русскую.
Гости поклонились в знак благодарности, однако уходить не спешили, переглядывались и перешептывались.
Пожарский понял это по-своему:
— Относительно моего имущества не сомневайтесь: не то что треть, а больше отдам!
Ждан Болтин торжественно произнес:
— Видно, мне выпала честь произнесть главную весть!
Князь вновь приподнялся на подушках:
— Что такое? Аль вы еще не все сказали?
— Нет! Не сказано главное!
— Главное? — занедоумевал князь.
— Да, главное. Весь нижегородский мир просит тебя, Дмитрий Михайлович, стать во главе нашего ополчения!
Князь не поверил своим ушам, переспросил:
— Во главе? Мне?
Гости дружно встали и поклонились ему до земли. Рука Пожарского внезапно задрожала, он ухватился ею за нательный крест, а на щеках появились предательские слезы. Чтобы скрыть их, он опустил голову на грудь, потом выдавил:
— Благодарю вас и весь мир нижегородский за столь высокую честь, которой недостоин! Да и взаправду: много есть мужей, которые выше меня по месту своему возле престола царского.
Болтин бросил с вызовом:
— Конечно, есть и повыше, да только где они все? У престола Жигимонта либо у престола нового самозванца! Ты один, князь, всегда прямил только государям законным, всегда честь свою и слово блюл и воинскую славу себе только в правом деле стяжал! Не думай, люди все видят и знают!
Пожарский неожиданно тяжело понурился:
— Неужто никого из бояр нет, чтобы изменой себя не запятнал?
— Назови сам…
Дмитрий, знавший всех придворных, мысленно перебрал их поименно и лишь тяжело покачал головой.
— Нет, что-то не упомню…
— Мы не торопим тебя, князь-батюшка! — снова продолжил Болтин. — Нам ли не знать, коль тяжело это великое дело! Но отказываться тебе никак нельзя.
— Вся земля Нижегородская тебя просит! — поклонились купцы.
— Точно ли вся земля? — спросил Пожарский. — Давайте договоримся так: пусть все нижегородцы, от мала до велика, подпишут приговор стоять заодно, за правду неподвижную! И пусть этот приговор привезет мне Козьма Минин, как выборный человек всей земли вашей. Тогда-то мы и обсудим, как действовать далее.
Когда гости удалились, в комнату Дмитрия вошла Мария Федоровна.
Пожарский тревожно взглянул на нее:
— Слыхала, матушка, зачем гости приезжали?
— Не слыхала, да сердцем поняла!
— Ну и что скажешь? Благословляешь ли?
Та приникла губами ко лбу князя:
— Сынок мой ненаглядный! Что я могу сказать? Разве что: тебе исполнилось тридцать три года. То возраст для великих деяний. Не гости нижегородские, тебя Бог позвал Россию, нашу матушку, из беды вызволить.
Через несколько дней к Пожарскому прискакал Козьма Минин. Был он намного старше князя, но столь же высок и широкоплеч. Он попытался было отвесить встречавшему его на крыльце хозяину земной поклон, но тот властно удержал его за плечо:
— Вот это не надобно. Коль мы оба поставлены на ополчение, поклоны друг другу бить — делу помеха!
— Так ты же меня поставил?
— А разве нижегородцы тебя не избрали всем миром? — насупился Пожарский.
— Избрали…
— То-то же. Пошли в дом.
Усадив гостя в горнице в передний угол, князь без проволочек спросил:
— Приговор привез?
— Привез…
— Все ли подписали?
— Сначала те, что из лучших, колебались, да их собственные дети стыдить начали.
— А что так?
— Так ведь чем больше деньжат, тем жальче с ними расставаться.
— Это точно. Давай грамоту, прочитаю.
Минин протянул свиток.
— Сам-то внимательно читал? Нет ли каких уверток? — поинтересовался Пожарский, разворачивая свиток.
Староста неожиданно понурился:
— Не обучен я грамоте. Так что хотя сам и сочинял, а читать не читал…
— Это плохо! — строго сказал Пожарский. — А счет знаешь?
Минин лукаво улыбнулся:
— Обязательно. Чай, сызмальства торговлишкой занимаюсь.
— Ну, это важнее! — засмеялся и Пожарский. — Мы ведь теперь с тобой два сапога — пара! Мое дело — ратное, а твое — хозяйство вести: деньги собирать и смотреть, чтоб каждая копейка рачительно использовалась, а мздоимцев чтоб духу не было. Согласен? Давай-ка я приговор прочитаю.
Он быстро пробежал глазами грамоту, не скрывая одобрения прочитанному:
— «Стоять за истину всем безызменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми и не противиться им ни в чем; на жалованье ратным людям деньги давать…»
Однако следующая фраза вызвала у Пожарского недоумение. Нахмурившись, он прочитал вслух:
— «…А денег недостанет — отбирать не только имущество, а и дворы, и жен, и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать, чтобы ратным людям скудости не было…»
Это как же понимать? — Князь строго взглянул на Минина, бросая свиток на стол. — Идем воевать за правое дело, чтобы начальный порядок на Русь вернуть, чтоб все православные вздохнули свободно, а тут вдруг порешили жен и детей продавать? Мы что, литва проклятая?
Но Минин не смутился под взыскующим взглядом, ответил спокойно:
— Никто и не собирается их продавать.
— А как же тогда понимать? Зачем словоблудие сие?
— Для крепости сказано, — сказал Минин и даже улыбнулся. — Чтоб каждый твердо усвоил — коль подписал приговор, нести ответ. А для тех, кто к шатости способен, знал угрозу — коль будет утаивать деньги, окладчики и стрельцов пригонят, и имущество отнимут, а в крайнем случае и домочадцев со двора сведут в приказную избу. И это больше не бедняков, а наших богатеев касается. Ведь бедному полушку отдать — ничего, он с нее не разбогатеет. А вот гостю богатому отдать треть от своих пожитков накладно — и тысяча рублей, и больше может быть. Вот для таких и угроза: коль захочешь утаить деньги — жену и детей заберем.
— Круто берешь! — произнес, подумав, Пожарский. — Но, наверное, так и надо. Иначе дела не сделать. А скажи мне, Козьма Захарович, много ли служилых людей в Нижнем? Есть кому из казны собранной платить?
Тот сокрушенно покачал головой:
— В прежние годы в городе более трехсот служилых дворян да детей боярских было, а сейчас десятков пять едва наберется — кого убили, кого в полон взяли, кто к другим городам пристал.
— Где же мы будем ратников брать? Ведь из посадского мужика, хоть сколько ему плати, воин настоящий не скоро выйдет…
— Клич кликнем по всем городам! — бодро ответил Минин. — Уже сейчас в наше ополчение смоленские дворяне просятся.
— Смоленские дворяне? Откуда? — удивился Пожарский.
— Когда Жигимонт Смоленск в осаду взял, они побросали свои поместья и ушли от разорения вместе с домочадцами под Москву. А бояре московские отправили их подальше от греха, на дворцовые земли сюда, под Арзамас. Послать-то послали, а следом грамотку в эти волости направили, чтобы мужики им ничего в кормление не давали. Вот и стоят они, горемычные, в городе, и что ни день, с мужиками у них стычки из-за съестного.
— И сколько их?
— Поболе двух тысяч. Как узнали, что у нас в Нижнем затевается, проситься стали в ополчение.
— Пусть ко мне самых достойных мужей пришлют. Я посмотрю, какие из них воины. Коль глянутся, почин хороший случится!
— А поскольку платить будем служилым? Как считаешь, князь?
— Скупиться на это дело не надо, — как о решенном, твердо заявил Пожарский. — Думаю, что десятникам и сотникам надо дать на поход по пятьдесят рублев, всадникам — по сорок, стрельцам — по тридцать, а остальным — не менее двадцати рублев. И позаботься, чтобы коней добрых в Нижнем можно было купить, и упряжь, и доспехи. И чтоб на прокорм в достатке денег осталось…
Еще не раз в Мугрееве появлялись гости из Нижнего, а чаще других сам Минин. Рассказывал князю о том, как идут дела со сбором денег, что строится для него терем в кремле, сообщал о новых гонцах из ближних городов от служилых людей, выражавших готовность идти в ополчение. То были вяземские и дорогобужские дворяне, также бежавшие от польского разорения и остановившиеся в городе Ярополче. Прибыли к Пожарскому и представители смоленского воинства. Договорились, что весь отряд смолян придет в Нижний одновременно с самим Пожарским.
Князь чувствовал себя в эти октябрьские дни, как некогда, полным сил и энергии. Наконец и он отправился в дальнюю дорогу вместе с верными дружинниками, захватил всех своих чад и домочадцев. Он понимал, что если когда и вернется в родовое гнездо, то это будет очень не скоро.
Все горожане высыпали на улицы встречать своего героя. Они приветствовали его радостными выкриками. У Спасского собора в кремле Пожарского ждали «лучшие» люди — протопоп собора Савва, архимандрит Феодосий, воеводы князь Василий Андронов Звенигородский и Андрей Семенович Алябьев, дьяк Василий Семенов, стряпчие Иван Биркин и Василий Юдин и конечно же его ближайшие соратники — Козьма Минин и Ждан Болтин.
Оставив семью устраиваться в новом, еще пахнущем хвойной смолой просторном тереме, Пожарский, не теряя времени, сделал смотр смоленским дворянам. Он остался доволен их видом и велел немедля выдать им жалованье. Осмотрел он и пригнанный из понизовья табун ногайских лошадей.
— Что-то больно худые! — сказал он укоризненно Минину.
— За месяц, пока готовимся к походу, откормим! Будут добрые кони! — заверил подошедший табунщик.
Потом все собрались в съезжей избе, чтобы составить грамоту для всех городов с призывом идти в Нижний Новгород для схода в ополчение, а также побыстрее слать деньги и припасы.
…И вот вновь помчались гонцы из города в город, неся весть о начале нового движения за освобождение отчизны. В Казань был послан Иван Биркин, некогда отправленный Ляпуновым и Пожарским в Нижний Новгород, чтоб поднимал служилых людей. Теперь с этой же целью Пожарский послал Биркина в Казань. Дело в том, что после убиения Бельского в этом городе не было воеводы, а всем правил дьяк Никанор Шульгин, мутивший посад. Биркину были даны Пожарским полномочия воеводы с тем, чтобы он навел в Казани порядок и с ратью шел на подмогу нижегородскому воинству.
Казалось, все города только и ждали сигнала о начале второго ополчения. Каждый день прибывали все новые и новые отряды. Двоюродный брат Пожарского, опытный воин Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата, со своим родным братом Романом Петровичем привели полк суздальских дворян. Пришел отряд рязанцев и старых знакомцев Пожарского — зарайцев. Одновременно с ними прибыли стрельцы из Коломны, не захотевшие подчиняться «царице» Марине и ее сыну. Появились и отряды московских стрельцов, которых гетман Жолкевский разослал по городам для большей безопасности польского воинства, заняв с помощью изменников-бояр тишком столицу. Шли воины и из Северской земли. О своей готовности присоединиться сообщали как ближние к Нижнему Новгороду, так и дальние города.
Нижегородцы всех встречали приветливо. Минин со старостами размещал отряды воинов, снабжал деньгами и продовольствием. Военачальники встречались с Пожарским в съезжей избе для совета о будущем походе.
По Христову слову, встали многие лжехристи, и в их прелести смялась вся земля наша, встала междоусобная брань в Российском государстве и длится немалое время. Усмотря между нами такую рознь, хищники нашего спасения, польские и литовские люди, умыслили Московское государство разорить, и Бог их злокозненному замыслу попустил совершиться. Видя такую их неправду, все города Московского государства, сославшись друг с другом, утвердились крестным целованием — быть нам всем православным христианам в любви и соединении, прежнего междоусобия не начинать, Московское государство очищать, и своим произволом, без совета всей земли, государя не выбирать, а просить у Бога, чтобы дал нам государя благочестивого, подобного прежним природным христианским государям. Изо всех городов Московского государства дворяне и дети боярские под Москвою были, польских и литовских людей осадили крепкою осадою, но потом дворяне и дети боярские из-под Москвы разъехались для временной сладости, для грабежей и похищения; многие покушаются, чтобы быть на Московском государстве панье Маринке с законопреступным сыном ее. Но теперь мы, Нижнего Новгорода всякие люди, сославшись с Казанью и со всеми городами понизовыми и поволжскими, собравшись со многими ратными людьми, видя Московскому государству конечное разорение, прося у Бога милости, идем все головами своими на помощь Московскому государству, да к нам же приехали в Нижний из Арзамаса смольняне, дорогобужане и вятчане и других многих городов дворяне и дети боярские; и мы, всякие люди Нижнего Новгорода, посоветовавшись между собою, приговорили животы свои и домы с ними разделить, жалованье им и подмогу дать и послать их на помощь Московскому государству. И вам бы, господа, помнить свое крестное целование, что нам против врагов наших до смерти стоять; идти бы теперь на литовских людей всем вскоре. Если вы, господа, дворяне и дети боярские, опасаетесь от казаков какого-нибудь налогу или каких-нибудь воровских заводов, то вам бы никак этого не опасаться; как будем все верховые и понизовые города в сходу, то мы всею землею о том совет учиним и дурна никакого ворам делать не дадим; самим вам известно, что к дурну ни к какому до сих пор мы не приставали, да и вперед никакого дурна не захотим; непременно бы быть вам с нами в одном совете и ратными людьми на польских и литовских людей идти вместе, чтобы казаки по-прежнему не разогнали низовой рати воровством, грабежом, иными воровскими заводами и Маринкиным сыном. А как мы будем с вами в сходе, то станем под польскими и литовскими людьми промышлять вместе заодно, сколько милосердии Бог помощи подает, о всяком земском деле учиним крепкий совет, и которые люди под Москвою или в каких-нибудь городах захотят дурно учинить или Маринкою и сыном ее новую кровь захотят сначать, то дурна никакого им сделать не дадим. Мы, всякие люди Нижнего Новгорода, утвердились на том и в Москву к боярам и по всей земле писали, что Маринки и сына ее и того вора, который стоит под Псковом, до смерти своей в государи на Московское государство не хотим, точно так же и литовского короля.
Грамота князя Дмитрия Михайловича Пожарского и всяких ратных и земских людей Нижнего Новгорода, разосланная по всем городам.
23 февраля 1612 года, в день Великого поста, тронулась основная рать, сопровождаемая нарядом и обозами с зельем и продовольствием. Многочисленные толпы горожан стояли вдоль улиц, громко приветствуя и благословляя своих воинов. За Пожарским везли вытканную золотом хоругвь из алого шелка. Ее изготовили дворовые мастерицы под руководством матушки князя Марии Федоровны и супруги Прасковьи Варфоломеевны.
Путь воинства лежал по берегу Волги, к Балахне. Здесь к Пожарскому присоединился со своими ратниками Матвей Плещеев, вынужденный после убийства Ляпунова из-за бесчинств казаков покинуть ополчение. Следующий ночлег был в Юрьевце, где войско пополнилось отрядом татарских всадников. Миновав Решму и Кинешму, подступили к Костроме. Воевода Иван Шереметев заперся в крепости, отказавшись подчиниться Пожарскому. Князь, не желая кровопролития, расположился в посаде, ожидая дальнейшего развития событий. Он не ошибся: горожане осадили терем Шереметева и убили бы его за измену народному делу, но подоспевший Пожарский приказал своим воинам взять его под стражу и тем самым спас от погибели. Покидая Кострому, Пожарский посадил в нем воеводой верного ему князя Романа Гагарина.
Тем временем пришло радостное известие из Ярославля, Лопата успел упредить казаков Просовецкого и первым вошел в город. Атаман Андрей Просовецкий не решился вступать в бой с русскими и отошел к Ростову.
Под звон колоколов воинство Пожарского вступило в Ярославль. Его встречали престарелый воевода Андрей Куракин и дьяк Михаил Данилов, решившие порвать с подмосковным правительством и примкнуть к Пожарскому. Среди встречавших были и ярославские купцы. Один из них с поклоном вручил князю поднос с хлебом и солью. Пожарский поклонился в ответ, отломил ломоть, посыпал солью и отправил его в рот, знаком показав стремянному взять поднос. Тем временем двое других купцов подошли к князю, держа в руках ларцы.
— Что это такое? — строго спросил Пожарский.
— Прими, князь, дары от всех наших гостей — украшения и посуду. Все из чистого серебра да золота, каменьями изукрашенные.
— Вот это не надобно! — отмахнулся Пожарский. — Не за подарками мы в Ярославль шли. Верно я говорю, Козьма?
Минин, стоявший рядом с князем, столь же широкоплечий и статный, озорно улыбнулся:
— Если откупиться этими посулами вздумали, гости дорогие, то напрасно. Отдадите, как и купцы нижегородские, на нужды ополчения треть всего вашего имущества. А коль не отдадите, так возьмем силой…
…с передней стороны поясное изображение Господа Вседержителя, правой рукой благословляющего, а в левой держащего раскрытое Евангелие на словах от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35: «Приидите, благословенны Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». По краям: тропарь и кодак Всемилостивому Спасу: «С вышних призираяй и убогия приемляй, посети нас озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость». Исподняя сторона знамени с изображением по серебру и золоту города Иерихона, Архангела Михаила и Иисуса Навина, преклоняющаго пред Архангелом колена, и с надписью вокруг них из книги Иисуса Навина, глава 5, стихи 13–16: «Бысть, егда бяше Иисус у Иерихона, возрев очима своима, виде человека стояща пред ним, и меч его обнажен в руце его: и приступив Иисус, рече ему: наш ли еси, или от сопостат наших; он же рече ему: аз Архистратиг силы Господни, ныне приидох семо: и Иисус паде лицем своим на землю, и поклонися ему, и рече: Господи, что повелеваети рабу твоему; и рече Архистратиг Господень к Иисусу: иззуй сапоги с ногу твоею; место бо, на нем же ты стоши, свято есть; и сотвори Иисус тако».
Из описания хоругви князя Дмитрия Михайловича Пожарского
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский обладал удивительной особенностью — он привлекал к себе людей. Порой его это даже утомляло — быть постоянно в гуще, что-то решать за кого-то, советовать, отвечать на порой назойливые вопросы. Однако, будучи человеком очень добрым по натуре, он терпеливо нес свой крест.
Ему удалось то, чего не смог Ляпунов: к нему шли не только ратники, простые дворяне. К нему один за другим стали прибывать знатные люди. Всех он встречал радушно, не вспоминая никоим образом их прежние измены, хотя почти каждый из бояр до того служил либо Тушинскому вору, либо Сигизмунду, а многие — так и тому и другому.
Хотя Пожарский по-прежнему оставался главным воеводой ополчения, однако, будучи человеком, приверженным старым порядкам, в земском совете он сам усадил на первые места более знатных, по его мнению, людей. Теперь на грамотах, рассылаемых из Ярославля по городам, первая подпись принадлежала боярину Василию Петровичу Морозову, который в бытность казанским воеводой присягнул Тушинскому вору, вторая — боярину князю Владимиру Тимофеевичу Долгорукому, незадолго до того оставившему лагерь семибоярщины, третья — окольничему Семену Васильевичу Головину, одному из тех, кто впустил польский гарнизон в Кремль. Четвертым подписывался князь Иван Большой Никитович Одоевский, недавно пустивший де Ла-Гарди в Новгород и присягнувший шведскому королевичу. Теперь и он поспешил в Ярославль. Пятым — князь Василий Пронский, оставивший ополчение под Москвой вместе со своими ратниками из поморских городов. Шестым подпись ставил князь Федор Федорович Волконский-Мерин, который в свое время деятельно участвовал в свержении Шуйского и пострижении его в монахи. Седьмая подпись принадлежала воеводе Матвею Плещееву, восьмая — князю стольнику Алексею Михайловичу Львову, девятая — воеводе чашнику Мирону Андреевичу Вельяминову-Зернову, которого в бытность владимирским воеводой горожане забросали каменьями за верность самозванцу. Все эти люди руководили ратными отрядами в первом ополчении, но после убийства Ляпунова покинули подмосковный лагерь.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский подписывался лишь десятым, а Козьма Захарович Минин — пятнадцатым. Впрочем, из-за неграмотности Минина расписывался за него сам Пожарский: «В выборного человека всею землею, в Козьмино место Минина князь Пожарский руку приложил».
Десятое и пятнадцатое места не были уничижительными для главных вождей ополчения: ведь следом за Мининым в грамотах стояли еще тридцать четыре подписи, в том числе князей Долгорукого и Туренина, Шереметевых, Салтыкова, Бутурлина. Будучи человеком скромным, Пожарский не желал выпячиваться сверх меры, но в то же время строго блюл достоинство и свое, и своего ближайшего помощника — простого посадского человека — Минина.
Заботясь об укреплении нового земского правительства, Пожарский стремился к расширению в нем представительства не только знати, но и лучших людей из всех других сословий. В своих грамотах в города он писал:
«Бояре и окольничие, и Дмитрий Пожарский, и стольники, и дворяне большие, и стряпчие, и жильцы, и головы, и дворяне, и дети боярские всех городов, и Казанского государства князья, мурзы и татары, и разных городов стрельцы, пушкари и всякие служилые и жилецкие люди челом бьют… И вам, господа, пожаловать, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разоренье быть небезгосударным, выбрать бы нам общим советом государя, чтоб от таких находящих бед без государя Московское государство до конца не разорялось. Сами, господа, знаете, как нам теперь без государя против общих врагов, польских, литовских и немецких людей и русских воров, которые новую кровь начинают, стоять? И как нам без государя о великих государственных и земских делах с окрестными государями ссылаться? И как государству нашему вперед стоять крепко и неподвижно? Так по всемирному своему совету пожаловать бы вам, прислать к нам в Ярославль из всяких чинов людей человека по два, и с ними совет свой отписать, за своими руками…»
Правительство для управления страной учредило приказы. Монастырский приказ, призванный собирать налоги с монастырей, возглавил судья Тимофей Витовтов, человек безупречной репутации, получивший чин думного дьяка еще из рук Прокопия Ляпунова. Приказ Казанский дворец, управлявший поволжскими землями, возглавил дьяк Афанасий Евдокимов, также до того служивший в первом ополчении.
Позднее были организованы новые приказы — Поместный, занимавшийся раздачей земель оскудевшим дворянам, и Новгородская четверть, ведавшая делами северо-западных земель.
Ярославское правительство учредило новый герб. Поскольку самозванцы выступали под знаменами с двуглавым орлом, совет избрал другую эмблему — льва. На большой дворцовой печати были изображены два льва, стоящих на задних лапах, как бы изготовившись к прыжку, а на малой — один лев.
Печать главного воеводы представляла собой его собственный герб — двух рыкающих львов, держащих в передних лапах геральдический щит с изображением ворона, клюющего вражескую голову. Внизу, под щитом, находился поверженный издыхающий дракон. По окружности располагалась надпись: «Стольник и воевода и князь Дмитрий Михайлович Пожарково Стародубсково». Пожарский специально упомянул о своих предках, удельных князьях Стародубских, из рода Рюрика, чтобы не быть обвиненным в худородстве.
Имел собственную перстневую печатку и «человек всей земли» Козьма Захарович Минин. Рисунок для нее подсказал Пожарский, с детства чтивший древнегреческих авторов. Изображение представляло собой фигуру античного героя, сидящего в кресле и держащего в правой руке чашу. Рядом с креслом стояла амфора. Все это, по мысли князя, символизировало смысл деятельности Минина, — собрание и хранение государственной казны.
Совет ополчения с первого же часа пребывания в Ярославле действовал энергично и целеустремленно. Обстановка в стране оставалась крайне тяжелой: многочисленная рать черкас — запорожских казаков приблизилась к Антоньеву монастырю, расположенному у Красного Холма в тридцати верстах от Бежецка, в Угличе также стояли казаки. Атаман Василий Толстой, шедший из-под Москвы, занял Пошехонье, в тылу у Ярославля. От Новгорода двинулся отряд шведских наемников, захвативший Тихвин. Жители Переяславля-Залесского прислали в Ярославль слезное прошение избавить их от разбоя людей Заруцкого.
Мешкать было никак нельзя, и Пожарский отправил в Пошехонье отряд под начальством Пожарского-Лопаты, чтобы очистить путь на Север и в Поморье. Доблестный Лопата наголову разбил казаков Толстого, сам атаман едва спасся, ударившись в бега аж до самого Кашина. Воевода Иван Наумов отогнал всадников Заруцкого от Переяславля-Залесского и сам укрепился в городе. Ратники, посланные Пожарским, заняли Тверь, Владимир, Ростов, Касимов.
Князь Дмитрий Черкасский-Мастрюков с большим воинством, состоявшим из отрядов смолян под начальством Лопаты, казаков под командованием Семена Прозоровского и Леонтия Вельяминова, вологжан, которых вел Петр Мансуров, и романовских татар, выступил в поход к Бежецку против черкас. Однако среди патриотов оказался один предатель. Это был Юрий Потемкин, один из участников убийства Ляпунова. Сменив несколько лошадей в пути, изменник предупредил атамана Наливайко о приближении ратников из Ярославля. Запорожцы поспешно отступили к западу и пристали к воинству гетмана Ходкевича, по-прежнему грабившему мирное население, чтобы обеспечить продовольствием московский гарнизон.
После этого Пожарский поручил Черкасскому освободить Углич, где засели казаки, сохранявшие верность подмосковному стану. Причем главный воевода просил не доводить дело до кровопролития, а постараться склонить казаков к службе ярославскому ополчению. Действительно, в ходе переговоров четверо атаманов сразу же согласились перейти на сторону Черкасского, однако остальные решили сражаться. Впрочем, после первой же схватки в поле, видя значительный перевес в силе атакующих, они поспешили ретироваться. Углич также был занят гарнизоном из ополченцев.
Таким образом, Поморье и северные города стали надежной базой для снабжения ополчения. А оно становилось все многочисленнее. Каждый день в Ярославль являлись все новые и новые ратники. Козьме Минину приходилось туго. Деньги, собранные в Нижнем Новгороде, иссякли, нужда в них становилась все острее — ведь нужно было кормить, одевать, вооружать вновь прибывших.
Ярославские купцы, когда Минин пригласил их в земскую избу и потребовал внести деньги на очищение Москвы, было заупрямились, но они не ведали, насколько крут бывал нижегородец, когда встречал сопротивление общему делу. Он не стал долго разговаривать, а просто вызвал стрельцов, которые забрали строптивцев «не в честь» и, толкая взашей, препроводили их в воеводскую избу, к Пожарскому, где тот проводил военный совет. Минин громогласно провозгласил «вины» гостей и предложил лишить их всего имущества. Пожарский невозмутимо согласился. Перепуганные купцы пали на колени, признав собственную неправду.
Но собранных денег и имущества было явно недостаточно, ведь, кроме ратников, надо было платить оружейникам и пушкарям за подготовку воинского снаряжения. Поэтому Минин разослал дозорников во все города, которые присягнули на верность ополчению. Те в короткие сроки сумели провести описание земель и иной собственности, чтобы наладить справедливую систему налогообложения.
Кроме того, Минин прибег к займам в Соловецком монастыре и у солепромышленников Строгановых. Он также постоянно призывал горожан и земледельцев к добровольным пожертвованиям. Когда в казне накопилось множество серебряной утвари, переданной гражданами добровольно, Минин устроил в Ярославле Денежный двор, где вещи переплавлялись и чеканились монеты. В результате ни один ратник, прибывший в Ярославль, не был обделен ни одеждой, ни оружием, ни деньгами на прокорм.
Наконец появилось казанское ополчение, которое вел Иван Биркин.
Хотя, казалось бы, казанцы и выполнили волю Гермогена, однако в собственных рядах они не сумели достичь согласия. Причиной раздора явился местнический спор между Иваном Биркиным и татарским головою Лукьяном Мясным, который примкнул к ополчению со своим отрядом мурз еще в Казани. Биркин доводился родней Прокопию Ляпунову и был послан им как личный представитель в Нижний Новгород еще во время сбора первого ополчения. Памятуя об этом, Дмитрий Пожарский и направил Биркина в Казань с ответственным поручением привести Казань к присяге новому ополчению и организовать войско.
Биркин сделал это, хотя и с трудом, поскольку дьяк Шульгин, организатор смуты и убийства Бельского, поначалу всячески противодействовал посланцу Пожарского. В конце концов они сошлись на том, что Биркин в ополчении будет отстаивать интересы Казанского царства и займет среди военачальников подобающее место, равное месту Пожарского, а может, и повыше. Поэтому уже в походе к Ярославлю он вел себя крайне высокомерно по отношению к союзникам-татарам, а в городах, через которые шло его войско, разрешил своим стрельцам обращаться с жителями как с неприятелем, грабя и насилуя.
Все это и выложил Лукьян Мясной, когда два предводителя явились на военный совет в воеводскую избу. Узнав, что Биркин стакнулся с Шульгиным, глава боярской думы Василий Морозов встретил его крайне враждебно. Ведь ранее он был воеводой в Казани и слишком хорошо знал Шульгина, чтобы доверять человеку, ставшему его приятелем. Поэтому Морозов приказал Биркину занять место среди прочих предводителей городских отрядов, но никак не во главе. Строптивый дьяк, мечтавший о воеводском чине, вспылил и оставил совет. Дело чуть не дошло до кровопролития. Пожарскому потребовалось все его влияние, чтобы погасить бушующие страсти.
Через несколько дней Биркин неожиданно снялся с места и с большей частью своего воинства повернул обратно к Казани. Остались верны ополчению только татарские мурзы и стрельцы, а также незначительное количество дворянских всадников. Чтобы предотвратить на будущее ссоры между отдельными отрядами ополчения, Пожарский решил прибегнуть к помощи духовных пастырей. Выбор его пал на бывшего Ростовского и Ярославского митрополита Кирилла, который в это время находился на покое в Троицком монастыре. При нем в Ярославле составился церковный совет, отныне разбиравший по совести все споры, возникавшие среди военачальников. Но беда не приходит одна. Лишь только утихли споры, как в Ярославле началась завезенная кем-то из вновь прибывших «моровая язва». Из-за скученности ополченцев, стоявших на постое во всех посадских избах, смертность была очень высокой. Решено было провести крестный ход. Поутру 24 мая Пожарский во главе процессии прошел от главного собора к предместьям и обошел все городские стены. Обращение к Богу помогло, мор прекратился столь же внезапно, как и начался. Благодарные ярославцы в один день выстроили крохотную деревянную церковь — Спас Обыденный. Самого Дмитрия Михайловича не миновал очередной приступ черной немочи, и несколько дней воевода вынужден был находиться дома. Впрочем, болезнь никак не остановила кипучую деятельность князя. Всю весну и лето он занимался не только ратными делами, но и очень сложными дипломатическими переговорами, стремясь превратить возможных противников в пусть не очень надежных, но союзников.
Движение ополчения к Москве останавливала, в первую очередь, неясность отношений с казацким табором под Москвой. Еще в то время, когда Пожарский только пришел в Ярославль, он получил грамоту от троицких старцев. В ней сообщалось, что Трубецкой прислал в монастырь двух братьев, дворян Пушкиных, якобы «для совета», а на самом деле с целью выведать отношение Пожарского к подмосковному правительству. По словам Пушкиных, стремившихся оправдать своего руководителя во что бы то ни стало, «боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, дворян, детей боярских, стрельцов и московских жилецких людей привели к кресту неволею: те целовали крест, боясь от казаков смертного убийства; теперь князь Дмитрий у этих воровских заводцев живет в великом утеснении и радеет соединиться с вами».
Далее старцы писали: «Молим вас усердно, поспешите прийти к нам в Троицкий монастырь, чтоб те люди, которые теперь под Москвою, рознью своею не потеряли Большого Каменного города, острогов, наряду».
Пожарский не поверил в искренность Трубецкого, поэтому ничего не ответил пастырям Троицкого монастыря. Зато в своем послании городам сурово осудил Трубецкого и Заруцкого за измену общему делу: «Из-под Москвы князь Дмитрий Трубецкой да Иван Заруцкий и атаманы и казаки к нам и по всем городам писали, что они целовали крест без совета всей земли государя не выбирать, псковскому вору, Марине и сыну ее не служить, а теперь целовали крест вору Сидорке,[54] желая бояр, дворян и всех лучших людей побить, именье их разграбить и владеть по своему воровскому казацкому обычаю. Как сатана омрачил очи их! При них калужский их царь убит и обезглавен лежал всем напоказ шесть недель, об этом они из Калуги в Москву и по всем городам писали!»
Тогда же на совете было решено — ни в какие переговоры с Трубецким и тем более с Заруцким не вступать, пока подмосковный стан не откажется от своей присяги «псковскому вору». Тех же казаков, что перейдут к ярославскому ополчению, привечать наравне с земскими ратниками. Такая политика возымела свое действие. Почувствовав, что оказываются в изоляции, подмосковные руководители неожиданно «прозрели». В Псков для опознания Лжедимитрия срочно был послан Иван Плещеев, который до того больше всех ратовал за крестоцелование самозванцу. Явившись ко двору новоявленного «государя», Плещеев громогласно, в присутствии большого числа псковичей объявил, что перед ним не Димитрий. Воспользовавшись суматохой, Матюшка укрылся у князя Хованского, намереваясь бежать с ним из города. Но Плещеев вступил в переговоры с Хованским и убедил его выдать вора. Матюшку схватили и посадили поначалу в псковскую тюрьму, а затем Плещеев привез его в свой стан, чтобы все казаки убедились в обмане.
Пожарский тут же с удовлетворением сообщил в города: «Да объявляем вам, что 6 июня прислали к нам из-под Москвы князь Дмитрий Трубецкой, Иван Заруцкий и всякие люди повинную грамоту, пишут, что они своровали, целовали крест „псковскому вору“, а теперь они сыскали, что это прямой вор, отстали от него и целовали крест вперед другого вора не затевать и быть с нами во всемирном совете».
Однако идти напрямую к Москве было нельзя: оставался еще один серьезный противник, который мог нанести удар в спину, — шведы. В Новгород для переговоров было послано представительное посольство, включавшее пятнадцать членов Земского собора от разных сословий. Возглавил его дьяк Степан Татищев. Посланник вскоре убедился, что новгородские правители находятся в полной зависимости от шведских завоевателей, получая из их рук жалованные грамоты на все новые и новые земли.
Карл IX, который начал интервенцию и обещал прислать сына на русский престол, скончался. Королем стал его старший сын Густав-Адольф, и русская корона должна была перейти к младшему принцу Карлу-Филиппу. Однако новый король, подобно своему двоюродному брату Сигизмунду, сам возжелал править Россией и потому известил правителей «Новгородского государства», что скоро сам пожалует в Новгород, чтобы навести порядок. Было ясно, что молодой, но алчный Густав-Адольф желает превратить северные русские земли в шведскую провинцию. Тем временем шведы продолжали экспансию. После отчаянного сопротивления вынуждены были сдаться на милость победителей жители городов Орешек, Тихвин и Ладога. А новгородское правительство, подчиняясь указаниям завоевателей, обратилось в Белоозеро и Кириллов монастырь с призывом отойти от Москвы и присоединиться к новгородцам.
— Ждать добра не приходится! — сказал в заключение Татищев. — Того и гляди, со шведами придется схватиться.
Пожарский немедленно приказал своему брату Лопате с лучшим отрядом ратников выдвинуться к Устюжине, чтобы отразить возможное наступление шведов из Тихвина. В Белоозеро был послан земский дьяк со свинцом и порохом.
Велено было срочно построить там новую крепость.
Однако Дмитрий Михайлович продолжал надеяться на мирный исход переговоров. Поэтому в своих грамотах в города земский совет представил более радужную картину:
«Степан Татищев в расспросе сказал, что в Великом Новгороде от шведов православной вере никакой порухи, а христианам никакого разорения нету: все живут безо всякой скорби; принц же Карло по прошению Новгородского государства будет в Новгороде вскоре, а дается на всей воле Новгородского государства людей».
Из городов в Ярославль для будущих переговоров с новгородскими послами, приезд которых ожидался через месяц, приглашались «для общего земского совета изо всяких чинов человека по два и по три» с наказом от имени всех горожан, кого именно они хотели бы избрать государем.
Пока ожидали приезда новгородской делегации, Пожарский провел переговоры с австрийским посланником Грегори, который возвращался из Персии через Россию. Беседа была долгой. Австриец оказался не оригинален: подобно полякам и шведам, он предложил на пост русского царя свою кандидатуру — брата императора Римской империи Максимилиана. Это предложение не было новостью для Пожарского: такая возможность обсуждалась еще при Федоре Иоанновиче, не имевшем наследника, о чем он и сказал Грегори. Дмитрий Михайлович напомнил австрийскому посланнику, что русских царей и австрийских Габсбургов издавна связывали тесные дружеские контакты. Россия не раз оказывала денежную поддержку австрийскому правительству во время войны с Турцией, считая этот оплот мусульман общим для всех христиан врагом.
— Настал черед австрийского императора помочь России, — сказал он. — Конечно, Москва с великой благодарностью примет эрцгерцога, коль он перейдет в православную веру. Но сейчас главное, чтобы император остановил польского короля!
Двадцатого июня Пожарский вручил Грегори послание, предназначенное императору Рудольфу. В нем он писал: «Как вы, великий государь, эту нашу грамоту милостиво выслушаете, то можете рассудить, пригожее ли то дело Жигамонт-король делает, что, преступив крестное целование, такое великое христианское государство разорил и до конца разоряет, и годится ль так делать христианскому королю! И между вами, великими государями, какому вперед быть укреплению, кроме крестного целования? Бьем челом вашему цезарскому величеству всею землею, чтобы вы, памятуя к себе дружбу и любовь великих государей наших, в нынешней нашей скорби на нас призрели, своею казною нам помогли, а к польскому королю отписали, чтоб он от неправды своей отстал и воинских людей из Московского государства велел вывести».
Наконец в июле прибыли новгородские послы во главе с игуменом Вяжицкого монастыря Геннадием и представителем городского дворянства князем Федором Оболенским. В посольство вошли по одному человеку из дворян и посадских от каждой пятины города. Пожарский оказал послам достойный прием в воеводской избе, где присутствовали представители всех городов.
Оболенский говорил долго, снова изложив весь ход событий от переговоров Бутурлина до решения просить шведского королевича к себе в государи. Закончил он следующими словами:
— Ведомо вам самим, что Великий Новгород от Московского государства никогда отлучен не был, и теперь бы вам также, учиня между собою общий совет, быть с нами в любви и соединении под рукою одного государя.
Пожарский не сдержался:
— Слыханное ли дело! При прежних великих государях послы и посланники прихаживали из иных государств, а теперь из Великого Новгорода вы послы! Искони, как начали быть государи на Российском государстве, Великий Новгород от Российского государства отлучен не бывал; так и теперь бы Новгороду с Российским государством быть по-прежнему!
Члены совета одобрительно загудели. Однако Пожарский, не желая обострения в переговорах, решительно перешел к вопросу об избрании на русский престол шведского королевича:
— Уже мы в этом искусились. Как бы шведский король не сделал с нами так же, как польский. Польский Жигимонт-король хотел дать на Российское государство сына своего королевича, да через крестное целование гетмана Жолкевского и через свой лист манил с год и не дал; а над Московским государством что польские и литовские люди сделали, то вам самим ведомо. И шведский Карлус-король также на Новгородское государство хотел сына своего отпустить вскоре, да до сих пор, уже близко году, королевич в Новгороде не бывал.
— Такой статьи, как учинил над Московским государством литовский король, от шведского королевства мы не чаем, — ответил Оболенский. — Да и вы сами знаете, что отсрочка произошла из-за смерти Карлуса, а потом из-за войны с Данией. Коль нам не верите, пошлите посольство в Швецию.
Пожарский отрицательно покачал головой:
— В Швецию нам послов послать никак нельзя! Ведомо вам самим, какие люди посланы к польскому Жигимонту-королю. Боярин князь Василий Голицын с товарищами! А теперь держат их в заключении как полоняников, и они от нужды и бесчестья как в чужой земле погибают!
Оболенский возразил:
— Учинил Жигимонт-король неправду, да тем себе какую прибыль сделал, что послов задержал? Теперь и без них вы, бояре и воеводы, не в собранье ли и против врагов наших, польских и литовских людей, не стоите ли? Шведский король уже так никак не сделает!
Но Пожарский вновь твердо заявил под гул одобрения:
— Видя то, что сделалось с литовской стороны, в Швецию нам послов не посылывать и государя не нашей православной веры греческого закона не хотеть!
Эти слова устыдили послов, напомнив им о православном долге.
— Мы от истинной православной веры не отпали! — сказал Оболенский. — Королевичу Филиппу-Карлу будем бить челом, чтоб он был в нашей православной вере греческого закона. А если только Карл-королевич не захочет быть в православной вере греческого закона, то не только с вами, боярами и воеводами, и со всем Московским государством вместе, хотя бы вы нас и покинули, мы одни за истинную нашу православную веру хотим помереть, а не нашей, не греческой веры государя не хотим!
Пожарский и Оболенский, уже не чинясь, крепко обнялись. После этого переговоры пошли в дружеском тоне. Договорились, что ярославцы пришлют посольство во главе с Перфилием Секериным, но не в Швецию, а снова в Новгород. В свою очередь новгородцы обязались до прихода королевича быть с ярославским ополчением в любви и совете, войны не начинать, городов и уездов Московского государства к Новгородскому государству не подводить, людей к кресту не приводить и задоров никаких не делать.
Эта дипломатическая победа Пожарского устранила последнее препятствие для похода на Москву. Надо было спешить: пришло известие, что московский гарнизон полностью заменен, в Кремль вступили свежие силы. Их привел в начале июня гетман Ходасевич вместе с огромным обозом награбленного продовольствия. В составе введенных в Кремль сил был полк Николая Струся, набранный из польских гусар, находившихся в Смоленске, и полк «сапежинцев», в который влились запорожцы, бежавшие весной от войска Дмитрия Черкасского. Его вел старый соратник Сапеги полковник Осип Будило.
Александр Гонсевский вдруг заявил гетману Ходкевичу и Струсю, что он со своими полками покидает Москву. Напрасно Ходасевич грозил ему королевской немилостью, Гонсевский стоял на своем. Истомленные осадой и голодом, его жолнеры уже давно требовали отпуска из Москвы, а кроме того, Гонсевский, по-видимому, хорошо запомнил предостережение умирающего Сапеги. И вот в день праздника Тела Господня жолнеры Гонсевского отправились в путь на родину в сопровождении повозок с золотом и драгоценностями, взятыми из кремлевских сокровищ в качестве залога. Правда, при прощании московские бояре дали слово догнать оккупантов до перехода ими границы и выкупить царские ценности за восемнадцать тысяч польских злотых. Гонсевский соглашался, ухмыляясь в усы: он-то наверняка знал, что денег боярам взять негде.
По дороге в лесу и на переправах жолнеров то и дело тревожили «шиши», однако численный перевес был на этот раз на стороне поляков, поэтому стычки заканчивались поражением партизан.
Король встретил гонсевцев неласково, сочтя их уход из Москвы своевольничаньем. Когда войско поняло, что обещанного жалованья им не видать, было принято решение разделить драгоценности: короны Федора и Димитрия, а также золотые оправы царского седла были разбиты на кусочки, а драгоценный посох из единорога разделили на лоты и продали с аукциона.
Получил свою долю и Самуил Маскевич. Ему достались три алмаза, четыре рубина и золота на сто злотых.
Когда гарнизон в Кремле сменился, Ходкевич снова ушел к Волге за новой добычей припасов, чтобы в случае надобности спокойно перезимовать.
Пожарский хорошо понимал, что взять штурмом Кремль, да еще со свежим гарнизоном, никому не под силу. Значит, предстояла осада. Поэтому важно было не дать Ходкевичу обеспечить гарнизон запасами на зиму.
Надо было спешить. И Пожарский срочно отправил в поход головные отряды. Один из них под начальством воевод Михайлы Самсоновича Дмитриева и Федора Левашова получил приказ, ни в коем случае не входя в стан Трубецкого и Заруцкого, поставить свой острожек у Петровских ворот. Следом должен был выступить отряд Дмитрия Петровича Лопаты-Пожарского, вернувшийся из Устюжины после успешных переговоров с новгородцами.
Стало готовиться к походу и главное ополчение. Однако следовало уговориться с подмосковными казаками о совместных действиях. В это время в Ярославль примчались атаманы Иван Дубина Бегичев и Иван Кондырев, предводители казаков из Перемышля и других украинских городов. Они пожаловались на притеснения, которые терпели их ратники от казаков Заруцкого, и просили помощи. Пожарский встретил Бегичева и его товарищей очень уважительно и приказал щедро одарить их деньгами и сукном на платье, пообещав им свою защиту от лихоимства Заруцкого.
Вернувшись в подмосковный стан, Бегичев громогласно поведал о результатах своей поездки. Его внимательно слушали сотни людей, и не только земцев, но и казаков. Весть о доброте и справедливости Пожарского разнеслась по всему стану.
Взбешенный Заруцкий расценил поездку Бегичева в Ярославль как предательство и приказал казакам напасть на острожек, занимаемый его отрядом. Видя численное превосходство казаков, ратники Бегичева бежали в свои города. Однако уже и среди казаков стали слышаться голоса, призывающие идти под руку воеводы Дмитрия Пожарского. Поняв, что его замысел вернуть на трон Марину срывается, Заруцкий решился на злодейское дело…
…Пожарский завершал смотр своих войск. Как и всегда перед походом, воевода придирчиво осматривал вооружение и экипировку воинов, разговаривал с каждым. Оставался доволен и добротностью снаряжения, и настроением своих ратников, рвущихся в бой.
В этот день он должен был осмотреть пушки, выстроенные в ряд перед съезжей избой, в которой расположился перед походом военный совет. На площади, где стояли пушки, и у избы столпилось множество народа, здесь были и пушкари, и стрельцы, и ярославские посадские люди.
Пожарский в сопровождении других вышел из дверей, его встретили бурным ликованием. Хотя князь уже совершенно оправился от болезни, однако за руки его поддерживали стремянные — Роман и Семен. Когда он уже спустился с крыльца, вдруг вокруг него образовался водоворот тел, оторвавший от него Семена куда-то в сторону, а рядом появились какие-то незнакомые люди. Роман, оберегая князя, шагнул вперед и вдруг, застонав, отпустил руку князя и начал медленно опускаться на землю.
— Тише вы, ироды! — весело закричал Дмитрий, поддавшись общему настроению. — Романа моего чуть не задавили!
Князь сначала решил, что стремянный оступился и подвернул ногу, но, нагнувшись, увидел кровь, рядом лежал кем-то брошенный нож. Удар пришелся в бедро и, к счастью, был не опасен для жизни Романа.
— Кто это сделал? — грозно проревел Пожарский и увидел, как сквозь толпу отчаянно пробиваются двое в казацких шапках, стремясь скрыться.
— Взять их!
Казаков повязали, подвели к князю.
— Кто такие?
Те угрюмо молчали.
— Допросить.
Вечером совету доложили о результатах допроса. Под пытками задержанные признались, что одного зовут Обреска, другого — Степан. Оба присланы Заруцким, чтобы убить Пожарского. Им удалось подкупить несколько человек для осуществления гнусного замысла. То были смоляне: дворянин Иван Доводчиков и стрельцы — Шанда с пятью товарищами. Что самое странное, им удалось вовлечь в заговор стремянного князя, Семена Хвалова. Поначалу заговорщики хотели зарезать воеводу ночью, во время сна. Но в комнате, где спал Пожарский, с ним находились его сыновья, а в соседней — дружинники, выросшие вместе с ним в родном поместье. Тогда было решено убить его, воспользовавшись теснотой на соборной площади. Когда Обреска с кинжалом за пазухой протолкался к воеводе, Семен Хвалов отскочил в сторону, и если бы заметивший опасность Роман не кинулся вперед, убийца ударил бы Пожарского снизу под пояс, так как знал, что князь носил латы, скрытые ферязью, и удар в сердце не достиг бы цели.
Возмущенные члены совета потребовали немедленной казни заговорщиков. Но Пожарский властным жестом остановил шумевших бояр и воевод.
— Казнить не разрешаю. Зачем кровь зря проливать? Ее и так достаточно. А потом, подумайте: казнь казаков будет на руку лютому ворогу нашему Ивашке Заруцкому. Он же будет кричать, деи, вот как земцы относятся к казакам, рубят головы неповинным.
— Так они же хотели тебя убить!
— А поди докажи — мертвые же не скажут. Сделаем по-иному. Смолян и моего Сеньку отправим в тюрьму в Нижний Новгород. А казаков возьмем с собой к Москве. Пусть они там публично покаются перед всем народом!
Воеводы согласились, что так, конечно, поступить будет значительно мудрее. На совете было принято решение о начале похода.
Наутро главное ополчение выступило из Ярославля, отслужив молебен в Спасском монастыре.
Впереди войска, растянувшегося с обозами и артиллерией на добрую версту, священнослужители несли икону Казанской Божьей Матери.
За священнослужителями под своей хоругвью ехал верхом Пожарский со своими старшими сыновьями — Петром и Федором, рядом же Козьма Минин, который тоже взял в поход своего сына Нефеда. Проделав семь верст, войско остановилось на ночлег. Отсюда, оставив войско на Минина и Ивана Андреевича Хованского, Пожарский со своей небольшой личной дружиной повернул на Суздаль, чтобы поклониться перед будущей битвой праху близких ему людей. В Спасо-Евфимиевом суздальском монастыре была родовая усыпальница Пожарских. Здесь находились могилы отца Дмитрия — Михаила Федоровича Глухого, брата Василия, в иночестве Вассиана, и свояка князя — Никиты Ивановича Хованского, мужа сестры Дарьи, скончавшегося от ран в битве за Москву с тушинцами.
Свое войско Дмитрий догнал в Ростове. Здесь вместе с Мининым они посетили Борисоглебский монастырь, где встретились с преподобным затворником Иринархом, который, как они знали, благословил на подвиг в свое время Михаила Скопина-Шуйского, вручив ему свой нательный медный крест.
Когда, низко наклонив головы, они еле протиснулись в узкую дверь кельи и разглядели при свете лампады святого старца, оба не удержались от изумленных возгласов. Воистину небывалым был труд праведника — цепь-ужище, которой он был опутан и прикован к тяжелому деревянному стулу, составляла в длину двадцать саженей, кроме того, на нем находились наплечные и нагрудные вериги, на голове — железный обруч, на руках и перстах медные и железные оковцы. На груди старца висели его сорок два нательных креста, каждый весом в четверть фунта.
Пожарский и Минин склонились, принимая благословение Иринарха. Тот пристально взглянул на них своими ярко-голубыми глазами и произнес:
— Знаю, кого вы опасаетесь, — Заруцкого. Идите к Москве и узрите милость Божию; будет ли здесь Заруцкий. Дам я вам на помощь каждому по нательному своему кресту, а когда Москву от литвы с помощью Господа нашего очистите, тогда эти кресты мне вернете.
Возвратившись в стан, Пожарский узнал, что его ожидает гонец от Трубецкого. То был атаман Кручина Внуков. Он привез весть о том, что Иван Заруцкий, испугавшись возмездия за свое злодеяние, бежал из-под Москвы в Коломну, к своей возлюбленной, и увел за собой почти половину войска — более двух тысяч казаков. Трубецкой слезно просил ускорить движение ополчения к Москве, так как разведчики доносили о приближении гетмана Ходкевича.
Войско Пожарского незамедлительно двинулось к Троицкому монастырю, где Пожарский рассчитывал встретиться с посланцами Трубецкого, чтобы при посредничестве архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына уговориться о совместных действиях. Однако Трубецкой медлил по причинам, непонятным пока для Пожарского.
В монастырь пришло известие из далекого Гамбурга, грамота была подписана иностранцами Андрианом Фейгером, Артуром Эстоном, Яковом Гилем и, Пожарский не поверил своим глазам, — Яковом Маржере, злодеем, сжегшим Москву! Ландскнехты предлагали свою помощь в борьбе с польскими интервентами и сообщали, что уже через месяц будут в Архангельске. Пожарский приказал, чтобы немедленно подготовили ответ, что Русское государство отныне не нуждается ни в чьей помощи. Кроме того, на случай появления непрошеных чужеземных гостей он отправил в Архангельск отряд стрельцов и казаков.
Простояв в монастыре четыре дня и так и не получив больше вестей от Трубецкого, князь отдал приказание сделать последний переход к Москве: Ходкевича ждали с часу на час.
Монахи провожали их крестным ходом. Когда рать пришла в движение, навстречу вдруг подул яростный холодный ветер, застилая пылью глаза и вызывая непрошеные слезы. Страх объял ратников — неужто Бог против их похода? Один Пожарский, казалось, не испытывал никакого колебания, он был спокоен, как всегда, и дружелюбно улыбался своим воинам. Он первый, подавая пример, подошел к образам Святой Троицы, Сергия и Никона чудотворцев и приложился к кресту архимандрита, окропившего его святой водой. За Пожарским потянулись остальные. И — о чудо! Когда последний из ратников принял благословение, ветер вдруг переменился и начал с той же силой дуть в спину, как бы торопя двигаться быстрее к Москве. Лица воинов засияли, по длинной процессии прокатилось бурное «ура», раздались крики:
— Умрем за дом Пречистой Богородицы, за православную христианскую веру!
Великих государств Российского царствия бояре и воеводы, и по избранию Московского государства всяких чинов людей, в нынешнее настоящее время того многочисленного войска у ратных и у земских дел стольник и воевода князь Дмитрий Пожарский с товарищи. Объявляем Ондреяну Фрейгеру вольному господину города Фладороа, Артору Ястону из Турпала, Якову Гилю, начальным над войском, и иным капитаном, которые с вами. Прислали есте к нам с капитаном с Яковом Шавом граммату за своими руками; а в граммате своей к нам писали, что объявляете нам свое доброе раденье прямым сердцем, будто вы о некоторых мерах, тому уж 6 месяцев, писали в граммате к Петру Гамельтону, чтоб он до нас донес, что вы хотите верно служити в тех мерах, что учинилося меж нас и Польских и Литовских людей, и нам бы не страшитися: государи ваши короли великих людей ведомых иноземцев, ратных больших капитанов и залдатов, в которых нет таких, который бы к службе не пригодился, велели сбиратися, и уже наготове; только тому дивитися, что нам капитан Гамельтон того не объявил и вашего раденья и службы по ея места не сказал, и вы положили на то: нечто будет то ваше письмо до Петра не дошло, или Петр до нас не донес, что вам о том от нас письма и в том вы стали неправы большому в Амбарху[55] Якову Мержерету; а Яков Мержерет послал же с грамматами из Амбарха к Архангельскому городу на Николин день, мая 9 число, тоежь службу и раденье объявляя, и вы тогоже чаете, что и те не дошли; и только нам ваше раденье любо будет, и о том бы нам ответ учинити вам по нынешней летней дороге, чтоб мочно притти корабельным ходом…
И мы государем вашим королям, за их жалованье, что они о Московском государстве радеют и людям велят сбираться нам на помочь против Польских и Литовских людей, челом бьем и их жалованы рады выславляти; а и преже сего великие государи наши цари и великие князья Российские с государи великим, им с которыми короли, в недружбе не бывали… А тому удивляемся, что вы о том в совете с Француженином с Яковом Мержеретом, а Якова Мержерета мы все Московского государства бояре и воеводы знаем достаточно и ведаем про него подлинно:
Блаженина памяти при великом государе царе и великом князе Борисе Федоровиче всеа Русии выехал тот Яков и с иными иноземцы, с дьяком Офанасьем Власьевым, из цесарския области к царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Русии на его государское имя служити; и блаженныя памяти великий государь царь и великий князь Борис Федорович всеа Русии его пожаловал своим царским жалованием, поместьем и вотчины и денежным жалованием, и был он у иноземцев в ротмистрах; а после царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии как учинился на Российском государстве великий государь царь и великий князь Василий Иванович всеа Руси, и Яков Мержерет великому государю царю и великому князю Василью Ивановичу всеа Руси бил челом, чтоб его отпустил к родству его во Францовскую землю, и царь и великий князь Василий Иванович всеа Руси, по своему милосердному обычаю, пожаловал его своим царским жалованьем, во Францовскую землю отпустить велел. И как, за наш грех, в Российском государстве при царе Васильи, некоторый вор, по умышленью Польских и Литовских людей, назвался блаженныя памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии сыном, царевичем Дмитрием Углицким, в прежняго вора в Розстригино место, будто он ушел с Москвы жив, и стоял тот вор под Москвою, и тот Яков Мержерет к тому вору пристал и был с тем вором, и Московскому государству многое зло чинил и кровь христианскую проливал, вместе с Польскими и с Литовскими людьми и Московского государства с изменники. А как Польский Жигимонт король присылал под Москву гетмана Польского Станислава Желковского, и тот Яков опять пришел с гетманом; а после гетмана остался в Московском государстве с старостою Велижским с Олександром Гасевским, в Немецкой роте у Поляка у Петра Борковского в поручиках. И как Польские и Литовские люди крестное свое целованье преступили, ошгоша Московских бояр, царствующий град Москву разорили, выжгли и людей секли, и тот Яков Мержерет, вместе с Польскими и Литовскими людьми, кровь крестьянскую проливал и злее Польских людей, и в осаде с Польскими с Литовскими людьми в Москве от нас сидел, и награбивая государские казны, дорогих узорочей несчестно, из Москвы пошел в Польшу в нынешнем во 7120 году, в сентябре месяце, с изменники Московскаго государства, что был боярин, с Михаилом Салтыковым с товарыщи. И про то нам подлинно ведомо, что Польский Жигимонт король тому Якову Мержерету за то, что он с Польскими и Литовскими людьми Московское государство разорял и кровь крестьянскую проливал, велел быть у себя в раде.
И мы тому удивляемся: такое Яков Московскому государству зло учинил, с Польскими и с Литовскими людьми кровь крестьянскую проливал, да и злее Польских и Литовских людей чинил, и у короля за то жалованье получил, и в раде его король учинил; а ныне б ему нам против Польских и Литовских людей помогати? И нам ся мнит, что Яков хочет в Московское государство было по умышлению Польского короля и Польских и Литовских людей, чтоб ему зло, которое, по умышлению и по приказу Польского Жигимонта короля и панов рад, Московскому государству учинити; о том мы стали в опасеньи; для того и к Архангельскому городу на береженье ратных многих людей отпускаем, чтоб Польского Жигимонта короля умышленьем какое лихо Архангельскому городу не учинилось.
Да и наемные нам люди иных государств ныне не надобет: но ся места были нам Польские люди сильны потому, что за грех наш государство Московское было врозни, Северские города были особе, а Казанское и Астраханское царства и Понизовные города были особе; а во Пскове был вор, назвался государским именем, и Псков и Иван-город были с ним вместе; а иные города и люди многие были с Польскими и Литовскими людьми. А ныне все Российское государство, видев Польских и Литовских людей неправду и узнав воровских людей завод, избрали всеми государствы Российского царствия, мы, бояре и воеводы… за разум, и за правду, и за дородство, и за храбрость, к ратным и к земским делам стольника и воеводу князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского. Да и те люди, которые были в воровстве с Польскими и Литовскими людьми и стояли на Московское государство, видя Польских и Литовских людей неправду, от Польских и Литовских людей отстали и стали с нами единомышленно против Польских и Литовских людей… А о том бы вам к нам любовь объявити, о Якове о Мержерете к нам отписати: какими обычаи Яков Мержерет из Польския земли у вас объявился, и в наших он мерах ныне у вас, в какой чести? А мы чаяли, что его, за его неправду, что он, не памятуя государей наших жалованья, Московскому государству зло многое чинил и кровь крестьянскую проливал, ни в которой земле ему, опричь Польши, места не будет.
Писан на стану у Троицы в Сергиеве монастыре, лета 7120, августа месяца.
К исходу второго дня перехода от Троицкого монастыря войско Пожарского подошло к Яузе. До Арбатских ворот Белого города, где воевода наметил разбить основной лагерь, оставалось всего пять верст. Однако уже смеркалось, поэтому решили остаться на ночлег здесь. Запылали костры, в котлах забулькало варево из муки и сухого мяса.
Посланцы Трубецкого, проезжая по лагерю, завистливо принюхивались.
— Видать по всему, сытно живут! — сказал один из всадников в казачьей шапке с кисточкой.
— Вон морды какие гладкие наели! — продолжил второй. — И одеты все справно. Не то что наши — в одном рванье ходят.
— А куда же вы все добро, что по городам награбили, подевали? — насмешливо бросил Ждан Болтин, сопровождавший посланцев к шатру воеводы. — Чай, пропили все аль в зернь проиграли!
— Что поделать! — ответил тот, что в казачьей шапке. — Такой уж мы народ: что воевать, что гулять — до смерти!
Они застали князя в шатре, окруженного военачальниками. Те внимательно слушали лазутчика, одетого в лохмотья нищего, какие бродили по русским дорогам сотнями.
— Ходкевич идет от Вязьмы! — возбужденно говорил лазутчик.
— Много с ним народу? — спросил князь.
— Литовская кавалерия, это те, что с ним воевали еще в Ливонии.
— Сколько?
— Пятнадцать хоругвей насчитал.
— Это, значит, тысячи две будет, — прикинул Пожарский.
— Еще венгерские конники, несколько сот. Есть пехота, тысячи полторы. Я слышал, будто их Жигимонт на подмогу гетману прислал из Смоленска. А еще черкасы, тьма: тысяч с восемь. Их ведут атаманы Заборовский, Паливайко и Ширай.
Пожарский, нахмурившись, тревожно переглянулся с остальными воеводами.
— А наряд большой?
— Нет, идут налегке — всего две пушки везут с собой.
— Видать, надеются на пушки в Кремле! — высказал догадку князь. — Что ж, будем готовиться к бою.
Затем он повернулся к посланцам Трубецкого и приветливо махнул рукой, приглашая говорить.
— Почто, люди добрые, пожаловали? Здоровы будете!
— Спасибо, князь! И ты здоров будь! И вы все, воеводы! — поклонились гости. — Мы воеводой князем Трубецким посланы. Приглашает он вас идти немедля в его стан в Замоскворечье. Наш лагерь хорошо укреплен, высоким валом, частоколом и рвом окружен. И места вдоволь. Как Заруцкий убег, половина землянок пустыми сделались!
— Спасибо за приглашение! — ответил князь и при этом выразительно поглядел на своих воевод.
Те, поняв немой вопрос Пожарского, затрясли головами в знак несогласия.
— Спасибо за приглашение, — повторил князь, — только не бывать тому, чтобы нам стать вместе с казаками.
— Обидишь Трубецкого, князь, — сказал посланец.
— Лучше уж обида, чем смерть! — веско сказал Минин. — Кто вас знает, может, задумали Дмитрия Михайловича, как Ляпунова, на сабли поднять!
— Так Заруцкий убег, а с ним все, кто против вас был.
— Не скажи, — вмешался вдруг Ждан Болтин. — Вот вы сейчас ехали и завидовали, деи, сыты наши ратники и одеты. А коль в стан к вам придем, казаки от зависти задираться начнут. Наши не уступят, вот и побоище случится литве на потеху.
— Правильно речешь, Ждан, — одобрил Пожарский. — Береженого Бог бережет!
Наутро полки Пожарского пришли в движение. У Яузских ворот их ждал Трубецкой, выведший все свое воинство из укрепленного стана. Две рати встали напротив друг друга, лицом к лицу. Наступила зловещая пауза. Многие невольно положили руки на рукояти сабель. Неужто бой со своими?
Вперед выехал Трубецкой в сопровождении оставшихся ему верными немногочисленных бояр и атаманов. Тронул коня и Пожарский, подъезжая вплотную к Трубецкому. Не слезая с коней, поклонились друг другу, сняв шлемы.
Трубецкой, памятуя о своем боярстве, решил показать свое верховенство.
— Зачем ослушался моего приказа? — вытаращил он маленькие свинцовые глазки, стараясь придать лицу свирепое и одновременно горделивое выражение. — Ведь здесь, под Москвою, я — главный воевода.
Выглядело это смешно, и окружавшие Пожарского воеводы прыснули, не сдержавшись.
Однако сам Дмитрий Михайлович не поддержал веселья. Он посмотрел прямо в глаза Трубецкому и ответил без тени враждебности, но твердо:
— Скажу, что и вчера твоим гонцам ответил: «Нам вместе с казаки не стаивать!» Враг у нас один, и биться будем заодно, а стоять будем отдельно. Так оно спокойнее будет. Да и рассуди здраво: никак нам вместе в Замоскворечье стоять нельзя. Ведь гетман, то и тебе хорошо ведомо, сегодня у Поклонной горы будет. Значит, надо ему прямую дорогу к Кремлю перекрыть. Здесь я со своим войском и встану — от Тверских ворот до Москвы-реки. А тебе следует со стороны Замоскворечья заслон поставить. Вдруг он по правому берегу двинет. А как отобьем гетмана, то и за тех, кто в Кремле засели, возьмемся. Правильно?
Трубецкой вынужден был согласиться, что это разумно, и попросил подкрепления. Пожарский обещал подослать к вечеру пять сотен лучших всадников. Однако начавшийся мирный разговор прервался, когда к Пожарскому подъехал Минин. Он, оказывается, успел повидаться с московскими посадскими людьми, вернувшимися к своим пепелищам. Те пообещали помочь ополченцам рыть окопы. Говорил Козьма просто, не чинясь, и обида Трубецкого вспыхнула с новой силой. Он в гневе воскликнул:
— Уже мужик нашу честь хочет взять на себя, а наша служба ни во что будет!
Он повернул коня и, ударив его плеткой, ускакал прочь, к своему лагерю.
— Чего это он так сбесился? — удивился Минин.
— Все хочет над нами главенство взять! — усмехнулся Пожарский.
— Накося выкуси! — озорно показал фигу Козьма вслед удалявшемуся тушинскому боярину под дружный хохот товарищей.
Войско Пожарского двинулось вдоль крепостных стен Белого города. Их увидели наблюдатели на башнях Кремля, и то тут, то там показались белые облачка дыма. Это поляки открыли огонь из пушек. К счастью, ядра не долетали до цели и только вызывали насмешки ратников.
У Сретенских ворот князь оставил передний ряд своего войска и с сыновьями свернул к Лубянке, чтобы взглянуть на останки отчего дома. Представшее зрелище было горестным: от терема и многочисленных амбаров — лишь куча головешек и обгорелых кирпичей. Но сквозь бесформенные завалы упорно пробивалась зеленая трава, а ниже, у Трубы, слышалось звонкое дробное перестукивание топоров. Пожарский съехал вниз, минуя обгорелые стены Рождественского монастыря. Здесь его взору предстала совсем другая, радующая душу, картина — мужики, как муравьи, копошились возле сваленной с возов груды свежесрубленных бревен, ловко очищая их от коры, резко пахнущей смолой.
Это были посадские люди Пожарского. После пожара бежавшие, как многие другие москвичи, от зверств оккупантов, сейчас они возвращались, узнав о приходе ополчения. Мужики радостно приветствовали Дмитрия Михайловича. Тот спросил:
— Что это вы с бревнами возитесь?
— Домы ставим, князь-батюшка.
— Не рано ли затеялись?
— В самый раз, чтоб до морозов успеть.
— А не боитесь, что литва снова пожжет?
— Нет, князь-батюшка! Ты их наверняка одолеешь, вон какую силу ведешь.
Вера людей в его победу несказанно ободрила князя. Он заулыбался мужикам:
— Ну, Бог вам в помощь!
Чем дальше ехал воевода, тем больше убеждался, что жизнь в Москве не умерла и люди верят в наступление лучших времен. Снова ожил лесной торг, расположившийся, как и раньше, от Неглинной до Петровских ворот. Здесь были не только бревна и тес, но и готовые срубы для изб. Бойко шла торговля съестными припасами и тканями.
— Нет, не погибла Москва, снова оживает, — радостно сказал Дмитрий Михайлович сыновьям. — А это значит, что никакому ворогу ее не покорить. Даст Бог, литву одолеем и новые хоромы себе на Лубянке поставим!
…Основной стан разбил у Арбатских ворот. Слева, в Чертолье, уже укрепился отряд Василия Туренина, подошедший ранее. Рядом с ним расположился и отряд владимирцев под командованием Артемия Измайлова. В их задачу входило не пропустить войско гетмана, если оно попробует прорваться в Кремль по левому берегу Москвы-реки. Справа от главного лагеря, вплоть до Петровских ворот, поставили свои сторожки отряды Пожарского-Лопаты и Дмитриева.
Вечером сторожевой отряд доложил, что Ходасевич встал на Поклонной горе.
— Значит, завтра — бой! — решил главный воевода. — Так помолимся перед образом Казанской Божьей Матери, чтоб даровала нам победу. Или, как поклялись, примем смерть, но ни шагу не отступим!
Утром 22 августа началось решающее сражение. Как и рассчитывал Пожарский, гетман отдал приказ переправляться войску через Москву-реку у Новодевичьего монастыря. Лучи восходящего солнца веселыми зайчиками играли на касках и латах литовских и венгерских гусар. Пышные султаны из перьев и крылья за спинами придавали всадникам празднично-парадный вид. Да и настроение у всадников было приподнятое. Они перебрасывались шутками, предвкушая легкую победу над «мужичьем».
Пожарский успел раньше вывести из укрытий свою конницу и построить ее в длинные шеренги на краю широкого поля перед монастырем. Он решил не дать возможности противнику как следует подготовиться к бою. Еще не все всадники гетмана успели переправиться, как лава русских дворян с дружным криком «ура» устремилась вперед и смяла их передние ряды. Завязалась жестокая сеча, в которой долгое время не уступала ни та ни другая сторона. Пожарский, окруженный своими дружинниками, которые оберегали князя от ударов врагов, сам бился в первых рядах, воодушевляя остальных. Он по-детски радовался вернувшейся к нему могутной силе, позволявшей его сабле легко противостоять палашам гусар. Порой он отъезжал в сторону от жаркой схватки, чтобы опытным глазом определить ход битвы. В этот момент он зорко поглядывал на противоположный берег реки, где стояло казацкое войско Трубецкого. Сначала оттуда доносились злорадные возгласы:
— Богаты и сыты пришли из Ярославля, можете одни отбиться от гетмана!
Потом эти крики поутихли. Казаки угрюмо молчали, уже было не до злорадства — ведь лилась православная кровь. Кое-кто начал нетерпеливо поглядывать на Трубецкого, не пора ли идти на подмогу. Но тот продолжал сидеть на лавочке возле своего шатра и хранил полное безразличие.
Почувствовав, что его ратники начинают слабеть, Пожарский дал команду бить в барабан, подавая сигнал к отступлению. Русские повернули коней и через проходы ушли в укрытия, дав простор своей артиллерии. Дружные залпы заставили отступить ряды преследователей. Но гетман не растерялся и приказал выступить вперед пехоте. Вновь завязалась рукопашная, теперь уже в окопах. Противники хватали друг друга за руки, не давая пустить в ход оружие. Тем временем русские всадники, спешившись и оставив коней на привязи за спасительными стенами острожка, вернулись в окопы, помогая саблями своим стрельцам в схватке.
Николай Струсь, увидев, как повернули назад русские всадники, решил, что настал его черед, и начал выводить из Кремля свои хоругви, сотню за сотней, к берегу реки. Отсюда поляки предприняли штурм Алексеевской башни и Чертольских ворот. Но здесь их давно поджидали и встретили столь яростным огнем, что гарнизон в одночасье потерял несколько сот солдат и вынужден был отступить в крепость, оставив в руках русских семь знамен.
Кровопролитная битва продолжалась уже семь часов, однако не ясно было, на чьей стороне перевес. Ходкевич ввел новые, стоявшие в резерве, силы, и ему казалось, что разгром русских близится. Однако в этот решающий момент через Москву-реку у Крымского брода стали переправляться на сторону сражающихся те пять сотен лучших дворянских всадников, которых накануне Пожарский послал для подкрепления Трубецкому. Напрасно тот бегал по берегу с криком: «Назад! Всех перевешаю как собак!» За сотнями дворян устремилась и часть казаков. Их повели в бой атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов. Последний зло крикнул Трубецкому, который по-прежнему вопил «Назад!»:
— Для чего не помогаешь погибающим? Из вашей воеводской вражды только пагуба творится и государству и ратным!
Внезапная атака сбоку и с тыла посеяла панику в рядах гетманского войска. Ходкевич вынужден был бесславно возвратиться в свой лагерь.
Наступила ночь. Пожарский был доволен своим войском, не уступившим врагу ни пяди. Расставив дозоры, он разрешил отдыхать усталым ратникам. Сам он так и не ложился, размышляя, куда теперь гетман направит свой удар. Не спал и Ходкевич. Его интересовало двусмысленное поведение «боярина» Трубецкого.
Во всяком случае, для Ходасевича было ясно по сегодняшнему дню, что Трубецкой явно выжидает, кто окажется сильнейшим. И вовсе не исключено, что если перевес будет на стороне Ходкевича, то Трубецкой, предававший уже не однажды ради личной выгоды, предаст снова и примет присягу королевичу Владиславу.
Ходкевич решил проверить свои догадки и, когда наступила глубокая ночь, отправил шестьсот гусар в Кремль по правому берегу реки. Их вел предатель, подлым путем захвативший земли Пожарского, — Григорий Орлов. Наступила томительная тишина, и только под утро прискакал гонец из Кремля, сообщивший, что отряд прошел мимо казаков беспрепятственно и без боя занял их острожек у церкви Егория на Яндове. Сам Орлов проник в Кремль. Все становилось на свои места. Теперь гетман знал, с какой стороны ему следует вести наступление.
Пожарский, ждавший с утра немедленной атаки со стороны Ходкевича, был в недоумении, увидев, что поляки вдруг начали переправляться обратно, на другую сторону Москвы-реки. «Неужели отступают?» — мелькнула радостная догадка. Но когда Пожарский узнал о взятии поляками острожка в Замоскворечье, ему стало ясно, что Ходкевич собирается пройти к осажденным со стороны, занимаемой казаками. Князь немедленно послал гонца с этим известием к Трубецкому с тем, чтобы тот укрепился у Донского монастыря.
Однако весь день прошел без всяких стычек. Гетман не торопясь подводил все свои войска, а главное — обозы, стоявшие до этого у Поклонной горы.
Только через день Ходкевич, сконцентрировав все свои силы на новом направлении, двинулся к Кремлю. Сам гетман возглавил левую колонну своего войска. Это были самые отборные сотни литовской кавалерии, которые с Ходкевичем ранее успешно громили лучшие шведские войска.
Пожарский оседлал со своим полком Крымский брод, чтобы в случае необходимости отразить атаку поляков и на левом берегу у Чертольских ворот. Вперед, на правую сторону стала переправляться дворянская кавалерия Лопаты, Измайлова и других воевод, тут же вступая в бой с всадниками Ходкевича. Жестокая сеча развернулась от Донского монастыря до Земляного вала и длилась шесть часов. Отборные литовские части в конце концов опрокинули русских в Москву-реку, заставив их поспешно ретироваться на свой берег. Однако развить успех Ходкевичу не удалось: путь ему у брода преградил сам Пожарский, как всегда находившийся в передней шеренге своих ратников. В бою Дмитрию прострелили руку, но он продолжал сражаться, не чувствуя в горячке боя боли от кровоточащей раны. Литовцы вынуждены были отступить.
Трубецкой, вышедший из своего стана из-за Яузы, встретил поляков у Донского монастыря, но при первой же стычке казаки обратились в бегство, рассыпавшись вдоль дорог и буераков и укрываясь за остатками земляных укреплений. Двигаясь по Ордынке, поляки овладели вторым казачьим острожком в Замоскворечье (первый, что ближе к Кремлю, был захвачен Григорием Орловым еще накануне ночью). Второй острожек был значительно больше первого, он занимал территорию от Ордынки до церкви Святого Климентия на Пятницкой.
Узнав, что дорога к Кремлю практически свободна, Ходкевич приказал под прикрытием пехоты и спешившихся кавалеристов немедленно пустить обозы с продовольствием для осажденного гарнизона. Четыреста подвод заняли всю Ордынку. Лошади пугались выстрелов и запутывались в постромках, телеги наезжали друг на друга, создавая пробки. При виде такого количества добра голодные казаки, укрывшиеся в буераках, почувствовали вдруг прилив «героизма». Атака их была столь яростной, что острог, а вместе с ним и обоз оказались в руках казаков. Получив в свое распоряжение повозки, «победители» решили, что повоевали достаточно, и, усевшись на повозки с вожделенной добычей, отправились к наплавному мосту, который вел в хорошо укрепленный главный стан, где можно было спокойно отсидеться. В острожке осталась лишь малая часть казаков.
Положение стало критическим: еще одно усилие войска Ходкевича — и Кремль будет свободен. Всю отчаянность момента хорошо осознавал и Дмитрий Пожарский. Он послал Лопату за Авраамием Палицыным, который в это время совершал богослужение в церкви Ильи Обыденного.
— Настал твой час, святой отец! — сурово сказал Дмитрий. — Иди немедленно к казакам, обещай что хочешь, но верни их в Клементьевский острожек!
В сопровождении конных дворян старца переправили на колымаге через реку и доставили в острожек, где казаки продолжали грабеж обоза.
Здесь келарь проявил и мужество и находчивость. Преградив дорогу собиравшимся отступать казакам, он начал расточать им похвалы:
— От вас, казаки, началось доброе дело. Вам слава и честь: вы первые восстали за христианскую веру, претерпели и раны, и голод, и наготу. Слава о вашей храбрости и мужестве гремит в отдаленных государствах. На вас вся надежда! Неужели же, братия милая, вы погубите все дело?
Эти слова Авраамия тронули казаков.
— Мы готовы умереть за православную веру, — ответили они. — Но погляди, как нас мало осталось. Иди к нашим братьям казакам в станы, умоли их идти на неверных.
Авраамий с дворянами отправился дальше, к церкви Святого Никиты. Здесь стояла толпа казаков с подводами, ожидавшая своей очереди, чтоб переправиться по плавучему мосту. И здесь старец сказал свое прочувствованное слово. Однако казакам явно не хотелось расставаться с награбленным добром. Тогда Авраамий вспомнил напутствие Пожарского и стал им обещать казну Сергиева монастыря. Это подействовало, и казаки, побросав повозки, кинулись назад к острожку с криком:
— Сергиев! Сергиев! Чудотворец нам поможет!
Затем Авраамий наконец явился в стан. Здесь уже шла гульба: казаки, найдя на возах водку, тут же начали пить и играть в зернь, как бы спеша расстаться с неправедным добром. Однако обращение келаря с обещанием сокровищ монастыря и здесь возымело действие. Босые, оборванные, но с саблями в руках, казаки бросились к острожку. Поспели они вовремя, чтобы отразить новую атаку поляков.
…Пожарский сидел у своего шатра с перевязанной рукой и напряженно вслушивался, пытаясь понять, что происходит в Замоскворечье. Когда раздался рев «Сергиев! Сергиев!», он облегченно перекрестился:
— Слава Богу! Удалось святому отцу уговорить казаков. Эх, сейчас самое время и нам ударить! Как некстати моя рана…
К нему подошел Козьма Минин и молча положил ему руку на плечо.
— Ты что-то хочешь сказать, Козьма?
— Доверь мне, Дмитрий Михайлович, повести войско.
— Тебе? — Князь не скрыл удивления. — Но ведь ты не искусен в ратном деле! Сам сколько раз об этом говорил.
Окружавшие Пожарского воеводы презрительно заухмылялись.
— Сейчас главное — вера! — просто ответил Минин. — А я верю — мы победим. Другого выхода нет.
— Спасибо, Козьма! — растроганно проговорил князь. — Бери кого хочешь, самых лучших.
И здесь сказалась вся природная сметливость нижегородского мужика.
Воспользовавшись спустившейся темнотой и тем, что бой шел далеко в стороне, Минин со своим отрядом тайно переправился вброд через Москву-реку и буквально обрушился на оставленные Ходкевичем для прикрытия кавалерийскую роту и роту пехоты. Не ждавшие нападения всадники бросились вспять, давя своих же пехотинцев.
Удача Минина вдохновила и остальных воинов Пожарского. Все они бросились на противоположный берег и с новой яростью напали на неприятеля. Все войско Ходкевича охватила паника: поляки оказались меж двух огней и бросились бежать, бросая обозы, к Донскому монастырю. Здесь кое-как собрав остатки своего воинства, гетман под покровом ночи отошел к Воробьевым горам.
Русские ратники устремились было в погоню, но были остановлены воеводами:
— В один день двух радостей не бывает! Как бы после радости горя не отведать!
Однако всю ночь русские вели отчаянную пальбу из пушек и пищалей по лагерю противника, не давая тем даже слезть с коней в ожидании новой атаки. Наутро гетман, увидев, насколько значительно поредело его доблестное «рыцарство», понял, что если он продолжит битву, то останется без войска. Поэтому он дал сигнал к отступлению, которое скорее напоминало позорное бегство.
По благословению великого господина преосвященного Кирилла, митрополита Ростовского и Ярославского, и всего освященного собора, по совету и приговору всей земли, пришли мы в Москву, и в гетманский приход с польскими и литовскими людьми, с черкасами и венграми бились мы четыре дня и четыре ночи. Божиею милостию и Пречистой Богородицы и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Русской земли заступника великого чудотворца Сергия и всех святых молитвами, всемирных врагов наших, гетмана Хоткеева с польскими и литовскими людьми, с венграми, немцами и черкасами от острожков отбили, в город их с запасами не пропустили, и гетман со всеми людьми пошел к Можайску. Иван и Василий Шереметевы до 5 сентября к нам не бывали; 5 сентября приехали, стали в полках князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, и начал Иван Шереметев с старыми заводчиками всякого зла, с князем Григорьем Шаховским, да с Иваном Плещеевым, да с князем Иваном Засекиным, атаманов и казаков научать на всякое зло, чтобы разделение и ссору в земле учинить, начали наговаривать атаманов и казаков на то, чтоб шли по городам, в Ярославль, Вологду и другие города, православных христиан разорять. Да Иван же Шереметев с князем Григорием Шаховским научают атаманов и казаков, чтоб у нас начальника, князя Дмитрия Михайловича убить, как Прокофья Ляпунова убили, а Прокофий убит от завода Ивана же Шереметева, и нас бы всех ратных людей переграбить и от Москвы отогнать. У Ивана Шереметева с товарищами, у атаманов и казаков такое умышленъе, чтобы литва в Москве сидела, а им бы по своему таборскому Юровскому начинанью все делать, государство разорять и православных христиан побивать.
Из грамоты Дмитрия Пожарского
Неужели грядет новое кровопролитие меж православных? Казаки, быстро пропив и прогуляв отнятое у гетмана добро, снова были голодны и вспомнили про обещание келаря Авраамия Палицына. Страсти умело подогревали недруги Пожарского — князья Шереметевы и другие. Они говорили, что князь Пожарский и иже с ним обманщики не привыкли держать слово и только пекутся о себе и своих земских людишках.
Авраамий Палицын вынужден был срочно отправиться в родной монастырь за обещанной казной. Денег в монастыре не было давно: все ушло на лечение раненых и больных, а также на похороны умерших людей, искавших пристанища от разбоя интервентов. Но настоятель Дионисий всем сердцем хотел мира в ополчении, поэтому, не колеблясь, пожертвовал священными реликвиями, хранившимися в монастыре. Это были облачения священнослужителей, шитые золотом и жемчугом. Старцы отправили их казакам в залог на тысячу рублей, пообещав выкупить в скором времени. Вместе с тем была послана и грамота, в которой прославлялось мужество и доблесть казацкого воинства. Когда она была зачитана Палицыным на собрании круга, казаки были настолько растроганы, что отказались принять залог и поклялись не отходить, не взявши Москвы и не отомстивши врагам пролития христианской крови.
Однако главным образом умиротворению войска Трубецкого послужили разумные и твердые действия Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Отказавшись наотрез приехать в стан к Трубецкому, где находились все его недруги, Дмитрий предложил съехаться у Трубы, на реке Неглинной. Трубецкой вынужден был согласиться. Здесь воеводы подписали договор о создании совместного правительства, слив воедино приказы обоих ополчений. Все грамоты, которые рассылались по городам, отныне должны были подписываться обоими предводителями. Немаловажную роль в успехе переговоров сыграло согласие Пожарского, чтобы первым на грамотах ставил свою подпись честолюбивый Трубецкой.
Как только было установлено единое правительство, бережливый хранитель казны ополчения Козьма Минин взял на довольствие и казацкое войско. Он выделил деньги на оплату казакам, сукно на платье и необходимые провиант для людей и фураж для коней.
Из осажденного Кремля то и дело появлялись перебежчики, как русские, так и иноземцы. Они старались попасть в расположение войска Пожарского, так как казаки Трубецкого беспощадно расправлялись с пленными. На виду у осажденных они разрубали перебежчиков на куски. У Пожарского пленных не казнили, тех, кто хотел служить, определяли в войска, а остальных отправляли в тюрьмы по городам, предварительно допросив. Поэтому Пожарский хорошо знал бедственное положение осажденных. Ведомо было ему и несогласие между двумя военачальниками — Николаем Струсем, претендовавшим на главную роль, и предводителем «сапежинцев» Осипом Будилой. Князь решил воспользоваться этим обстоятельством. Он отправил письмо от своего имени осажденным, чтобы склонить их к сдаче. Он писал, как всегда, в спокойном, без высокомерия, тоне, относясь уважительно даже к врагам:
«Полковникам Стравинскому и Будиле, ротмистрам, всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в крепости, князь Дмитрий Пожарский челом бьет. Ведомо нам, что вы, сидя в осаде, терпите страшный голод и великую нужду, что вы со дня на день ожидаете своей погибели. Вас укрепляют в этом и упрашивают Николай Струсь и Московского государства изменники Федька Андронов и Ивашко, Олешко с товарищами, которые с вами сидят в осаде. Они это говорят вам ради своего живота. Хотя Струсь ободряет вас прибытием гетмана, но вы видите, что он не может выручить вас. Сдайтесь нам пленными, объявляю вам, — не ожидайте гетмана. Бывшие с ним черкасы на пути к Можайску бросили его и пошли разными дорогами в Литву. Дворяне и боярские дети в Белеве, Ржевичане, Старичане перебили и других ваших военных людей, вышедших из ближайших крепостей, а пятьсот человек взяли живыми. Гетман со своим конным полком, с пехотой и челядью 3 сентября пошел к Смоленску, но в Смоленске нет ни одного новоприбывшего солдата, потому что польские люди ушли назад с Потоцким на помощь к гетману Жолкевскому, которого турки побили в Валахии… Войско Сапеги и Зборовского — все в Польше и в Литве. Не надейтесь, что вас освободят из осады. Сами знаете, что ваше нашествие на Москву случилось неправдой короля Сигизмунда и польских и литовских людей и вопреки присяге. Вам бы в этой неправде не погубить своих душ и не терпеть за нее такой нужды и такого голода. Берегите себя и присылайте к нам без замедления. Ваши головы и жизнь будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу всех ратных людей. Которые из вас пожелают возвратиться на свою землю, тех пустят без всякой зацепки, а которые пожелают служить Московскому государю, тех мы пожалуем по достоинству… А что вам говорят Струсь и московские изменники, что у нас в полках рознь с казаками и многие от нас уходят, то им естественно петь такую песню и научать языки говорить это, а вам стыдно, что вы вместе с ними сидели. Вам самим хорошо известно, что к нам идет много людей и еще большее их число обещает вскоре прибыть. А если бы даже у нас и была рознь с казаками, и то против них у нас есть силы, и они достаточны, чтобы нам стать против них».
Это письмо, тайно доставленное лазутчиками Будиле, было написано по-польски поручиком Хмелевским, который переводил то, что ему диктовал Пожарский. Полковник, прочитав послание, пришел в ярость и ответил в хвастливо-оскорбительном духе:
От полковников — Мозырского хорунжаго Осипа Будилы, Трокскаго конюшаго Эразма Стравинскаго, от ротмистров, порутчиков и всего рыцарства, находящегося в Московской столице, князю Дмитрию Пожарскому… Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились по следующей причине: ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминание людское не показывает, чтобы какой-либо народ был таким тираном для своих государей, как ваш, о чем если бы писать, то много нужно было бы употребить времени и бумаги… Впредь не обсыпайте нас бесчестными письмами и не говорите нам о таких вещах, потому что за славу и честь нашего государя мы готовы умереть и надеемся на милость Божию и уверены, что если вы не будете просить у его величества короля и у его сына царя помилования, то под ваши сабли, которые вы острите на нас, будут подставлены ваши шеи. Впредь не пишите к нам ваших московских сумасбродов, — мы их уже хорошо знаем. Ложью вы ничего у нас не возьмете и не выманите. Мы не закрываем от вас стен; добивайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите; лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть хлоп по-прежнему возделывает землю, но и пусть знает Церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей, — царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем управлении, которое ты направляешь к последней гибели царства…
Писано в Московской столице, 21 сентября 1612 года.
Когда Хмелевский перевел на совете ответ Будилы, Пожарский сокрушенно развел руками:
— Видит Бог, я не хотел дальнейшего кровопролития.
Минин сверкнул глазами:
— Этих шляхтичей только могила исправит.
— Значит, надо крепить осаду! — сказал Пожарский. — Чтобы никто не мог прорваться ни снаружи, ни изнутри.
Пока не заморозило землю, князь приказал, чтобы все ратники взялись за копание глубокого рва, опоясавшего Кремль и Китай-город и упиравшегося обоими концами в Москву-реку. За рвом был поставлен высокий плетень в два ряда, между которыми была засыпана земля.
С выстроенных туров у Пушечного двора, Георгиевского монастыря и церкви на Кулишках велся непрерывный артиллерийский огонь. Пушкари стреляли по стенам, стараясь, чтобы ядра не попадали в середину крепости, дабы не повредить церквей. Однако стены были настолько толстыми и мощными, что ядра практически не приносили гарнизону вреда. Казаки палили калеными ядрами из царских садов в Замоскворечье, что тоже не приносило особого вреда осажденным. Лишь одно из каленых ядер, попав в деревянный терем Мстиславского, устроило пожар во дворе предводителя боярской думы. Казаки несколько раз пытались штурмовать стены Китай-города, но каждый раз откатывались под шквальным огнем.
…Киевский мещанин-купец Богдан Балыка еще в январе 1612 года покинул свой город в поисках наживы. Прослышал он от жолнеров, привезших на родину тела полковников, погибших в войне с русскими, что в Москве жалованье польские воины получают драгоценностями в таком изрядном количестве, что отдают их за бесценок в обмен на хлеб, сало и горилку. Сколотив обоз вместе с другими торговцами, Балыка направился к Смоленску, а оттуда, присоединившись к войску Николая Струся, — к Москве. Путешествие было долгим и опасным. Не раз на них нападали отряды «шишей», которые грабили и убивали купцов, одни из них погибли, не выдержав суровой русской зимы, другие, распродав с выгодой свой товар, поспешили вернуться в Киев. Но двадцать киевских купцов, в том числе и Балыка, упрямо продолжали путь, и в июне, когда отряд Струся заменил гарнизон Гонсевского, Балыка очутился в Кремле, расположившись в подвале церкви возле царь-пушки.
Поначалу действительность превзошла самые смелые ожидания купца: жолнеры Струся, не получив обещанного Ходкевичем жалованья, принялись грабить остатки царской казны и охотно отдавали жемчуг и каменья в обмен на хлеб и водку. Однако когда гетман вынужден был бежать из-под Москвы и войско Пожарского и Трубецкого осадило Кремль, в крепости начался голод. Теперь уже сам Балыка вынужден был тряхнуть собственной мошной, чтобы не умереть с голода.
По вечерам он подводил итог произведенным за день тратам, горестно всхлипывая:
— Дорогувля великая стала! За селедец отдал ползлотого, за черствый калач — семь злотых, сыра мандрыку куповали по шесть злотых. Шкуры воловьи еще вчера были по пять злотых, а сегодня стали аж по двадцать злотых!
Немецкие солдаты, менее брезгливые, чем поляки, мгновенно переловили и съели всех живших в Кремле кошек и псов. Многие поддерживали силы за счет трав и кореньев. Сам Балыка купил за три злотых гречаник, испеченный из лебеды. Но наступили морозы, выпал снег, и подножного корма не стало.
И вот тут началось самое страшное. Однажды, когда Богдан возвращался вместе со слугой из соборной церкви, где молил Пресвятую Богородицу о своем спасении, он наткнулся на рогожный мешок, покрытый кровавыми пятнами.
— Мясо, мясо! — радостно закричал слуга, бросаясь к мешку.
Когда же он вывернул его, оба остолбенели от ужаса: из мешка вывалилась человечья голова и ступни ног. Оказывается, в эту ночь были розданы по ротам несколько десятков пленных ополченцев, содержавшихся в тюремной башне.
— Лиха беда — начало! — прошептал купец, пытаясь перекреститься дрожащей рукой.
Действительно, раз наевшись человеческого мяса, новоявленные людоеды уже не могли остановиться. Забыв обо всякой дисциплине, жолнеры бродили, как стаи голодных волков, по Кремлю, забредая во дворы московских бояр и алчно поглядывая на русских людей, особенно на младенцев и детей. Нападению подвергся многолюдный двор первого боярина Мстиславского.
Сюда ворвались жолнер Воронец и казак Щербина. Они начали обшаривать амбары в поисках съестного. Когда взбешенный высокородный князь повелел им убираться, один из солдат ударил его кирпичом по голове так, что, обливаясь кровью, почтенный старец упал с крыльца. Подбежавшая челядь схватила мародеров и притащила их на суд Николаю Струсю. Тот приказал немедленно казнить виновных. Воронцу отрубили голову и придали земле, а Щербину повесили. Впрочем, на веревке труп качался недолго: под покровом ночи сослуживцы подкрались к виселице, обрезали веревку, тут же расчленили труп и, сварив в котле, съели. Раскопали и могилу другого казненного, которого ждала та же участь.
Перепуганный происходящим Струсь приказал на следующее утро собрать на площади всех стариков, женщин и детей и велел этой толпе идти в расположение стана Пожарского. Казаки Трубецкого потребовали расправы над «женами изменников», но князь сурово повелел им замолчать. Всех освободившихся разобрали по своим шалашам дворяне, многих из них связывали родственные узы.
Тем временем людоедство приняло угрожающие размеры.
Как-то Балыка, бродивший в сопровождении челяди, ища, чем поживиться, встретил знакомого ротмистра Леницкого, который бежал, оглядываясь в испуге.
— Что случилось, пан Леницкий? — окликнул его купец. — Куда вы так спешите?
— Бегу от своих солдат. Два моих взвода столкнулись из-за трупа. В одном из них съели убитого солдата. Так его брат, который служит в другом взводе, подал мне жалобу, что по праву родственника труп принадлежит ему и он должен был его съесть. А те, что съели, настаивают на своем праве: покойный являлся их сослуживцем. Я попытался их образумить, как вдруг увидел их кровожадные взгляды и понял, что, если не убегу, они меня съедят.
Люди сходили с ума. Они бросались на землю, начинали грызть камни, потом собственные руки и ноги. Сам Балыка сумел устоять от искушений людоедства. Под Благовещенским собором этот богобоязненный человек набрел на большую коллекцию книг из пергамента. Вспомнив, что пергамент — это выделанная телячья кожа, Богдан приказал сварить их и, обильно сдобрив свечным салом, не без аппетита, в компании друзей — киевских купцов и их слуг сожрал знаменитую библиотеку Ивана Грозного.
Николай Струсь и Осип Будило, забыв о шляхетской гордости, решили просить Пожарского о пощаде. Тот послал в Кремль для переговоров Василия Бутурлина. Однако Трубецкой, узнав об этом и не желая уступать Пожарскому лавров победы, приказал казакам предпринять, несмотря на переговоры, новый штурм Китай-города. Оборонявшиеся хотя и отбили атаку, однако были настолько слабы, что предпочли уйти за стены Кремля.
Поляки согласились на капитуляцию 22 октября[56] 1612 года. Отныне вся Православная Церковь считает этот день одним из самых светлых своих праздников. Он называется — Икона Казанской Божией Матери и установлен в память спасения Москвы. Под обгорелой крепостной стеной в тупике встретились Трубецкой и Пожарский с польскими военачальниками, чтобы договориться о порядке сдачи. Решено было, что в первый день крепость покинут русские бояре со своей челядью, а на второй — польский гарнизон. Зная великодушие Пожарского, поляки все хотели предаться в его стан, однако Трубецкой, убоясь потерять славу, настоял, чтобы часть польского воинства во главе с Николаем Струсем была выведена в расположение его лагеря. Он, как и Пожарский, обещал пленным полную безопасность.
Двадцать четвертого октября поляки отворили Троицкие ворота на Неглинную, выпуская бояр и дворян московских. На каменном мосту их поджидал Пожарский. Вперед из толпы нерешительно выдвинулся Федор Иванович Мстиславский. Из-под горлатной шапки виднелась белая повязка, закрывавшая лоб.
— Вот видишь, Дмитрий Михайлович, что со мной литовские люди сделали, — плаксиво заговорил глава семибоярщины, явно стараясь вызвать к себе жалость. — Всю голову чеканами пробили!
— А мне сказывали, что кирпичом, — с холодной усмешкой сказал Пожарский.
— Чеканами, чеканами, — жарко заспорил Мстиславский. — И во многих местах! Не ведаю, как жив остался. Держали меня в неволе враги наши.
— Как же так? Вроде совсем недавно друзьями были неразлучными? — снова недобро сказал князь. — Ладно, ступай в свое поместье, да не мешкай. Видишь, как казаки шумят? Это они твоей крови требуют.
Действительно, слева от моста собралась большая толпа казаков. Они размахивали саблями и орали:
— Смерть изменникам! Довольно нашей кровушки попили. Сколько наших братьев по их вине буйные головушки сложили!
Под свист и улюлюканье, прихватив полы своей шубы, Мстиславский проворно, забыв о возрасте, поспешил по живому коридору, образованному из дворянских всадников, к лагерю Пожарского. Следом за ним, укрывая голову в высоком стоячем воротнике, заспешил Иван Михайлович Воротынский. Следом за ними шел Иван Никитич Романов, поддерживая инокиню Марфу Ивановну, жену Филарета. К ней жался ее сын Михаил, полный не по возрасту, болезненного вида подросток.
Пожарский поприветствовал их участливо, справился о здоровье и о том, куда собираются держать путь.
— В Кострому, в поместье наше родовое, — ответила Марфа Ивановна, испуганно поглядывая на шумевшую казацкую голытьбу.
— Двигайтесь без опаски, — напутствовал их Пожарский. — Дам надежную охрану.
На следующий день Кремль наконец покинули иноземцы. Остатки «сапежинцев» во главе с Будилой были приняты ратниками Пожарского. Жолнеры Струся направились за Яузу, в стан Трубецкого, где нашли мгновенную смерть.
— Будем мы еще ворогов кормить, когда самим хлеба не хватает! — кричали казаки.
Сам полковник Струсь, еще недавно мечтавший преподнести Москву в дар своему королю, чудом остался жив: он до последней минуты оставался в своей резиденции — дворце Бориса Годунова и по приказу Пожарского его заточили в одном из кремлевских монастырей. Был схвачен и заточен дьяк Федор Андронов и его приспешники.
В честь победы 26 октября состоялось торжественное вступление в Кремль русских войск. Земское войско собралось возле церкви Иоанна Милостивого на Арбате, войско Трубецкого — за Покровскими воротами. Они двинулись на Красную площадь. Впереди нижегородского ополчения священнослужители несли икону Казанской Божией Матери. На Лобном месте князь Пожарский громогласно дал обещание построить церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы Казанской. Прибывший из Троице-Сергиева монастыря архимандрит Дионисий отслужил благодарственный молебен. Когда шествие достигло Фроловских ворот, навстречу им вышло духовенство из Кремля во главе с архиепископом Арсением Елассонским. Еще недавно призывавший русских людей хранить верность польскому королю, нынче хитроумный грек неузнаваемо изменился. Он же успел поведать о чудесном явлении к нему святого Сергия, который открыл «подвижнику» Арсению, что Бог внял его молитвам, благодаря чему москвичи избавлены от тирании противоборных латинян. Перед ним несли самую святую для москвичей Владимирскую икону, при виде которой ратники опустились на колени со слезами радостной благодарности.
Однако при входе в крепость благолепное настроение победителей исчезло. Церкви были разграблены и загажены, образа рассечены, глаза вывернуты, престолы ободраны, деревянные постройки разрушены и сожжены, в казармах оккупантов стоял нестерпимый смрад, в котлах на кострищах плавали останки человеческих тел.
Октоврия 16 дня выпал снег великий, же всю траву покрыл и коленя; сильный и не слыханый нас голод змогл: чужи и попруги, поясы и ножны и леда костица и здохлину[57] мы едали; у Китай городе, у церкви Богоявления, где и греки бывают, там мы из Супруном килка книг нашли паркгаменовых; тым есмо и травою живилися, — а що были пред снегом наготовали травы — з лоем[58] свечаным тое ели; свечку лоевую куповали по пол злотого. Сын мытника Петриковского з нами ув осаде был, того без ведома порвали и изъели и иных людей и хлопят без личбы поели; пришли до одной избы, там же найшли килка кадок мяса человеческого солоного; одну кадку Жуковский, товарищ Колонтаев, взял; той же Жуковский за четвертую часть стегна человечого дал 5 злотых, кварта горелки в той час была по 40 злотых; мышь по злотому куповали; за кошку нам Рачинский дал 8 злотых; пана Будилов товарищ за пса дал 15 злотых; и того было трудно достать; голову чоловечую куповали по 3 злотых; за ногу чоловечию, одно по костей, дано гайдуку два злотых; за ворона чорного давали наши два злотых и полфунта пороху — и не дал за тое; всех людей болше двух сот пехоты и товарищов поели.
Из «Записок киевского мещанина Божка Балыки о московской осаде 1612 года»
Трубецкой поселился в Кремле, на дворе Годунова, где до него располагался польский наместник. Дмитрий Пожарский остался же верен себе: он по-прежнему жил в своем временном тереме на Арбате, в Воздвиженском монастыре, ожидая, когда восстановят его двор на Лубянке. Победа не внесла окончательного умиротворения в станы ополченцев: казаки стали требовать для себя жалованья большего, чем для остальных ополченцев, ссылаясь, что их военачальник Трубецкой выше Пожарского и что они, казаки, пострадали в войне больше, чем земцы. Однако Минин был непреклонен. Ворвавшимся в Кремль горлопанам он дал суровую отповедь:
— Как у вас совести хватает, что больше других пострадали? Неужели уже позабыли, что всю казну во многих городах пограбили?
Казаки стали кричать, что перебьют всех начальных людей, и только подоспевшая дворянская конница сумела остановить побоище.
Через несколько дней схватили новых смутьянов. На допросе выяснилось, что это вяземские дети боярские, а привезли они с собой грамоту, что польский король Жигимонт с королевичем Владиславом идут к Москве…
…Еще в июле польский король прибыл из Варшавы в Вильно, чтобы отсюда начать новый поход на Русь. Здесь он простоял более месяца, ожидая, что знатные вельможи пришлют ему свои эскадроны. Однако вельможи, зная, что государственная казна ушла на пышные балы и пиршества, охладели к участию в новой войне.
Пришлось Сигизмунду вытряхнуть из казначея последние злотые, чтобы нанять два полка немецкой пехоты общей численностью в три тысячи человек. Поняв, что больше ждать нечего, король 28 августа покинул Вильно, взяв путь к Смоленску. Он рассчитывал взять там местный гарнизон и начать наступление прямо на Москву. Однако когда 14 сентября королевское войско сделало привал в Орше, туда прибыли послы от смоленского гарнизона и заявили, что разделят с королем ратные труды лишь только в том случае, если он немедленно выплатит им триста тысяч злотых в счет просроченного жалованья. Сигизмунд начал колебаться, не вернуться ли ему в Польшу, но в Оршу прискакал гетман Ходкевич, оставивший часть своего войска под Можайском, он умолял короля поспешить, чтобы избавить московский гарнизон от бедственного положения.
Второго октября с четырехтысячным войском король наконец прибыл в Смоленск. Сначала его встретили с радостью и бурным ликованием, однако, узнав, что денег в казне нет, весь двухтысячный гарнизон отказался следовать за королем и, более того, составив конфедерацию, заявил, что уйдет в Польшу. На совет конфедерации приехал королевич Владислав, который пообещал приличное вознаграждение после воцарения его на московском престоле. Красноречивые обещания подействовали — смоленский гарнизон согласился отпустить в поход половину каждого эскадрона. Некоторые роты решились идти в полном составе, таким образом собралось около полутора тысяч добровольцев. В этих переговорах и сборах прошло еще две недели, наконец войско двинулось дальше.
По прибытии в Вязьму королевское войско соединилось с немногочисленной армией Ходкевича и попыталось захватить находящееся поблизости Погорелое Городище. Однако сидевший там воеводой князь Юрий Шаховской хорошо подготовился к осаде и поэтому на требование короля сдать крепость резонно ответил: «Ступай к Москве; будет Москва за тобою, и мы твои».
Король послушался и отправился дальше, войско расположилось в селе Федоровском, неподалеку от Волоколамска, а к Москве был отправлен полуторатысячный отряд кавалерии под начальством молодого Адама Жолкевского. С ним король отправил и посольство в составе двух знатных поляков — Александра Зборовского и Андрея Слоцкого и двух людей из бывшего русского посольства под Смоленском — князя Даниила Мезецкого, товарища находившегося в плену Филарета, и дьяка Ивана Грамотина.
Послы прибыли в Рузу и выслали оттуда к Москве двух гонцов с письмом к москвичам, призывая их хранить верность Владиславу. Эти посланцы, дворянин Федор Матов и шляхтич Шалевский, и были задержаны дозорными Пожарского.
Напрасно прождав своих гонцов, послы под охраной отряда Жолкевского вновь тронулись в путь, пока не достигли Тушина. Они попытались вступить в переговоры с московским правительством, прося прислать заложников. Но вожди ополчения, памятуя о судьбе русского посольства под Смоленском, категорически отказались. Чтобы отогнать поляков от Москвы, Пожарский пустил в бой испытанную дворянскую конницу.
Не выдержав удара русских всадников, поляки вынуждены были отойти. Однако в одной из схваток ими был взят в плен смоленский сын боярский Иван Философов. На допросах пленный держался с мужеством и достоинством. Когда его привезли в Федоровское, он в присутствии Сигизмунда твердо заявил:
— Москва и людна и хлебна, все обещались помереть за православную веру, а королевича на царство не брать.
На вопрос о судьбе Мстиславского и остальных бояр, державших сторону польского королевича. Философов ответил:
— Князя Федора Мстиславского и его товарищей чернь не подпускает к думе. Между тем все дела решают Дмитрий Трубецкой, князь Пожарский и Козьма Минин. Польских людей разослали по городам, а в Москве оставили только знатных полковников и ротмистров, пана Струся и иных.
Выслушав пленного, Сигизмунд окончательно лишился решимости вести войну дальше. Находившийся в ставке короля литовский канцлер Лев Сапега написал в письме к знакомым сенаторам:
«Когда взяли Москву, вся надежда упала. Мы жалким образом лишились столицы, а затем — подумаешь, из-за чего только — и всего Московского государства. А мы тут во всем терпим нужду. Немцы худеют от голода и холода, кони, вследствие недостатка сена, овса и соломы, уходят. И нам самим едва осталось на пропитание, ибо из повозок едим и пьем, и уже все заметно на исходе».
Было принято решение уходить из этой негостеприимной страны.
Весть о позорном отступлении Жигимонта вызвала ликование в столице. Наступила пора неотложных дел. В Москве кончалось продовольствие, катастрофически пустела казна ополчения. Поэтому один за другим стали покидать столицу земские отряды.
По-прежнему серьезной угрозой для мира и спокойствия в столице были казаки. Вожди ополчения сделали все, чтобы умиротворить буйные головы. С этой целью были составлены списки «старых» казаков, каждый из которых получил от Минина по восемь рублей жалованья, что окончательно истощило казну. Зато казаки остались довольны. Кроме того, чтобы удалить их из Москвы, атаманам было дано право на сбор кормов в назначенных для этого городах и уездах.
Хотя денег уже не осталось, постарались не обидеть и «молодых» казаков из числа крепостных и кабальных людей. Все они получили волю, им разрешили строить дома в Москве либо где угодно в других городах. На два года они освобождались от уплаты долгов и царских податей.
Отправилась в обратный путь и большая часть нижегородского ополчения. Ратников напутствовали добрым словом на прощание Минин и Пожарский. Нижегородцам, как самым доверенным людям, Пожарский поручил сопровождать и крепко-накрепко охранять польских пленников, в том числе и Осипа Будилу, совсем недавно издевавшегося над Мининым и Пожарским. Теперь, узнав о страшной судьбе, постигшей его товарищей в казацком стане, он смотрел на князя глазами преданной собаки и готов был целовать ему руки.
В Нижнем Новгороде толпа стала закидывать пленных камнями, а потом, распалясь, посадские мужики взялись за топоры, чтобы отомстить ненавистным захватчикам за гибель русских людей. Ратники еле отбивали нападающих. Заслышав шум, вышла на высокое крыльцо княжеского терема мать Пожарского. Ждан Болтин объяснил ей причину волнения.
Тогда Мария Федоровна обратилась к разбушевавшимся посадским мужикам:
— Люди добрые, нижегородцы! Аль вы забыли, как клялись князю Пожарскому прямить ему во всем? Что же вы делаете? Князь дал слово, что пленников никто не обидит. Разве можно, чтоб это слово было нарушено?
Устыдившись, мужики опустили топоры и расступились. Узников разместили в холодном и сыром подземелье крепости.
Служа в эти времена отечеству саблей и будучи готовы пролить кровь для вашего величества, мы всею душою желали, чтобы предоставлялись удобные случаи, с одной стороны, нам показать нашу готовность служить вашему величеству и довершить начатое дело, с другой — вашему величеству воздать нам за наши заслуги благодарностию. Когда всемогущий Бог передал во власть вашего величества Московскую столицу, нам представился случай достигнуть наших желаний. Призванные г. гетманом и введенные в Кремль для защиты стен его, мы с полною охотою вступили в эти стены, оставленные бежавшим с них войском, в которых ожидал нас голод, нужда и опасности, в которых мы в середине русской земли со всех сторон окружены были неприятелем. Теснил нас неприятель — мы сопротивлялись; шел он с военною силой на приступ, — мы отбивались, теснил нас тяжкий, все преодолевающий голод, — мы и тогда крепились и боролись довольно долго, почти сверх сил… Затем истощилась обычная пища; алчущий, нуждающийся желудок искал новой пищи, — травы и корней, которые приходилось доставать из-под рук неприятеля с опаскою для жизни, а часто и с потерею ее. Истощилась и эта пища, — мы кинулись на необычную, но по любви к отечеству и уважению к добродетели сладкую пищу, — не щадили даже собак, — но недоставало и такой пищи. Наступило затем редко слышанное, по крайней мере, скрываемое у других, а у нас почти явное самопожирание… Униженно просим ваше величество принять случившееся с нами обычному перевороту судьбы, смотреть на нас милостивыми, благодарными королевскими глазами, немедленно освободить нас, не дать нам изгибнуть до конца в этом горе и заключении, не держать нас долго в этой пагубе, в которую нас ввергла злая судьба, дурно воздавшая нам за наши доблестные заслуги.
Из «Дневника мозырского хорунжего Осипа Будилы»
Наконец можно было приступать к главному делу ополчения: выборам законного государя всея Руси. Грамотою от 21 декабря 1612 года московские воеводы оповестили об избавлении Москвы от польских и литовских людей и приказали повсюду на радости звонить в колокола и отслужить молебен. Все города призывались незамедлительно слать в столицу всех бояр и дворян московских, а также самых лучших и разумных людей из других сословий — от посадских людей, черносошных крестьян, духовенства и стрельцов. Зная, как обычно долго раскачиваются в провинции, Пожарский предупредил: «А если вы для земского обирания выборных людей к Москве к Крещенью не вышлете, и тогда нам всем будет мниться, что вам государь на Московском государстве не надобен; а где что грехом сделается худо, и то Бог взыщет с вас». В грамотах оговаривалось и то, чтобы городские власти вкупе с выборными лучшими людьми договорились в своих городах накрепко и вручили своим посланцам, едущим на собор «полным и крепким достаточным приказом», — говорить им о царском избрании «вольно и бесстрашно».
Требовался, по крайней мере, месяц до прибытия делегаций. Тем временем земское правительство занялось государственными вопросами. В его состав входили наряду с вождями ополчения знатные дворяне князь Андрей Сицкий и Дмитрий Головин, стрелецкий голова Иван Козлов, дьяк Иван Ефанов и другие чины. Из прежней боярской думы были изгнаны за измену окольничие князья звенигородские, князь Федор Мещерский, Тимофей Грязной, братья Ржевские, постельничий Безобразов. Для пополнения государственной казны был составлен земляной список, по которому определялись налоги. Были обложены все помещики, посады и монастыри.
Неожиданно к Пожарскому пришел ходатай из далекого Борисоглебского монастыря. Это был ученик преподобного Иринарха Александр. Он привез Пожарскому благословение учителя и просвиру в связи с освобождением Москвы, а также передал просьбу — вернуть Иринарху крест, который тот дал, благословляя Дмитрия в поход. Поведал Александр и о великой кручине всего монастыря: «Правят кормовых денег на ратных людей; а в монастыре от разорения литовских людей нет ничего». Князь принял монаха с великим уважением и радостью, вернул крест и повелел написать грамоту, освобождавшую монастырь от сборов.
На совете земли Трубецкой потребовал утверждения решения совета первого ополчения, где еще главенствовали он с Заруцким, о передаче ему лакомой волости Вага, захваченной до него с благословения польского короля изменником Михайлой Салтыковым. Пожарский, дабы не обострять отношений перед собором, подписал жалованную грамоту наряду с другими воеводами и митрополитом Кириллом, однако поставил непременным условием, записанным в этой же грамоте, что пожалование это должно быть утверждено новым царем и следует просить о новой, уже царской грамоте за красной печатью. Поскольку испокон веку Вага всегда входила в царские владения, Дмитрий Михайлович был уверен, что такой грамоты не будет. Сам же Пожарский, когда ему предложили за заслуги перед отечеством новые земли, категорически отказался, сославшись опять-таки на будущего государя.
Впрочем, шаткость своих прав на Вагу хорошо понимал и Трубецкой в случае… если он сам не будет избран на престол. Еще не дожидаясь приезда всех членов собора, он начал путем подкупа, лести, запугивания добиваться, чтобы на соборе выкрикнули его имя.
Казалось бы, все основания для надежд Трубецкой имел: первый боярин думы, удельный князь Мстиславский и ранее не домогался трона, а теперь окончательно был скомпрометирован. О возвращении из плена Ивана Шуйского или Голицына, следующих по знатности за Мстиславским, пока шла война с Польшей, не могло быть и речи. Тайные сторонники Заруцкого из числа казачества попытались было поднять голоса за «воренка», сына Марины Мнишек, но были осмеяны москвичами и изгнаны с площади, где беспрестанно шло народное обсуждение кандидатур.
Дмитрий Тимофеевич Трубецкой по знатности мог вполне сесть на престол — ведь в жилах его текла королевская кровь: он происходил, так же как и Голицын, из рода великих князей литовских. Появился и еще один претендент — князь Дмитрий Черкасский, по родовитости соперничавший с Трубецким и столь же «прославленный» служением Тушинскому вору.
Ко дню Крещения Господня успели приехать только посланники ближних к Москве городов, но больше медлить было никак нельзя. До начала выборов духовенство для очищения духа и помыслов присланных лучших людей объявило по всему государству строжайший трехдневный пост, когда и мужчинам, и женщинам, и даже малым детям запрещалось что-либо есть.
После проведения поста избранники собрались наконец в прибранной к тому времени Грановитой палате. На возвышенном царском месте был установлен отобранный у поляков трон Ивана Грозного, украшенный самоцветами. Он должен был постоянно указывать членам собора на главное, на чем они должны сосредоточить все свои думы и действия. Под ним на лавке сидели члены правительства. Бояре и московские дворяне располагались по левую руку, духовенство во главе с митрополитом Кириллом — по правую. А вдоль стен на лавках, размещенных ступенями, расселись делегации городов: на первых лавках — дворяне и купцы, выше — посадский люд и крестьяне. Лицом к правительству, у противоположной стены — начальники земского ополчения и казацкие головы.
Поднявшись, митрополит Кирилл благословил собрание и зачитал грамоту:
— «Москва от польских и литовских людей очищена, церкви Божий в прежнюю лепоту облеклись, и Божие имя славится в них по-прежнему. Но без государя Московскому государству стоять нельзя, печься о нем и людьми Божиими промышлять некому; без государя вдосталь Московское государство разорилось все: без государя государство ничем не строится, и воровскими заводами на многие части разделяется, и воровство многое множится».
Митрополит вернулся на свое место, и воцарилась сторожкая тишина. Пожарский вопросительно взглянул на Трубецкого: следовало тому, как формальному главе правительства, сказать свое слово. Но тот почему-то медлил. Впрочем, почему, стало ясно через несколько мгновений. Откуда-то из угла выкликнули:
— Хотим на царство боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого!
— Он здесь самый родовитый!
— От Гедиминовичей!
Трубецкой приосанился было, но продолжал хранить молчание. Тем временем в палате вдруг начал нарастать враждебный гул. Трубецкой в тревоге повернулся к боярам. Те отрицательно мотали головами в высоких горлатных шапках. Их мнение выразил боярин Морозов, который, поднявшись с лавки, выкрикнул, заглушая гул:
— Есть и познатнее Митьки Трубецкого, да и попрямее!
— А где наши старшие бояре? — громко вопросил, будто не ведая, сидевший рядом с Морозовым Иван Никитич Романов.
Пожарский нахмурился, но, чтобы не возбуждать собравшихся, ответил с усмешкой:
— На богомолье уехали, свои грехи замаливать.
По палате прокатился хохот. Трубецкой тем временем с настойчивой надеждой глядел в упор на своих атаманов, но те лишь ухмылялись в вислые усы. Их желание посадить на престол «воренка» не осуществилось, но и своего воеводу они слишком хорошо знали. Не выдержав, один из них выкрикнул:
— Где уж тебе, сокол наш ясный, Дмитрий Тимофеевич, на царстве усидеть, коли ты и войском своим командовать не сумел!
Гомон усилился, когда кто-то выкрикнул имя Черкасского.
— Этого нам и подавно не надобно!
Поднялся Пожарский, жестом восстанавливая порядок.
— Не об этом нам сейчас спорить! Надобно решить, будем ли мы снова на царство кого-либо из иноземных королевичей просить аль будем выбирать своего, русского царя?
— Русского, русского! — раздались голоса.
— Почему спрашиваю, — повысил голос воевода, — там, за дверью, находится посол от Новгорода — Богдан Дубровский. Яков Понтусов, что продал нас полякам в Клушинской битве, а потом обманом сел в Новгороде, интересуется, будем мы звать на царство шведского королевича?
— Хватит с нас и польского королевича! — под общий хохот громогласно произнес Козьма Минин.
— Так порешили? — вопросил Пожарский.
— Так, так! Воистину так! — уже единодушно выкрикивали собравшиеся.
— Хорошо! Тогда в вашем присутствии и ответим послу. Зовите Дубровского! — приказал Пожарский стрельцам, стоявшим у дверей палаты.
Вошел Богдан Дубровский. Не ожидая такого скопления людей, он начал испуганно озираться, пока не разглядел Пожарского.
— Ну, смелее, смелее, добрый человек, — с усмешкой сказал князь. — У нас не в обычае послов обижать. Вот что мы решили на совете, запомни хорошенько и передай слово в слово своему Якову Понтусову, а тот пусть передаст королю своему Густаву: «У нас и на уме того нет, чтоб нам взять иноземца на Московское государство».
— Позволь, князь, — робко напомнил посланец шведов, — но ведь в Ярославле ты другое говорил…
— А что мы с вами ссылались из Ярославля, — ответил невозмутимо Пожарский, — так это мы делали для того, чтобы вы нам в те поры не помешали и не пошли на наши морские города.
Чувствуя себя одураченным, посол зло выкрикнул:
— Значит, война?
Князь столь же невозмутимо сказал:
— Теперь, когда Бог Московское государство очистил, мы будем рады с помощью Божией идти биться за очищение и Новгородского государства. Теперь ступай и передай это своему иноземному господину. А еще русским дворянином считаешься. Эх, срам! Ступай же!
Восхищенные умом и непоколебимой твердостью князя Пожарского, многие из собравшихся подумали про себя: «Вот человек, достойный царского венца». Эту мысль вслух высказал воевода Артемий Измайлов:
— Тебя, Дмитрий Михайлович, просим на царство! Ведь ты, и никто иной, избавитель всего нашего государства Российского!
Многие одобрительно зашумели, но Пожарский снова поднял руку, восстанавливая тишину. Когда все успокоились, напряженно ожидая его ответа, Дмитрий Михайлович негромко, но уверенно начал говорить:
— Вы знаете, что я от начальства в ополчении отказывался многажды. К такому делу меня вся земля силою приневолила. Если б такой столп, как князь Василий Васильевич Голицын, был здесь, то за него бы все держались, и я за такое великое дело мимо него не принялся бы. Теперь с Божьей помощью мы ворога одолели и Москву очистили. Да разве в том только моя заслуга? Как мы бы войско собрали без выборного человека всей земли Козьмы Минина? И как гетмана отогнали без воевод наших — тебя, Артемий, тебя, Дмитрий Лопата, без атаманов казацких? За честь предложенную благодарю, но никак мне о государстве даже и помыслить нельзя. И не будем об этом больше спорить.
Многим, кто до того вынашивал честолюбивые планы самому занять самое высокое место в государстве, вдруг стало стыдно от этих прямых и совестливых слов.
…Уже три недели шел Земский собор. Начинали с раннего утра, после совершения молитв, и заканчивали к обеду, после которого, согласно обычаю, все почивали. Уже многих из знатных людей перебрали, но отклоняли по самым разным причинам. Вместе с тем все настойчивее раздавались голоса в пользу молодого Михаила Романова. Это имя было названо в первый раз еще в Ярославле, но тогда отклонили сразу, ссылаясь на малолетство. Однако теперь о Михаиле заговорили снова. И не только в стенах Грановитой палаты, но и на московских площадях. Присылали из городов и письменные мнения за избрание царя из рода Романовых.
Хотя Романовы и не были родовиты, однако они всегда пользовались доброй славой. В народе была жива светлая память о царице Анастасии, первой жене Ивана Грозного. Помнили и о ее брате — Никите Романовиче. Уже и после кончины Анастасии Никита Романович был одним из немногих, кто имел мужество спорить с царем и в глаза укорять его за жестокие деяния, рискуя собственной жизнью. Мученический венец приняли от Годунова трое его сыновей, сгинувших в ссылке, а старший красавец Федор Никитич, которому, по преданию, умирающий Федор Иоаннович вручил свой скипетр, был насильно пострижен в монахи. Крепка была память в народе и о его недавнем мужестве, когда, не в пример Авраамию Палицыну и прочим слабодушным, даже под угрозой позорного плена, отказался он от присяги Жигимонту и призвал защитников Смоленска оборонять крепость до последнего.
Дважды на соборе выкликали имя Михаила Романова и оба раза отклоняли. Как ни странно, более всех возражал его дядя Иван Никитич, считавший себя более достойным престола, чем племянник. Наконец 2 февраля во время новых споров встал дворянин из Галича и подал Пожарскому свиток, где было выражено единодушное мнение всего города.
— Каково ваше желание? — спросил Дмитрий Михайлович.
— Надобно избрать на царство Михаила Федоровича Романова, — таков был ответ. — Он всех ближе по родству с прежними царями.
В этот же момент со свитком вышел и донской атаман.
— А вы, казаки, о ком просите? — спросил Пожарский.
— О природном царе Михаиле Федоровиче.
Это было неудивительно: ведь казаки неистово ненавидели бояр и незнатный Романов им был больше по сердцу. Мнение казаков, представлявших в тот момент значительную силу в государстве, стало решающим: весь собор высказался за избрание Михаила Романова. Затем все выборщики разъехались по своим городам, чтобы утвердить решение собора.
Двадцать первого февраля, в первую неделю Великого поста, был последний собор, где каждый чин подал письменное мнение об избрании государя. Все они были сходными и указывали на Михаила Федоровича.
В этот же день на Лобное место вышли рязанский архиепископ Феодорит, Новоспасский архимандрит Иосиф, боярин Василий Петрович Морозов и… троицкий келарь Авраамий Палицын, который, как всегда, вовремя переметнулся на сторону сильнейшего, уже прочно забыв о прежнем своем благодетеле — Дмитрии Трубецком.
— Кого хотите в цари? — спросил Морозов у москвичей, еще не сообщая решения собора.
Мнение было единодушным:
— Михаила Федоровича Романова.
В эти же дни в Москву были вызваны Мстиславский, Воротынский и другие старшие бояре. Поначалу они и слышать не хотели об избрании незнатного Романова. Мстиславский заикнулся было вновь о поисках чужеземного претендента, но гнев собравшихся был так велик, что он испуганно смолк. В этот момент Воротынский наклонился к уху старика:
— Слышь, Федор Иванович! Мишка ведь молод и глуп. Нам при нем вольготнее будет.
Это соображение победило, и «верхние» бояре дали свое согласие.
Приняв окончательное решение, собор снарядил делегацию для приглашения Михаила на царство. В Кострому отправились архиепископ Феодорит, все тот же вездесущий Авраамий Палицын, архимандриты из Новоспасского и Симоновского монастырей, протопопы кремлевских соборов, бояре Федор Шереметев и Владимир Бахтеяров-Ростовский, окольничий Федор Головин, дьяк Иван Болотников, стольники, стряпчие из дворян московских, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, атаманы казацкие, купцы и других чинов люди.
Вожди ополчения, которым, казалось, надо было возглавить посольство, остались в Москве: в любой момент можно было ожидать нападения и с севера — шведов, и с запада — поляков, и с юга. Там, в Астрахани, обосновался Заруцкий, лелея мечту создать собственное Астраханское царство. Да и в самой Москве дел было невпроворот: надобно было привести в порядок церкви и дворцы в Кремле, надобно было сыскать необходимые к коронации средства. Не было и царских регалий; напрасно несколько раз водили к пытке Федора Андронова, тот отнекивался; так было и решили, что все царские венцы похищены. Но тут нежданная радость: когда был избран новый государь, к Пожарскому пришел старый царедворец Никифор Васильевич Траханиотов, поведавший Пожарскому, что, когда Шуйского подвергли насильному пострижению, ему удалось под шумок унести царские регалии — шапку Мономаха, бармы, скипетр и державу и спрятать у себя на подворье. Не раз дьяк подвергался смертельному риску, когда поляки устраивали по московским дворам повальные обыски в поисках ценностей, да Бог миловал.
Тем временем посольство прибыло в Кострому и нашло царя с его матерью в Ипатьевском монастыре. 12 марта, после обедни, двинулось из Костромы под колокольный звон торжественное шествие с хоругвиями и иконами. Марфа с сыном вышли навстречу, однако, узнав о причине шествия, поначалу отказались идти в соборную церковь. Едва их упросили всем миром.
В соборе после молебна послы зачитали грамоту об избрании Михаила на царство и просили ехать с ними в Москву. Юноша в испуге отказался, Марфа Ивановна поддержала его. Она сказала, что «у сына ея и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем; он не в совершенных летах, а Московского государства всяких чинов люди измалодушествовались, дав свои души прежним государям, не прямо служили». Марфа упомянула об измене Годунову, об убийстве Лжедимитрия, сведения с престола и выдаче полякам Шуйского и продолжала:
— Видя такие прежним государям крестопреступления, позор, убийства и поругания, как быть на Московском государстве и прирожденному государю государем? Да и потому еще нельзя: Московское государство от польских и литовских людей и непостоянством русских людей разорилось до конца, прежние сокровища царские, из давних лет собранные, литовские люди вывезли; дворцовые села, черные волости, пригородни и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и всяким служилым людям и запустошены, а служилые люди бедны; и кому повелит Бог быть царем, то чем ему служилых людей жаловать, свои государевы обиходы полнить и против своих недругов стоять?
— …Кроме того, — сказала Марфа в заключение, — отец его, митрополит Филарет, теперь у короля в Литве в большом утешении, и как сведает король, что на Московском государстве учинился сын его, то сейчас же велит сделать над ним какое-нибудь зло, а ему, Михаилу, без благословения отца на Московском государстве никак быть нельзя.
Послы молили и били челом Михаилу и матери его с третьего часа дня до девятого, уверяя, что «выбрали его по изволению Божьему, не по его желанью, что прежние государи — царь Борис сел на государство своим хотеньем, изведши государский корень — царевича Димитрия; начал делать многие неправды, и Бог ему мстил за кровь царевича Димитрия богоотступником Гришкою Отрепьевым, вор Гришка-расстрига по своим делам от Бога месть принял, злою смертью умер; а царя Василья выбрали на государство немногие люди, и, по вражью действу, многие города ему служить не захотели и от Московского государства отложшись; все это делалось волею Божиею да всех православных христиан грехом; во всех людях Московского государства люди наказались все и пришли в соединение во всех городах».
Однако никакие доводы не действовали. Тогда послы начали угрожать, что «Бог взыщет с Михаила конечное разорение государства». Суеверная Марфа испугалась Божиего проклятия, и Михаил наконец дал согласие.
Девятнадцатого марта царский поезд двинулся из Костромы в Москву, но путешествие сильно затянулось. Делали долгие остановки в Ярославле, Ростове, Троице-Сергиевом монастыре. За это время составился царский двор. В него вошли родственники Марфы Борис и Михаил Салтыковы (племянники предателя), пребывавшие вместе с Романовыми в Ипатьевском монастыре. Борису Салтыкову было поручено руководство тут же образованным приказом Большого дворца, а Михаил стал кравчим. Близкий к царю Константин Михалков получил чин постельничего. Недруг Пожарского Федор Шереметев также стремился стать необходимым молодому государю. Ко двору последовал и его шурин, двоюродный брат Михаила Романова, Иван Черкасский. Они подучили царя отправлять грамоты в Москву не на имя Трубецкого и Пожарского, а на старшего боярина — Мстиславского.
Чем ближе находился к Москве новый царь, тем тон его грамот становился все повелительней; под влиянием приближенных он потребовал удаления казаков из Москвы, хотя они и сыграли решающую роль в его избрании. Без конца он требовал присылки подвод, лошадей, кормов — его поезд все больше разрастался. Потом появилось новое требование, вызвавшее у вождей ополчения недоумение: он приказал изготовить к своему приезду Золотую палату, где когда-то жила царица Ирина, сестра Бориса Годунова, с проходными сенями, палату Мастерскую, также с сенями, до церкви Рождества Богородицы, кроме того — для своей матушки деревянные хоромы царицы, жены Ивана Грозного. Земское правительство ответило, что готовят царю Золотую палату и те две палаты, где жил царь Иван и которые назывались чердак царицы Анастасии Романовой, да Грановитую палату, да мыльню. Для матери царя предлагались хоромы в Вознесенском монастыре, где жила совсем недавно мать царевича Угличского Марья Федоровна Нагая. Однако Михаил считал, что матери жить там невместно, и снова настаивал на хоромах жены Ивана Грозного.
После бесконечных капризов, по настоянию Ефрема, митрополита Казанского, архимандрита рязанского Феодорита и нового челобитья дворян и всяких чинов Московского государства государь наконец оставил Троице-Сергиев монастырь и прибыл 2 мая в село Тайнинское, где некогда Дмитрий встречал свою «мать», инокиню Марфу.
На следующий день Михаил Романов в сопровождении ставшей огромной свиты вступил в столицу. 11 июля Михаил Федорович венчался на царство. Пред причащением было совершено освященное миропомазание из того сосуда, который некогда принадлежал императору Августу и из которого помазывались на царство все российские государи.
Перед тем как идти в собор на коронование, Михаил Федорович вышел в Золотую палату, сел впервые на своем царском месте и пожаловал боярство двум стольникам. Первым чин боярина получил двоюродный брат царя Иван Борисович Черкасский, а вторым — воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
На следующий день после коронации, в день своих именин, царь пожаловал в думские дворяне Козьму Захаровича Минина. Однако главным казначеем стал Никифор Траханиотов, отмеченный за сохранение царских регалий.
Того же году в июле венчался государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии царским венцем на Российское государство. А венчал государя митрополит казанской Ефрем. А осыпал государя боярин князь Федор Иванович Мстиславской. А с царскою шапкою шел боярин Иван Никитич Романов. А с скипетром боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. По царской сан на Казенный двор ходил князь Дмитрий Михайлович Пожарский, а с Казенного двора шел с ним вместе казночей Никифор Васильевич Траханиотов.
Из разрядных книг
Вместо эпилога
Возвращение к началу
Все встало наконец на свои места, как и чаяли князь Дмитрий Михайлович Пожарский и его верный сподвижник Козьма Захарович Минин. Наконец на московском престоле снова находился русский царь, хоть и не из Рюриковичей, но зато избранный всем народом.
По преданию, первым предком Романова был брат прусского князя Гланд-Камбил Дивонович, приехавший в Россию в конце XIII века. Имя Камбил было переиначено русскими в прозвище Кобыла. Его сын Андрей Иванович Кобыла служил при дворе великого московского князя Симеона Гордого. Сын Андрея Кобылы Федор Андреевич получил чин боярина и заодно прозвище Кошка. О занимаемом им видном положении свидетельствовал тот факт, что свою дочь он выдал замуж за великого князя Михаила Александровича Тверского. Во времена правления великого князя Василия III боярин Михаил Юрьевич Кошкин занимал второе место во дворцовой иерархии, сразу же за Василием Васильевичем Шуйским. По старому обычаю, к прозвищу прибавлялось отчество одного, а то и нескольких ближайших предков. Так и Кошкины начали именоваться Захарьиными, затем Юрьевыми и наконец Романовыми. Основоположником фамилии Романовых стал Никита Романович Захарьин-Юрьев, сестра которого, Анастасия Романовна, стала женой Ивана Грозного, приблизив тем самым род Романовых непосредственно к царскому престолу.
Старший сын Никиты Романовича, Федор, красавец и первый щеголь в Москве, по принуждению правителя Бориса Годунова женился на Ксении Ивановне Шестовой, незнатного происхождения. Сделал это Годунов с целью пресечь возможные поползновения Федора на престол. Но и этого коварному Годунову показалось мало: едва сам усевшись на престол, он подверг всех Романовых опале. Федор и Ксения были пострижены, приняв имена Филарета и Марфы.
Их четырехлетний сын Миша тоже не был пощажен: он был направлен в ссылку вместе со своей теткой Анастасией. При воцарении Димитрия Романовых снова вернули в Москву, но кошмары, пережитые в детстве — стрельба, пожар собственного дома, искаженные от ярости лица немецких солдат, окровавленные трупы домочадцев, — все это оставило в душе Михаила неизгладимый след. Был молодой царь достаточно хорош собой: круглолиц и голубоглаз, хотя и не высок ростом, не по возрасту полон, что, впрочем, по русским понятиям, было больше достоинством, чем недостатком. Нрава был он незлобивого, смешлив и жалостлив, мог при случае и всплакнуть. Хотя и не пришлось Михаилу из-за семейных передряг получить достаточное образование (к моменту воцарения он еле владел грамотой), но, безусловно, молодой царь обладал природной живостью и пытливостью ума.
На взгляд Дмитрия Михайловича Пожарского, Михаил Романов имел лишь один существенный недостаток: из-за приобретенной в детстве робости, если не сказать трусости, и результатов женского воспитания он не умел и даже не хотел действовать самостоятельно. Для Пожарского, который уже в десять лет стал главой рода, в пятнадцать женился и начал службу при дворе, поведение Михаила было непонятно. Молодой царь не предпринимал никаких действий, не посоветовавшись предварительно с матушкой. Инокиня Марфа была женщиной своевольной и властной. Пережитые невзгоды озлобили ее и закалили характер. Ее просторные покои в Вознесенском монастыре никак не напоминали скромную монашескую келью, они были убраны значительно роскошнее, чем дворец сына, да и окружение Марфы было не менее многолюдным. Овладев с первого же дня казною прежних цариц, она имела возможность содержать значительный штат не только прислужниц, но и охраны, а также соглядатаев, докладывавших ей обо всем, что делается на Москве. Самой приближенной к Марфе была ее сестра, старица Евникия, мать Бориса и Михаила Салтыковых, которые и стали первенствовать при особе молодого государя. Были братья кичливы, бранчливы и к тому же драчливы. Во дворце при участии их служивых дворян то и дело возникали ссоры, переходившие в рукопашные. Эти драки выводили из себя даже кроткого Михаила.
К счастью, уже действовала боярская дума, ведавшая повседневными делами приказов, и по-прежнему заседал Земский собор, решавший вопросы пополнения государственной казны и набора дееспособных стрелецких полков, ибо еще предстояла война и со Швецией, и с Польшей. И сам государь, и дума поначалу оказывали руководителям ополчения Минину и Пожарскому должное уважение, как к главным устроителям Российского государства. В знак признания их заслуг через три недели после пожалования им чинов Михаил Федорович подписал указ, утвержденный и Земским собором, о пожаловании их землями. Пожарскому были возвращены село Нижний Ландех с примыкающими деревнями, но уже не как поместье, а вотчина, то есть земли закреплялись за ним навечно. В грамоте от 30 июля 1613 года, подписанной Михаилом, красноречиво говорилось о заслугах Пожарского:
«Божию милостию Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Михаил Федорович и проч., пожаловали есмя Боярина нашего Князя Дмитрия Михайловича Пожарского… за его службу, что он при Царе Василье, памятуя Бога и Пречистую Богородицу и Московских Чудотворцев, будучи в Московском Государстве в нужное и прискорбное время, за веру крестьянскую и за святыя Божия церкви и за всех Православных крестьян, против врагов наших, Польских и Литовских людей и Русских воров, которые Московское Государство до конца хотели разорить и веру крестьянскую попрать, и он, Боярин наш, Князь Дмитрий Михайлович, будучи на Москве в осаде, против тех врагов наших стоял крепко и мужественно, и к Царю Василью и к Московскому Государству многую службу и дородство показал, голод и во всем скуденье и всякую осадную нужду терпел многое время, и на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости… За ту Царю Васильеву Московскую осаду указали ту вотчину, что ему дана из его ж поместья при царе Василье и при нас, Великом Государе, пополнити и подкрепити новою нашею Царскою жалованною грамотою… И в той вотчине он, Боярин наш, Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и его дети, и внучата, и правнучата вольны, и вольно ему и его детям, и внучатам, и правнучатам та вотчина продать, и заложить, и в приданые, и в монастырь по душе до выкупу дать».
Был пожалован годовым окладом в двести рублей и селом Богородским с землею на тысячу шестьсот тринадцать четвертей Козьма Захарович Минин. Но чин думного дворянина не вскружил голову этому замечательному человеку. Он считал себя по-прежнему посадским мужиком, предоставив вольную крестьянам, жившим на пожалованных ему землях. Его сын Нефед позднее составил такую запись: «Нынешнего года 123 (1615) бил нам челом хрестьянин села Богородцкова Федка Колесник, что выпустил его Кузьма Минин из-за себя… И нынеча ево матушка наша Татьяна Семеновна пожаловала велела ему жити в Богородцком, кто ево пожалует на подворье, без боязни со всеми ево животами, с животиною и с хлебом с молоченым и стоячим, опришно тово, что он здал пашню с хлебом. А память писал яз Нефедко Кузьмин сын Минича по матушкиному велению Татьяны Семеновны. А пойдет с Богородцкова, ино також ево выпустил совсем. А у памяти печать наша Кузьмы Минича».
Хотя Пожарский и Минин занимали в боярской думе последние места, однако к их мнению прислушивались и старшие бояре, и сам государь. Страна находилась в ужасающе бедственном состоянии.
По всему государству бродили шайки разбойников, грабя и без того обездоленных людей. Ополченцы разошлись по домам, а регулярного войска для отпора внешних и внутренних врагов не было. Трубецкой, хвастливо заявивший, что прогонит шведов, увел с собою из Москвы последнюю тысячу казаков. В первой же стычке с небольшим отрядом шведов он был наголову разгромлен, показав еще раз свою полную бездарность в военном деле. С горсткой оставшихся воинов он пешком глухими лесами ушел от неприятеля и объявился только в Торжке. С юга тоже доносились тревожные вести: Заруцкий вновь стал собирать войско и готовиться в союзе с ногайскими татарами идти в поход на Самару. Вел он переговоры о союзе и с персидским султаном Аббасом. В грамотах Иван Мартынович стал называть себя Димитрием.
Пожарскому была поручена организация постоянного стрелецкого войска. Вспомнил он и об иностранных легионерах, которые прислали ему письмо с предложением своих услуг, когда он во главе ополчения шел на Москву. Один из этих ландскнехтов, шотландец Яков Шоу, теперь прибыл к Пожарскому и подтвердил, что готов набрать иностранных солдат для службы царю, лишь бы им хорошо заплатили.
Пожарский дал ему такие полномочия, строго предупредив, чтоб в число наемников не попал Маржере. Впрочем, к этому времени Жак уже сам понял, что воинское ремесло ему больше не под силу, и превратился в мелкого торговца мехами. Однако он вовсе не оставил своего старого занятия — политической разведки.
В Европе вскоре разразилась война, получившая впоследствии название Тридцатилетней, и услуги Маржере были по-прежнему необходимы. Курсируя по городам и поместьям Польши и Германии, французский агент ловко выуживал важные сведения и аккуратно слал донесения в Швецию Жану де Ла-Бланку, который тут же переправлял их во Францию самому кардиналу Ришелье.
Жак де Маржере скончался уже в двадцатые годы, так и не обзаведясь семьей и не дождавшись обещанного поместья.
Якову Шоу удалось нанять лишь с десяток наемников с обещанием выплаты жалованья в будущем. Отсутствие средств вынудило думу и Земский собор пойти на крайнюю меру, выведенную когда-то Годуновым: вновь открыть кабаки по всему государству, доход от которых должен был идти в казну. Вновь пьянство на Руси стало в чести, однако доход был не велик: у людей просто не было денег. Козьме Минину был поручен сбор «пятины» — пятой части от всех доходов купцов и промышленников. Однако таких богачей, как Строгановы, заплатившие сразу пятьдесят тысяч рублей, было очень мало. Кроме того, прежнее правительство оставило после себя дурное наследство в виде своих чиновников — взяточников и казнокрадов. Посланные на места для сбора налогов, они в первую очередь стремились обогатиться сами, отбирая последнее у обнищавшего вконец населения. Крестьяне и посадские люди в отчаянии бросали насиженные места и уходили в леса, пополняя и без того многочисленные разбойничьи шайки. Войско лишь одного из них, атамана Баловня, составляло более трех тысяч человек.
В такой отчаянной ситуации оставалось только вести искусную дипломатическую игру, чтобы добиться мира с соседями любой ценой. Однако поначалу ни Сигизмунд, ни Густав-Адольф не желали и слышать о мире. Однако Пожарский, который как человек, имевший уже изрядный опыт, был советником государя в дипломатии, надежды не терял. Ему удалось привлечь к переговорам посредников — по просьбе Пожарского к Сигизмунду направил своих послов римский император, а в переговорах со шведским королем дал согласие проявить содействие английский король Яков.
Усиление влияния Пожарского на молодого государя вызвало недовольство боярской верхушки — Мстиславского, Шереметевых, Долгорукого и особенно временщиков Салтыковых. Они искали случай, как бы осадить «выскочку».
И такой случай представился в конце 1613 года, когда Михаил под давлением матери пожаловал Борису Салтыкову, уже исполнявшему обязанности кравчего, чин боярина. Государь, понимавший, что такое возвышение может вызвать недовольство остальных придворных, по подсказке тех же Салтыковых решил поручить представление нового боярина Дмитрию Михайловичу Пожарскому, как человеку безупречной репутации и всеми уважаемому.
Большего оскорбления для князя нельзя было придумать: он, главный воевода ополчения, должен был оповестить о боярстве племянника своего самого лютого врага, изменника Михайлы Глебовича Салтыкова, кстати получившего в свое время боярскую шапку от Бориса Годунова за арест Романовых! Наотрез отказавшись от такого унижения, Пожарский сказался больным и уехал домой, в свой терем на Лубянке. Михаил, поняв, что совершил промашку, не настаивал, сделал вид, что поверил в болезнь Пожарского, тем более что тот периодически страдал от черной немочи.
Однако вечером в опочивальню царя буквально ворвались Салтыковы в сопровождении Мстиславского, Одоевского и Головина. Они потребовали выдачи «обидчика» с головою. Малодушный Михаил дал согласие. На двор к Пожарскому с этой горькой вестью был послан его бывший помощник в ополчении дворянин Перфилий Секирин. Князь выслушал его молча, ничем не выражая своих чувств. Затем приказал слугам принести его нарядные боярские одеяния: зеленый объяренный кафтан с золотыми ворворками, обшитый по борту и на рукавах золотым шнуром, и боярскую шубу из малинового травчатого бархата. Облачившись, сел в нарядные сани с медвежьим пологом и в сопровождении вооруженных дружинников отправился в позорный путь. У ворот дома Салтыковых он, согласно обычаю, оставил сани и пешком, сняв горлатную боярскую шапку, прошел через весь двор и опустился на колени у высокого крыльца. Сверху на него поглядывали злорадно хихикающие Салтыковы. За их спинами торчали головы дворовых, тоже ехидно улыбавшихся.
— Ну, что, князюшка, добился своего? — заорал Борис Салтыков. — Не захотел меня уважить, так теперь постой на коленях. Царь-государь выдал тебя с головой. А то уж больно возгордился! Проси прощения, а не то ведь я кнутом могу тебя оходить!
Первый раз князь поднял голову и окинул Бориса взглядом, полным такой жгучей ненависти и презрения, что тот испуганно попятился:
— Ладно, черт с тобой. Ступай восвояси. Зла больше на тебя не держу. Запомни на будущее — забижать меня царь не даст!
— Запомню, — ответил князь, не опуская тяжкого взгляда.
Затем он легко поднялся и, не оборачиваясь, направился к воротам. Дворовые было начали улюлюкать, но столько достоинства и отваги было в фигуре Пожарского, что все они поневоле притихли.
…Несколько дней Дмитрий Михайлович провел, не вставая, в своей спальне, отказываясь от обеда и не желая ни с кем разговаривать. К нему приехал Козьма Минин. Сел рядом с другом на просторной лавке и, положив руку на могучее плечо, произнес:
— Не кручинься, Дмитрий Михайлович!
От этих простых слов накопившаяся обида выплеснулась наружу. Не сдерживая злых слез, Дмитрий Михайлович с прерывистым вздохом сказал:
— Уеду в Мугреево! Там дел для меня хватит. А может, в свой Спасо-Ефимьевский монастырь уйду, схиму приму.
Минин понимающе глядел на князя.
— Что говорить, обида великая. Уж будь моя воля, я бы этим Салтыковым… — помахал он огромным кулачищем.
— Да разве дело в этих молокососах?! — вздохнул князь.
— А на государя зла не держи. Сам знаешь, слабоволен он. И поэтому уезжать тебе никак нельзя отсюда: опять все вкривь может пойти. Ты не об обиде своей думай, нечего душеньку свою растравливать. Думай о государстве нашем Российском, как его спасти и народ на ноги поставить. Твоя светлая голова умна, людям нужна, да и сабля твоя скоро пригодится.
…Еще большему унижению подвергся другой герой ополчения — архимандрит Дионисий. Государь подумал возродить печатанье священных книг в Москве и поручил подготовить к печати церковный Требник Дионисию, хорошо знавшему книжное учение, грамматику и риторику. Рассматривая напечатанный прежде Требник, Дионисий нашел в нем много ошибок, оказавшихся в старых рукописных экземплярах из-за невежества писцов. Исправления, внесенные Дионисием, вызвали возмущение некоторых монахов монастыря, и, тайно наущаемые келарем Палицыным, мечтавшим занять место настоятеля, они послали донос в Москву. Главным духовным сановником в это время был Крутицкий митрополит Иона, малограмотный и грубый человек. Он завидовал славе троицкого настоятеля и потому взял сторону столь же невежественных монахов и обвинил Дионисия в еретичестве. Поддержала Иону и мать царя, инокиня Марфа. Дионисия поставили на правеж на патриаршем дворе, всячески глумились над ним, плевали и кидались камнями, а затем засадили в Новоспасский монастырь на покаяние.
В Астрахани тем временем вспыхнуло восстание дворян против Заруцкого. Он вынужден был бежать вместе с Мариной и ее сыном на Яик. Однако окружавшие его казаки предали некогда любимого атамана, и летом 1614 года он был доставлен в Москву. Расправа была короткою: Ивана Мартыновича посадили на кол, трехлетнего «царевича» Ивана повесили рядом с предателем Федором Андроновым. Марину заточили в темницу, где она вскоре скончалась. Ходили слухи, что ее уморили голодом. Но скорее сердце гордой полячки не выдержало боли отчаянья от краха ее безумных надежд.
Об опальном Пожарском вспомнили в думе, когда нависла новая смертельная опасность: под Смоленском объявилась многотысячная банда Лисовского. Перепуганные бояре вынуждены были вспомнить о Пожарском.
Двадцать девятого июня 1615 года он выступил из Москвы, имея небольшой, менее тысячи человек, отряд, состоящий из служилых дворян, стрельцов и нескольких иностранных солдат. Прибыв в Боровск, он разослал по всей округе сборщиков с наказом приводить всех имеющихся служилых людей. В Белеве к его отряду примкнули казаки из войска Баловня, которого правительство хитростью заманило в Москву и казнило. Казаки хорошо знали порядочность и боевое искусство Пожарского еще по ополчению, поэтому охотно влились в его войско. Пристали к князю уже под Волховом две тысячи татар.
Лисовский, хорошо помнивший урок, преподанный ему Пожарским ранее, узнав о его приближении, метнулся из Карачева к Орлу, где настиг его Пожарский.
Бой продолжался несколько часов, атаки русских следовали одна за другой. Были захвачены пленные, знамена, литавры. Однако под вечер Лисовскому удалось найти слабое место в расположении войска Пожарского: не выдержала контратаки «лисовчиков» татарская конница, ударившаяся в бега. Три дня, не вступая в бой, стояли друг против друга войска Пожарского и Лисовского. Зная, что под знаменами поляков воюет немало иностранных солдат, князь тайно направил в лагерь Лисовского для переговоров бывшего с ним шотландца Якова Шоу. Тот быстро нашел общий язык с шотландцами и англичанами, и те стали переходить в лагерь Пожарского.
Лисовский, хоть и потрепанный, вернулся в Литву, чтобы следующей весной вновь начать разбойничать в северских землях. Но, видно, пророчество Иринарха продолжало действовать: во время одной из атак Лисовский неловко упал с лошади и больше уже не встал. Однако его бандиты — «лисовчики» еще много лет наводили ужас на всю Европу.
Тем временем дипломатическая игра, предпринятая по совету Пожарского, стала приносить первые плоды. В Москве вновь появился давний знакомец князя купец Джон Мерик, посвященный королем Яковом в рыцари за деликатные услуги в области шпионажа. Именно его Яков назначил посредником в переговорах между шведами и русскими. Помощь эту англичане оказывали небезвозмездно: за это они требовали беспрепятственного проезда для английских купцов по русским рекам в Персию и Китай. Государь дал такое обещание, торопя англичанина скорее взяться за заключение мира со Швецией.
Переговоры эти начались зимой 1616 года в селе Дедерине. С русской стороны в них участвовали окольничий, князь Даниил Мезецкий и дворянин Алексей Зюзин, со шведской — Яков де Ла-Гарди и Генрих Горн. К этому времени шведский король Густав-Адольф, предприняв неудачную попытку захватить Псков, потерял одного из своих лучших полководцев Эверта Горна и вынужден был отступить. Неудачной оказалась и другая его попытка — склонить новгородцев войти в состав Шведского королевства.
Узнав, к своему удивлению, что новгородцы не желают добровольно стать подданными его короны, Густав-Адольф решился ограничиться завоеванными прибалтийскими землями, отрезающими Россию от моря.
Переговоры шли поначалу трудно, во взаимных упреках. Русские с гневом отвергли предложение избрать на царство королевича Филиппа, а также заявили, что скорее лишатся жизни, чем уступят хоть горсть земли. Шведы дважды пытались уехать с переговоров, но Джону Мерику удалось их отговорить. Наконец русские согласились уступить Корелу, а за остальные земли предложили выплатить выкуп в сумме ста тысяч рублей. Шведов это не устроило, но тем не менее решено было заключить перемирие с 22 февраля по 31 мая 1616 года. Переговоры возобновились лишь в конце года в селе Столбове, опять при посредничестве Мерика. Новгородцы умоляли русских послов договориться поскорее, ибо уже не было сил переносить оккупацию шведов, жестоко издевавшихся над жителями, требуя, чтобы те приняли шведское подданство. В конце концов русское правительство пошло на новые уступки. 27 февраля 1617 года был подписан договор о вечном мире, по которому шведы возвращали завоеванные города — Новгород, Порхов, Старую Руссу, Ладогу, Гдов и Сумерскую волость, а Россия уступала Швеции все Прибалтийское побережье — Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корелу с уездами, таким образом оказавшись отрезанной от Балтийского моря. Кроме того, царь обязался выплатить Густаву-Адольфу двадцать тысяч рублей. Шведы оставили Новгород 14 марта 1617 года. Долгожданный мир со Швецией был достигнут, но русские не спешили выполнить обещание, данное англичанам. После долгого обсуждения с торговыми людьми бояре сообщили Мерику, что по Волге ездить в Персию опасно, а в Китай вообще нельзя попасть, поскольку река Обь почти весь год скована льдом.
Пожарский не принимал непосредственного участия в этих переговорах. Новый Земский собор, избранный в 1616 году, бил челом князю как человеку, которому более всего доверяла вся земля, возглавить сбор «пятины», ибо только он мог установить порядок и прекратить казнокрадство. Помощниками его стали дьяк земского ополчения Семен Головин и трое монахов.
Его верного соратника Козьмы Минина в это время не было в Москве, он выполнял важное государственное поручение в Казани, где злоупотребления местных властей при сборе налогов были столь чудовищны, что там восстали татары и черемисы. Козьма Минин, как всегда, был скор и решителен, ему удалось быстро навести порядок, и он уже было отправился в Москву, как по дороге вдруг тяжко заболел и умер. Его прах покоится в каменной гробнице Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде. Сын Козьмы Захаровича Нефед, служивший во дворце стряпчим с платьем, ненадолго пережил родителя. Дом Мининых в Нижнем Новгороде был взят в государскую казну.
А между тем надвигалась новая гроза. Двадцатидвухлетний королевич Владислав, решив теперь самостоятельно захватить царский престол, вторгся в пределы России. Его войска вели старые недруги русских — гетман Ходасевич и полковник Гонсевский. Узнав о приближении польского войска, московские воеводы, которые уже три года безуспешно толклись под Смоленском, поспешно отступили. Ходкевич беспрепятственно дошел до Вязьмы.
К войску Ходкевича примкнула и банда Лисовского. Они двинулись в юго-западном направлении, в сторону Калуги. Перепуганные калужане отрядили в Москву выборных от всех чинов просить, чтобы государь послал им на защиту города не кого иного, как знаменитого полководца князя Пожарского. Калужанам, видевшим за годы Смутного времени многих полководцев, было хорошо ведомо, кто есть кто. Пожарский не чинился, хорошо зная, как быстро умеют передвигаться «лисовчики». Хотя он чувствовал себя неважно, уже на следующий день, 18 октября 1617 года, воевода скакал к Калуге в сопровождении своей собственной дружины из двадцати всадников и двух сотен московских стрельцов.
Несмотря на малочисленность своего отряда, князь рассчитывал на успех: он хорошо знал калужан и верил, что все горожане встанут на защиту родного города. Кроме того, в обозе отряда Пожарского находился кошель с пятью тысячами рублей. Уже с дороги Дмитрий Михайлович послал гонца к казакам, стоявшим за Угрой. Незадолго до того от них приезжал в Москву есаул Иван Сапожок с просьбой дать им для командования доброго воеводу. Казаки хорошо знали Пожарского по прежним сражениям, поэтому, когда гонец передал им послание князя, где тот пообещал платить казакам так же, как служилым дворянам, — по пять рублей каждому, они немедленно снялись с табора и сотня за сотней стали прибывать в Калугу. Значительное подспорье в тысячу стрельцов и казаков прислали южные пограничные крепости. Все это помогло Пожарскому в считанные дни укрепить Калугу для отражения врага. В свою очередь гетман Ходкевич послал в помощь «лисовчикам» тяжеловооруженную конницу под командованием Опалинского.
Пожарский встретил неприятеля в поле, перед городом. Он приказал беспрепятственно пропустить поляков за надолбы, а затем ударил сразу с трех сторон. Неся большие потери, гусары бросились наутек.
Успешные действия воеводы, сковавшие польскую конницу под Калугой, дали возможность Москве собрать большое войско против основных польских сил, зимовавших в Вязьме. Русским войском командовал старый «приятель» Пожарского Борис Лыков. Он занял позиции в Можайске, ожидая летнего наступления Ходкевича. Хитроумный гетман, узнав от разведчиков расположение главных русских сил, предложил Владиславу начать поход на Москву в обход, через Калугу, но спесивый королевич пожелал идти напрямик. Конница Опалинского была отозвана в основной лагерь, угроза для Калуги миновала. В этот момент Пожарского вновь сразил очередной приступ черной немочи.
Тем временем поляки двинулись в поход. Ходкевич вплотную подошел к Можайску и начал методичный артиллерийский обстрел города. Войско Лыкова стало нести большие потери. Кроме того, возникла угроза голода из-за невозможности подвезти продовольствие.
Вся надежда теперь связывалась, как и раньше, с именем князя Дмитрия Пожарского. К этому времени он достиг Боровска и укрепился у стен Пафнутьева монастыря, контролируя Можайскую дорогу. Сюда к нему пришло подкрепление, посланное из Москвы, — отряд из шестисот семидесяти московских, костромских и ярославских дворян под командованием Григория Волконского, астраханские стрельцы и татарские всадники, которых привел мурза Кармаш.
Теперь воевода мог приступить к выполнению главной задачи — выводу войска Лыкова из осажденного Можайска. В эти августовские ночи свирепствовали грозы. Воспользовавшись кромешной тьмой и проливным дождем, загнавшим поляков в шалаши, Пожарский направил к Можайску свои конные сотни, которые вывели войско Лыкова из города, оставив в нем лишь осадный гарнизон под командованием воеводы Федора Волынского. 6 августа Лыков благополучно достиг Боровска и оттуда пошел к Москве. Пожарский двинулся следом, прикрывая от поляков отступавшую армию.
Когда опасность миновала, Пожарский получил приказ срочно двигаться к Серпухову, чтобы остановить надвигавшуюся с юга армию запорожских казаков Петра Сагайдачного. Но здесь его вновь настиг очередной приступ болезни. В бессознательном состоянии он был отправлен в Москву. Оставшийся за Пожарского Григорий Волконский не сумел помешать переправиться казакам через Оку и поспешно отступил к Коломне, открыв Сагайдачному дорогу на Москву.
Отсутствие Пожарского привело к расколу в его войске: казаки повздорили с дворянами и, ссылаясь на голод, отправились для «кормления» под Владимир. Здесь они расположились в вотчине Мстиславского, грабя всех в округе. Исключение было сделано лишь для владений Пожарского, которого казаки уважали и любили. В Москву доносили: «В Вязниках у казаков в кругу приговорено, чтоб им боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского в вотчины, в села и в деревни не въезжати и крестьян не жечь и не ломать и не грабить». Крестьяне князя безбоязненно могли ездить в казацкий табор для продажи хлеба и других припасов. Москва послала к казакам гонцов, уговаривая их вернуться на цареву службу. Но казаки отвечали, что будут служить только у Пожарского.
Тем временем отход армии Лыкова вызвал в Москве смятение. Вдобавок ночью над столицей повисла кроваво-красная комета. «Быть Москве взятой от королевича!» — кричали юродивые на папертях. В Кремль ворвалась толпа служилых дворян. Их предводители — нижегородцы Жездринский, ярославец Тургенев, смолянин Тухачевский — обвинили бояр в измене. Лишь появление государя помешало кровавой расправе.
Бояре отдали приказ вывести полки из Замоскворечья в поле, напротив лагеря Ходкевича, к которому с юга шли на соединение казаки Сагайдачного. Однако, простояв день, русские воины ушли за стены столицы.
В этот день царь Михаил пригласил к себе на обед Дмитрия Михайловича Пожарского, едва оправившегося после болезни. Чувствуя свою вину за прошлую обиду, Михаил был крайне любезен. В знак особой милости он подарил князю позолоченный кубок и соболью шубу, а дьяк, вручавший награды, перечислил все боевые заслуги воеводы. Князь пообещал, что, пока его рука удерживает саблю, полякам Москвы не видать.
Он занял со своим войском западную часть стен Белого города, ожидая, что именно отсюда Ходкевич предпримет штурм. Его предположения подтвердили два французских сапера, перебежавшие из польского стана.
После полуночи 30 сентября 1618 года польская пехота двинулась к Земляному валу. Взорвав деревянные ворота, они проникли внутрь города и подошли к Арбатским и Тверским воротам Белого города. Пожарский приказал открыть Арбатские ворота и во главе своих всадников помчался на польскую пехоту. Не выдержав яростной атаки, те ударились в бега. К утру Земляной город был очищен от врага.
Понеся большие потери, Ходкевич отступил от столицы в сторону Троицкого монастыря. Но и там его встретили огнем орудий. Несолоно хлебавши гетман увел войско на свою старую стоянку в Рогачево. Казаки Сагайдачного отступили к Калуге, но город захватить им не удалось, вдобавок часть казаков во главе с полковником Жданом Коншиным перешла в стан русской армии.
Королевич не захотел оставаться еще на одну зимовку в этой негостеприимной стране, тем более что сейм не соглашался более на выделение новых средств для ведения войны. В деревне Деулино, в трех верстах от Троицкого монастыря, начались переговоры. 1 декабря 1618 года было заключено перемирие на четырнадцать с половиной лет. Его условия были крайне невыгодны для России: король получил более тридцати городов на Смоленщине и Черниговщине. Новая граница проходила теперь недалеко от Вязьмы, Ржева и Калуги. Не отказался Владислав и от своих притязаний на русскую корону.
Только через полгода на реке Поляновке произошел обмен пленными. Получили наконец свободу отец царя, митрополит Филарет, прославленный смоленский воевода Михаил Борисович Шеин и брат прежнего, уже покойного, государя — Иван Шуйский. В Можайске Филарета встретил посланный царем Дмитрий Пожарский. Обнажив голову, он подошел к старцу и прикоснулся губами к его худощавой руке, принимая благословение. Филарет порывисто обнял воеводу за плечи.
— Благодарю тебя, князь, за все, что ты сделал для России! Слава о твоих подвигах широко пошла. Даже наш заклятый враг, канцлер литовский Лев Иванович Сапега, у которого я в заточении пребывал, называл тебя не иначе как «великий богатырь».
Пожарский смущенно опустил голову, он не любил пышных славословий. Всю дорогу он ехал рядом с санями, рассказывая Филарету о московских новостях. У самой Москвы на речке Пресне их поезд поджидал царь. При виде отца он пал ниц, Филарет вылез из саней и встал на колени, приветствуя государя. Оба плакали, не стесняясь слез, потом наконец бросились друг другу в объятия. Затем отец вновь сел в сани, а Михаил шел пешком до самого Кремля.
Через несколько дней гостивший в Москве Иерусалимский патриарх Феофан посвятил Филарета в патриархи. Отныне все грамоты писались так: «Великий государь, Царь и Великий князь Михаил Федорович всея Руси и Святейший патриарх и великий государь приказали…» И это не было пустым славословием. Патриарх Филарет действительно стал соправителем сына, ни один царский указ не подписывался без его совета, даже послов они принимали вдвоем. Инокиню Марфу Филарет тотчас отстранил от государственных дел, наказав ей быть постоянно в Вознесенском монастыре.
Разобрался Филарет и с делом Дионисия, призвав на помощь патриарха Феофана, сведущего в греческих книгах. Тот подтвердил правоту Дионисия, который с честью был отпущен в монастырь. Зато келарь Авраамий Палицын был сослан на Соловки, где и умер в 1627 году, оставив после себя «Сказание», где с превеликим усердием описывал собственные несуществующие подвиги.
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, претендовавший на владение царской волостью, был сослан воеводой в Тобольск.
Вновь были подкреплены царским указом права Дмитрия Михайловича Пожарского на владение вотчинами. К Пожарскому Филарет, а следовательно, Михаил относились с подчеркнутым уважением. В 1619 году он был назначен начальником Ямского приказа, ведал сбором налогов в казну. С 1620 по 1624 год он служил воеводой в Новгороде, где требовалось навести порядок после шведской оккупации. Для приостановления разгула разбойничьих шаек Пожарского назначили начальником Разбойного приказа, а в тридцатые годы он поочередно руководил Поместным и Судным приказами.
В 1624 году Михаил женился на дочери князя Владимира Тимофеевича Долгорукого Марии. Дружкой жениха на свадьбе был Дмитрий Пожарский. Брак оказался неудачным — молодая царица неожиданно заболела на следующий день после свадьбы и умерла через три месяца. В 1626 году Михаил женился вновь, на незнатной дворянке Евдокии Лукьяновне Стрешневой, будущей матери царевича Алексея. Боясь новых придворных козней, ее ввели во дворец только за три дня до свадьбы, и снова дружкой царя был князь Пожарский.
Во время двойного управления отца и сына на Руси постепенно устанавливалась мирная, спокойная жизнь. Для справедливого определения сбора податей, пошлин и других повинностей была проведена перепись населения, зафиксированная в писцовых книгах. При помощи иностранных специалистов стала развиваться отечественная промышленность, были заведены железоделательные, стекольные, кожевенные и кирпичные заводы. Развивалось фруктовое, цветочное и аптекарское садоводство, во дворцовых садах появилась новинка — заграничные розы. В Немецкой слободе Москвы проживало более тысячи семей иностранных специалистов.
Потерявшая значительную часть своих владений на западе, Россия усилила свое влияние на востоке. Кроме служилых, преимущественно казаков, ядро тогдашнего русского населения в Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались из добровольцев — вольных, гулящих людей. Им давали земли, деньги на подмогу и льготы на несколько лет. Эти пашенные крестьяне обязывались пахать десятую часть в казну, и этот хлеб, называемый десятинным, шел на прокормление служилых людей.
Патриарх, который еще в молодости тайком учил латынь и увлекался чтением римских авторов, заботился о развитии российской культуры. Им была учреждена в Чудовом монастыре греко-латинская школа, выпускники которой были призваны исправлять церковно-богослужебные книги. На Никольской улице была вновь выстроена типография.
Истекал срок Деулинского перемирия, и Россия активно готовилась к войне. Двум иностранным офицерам, полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, было поручено нанять за границей полк ратных людей разных наций, но только не католиков, с платою вперед на четыре месяца. Ими же были куплены десять тысяч мушкетов с фитилями, порох, ядра и металлические полосы для ковки сабель.
В апреле 1632 года скончался польский король Сигизмунд. В России решили воспользоваться междуцарствием. Был созван Земский собор, который постановил отомстить полякам за прежние неправды и отнять города, захваченные ими у русских. Князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому вновь был поручен сбор средств для выдачи жалованья ратникам.
Начальство над главным войском в тридцать две тысячи человек (всего в русском войске было шестьдесят шесть тысяч ратников и сто пятьдесят восемь орудий) было поручено князьям Черкасскому-Мастрюкову и Борису Лыкову, но из-за взаимных обвинений обоих рассорившихся бояр отставили от воеводства.
Вместо Черкасского царь назначил Михаила Шеина, а на место Лыкова — Пожарского. Однако Дмитрий Михайлович, изнуренный частыми припадками, вынужден был отказаться. Вместо него вторым воеводой назначили его старого сослуживца по ополчению Артемия Измайлова.
Когда герой смоленской обороны Михаил Шеин был приглашен в связи с его назначением к государю, он разразился бурными упреками в адрес бояр, заявив царю, что «его службы выше всех перед всею его братьею боярами; что его братья бояре, в то время как он служил, многие по запечью сидели, и сыскать их было нельзя».
Царь на эту дерзкую речь старого воеводы ничего не ответил, промолчали и слушавшие Шеина бояре, однако злобу на него затаили.
Поначалу поход складывался удачно для русского войска. В декабре армия Шеина подошла к Смоленску, однако штурм успеха не принес. Оставалось надеяться, что польский гарнизон, не выдержав голода, сдастся на милость победителей. Осада длилась восемь месяцев, и поляки действительно уже было решились начать переговоры о сдаче, как вдруг под Смоленском появился с двадцатидвухтысячным войском Владислав, избранный к тому времени королем. Еще до того польским дипломатам удалось натравить на Русь крымских татар. Москва срочно готовилась к обороне. В июле 1633 года татары прорвали оборону русских на Оке, вышли к Серпухову, а затем неожиданно повернули, минуя Каширу, в рязанские земли. Однако угроза нападения на Москву еще не миновала, и поэтому помощь Шеину новыми силами оказать было невозможно.
А Шеину с Измайловым приходилось туго. Часть войска — дворяне из южных мест — покинула войско, чтобы защитить свои поместья от набега татар. Королевские войска захватили Дорогобуж, где находился обоз русского войска, оставив его без продовольствия. Заняв высоты вокруг расположения русского лагеря, поляки открыли артиллерийскую пальбу, вынудив воинов искать спасения за бревенчатыми стенами выстроенного острожка. Теперь сам Шеин оказался в осаде. Наступила осень, многие болели и умирали от голода и холода. Шеин слал отчаянные письма в Москву с просьбой о помощи. Однако в это время скончался патриарх Филарет, и влияние бояр на царя вновь непомерно возросло. Они решили отомстить обидчику Шеину. Заверяя его о скорой помощи, дума в то же время медлила с приказом идти под Смоленск армии, стоящей в Можайске, придумывая все новые и новые отговорки. Так, 2 февраля 1634 года они послали в Можайск князя Волконского советоваться, как бы поскорее помочь Шеину. Воеводы ему ответили, что они только того и ждут, готовы идти на помощь не мешкая. В Москве похвалили их за такие мысли и 8 февраля прислали долгожданное указание идти к Смоленску, но… предварительно соединившись с воеводами Ржева и Калуги. Пока шла эта переписка, Шеин вынужден был сдаться. Это случилось 16 февраля. Оставив противнику все пушки и повергнув к ногам победителей свои знамена, русские были вынуждены, осыпаемые грубыми насмешками, пройти сквозь строй врагов и пешими брести к Можайску. Королевское войско не последовало за ними. Владислав осадил крепость Белую, но так и не сумел ее взять. Из Польши пришли тревожные известия о готовящемся вторжении турок. С севера шведы угрожали захватить Пруссию, денег на жалованье войску не осталось, и Владислав запросил мира.
Переговоры, проходившие на реке Поляновке, где когда-то произошел обмен пленными, тянулись до 4 июня. Поляки запрашивали с русских за отказ Владислава от престола сто тысяч рублей. Русские долго упирались, наконец сошлись на двадцати тысячах. Был заключен вечный мир, по которому царь навсегда уступал земли, находившиеся у поляков, а польский король признал Михаила Романова царем и братом.
А бояре тем временем отыгрались на Шеине. Никогда на Руси проигравшим сражение не секли голов. Исключение сделали для Шеина и Измайлова. Боярская судная комиссия во главе с Иваном Шуйским приговорила их к смертной казни. Их вывели за город, на «пожар», где после зачтения дьяком приговора и перечисления их «вин» заслуженным ветеранам войн Смутного времени отсекли головы. Их родственников сослали в Сибирь.
В Москву из Польши были доставлены останки царя Василия Шуйского, умершего еще в 1612 году. Они нашли успокоение в Архангельском соборе Кремля.
Последние годы своей жизни Пожарский провел в основном в своем московском дворе. Он выполнил свою клятву, данную при освобождении Москвы, — на свои средства выстроил храм Казанской Божией Матери на Красной площади. Им же была построена еще одна церковь — Покрова в Медведкове, где было его поместье, возрожден Макарьевский монастырь под Нижним Новгородом. В своем родовом поместье, в деревне Холуи князь развил ремесло богомазов. Владелец большой библиотеки, Дмитрий Михайлович немало ценных книг подарил монастырям. В Соловецкий монастырь он передал три тома Четьих-Миней, когда-то отпечатанных в Александровской слободе по указанию Ивана Грозного. Еще одна Общая Минея была передана в Троице-Сергиев монастырь. Псалтырь, «Толкование на деяния апостольские», «Об иконном поклонении» перешли в собственность Спасо-Ефимьева монастыря.
В 1635 году Дмитрий Михайлович лишился своей Прасковьюшки, родившей ему троих сыновей и троих дочерей. Ее отпевал в домашней церкви на Лубянке новый патриарх Иосиф, сменивший Филарета. Царь выбрал для Пожарского новую невесту, Феодору Андреевну Голицыну. Во втором браке князь не имел детей. Были и еще утраты: совсем молодыми скончались его средний сын Федор и дочь Ксения, бывшая замужем за князем Василием Семеновичем Куракиным. Зато радовали сыновья Петр и Иван, служившие стольниками. Счастливы в браке были дочери: Настасья — за князем Иваном Петровичем Пронским, а младшая, Елена, — за князем Иваном Федоровичем Лыковым.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский скончался 20 апреля 1642 года. На отпевании в домашней церкви присутствовали государь Михаил Федорович, переживший Пожарского на три года, и юный царевич Алексей. Тело было захоронено в родовой усыпальнице Спасо-Ефимьева монастыря.
Род Пожарских по мужской линии пресекся в 1684 году со смертью внука прославленного героя — Юрия Ивановича Пожарского. По женской линии он перешел в фамилии Репниных, Милославских, Долгоруких, Куракиных, Голицыных посредством браков дочерей, а также внучек князя Анны, Евдокии и Агриппины. Но память об этом выдающемся полководце и замечательном человеке так же, как и о его верном сподвижнике — Козьме Захаровиче Минине, жива и поныне. Нам близки и понятны слова, сказанные о подвиге этих героев их современником, летописцем:
«Бысть же во всей России радость и веселие, яко очисти Господь Бог Московское царство безбожныя Литвы, початком боярина Михаила Васильевича Шуйского-Скопина, а совершением и конечным радением и прилежением боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского и Нижегородца Кузьмы Минина и иных бояр и воевод, стольников и дворян и всяких людей. И за то им зде слава, а от Бога мзда и вечная память, а душам их во оном вице неизреченная светлость, яко пострадали за православную христианскую веру и кровь свою проливали мученически. И на память нынешним родом вовеки аминь».
Об авторе
Евдокимов Дмитрий Валентинович родился в 1937 году в Магнитогорске. Еще студентом участвовал в археологических экспедициях возле Рязани, позднее сотрудничал в ряде газет и журналов Москвы и Московской области, а также на радио и телевидении. Пятнадцать лет работал в издательстве «Московский рабочий». С 1991 года — на творческой работе. Автор ряда сборников юмористических рассказов и повестей на злободневные темы, но основное внимание в его творчестве уделено историческому прошлому нашего Отечества. Это повести «До рассвета», «За давностью лет», «Шуйский против Шуйского», «Похождения российского Картуша», «Тайны кремлевских сокровищ».
Роман «1612 год» («Воевода») писался более десяти лет, однако сбор материалов, относящихся к Смутному времени, автор начал еще на студенческой скамье, изучая в архивах летописи, разрядные и писцовые книги, написанные скорописью XVII века. При создании книги кроме отечественных первоисточников использованы многочисленные воспоминания иностранцев, побывавших в это время на Руси в поисках легкой наживы. Это делает живописную ткань романа яркой и всеобъемлющей.
Для настоящего издания автор сделал сокращенный вариант романа.
Хронологическая таблица
1578 год
1 ноября — родился Дмитрий Михайлович Пожарский.
1584–1598 годы
Царствование Федора Ивановича.
1591 год
15 мая — смерть царевича Дмитрия в Угличе.
1597 год
Д. М. Пожарский получил звание стряпчего с платьем.
1598–1605 годы
Царствование Бориса Годунова.
1599–1604 годы
Пожарский служил на окраинах Русского государства, охраняя границы.
1603 год
Восстание холопов и крестьян под предводительством Хлопка.
1604 год
Д. М. Пожарский получил звание стольника.
15 августа — начало похода Лжедмитрия I на Москву.
1604–1605 годы
Участие Д. М. Пожарского в борьбе против самозванца.
1605 год
13 апреля — смерть Бориса Годунова.
7 июня — свержение Годуновых.
21 июля — венчание на царство Лжедмитрия I.
1606 год
8 мая — венчание Лжедмитрия I с Мариной Мнишек в Москве.
17 мая — заговор бояр, восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I.
1606–1607 годы
Крестьянское восстание под руководством И. И. Болотникова.
1606–1610 годы
Правление царя Василия Шуйского.
1608–1610 годы
Лжедмитрий II в Тушинском лагере под Москвой.
1608 год
Осень — Д. М. Пожарский сорвал блокаду Москвы, защитив от тушинцев Коломну, разгромив отряд Лисовского в окрестностях села Высоцкого.
1609 год
Февраль — договор Шуйского со Швецией.
Весна — Д. М. Пожарский произвел вылазку из осажденной Москвы и разгромил разбойную шайку атамана Салтыкова.
1610 год
3 февраля — Д. М. Пожарский назначен воеводой Зарайска.
Март — вступление армии Скопина-Шуйского в Москву. Развал Тушинского лагеря.
17 июля — свержение царя Василия Шуйского.
11 декабря — гибель Лжедмитрия II в Калуге.
1611 год
Январь — Д. М. Пожарский примкнул к первому народному ополчению. Успешные действия Пожарского под Пронском и Зарайском.
19–20 марта — восстание в Москве. Д. М. Пожарский участвует в боях, после ранения вывезен в Троице-Сергиев монастырь.
Март — апрель — приход Первого земского ополчения в Москву.
16 июля — взятие Новгорода шведскими войсками.
1 октября — по призыву Кузьмы Минина общегородской сход нижегородцев решил формировать Второе земское ополчение. Пожарский избран воеводой Второго земского ополчения.
Конец октября — Д. М. Пожарский вместе с Кузьмой Мининым приступил в Нижнем Новгороде к организации Второго земского ополчения.
1612 год
Март — апрель — переход Второго земского ополчения из Нижнего Новгорода в Ярославль. Создание «Совета всей земли» — временного правительства во главе с Д. Пожарским и К. Мининым.
Апрель — август — К. Минин и Д. Пожарский занимаются созданием в Ярославле Второго земского ополчения.
20 августа — К. Минин и Д. Пожарский вступили в Москву.
22–24 августа — ополченцы отбросили гетмана Ходкевича от Москвы.
22 октября — Второе земское ополчение под предводительством Д. Пожарского и К. Минина штурмом освободило Китай-город от интервентов.
26 октября — подписание договора о капитуляции.
1613 год
Январь — начало деятельности в Москве Земского собора, принявшего решение избрать на царство Михаила Федоровича Романова.
Июль — Д. Пожарскому пожалован чин думного боярина, К. Минину — чин думного дворянина.
1613–1645 годы
Правление царя Михаила Романова.
1615 год
Июль — сентябрь — действия воеводы Д. М. Пожарского против банд Лисовского под Орлом и Калугой.
1616 год
Казанская служба Минина. Смерть К. Минина по дороге из Казани в Москву.
Д. М. Пожарский руководил сбором «пятой деньги» — средств на государственные нужды.
1617 год
Д. М. Пожарский участвовал в дипломатических переговорах со Швецией. Заключение мира между Россией и Швецией.
18 октября — Д. М. Пожарский выступил во главе войска на защиту Калуги от польских интервентов.
1618 год
Оборона Пожарским Калуги.
Август — Пожарский выступил к Можайску на выручку осажденной русской армии.
Август — ноябрь — Д. М. Пожарский находился в осажденной Москве и сражался против интервентов.
1 декабря — заключение Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.
1619 год
Д. М. Пожарский служил начальником Земского приказа.
1620–1624 годы
Д. М. Пожарский служил воеводой в Новгороде.
1624–1628 годы
Д. М. Пожарский управлял Разбойным приказом.
1628–1630 годы
Д. М. Пожарский служил воеводой в Новгороде.
1630–1632 годы
Д. М. Пожарский служил начальником Поместного приказа.
1632 год
Война России с Речью Посполитой из-за Смоленска.
23 апреля — Д. М. Пожарский назначен вторым воеводой над войском, направленным под Смоленск.
Май — Д. М. Пожарский освобожден от воеводства над войсками по болезни.
18 ноября — Д. М. Пожарский назначен руководителем сбора «пятой деньги» — средств на войну против панской Польши.
1633 год
18 октября — Д. М. Пожарский назначен вторым воеводой над войском, направленным под Смоленск на помощь воеводе М. Б. Шеину.
1634 год
Январь — февраль — выступление отряда Д. М. Пожарского в Можайск. Заключение Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой.
1634–1637 годы
Д. М. Пожарский служил начальником Судного приказа.
1638 год
Апрель — Д. М. Пожарский участвовал в дипломатических переговорах с крымским ханом и Польшей.
1638–1640 годы
Д. М. Пожарский служил начальником Судного приказа.
1642 год
20 апреля — Д. М. Пожарский умер.
1
Сигизмунд III Ваза (1566–1632) — король Речи Посполитой с 1587 г., король Швеции в 1592–1599 гг. Один из организаторов интервенции в Русское государство в начале XVII в.
2
Карл IX (1550–1611) — король Швеции с 1604 г. Стал королем, одержав победу над польским королем Сигизмундом III Вазой. Начал интервенцию против России в начале XVII в.
3
Исаак Масса (1587–1635) — голландский купец. Жил в Московии в начале XVII в., встречался с Борисом Годуновым, Лжедмитрием I. Автор «Краткого известия о Московии в начале XVII в.».
4
Рудольф II (1552–1612) — император Священной Римской империи в 1576–1612 гг., австрийский эрцгерцог.
5
…узурпировал его родной дядя Карл Зюндерманландский… — То есть Карл IX (см. примеч. 2).
6
Маржерет (Маржере) Жак (ок. 1550 или 1560 — после 1618) — французский воин, выполнял деликатные поручения. Служил у Бориса Годунова, Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Автор труда «Состояние Российской державы… с 1590 по сентябрь 1606».
7
Речь идет о Генрихе IV (1553–1610), французском короле с 1589 г. (фактически с 1594-го) из династии Бурбонов. С 1562 г. — король Наварры. Во время религиозных войн глава гугенотов. После его перехода в 1593 г. в католицизм Париж признал его королем. Убит католиком-фанатиком.
8
То есть Федор Иванович (1557–1598), последний русский царь из рода Рюриковичей (с 1583).
9
То есть Всеволода Большое Гнездо (1154–1212), великого князя Киевского (с 1173) и Владимирского (с 1176). Большинство русских князей признало его старшиной Мономашичей.
10
Боярин Федор Никитич Романов (он же Филарет) (ок. 1554/55–1633) — глава боярской оппозиции Борису Годунову. В 1601 г. был насильно пострижен в монахи под именем Филарет. В 1605 г. Лжедмитрий I возвел его в сан митрополита Ростовского. С 1608 г. — в Тушине, у Лжедмитрия II, где был объявлен патриархом. В 1610 г. входил в состав посольства в Польшу для приглашения на русский престол польского королевича Владислава. Был задержан в польском плену до 1619 г. В 1619–1633 гг. — патриарх Московский и всея Руси, фактический глава правительства царя Михаила Федоровича, его сына.
11
Семен Никитич Годунов (? — ум. не ранее мая 1605) — государственный деятель. В царствование Бориса Годунова, возможно, возглавлял политический сыск. Один из руководителей военных действий против Лжедмитрия I. После падения Годуновых заключен в тюрьму, где был убит.
12
Жигимонт — Сигизмунд III Ваза.
13
…Богдашка Бельский. — Речь идет о Богдане Яковлевиче Бельском (?–1611). Приближенный Ивана IV, после его смерти (1584) сослан воеводой в Нижний Новгород. В 1605 г. принимал участие в восстании против Годуновых и активно поддерживал Лжедмитрия I, который пожаловал ему боярство. С 1606 г. — воевода в Казани. Убит казанцами после того, как город присоединился к самозванцу.
14
…Хворостинин Иван Андреевич (1590–1625) — князь, поэт, писатель, мыслитель. Преследовался за инакомыслие, обвинялся в отступлении от православия. Был приближенным Лжедмитрия I. Во время Смуты был соратником Минина и Пожарского, один из первых вошел в освобожденный Кремль в 1612 г. Его труд «Словеса дней, и царей, и святителей» содержит глубокие размышления о событиях и деятелях того времени: Борисе Годунове, Лжедмитрии I, Василии Шуйском, патриархе Гермогене и др. Принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре, где и скончался в 1625 г. Голландский купец Исаак Масса своим замечанием, что Лжедмитрий «растлил 30 девиц и юного князя Хворостинина», дал повод считать, что Хворостинин был «полюбовником» Лжедмитрия I. Этой же версии придерживается и автор книги.
15
Иов (?–1607) — первый русский патриарх с 1589 г., сторонник Бориса Годунова. Оставил послания и сочинения по истории России конца XVI в.
16
Лев Иванович Сапега (1557–1633) — королевский секретарь, литовский канцлер, виленский воевода и великий гетман Литовский.
17
Соломония (Соломонида) Сабурова происходила из старомосковского боярского рода; с 1505 г. — жена Василия III. В 1525 г. была отправлена в монастырь в Суздаль, где, по преданию, у нее родился сын, которого она тщательно скрывала, говоря, что ребенок умер. В 1934 г. при исследовании подклети Покровского собора — нижнего полуподвального этажа — исследователи столкнулись с одной из исторических загадок… Предание гласило, что для спасения сына Соломонии была инсценирована смерть младенца, вместо которого похоронили куклу. И вот погребение с куклой было обнаружено рядом с могилой Соломонии. К сожалению, дальше гипотез и догадок разрешение этой «„тайны московского двора“ не продвинулось» (Лаврентьев А. В. и др. Золотое кольцо России. М., 1984).
18
Герберштейн Зигмунд, барон (1486–1566) — немецкий дипломат. В 1517 и 1526 гг. ездил в качестве посла императора Максимилиана I в Москву с целью склонить великого князя Василия Ивановича к миру с Польшей для совместной борьбы с Турцией. Его миссия не увенчалась успехом. В книге «Записки о московских делах» (изд. 1549) содержатся ценные сведения по истории России. Римский император — Максимилиан I Габсбург (1459–1519), австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи с 1493 г. Обеспечил своим наследникам испанский, чешский и венгерский престолы.
19
Василий III (1479–1533), великий князь Владимирский и Московский, государь всея Руси (с 1505), уморил в тюрьме племянника — Дмитрия Ивановича (ум. в 1509), внука Ивана III, венчанного отцом на великое княжение (1498).
20
По версии автора, речь идет о сыне Соломонии Сабуровой, сводном брате Ивана IV, Георгии, рожденном после заточения ее в монастырь.
21
Ляпуновы — рязанские дворяне. Ляпунов Прокопий Петрович (?–1611) возглавлял отряд рязанских дворян в восстании Болотникова. В ноябре 1606 г. перешел к Василию Шуйскому. В 1610 г. — участник свержения Шуйского и организатор первого земского ополчения 1611 г., глава земского правительства, убит казаками. Ляпунов Захарий Петрович (? — после 1612) — организатор свержения Василия Шуйского в 1610 г., брат П. Ляпунова. Член посольства к Сигизмунду III.
22
Шеин Михаил Борисович (?–1634), боярин, воевода. Возглавлял оборону Смоленска 1609–1611 гг., до 1619 г. — в польском плену. С 1619 г. — доверенное лицо Филарета и глава ряда приказов, участник дипломатических переговоров. Командовал армией, осаждавшей Смоленск в Русско-польской войне 1632–1634 гг. После капитуляции русской армии казнен.
23
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610) — князь, боярин, русский полководец. Участник подавления восстания И. И. Болотникова. В 1610 г. во главе русско-шведской армии освободил Москву от осады тушинцев. В дальнейшем должен был во главе армии следовать к осажденному Смоленску, но летом 1610 г. внезапно умер.
24
Разрядные книги — то есть архивы разрядов, приказов.
25
Голицын Василий Васильевич (?–1619) — князь, государственный деятель. В мае 1605 г. перешел под Кромами на сторону Лжедмитрия I. Участвовал в заговоре В. И. Шуйского и в свержении Лжедмитрия I в мае 1606 г. В 1610 г. готовил заговор против царя Василия Шуйского. После его пострижения в монахи выступал претендентом на русский престол. В 1610 г. выехал в составе посольства к Сигизмунду III. Находился в плену до 1619 г. Умер по дороге в Россию.
26
Конь Федор Савельевич — русский зодчий второй половины XVI в. Строитель стен и башен Белого города в Москве (1585–1593) и мощных крепостных стен Смоленска (1595–1602).