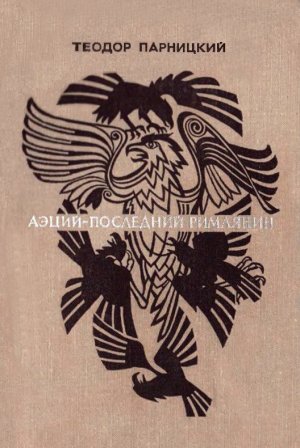
Человек трех миров
Старый диакон уже не сомневался: да, сам лукавый ополчился против него в союзе с солнцем, водом и песком! Святотатственный, стократ анафемский ум его уже учуял, что у изнуренного всенощной молитвой слуги божия невыносимо тяжелеет голова и немилосердно слипаются покрасневшие веки, — вот он уже и орудует! Пусть, пусть через все поры проникает в тело вместе с теплым и солнечным спетом неодолимая слабость… Пусть мягкий, сыпучий, теплый, а кое-где еще приятно влажный прибрежный песок, пусть он плотно облепит истомленные члены ленивой негой… пусть упоительной колыбельной зазвучит мерный, напевный шум реки…
Одолел лукавый — диакон заснул, так и не докончив притчи о заблудшей овце и добром пастыре. И Аэций не узнает, почему нельзя бросать из пращи камнями в птиц и зверушек, как это делает бельмастый племянник старшего декуриона.
Но Аэций отнюдь не выглядит огорченным: не успел наставник уснуть, а голый малыш уже возится в нагретом песке с двумя черными котятами, радостным звонким смехом вторя их радостному мурлыканью. И уже не различишь, где мальчик, где котята: мяуканье и смех сливаются в один мощный, стихийный клич счастья, летящий в небо над крепко спящим, сухим, как мумия, диаконом и живым клубком на песке.
Но песок и котята недолго занимают Аэция: вертикальная морщина вдруг резко прорезает мальчишеский лоб. Он что-то вспомнил и вот, полный решимости, сосредоточенный, весь во власти самого сильного из всех чувств — любопытства, уже взбирается смело и упрямо на белую спину каменного льва, откуда, если приложишь ладонь ко лбу, можно увидеть северный берег Дануба[1] где, говорят, живут огненноволосые великаны, питающиеся красной кровью и белым мозгом таких вот, как он, пятилетков… Бельмастый племянник декуриона клялся решеткой святого Лаврентия, что именно оттуда, с высоты львиной спины, он видел, и не раз, великанов и их костры. Значит, и Аэций сможет их увидеть!
Трижды он уже падал, не найдя точки опоры на гладкой, скользкой шарообразной поверхности львиного зада. И вновь карабкается: нагое маленькое тело, такое не по годам пружинистое и сильное, а еще сильнее — упрямство.
И вот он уже сидит, гордо свесив голые окровавленные ноги с каменных боков, судорожно впиваясь в изломы каменной гривы маленькими, в синяках, ручонками.
Сердце под выступающими ребрами колотится резко и громко. Высота, на которой он очутился, кажется такой головокружительной, что глаз не решается глянуть вниз. Он смотрит перед собой. Смотрит пристально, жадно… Но за беспредельностью вод виден только туман… ничего, кроме тумана, белого, плотного, непроницаемого, как стена. Миг горького разочарования, но тут же неожиданно, радостно, упоительно сжимается сердце: огненноволосые гиганты догадались, что вот-вот — и каменный лев оживет, дружелюбно рыкнет отважному юному всаднику и одним прыжком одолеет Дануб, неся на своей спине нового Героса — укротителя великанов… мстителя за пожранные мозги и выпитую кровь его однолетков!
Догадались и, дрожа от страха перед Аэцием и львом, попрятались за стеной из тумана.
Но если они так трусливы, несмотря на свой рост и огненные волосы, как же получилось, что один из них переплыл широкий Дануб, незамеченным выбрался на берег и неожиданно напал на врага сзади, подло, трусливо… Длинные, темные, костлявые руки его уже обхватили ребячье тело, стиснули и стаскивают с высоты… отрывают от спины верного друга, боевого соратника — льва… Аэций отбивается, колотит наугад пятками, кусает сухие, коричневые, как пергамент, удивительно знакомые руки и не хочет верить, что это наставник-диакон, разбуженный громким зовом Аэциевой матери, пытается снять его с каменной спины.
А мать действительно зовет, и в голосе ее, так хорошо знакомом, слышатся какие-то странные тона, какие-то новые, незнакомые и никогда не замечаемые раньше, и Аэций в мгновение ока забывает про великанов: резвые ноги с невероятной быстротой несут его через большой сад, кровавым следом отмечая дорожки, грядки и траву, через минуту они уже топают по мраморным ступеням перистиля и вдруг взлетают в воздух: красивая молодая женщина прижимает маленькое, совершенно голое тельце к полной, теплой материнской груди.
Прежде чем глаза его спрячутся в складках приятно шуршащего сребротканого одеяния, он с удивлением заметит, что перистиль забит чужими людьми, как никогда еще не бывало.
— Радуйся, солнышко мое… вести от отца… радостные вести… Наш император Феодосий Август, и славный Стилихон, и твой отец разбили язычников… наголову!.. Как раз за восемь дней перед идами[2] помнишь? — в тот день, когда ты подбил себе глаз!.. Сначала побеждали идолопоклонники и нашим было тяжело, но ночью император молился, беседовал с Христом и спросил: «Как же это, господи? Ведь ты же всемогущий… всемогущий ты… мы за тебя бьемся, а ты вместо того, чтобы нам — врагам нашим и споим врагам победу даруешь?!» И внял Христос и наслал на язычников вихри, леса и горы… Разбил их нещадно… Евгений убит… Арбогаст погиб… Слышишь, сынок?.. Двадцать тысяч язычников полегли там и уже не встанут!..
И, то покачивая сына в крепких объятиях, то снова прижимая его к груди, в десятый раз принималась рассказывать взволнованным голосом о победе христиан под Аквилеей. Собравшиеся жители Дуросторума в десятый раз вынуждены были, кроме вестей с поля сражения, выслушивать, как после битвы Стилихон подвел пред лик Феодосия Августа скромного центуриона, всего перемазанного кровью, и, упав вместе с ним ниц пред императором, воскликнул: «Вот отважнейший из отважных, господин наш… Вот тот, кто больше всех отличился сегодня…» И священная рука Феодосия Августа милостиво возлегла на плечо скромного центуриона Гауденция.
— Твоего отца, солнышко мое… твоего отца…
Гордость распирала ее сердце: она знала, что весь Дуросторум завидует ей сейчас… да что там, вся Мёзия… весь Восток! Красивое лицо ее сияло счастьем и торжеством при одной мысли, что скажет сейчас ее гордая семья, которая позором для рода считала брак знатной италийки с простым воякой из Мёзии. «Теперь по-другому заговорите об этом «вояке», — шептала она про себя, еще больше упиваясь счастьем и гордостью, вспоминая мрачные предсказания ее родных об исходе этой безрассудной любви и этого оскорбительного для них брака. «Теперь для вас честью будет, что одна из вашего рода вышла за Гауденция, героя Аквилеи», — думала она.
— Мама, а сколько это двадцать тысяч?
Она задумалась на мгновение.
— Столько, сколько ты в день господен видишь перед базиликой, и еще раз столько же, и еще, и еще…
Аэций снова утыкается лицом в сребротканые складки.
Насколько же Христос сильнее его, Аэция!
Он вспомнил вдруг: бельмастый племянник декуриона весь день охотился с пращой на ловкого зверька с большим пушистым хвостом, бегающего по деревьям с невероятной быстротой. С заходом солнца он сердито отшвырнул пращу. Аэций подобрал ее, спрятал на груди, не расставался с нею всю ночь, до рассвета не сомкнул глаз, а когда в кубикул пробился первый проблеск дня, убежал в сад. Весь день не ел, не пил, не позволил умыть себя, не слушал диакона с его божьим словом — все выслеживал шустрого зверька. Восемнадцать раз целил в него и попал… наконец. После девятнадцатого броска увидал он у своих ног окровавленное, неподвижное тельце: зверек лежал навзничь, скрючив лапки, с подвернутым пушистым хвостом, вздутым брюшком и остекленелыми глазами. Аэций чувствовал себя триумфатором… Чем же был в сравнении с ним девятилетии», большой, вызывавший всегда восхищение бельмастый племянник декуриона?!
Но что он сам по сравнению с Христом, который лесами, горами и вихрями поразил двадцать тысяч?! Аэций представил себе большое поле и множество лежащих воинов: все навзничь, со скрюченными ногами, вздутыми животами и остекленелыми глазами…
— Да, да, высоко теперь пойдет центурион Гауденций, — говорил старший декурион города Дуросторум, покидая забитый перистиль в сопровождении начальника городской стражи и старого диакона.
«Видимо, шум, доносящийся из перистиля, заглушил ответ… ведь слух у меня неплохой», — подумал он немного погодя, не допуская мысли, чтобы то, что он, старший декурион, сказал, могло остаться без ответа.
Но спутники его действительно ничего не ответили: начальнику стражи не было дела до центуриона Гауденция, а кроме того, хотя он уже шесть лет как сбросил с себя одеяние катехумена, в глубине души по-прежнему оставался приверженцем старых богов. Так что, когда желающий поболтать декурион, не смущаясь отсутствием ответа, продолжал: «Да, должны мы Христу воздать постами и благодарениями и новую базилику на форуме воздвигнуть… базилику Победы… ведь побили мы наконец язычников, как говорится», — начальник стражи только выдавил кривую улыбку и довольно невразумительно поддакнул. Но что, однако, страшно удивило почтенного отца города Дуросторума, так это молчание божьего слуги, который должен был бы оглашать улицы и форум громкими «Осанна!» и «Аллилуйя!» Но старый диакон, хотя действительно искренне и горячо радовался победе, поскольку несокрушимо верил в триумф креста над язычеством, шел молча, опустив голову на грудь: сердце его горестно сжималось при воспоминании о том, каким радостным, диким огнем горели глаза его любимца Аэция, когда мать рассказывала ему, что целых двадцать тысяч безжалостно предал смерти Христос… Тот самый Христос, о котором диакон говорил мальчику, что его божественное сердце доброго пастыря кровоточит не только от смерти, но и от малейшего страдания, причиняемого даже самым ничтожным творениям…
Жадным, ненасытным взглядом пожирал он людей, дома, дороги, реку. Он в Риме… в настоящем Риме… в древнем Риме! Сердце под голубой туникой громко и почти до боли выбивало ритм любимых стихов:
Издали уже виден Капитолий. Белый мрамор — это, наверное, храм Юпитера Капитолийского, или дворец, или храм Юноны Монеты… Разгоряченная мысль опережала взгляд: Аэцию кажется, что он видит Тарпейскую скалу… То и дело он натягивает вожжи, придерживает коней и обращается к следующему в другой колеснице любимому учителю-грамматику:
— А это что? А это? А это случайно не театр Марцелла? А скоро мы въедем на форум Траяна?
Грамматик улыбается: он доволен и горд своим учеником. Он научил его скандировать гекзаметры и модулировать все оттенки богатейшего по диапазону Горациева стиха. Он приобщил его, не прибегая к ненавистному учебнику Доната, ко всем сокровищам самого благородного из семи свободных искусств и не сомневается, что Аэций, даже если его разбудить, без запинки прочитает любой заданный ему кусок из «Энеиды» или «Метаморфоз». Потому что таково было желание его отца, комеса Гауденция, воина, еле умеющего отличать поэзию от прозы.
Но вряд ли комес Гауденций, отличившийся в разгроме язычников, врагов креста, под Аквилеей, желал, чтобы первородный сын его вместе со всеми секретами грамматики и философии перенял от своего учителя тягу к тому давнему, проклинаемому христианами древнему миру, который создал все эти чудесные стихи и полные мудрости творения прозаиков, который породил могущество Рима и владычество волчьего племени квиритов над всем orbis terrarum[4]. Тринадцатилетний сын ревностного воина христова и искренне набожной матери благодаря своему учителю не считал богов Олимпа и мифических геросов мерзостными демонами, наоборот, покидая два месяца назад пирейский порт, он долго не оставлял палубу, несмотря на холодную и ветреную погоду, словно зачарованный неземным, как ему казалось, сиянием, исходящим от видимого издали копья героической Паллады Промахос[5]. Грамматик помнил, что в черных глазах мальчика было такое же волнение, как теперь, когда он спрашивает, близко ли уже форум Траяна…
— Еще не скоро… Ведь мы даже еще не в городе… Только проехали Навмахию[6] Августа, — улыбается он.
Аэций захлебывается от лихорадочного восторга: если такой красоты окраины, то как же должен выглядеть город?!
Едущая вместе с ним мать пожимает плечами: по ней в тысячу раз лучше Константинополь — Новый Рим. Как там хорош Августеум с видом на дворец!.. А украшенное, словно драгоценными камнями, виллами сенаторов взгорье над пристанью Гормисдаса?.. А церковь пророка Самуила?.. Да, там, в Новом Риме, над Босфором, действительно чувствуешь себя в столице христианской империи. А тут на каждом шагу следы языческого разврата. Вот хоть бы здесь. Иисусе, смилуйся… прости мои грешные глаза…
Она быстро, с отвращением отворачивается, осенив себя крестом. Колесница как раз въезжала на мост Грациана. Глубоко внизу, под их ногами, лениво катились мутные, желтые воды Тибра, омывающие островок с красивым храмом Эскулапа. Вокруг храма было людно и шумно, как будто не ушли в бытность времена Диоклетиана и Юлиана.
— Я тут не поеду.
— Но, мама…
— Нет, не поеду… Поворачивай, Аэций. Я еще не забыла, что невестка моей тетки погибла на арене за Христа…
Пришлось снова повернуть на Портуенскую дорогу и только через Сублицийский мост попасть в город. Аэций передал вожжи старому слуге-фракийцу, а сам перебрался в колесницу грамматика.
— Ты должен мне все-все объяснять… все показать… ничего не пропуская!.. — воскликнул он, и глаза у него горели, как в лихорадке.
Теперь уже каждый поворот, каждый дом, почти каждый камень отзывается в мыслях и сердце бронзовым эхом Вергилиева гекзаметра, Овидиевой элегии, Ливиевой прозы.
Форум Боариум… Велабрум… Юлийская базилика… Храм Кастора… а вон тот маленький, круглый, с колоннами — это храм Весты… Там, направо, темные стены храма Великой Матери и Муганийские ворота… А там, напротив, Золотой дом Нерона!.. Рим… настоящий Рим… древний Рим!..
Крепкие руки высоко поднимают мальчика над землей, прижимают его лицо к широкой груди, охлаждают разгоряченную голову холодной сталью панциря…
— Наконец-то… наконец…
Аэций испытующе, чуть исподлобья оглядывает всю фигуру вот уже долгие годы не виденного им отца. Красная короткая туника, голые колени, панцирь весь в золотых кружках, с изображением Гонория Августа, чудесно украшенный шлем с высоким красным султаном… Все так, как должно быть… Только вот лицо, совсем непохожее ни на одно из этих прославленных, древних, увековеченных в бронзе или гипсе… бородатое лицо мёзийского мужика.
— Идем, Аэций, — торжественностью и почтением наполняется столь давно не слышанный голос, — сиятельный Флавий Стилихон желает тебя видеть.
Он берет мальчика за руку. Взглядом испытующим, сосредоточенным, хотя и бессильным изобразить строгость, оглядывает он его от темных волос до голубых башмаков. И расплывается в широкой улыбке бородатое мужицкое лицо: комес Гауденций доволен видом своего сына.
Что прежде всего приковывает взгляд, так это меняющийся, многоцветный мозаичный пол, в каждой комнате на нем другая картина: вот поэтическое состязание Марсия и Феба… вот собаки Дианы, преследующие Актеона… вот Октавиан Август, закрывающий двустворчатые врата храма Януса… Идти надо осторожно… чтобы не наступить вдруг на изображение императора… А вот битва Горациев с Курациями, дочери Даная, Дедал и Икар, собирающиеся взлететь… На левом крыле Икара покоится большая, обутая в красный, зашнурованный золотом башмак нога. Над стопой возвышается толстая, но высокая и стройная голень, до половины голая, обросшая густым рыжим волосом, коротким, видимо, недавно бритым.
— Приветствую тебя, Аэций, — раздается голос, приятный, почти любезный и дружелюбный, но какой-то необычно протяжный.
Мальчик переводит взгляд с тонкого профиля Икара на широкое (шире, чем у отца!), красное, грубо вытесанное лицо огромного, коренастого человека, одетого в тунику шафранового цвета и скрепленный золотой пряжкой темно-зеленый плащ, доходящий до колен. Нижнюю часть лица покрывает густая светло-рыжая борода, короткие светло-рыжие волосы над выпуклым, но высоким лбом, опирающимся, как на архивольте, на остро выгнутые своды кустистых бровей, из-под которых смотрят на Аэция дружелюбные, улыбающиеся голубые глаза. Унизанная кольцами рука осторожно берет маленькую ладонь подростка в светло-голубой одежде.
— Смотри, Аэций, — раздается голос отца, еще более серьезный, еще более торжественный, — смотри, вглядись и никогда не забывай. Ты стоишь перед сиятельным Флавием Стилихоном, величайшим полководцем, мудрейшим человеком, моим и твоим благодетелем…
Улыбаясь еще дружелюбнее, Стилихон выпускает руку щуплого подростка.
— Подойди к Аэцию, сын мой, — говорит он, еще необычнее растягивая звуки, — подойди и пожми ему руку. Ты мне кажешься славным мальчиком, Аэций… я хотел бы, чтобы ты был верным и преданным товарищем Эвхерию, как твой отец — мне…
Аэцию доставляет настоящее удовольствие крепко (наверняка до боли!) пожать руку плюгавому мальцу. Снова исподлобья смотрит он в улыбающееся бородатое лицо и, припомнив вдруг уроки грамматики, с неприязнью думает: «Варвар».
В атриуме монотонно журчит фонтан. Аэций, закинув руки на плечи, большими шагами взрослого мужчины уже в сотый раз меряет пространство между бюстом Гонория Августа и высокой черной урной с красными фигурками остробородых состязающихся бегунов. Из-за красной завесы доносится приглушенный голос отца и еще чей-то незнакомый.
— … и до захода солнца все будет кончено…
— Безумец… безумец…
— Вот так, как я стою тут перед тобою, Гауденций, я стоял в шесть часов перед Саром… Гот рвал на себе волосы, раздирал одежды… «Две тысячи человек, — твердил он, — стоят наготове… только ждут знака… Я ходил, упрашивал, умолял… Напрасно…» Понимаешь, Гауденций, это ли не чудо из чудес?.. Варвар, которого через три-четыре часа ждет меч, не хочет спасать свою жизнь… не хочет помощи от своих соплеменников и соратников, ибо считает, что для блага империи… для блага Рима нельзя идти на междоусобицу… Непонятно…
— Действительно непонятно…
Молчание.
Большие ступни семнадцатилетнего Аэция все быстрее перебирают белые, черные и красные плиты пола.
— А ты что предпримешь, Гауденций?..
Голос отца, то тихий, низкий, то снова высокий, даже до смешного тонкий, то и дело сбивается и срывается.
— Я проклинаю этот день… лучше бы мне пасть со славой под Аквилеей… я не спал всю ночь… Все это так непонятно… так тяжело… слишком тяжело для моих солдатских мозгов… Но уж если такова воля нашего императора…
В атриуме Аэций почти до крови кусает свои толстые, мясистые губы. Широкая ладонь отодвигает пурпурную завесу.
— Отец…
Медленные, неуверенные шаги. Большое, бесформенное мужицкое ухо подвигается к самым губам юнца.
— Отец… что будет со Стилихоном?
Пожатие плеч, беспомощное и такое горестное.
Быстро-быстро катится ручеек шепота:
— Почти до полудня он скрывался в храме… думал, что его спасет священное это место. Приходили к нему друзья, товарищи, подчиненные… Говорили, что не выдадут его… что приговор императора для них ничего не значит, говорили, что если он захочет…
— Дальше я знаю… Ну и что будет?..
Уклончивый взгляд в сторону красной завесы, растянутой сверху над атриумом.
— Понимаю… Стилихон предпочитает лишиться головы, только бы не поднимать междоусобицы… Не хочет такой ценой спасти свою жизнь… Ты бы так же поступил, отец?
Гауденций молчит. Его широкое бородатое лицо расплывается в усмешке.
— Так ведь?.. Я бы тоже так не поступил, отец…
И неожиданный взрыв:
— Но почему же ты, дорогой отец, комес Гауденций, не спасаешь своего друга и покровителя?.. Почему сидишь сложа руки, ожидая рокового мига?.. Прости, отец, можешь меня наказать, но ты должен выслушать, что я тебе скажу… должен: Флавий Стилихон — это последний щит римлян… это единственный наш защитник от готов… и, когда скатится его голова, что будет с нами? С Римом?.. Неужели ты этого не понимаешь, отец?.. И разве ты не обещал под Полленцией умереть вместе с ним?..
Гауденций слушает спокойно. У него нет желания наказывать сына. Наоборот, он треплет его широкой ладонью по плечу. И усмехается этак понимающе.
— Да, да, Аэций… ты говоришь справедливо… Стилихон — мой покровитель, друг… это последний щит Рима… Вот ты говоришь, чтобы я спасал его… А разве его не спасают?.. Спасают, только он сам не хочет… Послушай, сын: кто же те, кто хочет его спасти?.. Соплеменники-варвары, которые хотели бы видеть его сына-варвара на троне римских императоров… А кто мы?.. Римляне, которые не хотят видеть пурпур на плечах варвара… И еще кто?.. Христиане, правоверные, которые не хотят, чтобы возле трона и в армии заправляли язычники и еретики… И поэтому… только поэтому я говорю, да будет священна воля нашего императора… Разве я плачу черной неблагодарностью?.. Нет, я хотел бы, чтобы Стилихон был спасен — не для того, чтобы спасти Рим, — мы сами его отстоим! — но так… из благодарности и дружбы… Но он же не хочет…
Монотонно журчит фонтан.
Аэций с трудом удерживается, чтобы не разразиться плачем. Он до боли стискивает зубы, сжимает кулаки и глубоко вонзает ногти в нежную кожу ладоней. Нет, он не смеет плакать — ведь он уже мужчина, а не дитя… Другое дело этот, рядом… сенаторский сынок, у которого слезы так и текут по щекам. Мальчишка еще — шестнадцать лет. Или вон его ровесник справа, весь кулак всадил себе в глаз… Да ведь и есть от чего заплакать, чего бояться, перед чем дрожать… Что с ними будет?.. Что с ними будет?..
И Аэций вот-вот готов поддаться волне рыданий, сдавливающих горло, но неожиданно трезвеет. Ведь он же римлянин, сын прославленного военачальника и находится здесь потому, что род его признан достойным, чтобы таким вот образом послужить Риму. Нет, не увидит король варваров слез сына Гауденция.
А король варваров как будто нарочно старается выжать слезы из глаз широкоплечего юнца с низким лбом и мрачным взглядом исподлобья. Он оглядывает его с головы до ног, как коня, которого собирается купить… сверлит холодным, проницательным, слегка издевательским взглядом удивительно светлых голубых глаз. И ближайший королевский наперсник, муж его сестры, красавец Атаульф, проницательно и с нескрываемым любопытством — любопытством дикаря! — разглядывает молодых римских юнцов, отпрысков лучших родов столицы. Впрочем, и остальное тоже — вожди и воины, все голубоглазые, одетые в шкуры, ужасно пахнущие, усатые, белесые или рыжие…
Рыжие — огненноволосые! Назойливо подкатывает под череп, под пересохший язык, под горло и без того уже перехваченное рыданием, неожиданно воскресшее воспоминание детства: северный берег Дануба… на севере огненноволосые великаны, питающиеся мозгом и красной кровью римских детей!..
Но сам король варваров скорее белесый, чем огненноволосый, а по стоящим на деревянном столе блюдам и кувшинам можно понять, что красное вино и жирную свинину он предпочитает детским мозгам и крови.
Слава Христу! Леденящий взгляд голубых глаз соскальзывает с лица Аэция и обращается, уже стократ холоднее, стократ язвительнее и безжалостнее, на белые, как их тоги, лица сиятельных сановников и сенаторов.
— Я пришел, чтобы отомстить за подлое и коварное убийство Стилихона, единственного, кто был достоин быть моим врагом… — говорит король, уже не смешно, пожалуй, даже необычно, безжалостно коверкая язык римлян. — Пока что я отсылаю вас, просто из расположения к вашему племени… Заложники, — тут он опять метнул взгляд на Аэция и других юнцов, — этих мне достаточно. Но дайте мне еще…
Он задумывается на минуту, подняв к небу холодный взгляд светлых глаз. Аэций слышит, как под белыми тогами колотятся тревожно сердца сенаторов.
— Дайте мне… немного… золота — пятьдесят сотен фунтов…
Он загибает мизинец.
— Серебра — триста сотен фунтов… Одежд, вот таких, — он кладет палец на грудь префекта Иоанна, друга Гауденция, — сорок сотен… и красного сукна, такого, что сам император носит, — тридцать сотен…
Он смотрит на свои пальцы: четыре загнуты, только толстый, короткий большой палец еще покачивается возле груди Иоанна.
— И дайте еще перцу тридцать сотен фунтов, и тогда будет довольно, — заключает он, взмахнув уже стиснутым кулаком.
Молодой Геркулан Басс, у которого не только щеки, но и губы побелели, как тога, умоляюще смотрит на Иоанна. Префект трясущейся ладонью осеняет себя крестом и сдавленным, чуть слышным голосом произносит:
— А нам? Что ты нам оставляешь, благородный король?..
Над холодными светлыми глазами высоко поднимаются мохнатые брови. Мощные руки застыли, скрестившись на груди. Толстая нижняя губа презрительно оттопырилась, выражая удивление.
— Вам?.. — цедит сквозь ослепительно-белые зубы король вестготов Аларих. — Вам остается ваша жизнь… Мне она ни к чему…
Приятная тень, которую отбрасывают массивные колонны храма Венеры Эринийской, угрожающе с каждым мигом сокращается, жадно высасываемая безжалостным зноем италийского полудня. Аэций снимает с головы полотняный пилеол и великодушно отдает его златоволосому стражнику, для которого южное солнце — невыносимая мука. Уже четвертый день пошел с той минуты, как под напором мускулистых варварских плеч с грохотом рухнули Саларийские ворота, а прямая, как стрела, Саларийская дорога скорбно застонала, вторя гулу тысяч мускулистых варварских ног… Уже четвертый день мощный огненный столб, знак разрушений, вздымается над великолепными садами Салюстия, гоня клубы дыма далеко за Альта Семита; а теперь вот пламя вдруг взвилось над садами Валериев, из-под фронтона Венеры Эринийской его отлично видно.
Четвертый день царят вестготы в Вечном городе — и ничего не произошло. Ни один гений — покровитель Рима не сошел с небес с огненным мечом отмщения, ни одна молния божия не поразила дерзкой головы Алариха Балта. Море не захлестнуло в ярости тинистой гавани Рима Остии, не обрушилось потопом на оскверненный город, даже Тибр не потек вспять и не вышел из берегов, чтобы в чудотворно разлившихся вспененных водах своих утопить пришельцев-святотатцев. Так же, как прежде, беззаботно качались на ветру устремленные в небо вершины стройных кипарисов, так же весело журчала вода в фонтанах — одни только люди четвертый день смотрели на все это полными ужаса и страха, безумными глазами, не в силах уверовать, что все это творится на самом деле, а не в кошмарном сне.
Да и может ли такое статься?.. Можно ли в такое поверить?.. Рим… непобедимый, несокрушимый, бессмертный Рим — urbs aeterna[7] гнездо волчьего племени, столица и владычица orbis terrarum — стал беззащитной добычей варваров?!. Верно, и впрямь близится час страшного суда… остается ждать последнего знамения… ждать призыва! Слышите?.. Уж не глас ли это архангельских труб?.. Замирают сердца, холодный пот струится по лбу, и не в одну душу вливается покой и облегчение: воистину лучше уж свету вовсе перестать существовать после позора Рима…
Аэций, однако, знает, что трубы, голос которых доносится от Милиарийских ворот, — это королевские вестготские трубы, а не архангельские. Двухлетнее пребывание в лагере Алариха раскрыло ему все особенности жизни варваров, тайники их души и нравов, способы правления и борьбы, но прежде всего заставило его так выучить готский язык, что златоволосый стражник, которому молодой заложник отдал свой пилеол, не может поверить, что это настоящий римлянин, а не гот на имперской службе. И его одного из всех вверенных его попечению заложников и пленников он дарит почти дружеским доверием, делясь с ним своими тревогами. Ведь это же счастливейшие дни его жизни, а радость и гордость просто распирают его сердце при мысли, что это его народ… его король первым вошел в стены столицы мира. Ну, а вдруг это все-таки святотатство?.. А вдруг разгневанный бог, владыка мира, отвратит свой лик от набожного племени готов и нашлет на них беды и мор?.. Ведь каждый самый ничтожный прислужник в войске короля Алариха знает, что Рим — это город, особенно угодный небу… Это правда, хоть и странным кажется, но сущая правда: ведь никогда, никогда нога завоевателя не переступала границ города, никогда ни один неприятель не дерзнул вторгнуться в Рим — разве это не явное, хотя и странное и непонятное покровительство божие?.. Пожалуй, наоборот, даже не бог, а злые духи опекают этот город, — а ведь это еще хуже!.. Златоволосый воин бледнеет и дрожащей ладонью крестится — и как он раньше об этом не подумал?.. Ведь теперь все разъяренные демоны, или, как их там называют, эоны, будут нещадно мстить всему готскому народу за то, что тот первым осмелился вторгнуться в охраняемый ими город?..
Аэций не отвечает. Он думает о том, чего никогда в голову не придет готскому воину… чему он никогда не поверит, если даже ему и скажут. О том, что не в первый раз нога завоевателя переступает границы города… не первый это неприятель, что дерзко и безнаказанно осмелился вторгнуться в Рим. Ровно восемьсот лет назад другой варвар, также с севера, столь же победно вошел в волчье логово. Глубокая, почти трагическая складка прорезает вдруг лоб юноши: да, все вроде бы так же, а на самом деле совсем иначе. Аэций знает об этом. Он знает, что на Римском форуме не уселись спокойно в курульных креслах седобородые сенаторы, кутаясь в белоснежные тоги, с белыми тростями в руках. Он знает, что ни один Манлий не бдит на Капитолии и ни один Камилл не подоспеет в последний момент отрезать врага, не перетянет чашу весов и не противопоставит бессмертному возгласу Бренна[8]: «Vae victis!»[9], столь же бессмертное: «Золото у нас для друзей, для врагов — железо!» Ничего, ничего из всего этого не повторится чудесным образом сегодня, спустя восемь веков… ничего, кроме: «Vae victis!»
Два года назад лишил король готов Рим золота, серебра, пурпура и сынов лучших родов. Год назад пурпурной мантией и диадемой украсил первого с краю сенатора, на котором остановился его взгляд, и сказал: «Римляне, вот ваш император! Я так хочу!» А сегодня лишает остатков того, что осталось от имущества, чести и величия, и, кроме того, лишает жизни… той самой жизни, о которой сказал некогда, что она ему ни к чему…
Правда, лишает не всех. Аэций слышит, как один из его товарищей по неволе и долгим скитаниям с готами, заложник, старый священник в опрятной коричневой пенуле, устремив к небу влажные, как на египетских изображениях, глубоко разрезанные глаза, громко призывает благословение господне на главу набожного и человеколюбивого короля Алариха. Хоть и еретик, но разве не истинно набожен и человеколюбив?.. Разве не даровал жизнь и здоровье всем, кто укрылся в христианских храмах?.. Осанна!
Тихим шепотом вторят громким молениям священника другие заложники, у каждого в городе есть кто-то близкий, дорогой. И вот, подняв к небу глаза — черные, карие, зеленые, серые, — все молятся Христу: пусть сделает так, чтобы эти их близкие и дорогие сумели, успели, сообразили укрыться в церкви…
С позавчерашнего дня со взгорья за Саларийскими воротами виднеется черный людской муравейник, роем облепивший белизну базилик… О святой Юстин! Какой ужас там творится!.. Сколько разорвано, задушено, затоптано, раздавлено! Сотвори же, милосердый господи Христе, пусть моя жена, моя мать, мой ребенок, старый отец мой, верный друг, брат, брат отца протиснется через обезумевшие от тревоги толпы, не даст себя растоптать, задушить, раздавить… пусть проникнет в церковь… дальше… дальше… как можно ближе к алтарю… ближе к священнику!.. Сотвори это, боже!
Вдруг громкий смех заглушает шепот молитвы. Молодой ритор в грязном, порванном сагуме, с растрепанными волосами и всклокоченной бородой вскидывает стиснутые кулаки высоко над головами молящихся и, время от времени прерывая свою речь резким взрывом смеха, кричит высоким, тонким голосом:
— Осанна! Осанна! Слава Христу! Пусть благословение божие почиет на главе набожного и человеколюбивого короля Алариха! И разве воистину не набожный?.. Не человеколюбивый?.. Посчитайте только, дорогие друзья, сколько жителей в Риме и сколько в городе христианских храмов? Посчитать не трудно. Скольким же квиритам — римским гражданам даровал набожный и человеколюбивый король жизнь и здоровье?.. Скольким? Скольким? Скольким? Я тебя спрашиваю, служитель Христа!
Молитвенный шепот замер на побледневших вдруг губах. Взгляды всех обратились к старому священнику. А он простер десницу и, грозно потрясая ею в сторону города, воскликнул будто в приступе вдохновения:
— Скольким?.. А хотя бы и ни одному!.. Давно уже пришла пора… Пробил наконец твой час, проклятый город, капище греха, разврата и гордыни… Горе тебе, Вавилон!.. Горе тебе, Содом! Слава господу! Праведен гнев господен!.. Мало еще вестготов… мало меча и огня!.. Молний… серы с небес… огненного дождя молим у тебя, господи!..
Тяжело дыша, он умолк. Громче, тревожнее ударили сердца всех. Даже ритор перестал смеяться. Голос его из тоненького, высокого, почти безумного, стал спокойным, низким, напевным, когда он заговорил медленно, мелодично и скорбно, как будто скандировал Овидиевы «Скорби».
— Пока наши прекрасные белые боги правили миром и городом с вершин Олимпа, с высоты алтарей, по рукописям поэтов, ни один недруг не осмеливался переступить священных границ Рима, ни один наглец не дерзал посягать на величие головы и сердца мира. Но вот отвергли наших богов, воздвигли на алтарь крест и назаретянина — и что творится?.. Вы говорите, что Христос — это наивысшая доброта… что он всеведущий и всемогущий… Пусть же он спасет Рим! Изгонит варваров! Пусть избавит своих приверженцев от позора, страдания и смерти… Пусть…
Его заглушил крик священника, резкий, пронзительный:
— Пусть уничтожает… пусть сжигает… пусть губит… Горе тебе, сердце и голова идолопоклонства! Горе тебе, логово волчицы, как она, свирепое, похотливое и распутное!..
И вновь отозвались трубы. Все громче, все ближе… Все пространство от древней стены Сервия и Коллинских ворот покрыло вдруг бесчисленное количество тяжело нагруженных повозок. Повозки, полные золота, серебра, красивых сосудов, искусной утвари забили выезд на Саларийскую и Номентанскую дороги.
Радостью и скорбью одновременно наполнились сердца заложников. Вестготы покидали ограбленный, обесчещенный Рим, безнаказанно унося на подошвах священный прах улиц и площадей Вечного города. А вместе с ними в дальнейшие, казалось, нескончаемые скитания должны были отправиться заложники. У многих на глазах блеснула слеза, и не узнать — слеза облегчения или скорби.
Еще громче ударили в небо трубы. От храма Фортуны сворачивал на Саларийскую дорогу королевский поезд. Аэций издали узнал белого коня и статную фигуру дерзновеннейшего из дерзких — Алариха Балта. В нескольких шагах перед королевским конем шла, еле волоча ноги, молодая женщина, смертельно бледная, но горделивая и спокойная. Губы ее были крепко сжаты, глаза устремлены на гладко тесанный камень улицы. Аэций сразу понял все. Вот так же четыре века назад входила в город Туснельда в триумфальном шествии Германика. Только у Туснельды были голубые глаза, а у этой — черные, чуть выпуклые и несколько округлые, у Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия Августа, выходящей из города в триумфе варвара. Рядом с Аэцием раздалось громкое рыдание. Он обернулся: ритор и священник плакали, припав друг к другу головами.
Аэций не плакал.
Флавий Констанций, magister militum[10], осадил коня и, морща черные сросшиеся брови, процедил сквозь зубы:
— Усилить правое крыло.
Вождь аквитанской Галлии бессильно развел руками.
— У меня нет больше конницы, сиятельный.
Большая голова Констанция затряслась под серебряным, украшенным фигурами святых шлемом с белым султаном; круглые глаза презрительно взглянули на собеседника и обратились влево, где в отдалении, видная как на ладони, сверкала темная гладь Средиземного моря.
— Сбросим их в залив.
Вождь аквитанской Галлии бросил взгляд на усеянное сражающимися и трупами поле, усмехнулся искривленным ртом и повторил:
— У меня нет конницы.
Констанций неторопливо перекинул левую ногу через седло, приподнялся на белых, холеных руках и медленно сплыл на землю.
— Щит.
Двадцать шесть пар глаз вопрошающе взглянули на полководца. Большая голова вновь затряслась.
— Я возвращаюсь в первую шеренгу. За мной!
Все кинулись к нему с восклицаниями, мольбами.
— Мы охотно пойдем… Но ты не можешь подвергать себя опасности, сиятельный… И что мы поделаем без конницы?.. Хоть бы еще одну турму, может быть, и хватило… А так мы не справимся.
— Будем биться строенным порядком, как Сципион.
И махнул рукой. Во весь опор помчались к сражающимся препозиты, неся приказ: конница на обоих крылах отступает за велитов и фундиторов и в тылах пехоты соединяется в один большой отряд. Велиты и фундиторы должны прикрыть ее. Пехоту сосредоточить в центре… разбить на три части… принципы, гастаты, триарии.[11] Пока конница не отдохнет, копейщики будут сдерживать весь натиск врага…
— Это самоубийство… лучше отступить, — проворчал комес Криспин.
Констанций не разражается гневом. Он только пожимает сутулыми плечами и указывает рукой на поле.
— Варвары сражаются так, как пятьсот лет назад… Почему бы и нам не сражаться, как Марий?..
Громкий крик из двадцати шести глоток заглушил его слова.
— Смотри… смотри, сиятельный… Отступают… не устояли… идут врассыпную… Хоть бы одну турму… еще одну турму… и с Атаульфом будет покончено!..
Констанций не верит своим глазам. Конница на левом крыле, выполняя его приказ, уже отходила под защиту велитов — на правом же, где, видимо, приказа еще не получили, быстро двигающееся облако пыли явно стремилось вперед, в противоположном направлении от стоящей на холме свиты командующего, издающей громкие возгласы радости и триумфа. В самом опасном месте вестготы отступали.
— Да ведь это тоже вестготы… наши вестготы… Вестготы Сара, — задыхался от радости вождь аквитанской Галлии. — Они ненавидят род Балтов. Глядите… глядите: они мчат вихрем… рассекли их надвое… окружают…
И, подбоченясь, победоносно взглянул на комесов и трибунов. Ведь не прославленная императорская гвардия, не италийские легионы, а предводительствуемые им ауксиларии[12]… скромные, презираемые всеми ауксиларии вырывают у врага победу в последний момент!
Констанций снова садится на коня.
— Имя варвара, который ими командует? — спрашивает он, указав взглядом на исчезающее вдали облако.
— Это не варвар, сиятельный… это тот юнец… вместо раненого трибуна, центурион… сын Гауденция…
Снова трясется большая голова.
— Ударить всеми силами… Гнать… Сбросить в море… Вперед!
Рискуя сломать шею, свита бешено скатывается со взгорья.
Наголову разбитые, поредевшие войска короля Атаульфа беспорядочно бежали к Пиренеям. Победоносный Констанций с изумлением разглядывает сына Гауденция, предводителя готов Сара. На нем распахнутая на груди кожаная куртка, через левое плечо перекинута облезшая волчья шкура, в руке огромный германский меч.
— Ты бы еще шлем с рогами на макушку себе насадил, — усмехается Констанций.
Молодой центурион весело скалит здоровые белые зубы.
— А не помешал бы.
Констанций морщит сросшиеся брови.
— Ты командовал конницей.
— Ты сказал, сиятельный.
— Ты что, не получил приказа об отступлении?..
Сын Гауденция придвигается к самой голове Констанциевого коня.
— Получил.
— Посмел ослушаться?..
Снова сверкают в улыбке два ряда белых зубов.
— Я думал, что плохо понял приказ… или не расслышал…
После минутного молчания Констанций ударяет коня пятками коротких ног и, готовясь отъехать, бросает:
— В строенном порядке мы бы их легче разбили.
— Не осмелюсь не поверить тебе, сиятельный.
Констанций, удивленный, снова удерживает коня.
— Значит, не веришь?..
— С варварами надо биться их способом, — слышится ответ. — Я бы сковал наши ряды железной цепью.
Констанций презрительно выпячивает тонкие губы.;
— Римлянин гнушается варварскими способами боя, — цедит он сквозь зубы.
— Не каждый римлянин, — отвечает Аэций.
В кубикуле мать невесты и пронуба[13] гасят по очереди все лампы. Только маленький бронзовый светильник, искусно изваянный в виде двух неразрывно сплетенных рук, всю ночь будет бросать скупой желтый свет, чтобы новобрачные могли видеть свои лица. Чтобы свет от него падал как раз на изголовье широкого супружеского ложа, светильник надлежит повесить в определенном месте на специально для этого предназначенный крюк. Сделать это должен новобрачный. Пока что круг желтого света выхватывает из мрака две большие ступни, судорожно впившиеся пальцами в мягкую красную ткань, устилающую пол супружеской комнаты. Владелица их уже полностью готова к приему мужа, облачена она только в очень просторное ночное одеяние, перехваченное пояском, который, как велит обычай, она развяжет сама, когда услышит шаги супруга. Одеяние это, которое переходит из поколения в поколение и которое много десятков лет тому назад было на матери короля Фритигерна, надевается только раз в жизни — в брачную ночь. Оно не белое, как свадебные облачения римлянок, а ярко-красное, без всяких украшений, кроме пояска, и всего лишь до колен, спереди оно разрезано, обнажая упругие груди.
Мать в последний раз целует дочь в щеку, пронуба еще раз проверяет, удастся ли легко и быстро развязать пояс, после чего обе выходят и воцаряется минутная тишина.
Минутная… потому что новая резкая судорога больших толстых пальцев на красной ткани явно говорит, что новобрачная знает… чувствует, что он уже тут… что он стоит перед нею, сдерживая резкое, прерывистое дыхание. Стоит в кругу света, любимый, желанный и вместе с тем вызывающий волнение и тревогу. Достаточно поднять длинные черные ресницы над светлыми-светлыми голубыми зрачками, и она увидит его всего… Только не смеет и, когда дрожащими пальцами распускает пояс, ничего не видит, кроме двух пар ступней, чуть касающихся кончиками пальцев.
Но и он, кроме этого, ничего не видит. Не потому, что вся фигура жены тонет во мраке — ведь он мог бы с легкостью сильной, очень сильной рукой вытянуть ее на середину светового круга, но и он… не смеет… Ведь это первая женщина в его жизни! На двадцать четвертом году жизни!
И не столько праведное христианское воспитание, которое он получил в детстве, не стоические нормы, внушенные учителем-грамматиком, поклонником Марка Аврелия, сколько трехлетнее пребывание среди готов и усвоенные им суровые варварские нравы причина того, что вот он стоит перед своей женой такой же неопытный в любви, как и она!.. И так же, как она, жаждущий и умирающий от любопытства и вместе с тем полный какой-то тревоги.
Но он же мужчина, и вот спустя краткий миг руки его впиваются в красное просторное одеяние матери короля Фритигерна, хотя глаза не смеют еще взглянуть в лицо, по которому он мог бы прочитать все, что чувствует, что думает, что теперь испытывает жаждущая ложа и познания его таинств и одновременно полная страха и радующаяся каждой минуте промедления молодая женщина…
В триклинии тоже погасли все лампы, кроме одной, изображающей негритенка с яблоком в каждой руке. Одно яблоко надкушено, другое еще не тронуто — в обоих горит масло, желтым светом озаряя лицо magister equitum[14] Гауденция и гота Карпилия, начальника дворцовой гвардии. Свадебное пиршество уже кончилось, только что покинул триклиний самый знатный гость, главнокомандующий и консул Флавий Констанций; в углу дремлет седобородый грамматик, бывший учитель маленького Аэция, ныне автор эпиталамы, которая вызвала подлинное восхищение новобрачных, их отцов и гостей.
Искусно завитую бороду Гауденция уже обильно припорошила седина, заметна она, хоть и не так ясно, и в буйной льняной копне Карпилия, длинными прядями спадающей по бычьей шее на мощные плечи атлета. Грубо вытесанное, типично варварское лицо Карпилия гладко выбрито; на нем не повседневное воинское облачение, а голубой наряд из тончайшей ткани и висящее на золотой цепи большое изображение императора Гонория Августа. Большая красная ладонь крепко сжимает десницу Гауденция: с сего дня дружба и неразрывное единство навеки! Объединившиеся фамилии двух сиятельных мужей — это сила, с которой скоро начнет считаться императорский двор. Простой солдат из Мёзии и воин-варвар с наивным удивлением и восхищением думают о головокружительных высотах, на которые вознес их житейский путь: во всей Западной империи есть только один человек, превосходящий их воинским званием: Флавий Констанций. Вот они и думают сейчас, то ли связать дальнейший путь свой и объединенных родов своих с путями Констанция или же?.. Ведь они теперь сильны… очень сильны… Приближается час, когда они смогут эту свою силу проявить: Констанций рвется воевать с королями диких гуннов, правящими Паннонией, а они оба против этой войны… Посмотрим! — улыбаются друг другу отцы…
Сколько бессонных ночей проплакала жена Гауденция, не в силах примириться с мыслью, что сын ее должен жениться на женщине из варварского племени!
— Это позор для нас… для меня… для моего рода, — рыдала она, а порою ее охватывала такая ярость, что она еле сдерживалась, чтобы не бросить в лицо мужу: «Один раз я уже опозорила свой род и имя, унизившись до брака с простым мёзийским воякой… Не хватит ли одного этого унижения?!» А вслух кричала: — Будь проклят тот день, когда перестали почитать закон Валентиниана I, смертью карающий римлянина за брак с варварской женщиной!.. Будь проклят… Будь трижды проклят! — и вновь заливалась слезами.
Но Гауденция не трогали ее слезы и мольбы.
— Если уж сам император Восточной империи Аркадий пожелал разделить трон и ложе с франконкой, то не пойму, почему сын Гауденция не может жениться на дочери знатного гота, тем более что она ему не противна, да и он ей тоже… Карпилий происходит из рода варварских королей, и он куда ближе по крови к Фритигерну, чем Атаульф, за которого не постыдилась выйти сама благороднейшая Галла Плацидия, дочь императора и сестра императора…
И вот при слабом желтом свете небольшого светильника в сладостном любовном объятии мешается римская кровь: полумужицкая, мёзийская — полугосподская, патрицианская, италийская, — с чужой ей и враждебной доселе кровью варварских королей. Круг света выхватывал из тьмы два слившихся в поцелуе лица, на которых отражалось все то, что сотрясало затерявшиеся во мраке сплетенные тела… все, что ощущали груди, бедра, сдавленные от сладостных спазм гортани, стиснутые от резкой судороги сердца… В триклинии Гауденций и Карпилий, устремив друг на друга глаза, думали об одном и том же: о внуке…
В кубикуле с шипением погас вдруг светильник. Кончилось масло, и Аэций не мог видеть, что на лице жены нет ничего, кроме тихого безграничного счастья, а в голубых глазах отражается не изведанная никогда доселе глубина, порожденная познанием тайн любви… разорванного девичьего неведения… И ему было совсем невдомек, что и на его лице и в его глазах отражается почти то же самое.
— Какая красивая была эта эпиталама, правда, Аэций? — слышит он вдруг ее голос, в котором звучат незнакомые интонации.
Действительно, эпиталама была очень хороша. Изысканные, Горациевы по духу и форме строфы, изысканно подобранная ритмика великолепно передавали и серьезность момента, в который объединялись два сильных рода, и настроение новобрачных… настроение, полное радости и гордости и взаимного отдания и вместе с тем беспокойства, неведения и тоски ожидания… Апострофы к Венере-прародительнице, возглашения в честь крылатого мальчика с луком — Амура, и почти целые двустишия из Овидиева «Искусства любви» гармонично сочетались со строфами, почерпнутыми из «Песни песней», из псалмов Давида и цитатами из посланий апостола Павла — грамматик, почитатель Марка Аврелия, стал под старость христианином!..
— Грамматик так прославлял твои знания и память, Аэций! — в голосе дочери Карпилия звучит огромная нежность и растроганность, — ты, наверное, запомнил почти всю эпиталаму… Скажи мне, господин мой… прошу тебя, скажи хотя бы две строфы… одну… Я хочу от тебя… из твоих уст… услышать эти чудесные слова о твоей ко мне любви…
Она не могла видеть странной улыбки, которая после ее слов появилась на лице мужа. Вся она обратилась в слух, находит в темноте его руку, подносит к губам. И ждет.
И вот Аэций начинает декламировать. Но не успел он произнести два-три первых слова, будто громом пораженная рванулась его жена. Глубоко потрясенная, садится она на постели, и, напрасно силясь изумленным взглядом разорвать черную тьму, больно впивается сильными пальцами в плечо мужа, и замирает, вторя его словам громким, лихорадочным, прерывистым дыханием… Неужели это ей не снится?
Не язык Горация, Назона и Марка Аврелия, а необычный язык готов струится с уст молодого римлянина. Не эпиталама с апострофами к олимпийским богам и цитатами из Священного писания, а любовная песнь варварских воинов звучит над ложем, где зачат наследник патрицианской италийской крови и носитель овеянного славой римского имени. А ведь ничего не говорится в этой песне о ложе средь цветов, мягком, влекущем к бесчисленным наслаждениям… ничего нет о смертельных стрелах любви… ничего нет о славе объединившихся родов… От наивно звучащих, плохо сколоченных строф, то и дело сбивающихся с ритма, а то и вовсе теряющих смысл, пышет могучая вера в волшебство и силу девичьей добродетели, единственной утехи мужей… звучит восхищение мягкостью женщины, которая, когда любит, твердо сносит невзгоды, удары и смерть рядом с избранным супругом…
«Когда ты даешь поцеловать свою руку, то как будто я сто врагов уложил… когда светлый твой волос — то как будто я конунгом стал… Лазурь ока твоего равна светлому небу, гнев благородный твой страшен, как северная заря…»
Сильные голые руки охватывают шею Аэция, привлекают его голову к орошенному слезами лицу. Только теперь он по-настоящему ей близок… ближе всех на свете! Разве может быть большее счастье, чем это: слышать из уст мужа — римлянина! — язык, который всосан с молоком матери… песнь, которую столько раз ты слышала и певала?.. Трудно поверить, чтобы римлянин мог так знать ее язык, вникнуть в него и вчувствоваться. Как будто она за готского юношу вышла… за королевского сына, как ей наворожила когда-то старая колдунья. Она обнимает его все жарче и жарче. А когда чувствует, что его вновь пожирает пламя желания, отдается ему не только покорная и изнывающая, но и благодарная, уже все ведающая и потому сама томящаяся жаждой. На каждое его движение, на каждое прикосновение отвечает она готовностью зрелого любящего тела…
Торопливо скрываясь от рассвета, запрятались по углам кубикула черные тени. И только теперь насыщаются обиженные ночью голодные взгляды. Как же непохож этот взгляд на тот, вечерний, который ни к чему не мог коснуться, кроме ног. С радостью, с наслаждением думает Аэций, что красотой и сложением жена его не уступит ни одной статуе богини Венеры. И тут вновь затягиваются его глаза дымкой желания, через которую он видит только, что лицо дочери Карпилия вдруг залилось горячим румянцем. Верно, она что-то хочет сказать, только стыдится, и потому Аэций, прежде чем заключить ее снова в объятия, выжидает с минуту, пока она скажет. Длинные черные ресницы действительно стыдливо прикрывают лихорадочно и вместе с тем счастливо сверкающие глаза, но говорит она без всякого смущения, свободно, смело, как будто это не первая ее любовная ночь, а сто первая.
— Говорили готские женщины, что от римлянина не много радости в постели. Вижу теперь, лгали, или только ты один такой…
Она не докончила и уже не ждала ответа.
В высоком коническом королевском шатре, как всегда, было дымно и отвратительно пахло: особенный смрад исходил от свежесодранных и уже загнивающих воловьих шкур, которыми были обтянуты внутренние стены шатра. Но Аэций имел достаточно времени и условий, чтобы привыкнуть ко всем особенностям домашней жизни короля Ругилы, более того, ему доставляла истинное огорчение мысль, что через несколько дней он расстанется с этой жизнью навсегда, возвращаясь в свой мир, — к людям и обычаям, от которых за эти годы уже совсем отвык и с которыми, казалось, его уже ничто не связывает, кроме с каждым днем все больше стирающихся воспоминаний детства. Рим, Равенна, жена, сын, которого он видел не более трех раз; войны Констанция с готами за Галлию, наследие языческого Рима, христово учение и его власть над миром, — все это казалось ему чем-то страшно далеким и туманным, хотя не совсем еще чужим: он чувствовал, что, когда вернется туда, ему будет тяжело приспосабливаться к нормам и требованиям давней жизни. А здесь, несмотря на эту вонь, все еще вызывающую легкое головокружение, все так просто, легко и понятно… так отвечает, как он сознавал, всему его существу — взять хотя бы этот день!
Начался этот день бешеной погоней за людьми одного из взбунтовавшихся вождей, который по наущению вероломного королевского брата Оэлорса напал на самые лучшие стада Ругилы, пастухов перебил, часть овец нарочно перерезал, а остальных погнал в город Сопиану, чтобы быстрее продать римским торговцам из Норика. Только к полудню король и те из его людей, у кого были лучшие кони, увидели в каких-нибудь ста стадиях[15] огромную тучу пыли, поднятую на старой римской дороге Геркулия — Сопиана угнанным стадом. С диким воем, не считая, сколько их есть, бросились преследователи на восемьсот всадников мятежного вождя: в ожесточенной схватке наибольшую смелость, а особенно огромную мощь руки проявил римский заложник, бившийся рядом с Ругилой и не отступавший от него ни на шаг. Сначала превосходство было на стороне преследуемых, но через некоторое время начали прибывать основные королевские силы: стадо отбили, большинство кинувшихся бежать людей было перебито; но Ругиле этого было мало. Проведав, что сам мятежный вождь в ожидании угнанных у короля овец стоит со всеми своими женами и детьми в маленьком городке на берегу озера Пельсо, неутомимый и все еще пышущий местью Ругила помчался со своими людьми на запад, к озеру: городок (одно из немногих римских поселений, которое чудом еще уцелело в дотла выжженной гуннами Валерии) сровнял с землей, вождя, который закрылся в христианском храме, сжег живьем вместе с женами, детьми, христианскими жрецами и церковью…
В этом набеге на город и сожжении церкви римский заложник принимал самое деятельное участие, чем завоевал безграничную любовь короля и без того давно уже к нему расположенного. Но что особенно покорило владыку гуннов — он чуть по земле не катался от радостного дикого смеха, — так это мужская сила, верность глаза и руки римлянина: когда насиловали взятых в городке женщин, ни один гунн не мог похвалиться таким числом лишенных девственности девиц, как он; когда живьем взятых людей мятежного вождя привязали к деревьям и стреляли в них из лука, также никто не мог с ним сравняться в количестве метких попаданий. Но это еще не все: когда уже возвращались в королевский лагерь, перед самым заходом солнца представилась неожиданно великолепная возможность поохотиться: из лесу вдруг выскочил огромный кабан, и, прежде чем успел, нырнув в высокую траву, пробежать часть открытого пространства, дорогу ему уже преградили несколько воинов. Трое из них пали под ударами мощных клыков, однако четвертый ловким броском копья пробил чудовищу глаз, а потом, схватившись насмерть, повалил его метким и сильным ударом короткого меча. И снова это был римлянин! Король Ругила долго не мог прийти в себя от восхищения: уже давно он знал его, любил и отдавал должное, но такого никак не ожидал! Он пригласил заложника к себе на ужин, собственными руками разрывал тут же в шатре жаренную на огне баранину и подавал лучшие куски римлянину и наконец удостоил его высочайшего знака королевской милости: велел остаться на ночь в королевском шатре.
Маленькие раскосые глазки Ругилы превращались совсем в узенькие щелки, когда с радостным восхищением впивались поверх смешно торчащих скул в могучую плечистую фигуру Аэция. Все щуплое тельце владыки гуннов извивалось в приступах счастливого смеха, время от времени прерываемого дикими радостными воплями: о, не случайно он, могущественный король Ругила, выбрал себе этого юнца… От всех остальных римских заложников он уже давно избавился: или обменял на своих товарищей, взятых в плен римлянами, или постарался, чтобы случайная скорая смерть постигла их на безбрежных, поросших высокой травой паннонских равнинах. Только его одного он оставил при себе, не желая обменять даже на трех самых смелых гуннских вождей. Ведь кто еще из его людей так владеет мечом и копьем, как римлянин? И у кого из римлян такой глаз, ухо и нюх, как у гунна? Кто так держится на коне, как сын степей? Никто… никто… один только Аэций…
И какой римлянин может так быстро научиться языку гуннов, как он?.. Заложник даже, случается, поет у костра дикие протяжные гуннские песни…
— Спой и сейчас что-нибудь, сын мой… Нет, нет… лучше расскажи что-нибудь… что-нибудь забавное и вместе с тем поучительное… Скоро ты покинешь нас, не откажи Ругиле, который тебя единственного называет своим другом…
Одно дело говорить о еде, об охоте, битвах, о насилуемых женщинах… или петь протяжные песни, принесенные на крыльях восточного ветра на равнины Паннонии от Китайской стены, о существовании которой Аэций даже не догадывается, но рассказывать?.. рассказывать о муже, почти столь же хитроумном, как король Ругила, и столь же могущественном, побеждающем врагов своих хитростью, равного которому не было никогда и нигде, ни у одного народа?.. Трудное это дело, о коне ли деревянном говорить, или о хитрости, с которой одолели одноглазого великана Полифема, или о гребцах, залепляющих уши воском, когда поют морские прелестницы: то и дело надо переплетать гортанные короткие гуннские звуки как бы бесконечно длящимися готскими, а то и латинскими словами…
Растянувшись на теплых, кое-где еще кровоточащих бараньих шкурах, уже громко хранят королевские племянники Бледа и молоденький Аттила. Да и сам владыка кочевников сонно кивает головой, между толстых, бесформенных губ бессильно вываливается широкий язык. Но как только повествование дойдет до того места, где хитроумнейший из хитроумных собственноручно побивает стрелами из ловко добытого им лука всю толпу домогающихся его жены мужчин, весь сон слетает с королевских век. Он цокает языком, хлопает ладонями по коленям или радостно потирает их.
— А ты? Ты бы мог, Аэций? — спрашивает он.
Но вот уже и он по-настоящему засыпает, веля Аэцию, в знак особой королевской милости, взять себе в постель одну из двух принадлежащих самому Ругиле женщин, а те давно ждут в дальнем углу шатра, когда он позовет одну из них. Но Аэций сыт сегодня любовью после утренних развлечений в городке и, прикоснувшись ногой к обнаженному телу красивой германки, бежит из духоты на свежий ночной воздух.
Повсюду огни… тысяча огней… Сколько звезд на небе, столько костров на земле… Он смотрит на те и на другие и вдруг начинает думать о том, что он почти все забыл из того, чему учил его грамматик, что ни одного стиха наизусть он уже не может прочесть из той истории, которую только что рассказывал Ругиле. Многое забыл и из священных наук, которые некогда излагал ему старый диакон в Дуросторуме: раз только со смехом припомнил он эту науку дословно — тогда ему еще нравилось пасти королевских овец… Думает он также, но уже с удовольствием, о прошедшем дне: о бешеной погоне, о схватке с кабаном, о сожженной церкви и дико кричащих пленниках, в которых он так метко стрелял из лука. Воспоминание о схватке с разъяренным и безумствующим от боли зверем наполняет его каким-то диким, почти животным, безграничным счастьем. В радостной усмешке скалит он здоровые белые зубы и изо всех сил бьет себя в грудь огромным, как молот, кулаком. Он любит себя и свою огромную животную мощь!.. И одновременно сознает, что не только это, нет, что-то кроме этого является причиной его счастья… Ведь не то, что через несколько дней он вернется к своим… Нет, тут что-то другое… Он чувствует себя так, как будто ему открылась вдруг правда о смысле и сути людской жизни… Он так верит в это, знает… Он постиг эту правду, он чувствует это… Только не умеет ее назвать, выразить словами. Одно знает, что то же самое чувствуют и, пожалуй, даже знают, хотя и не могут выразить, тысячи и тысячи полуголых диких гуннов, которые, куда ни глянь, роем черных теней обленили бесчисленные, как звезды, костры.
Волосы матери уже совсем седые, и совсем по-старчески трясется подбородок, когда она доходит до самой мучительной части своего рассказа.
— …когда срывали с него одежды, били, кололи в лицо дротиками, даже когда повалили его на землю — молчал… Но когда один из каналий, какой-то грек, ударил его тяжелым башмаком в лицо, превратив глаза, рот и нос в кровавую кашу, не выдержал и закричал: «Больно… ох, как больно!..» Я слышала… все слышала… Боже, как это было страшно!.. И слышала голос этого грека: «Иисусе, так ведь и надо, чтобы больно было…»
Рыдая, она спрятала искаженное ужасом воспоминаний увядшее лицо в коленях сына и замерла на какое-то время, только худые плечи ее то и дело вздрагивали.
— Теперь вот плачу, но тогда не плакала, — продолжала она спустя некоторое время, — канальи, не удалось им увидеть моих слез… Зато я видела!.. Видела, как они выли от страха, визжали, как свиньи, вопили, падая к ногам центурионов, когда пришел легион из Арелата, разоружил бунтовщиков и вешал каждого пятого на деревьях… Я ходила… целый вечер ходила по этому лесу висельников… Только христова любовь сдерживала меня, чтобы не плевать в эти вылезшие на лоб глаза… на свесившиеся до подбородка языки… Но грека этого не нашла… А весь вечер ходила, искала…
Аэций не отвечает. Только гладит широкой шершавой рукой седые материны волосы. Он думает об ужасной смерти отца. Жаль его, но разве он не привык у гуннов к вещам куда страшнее?.. К зрелищу насильственной смерти еще более жестокой?.. Так что мысль быстро отрывается от смерти отца и начинает кружить вокруг государственных дел. Столько перемен произошло в Западной империи за время его пребывания у гуннов: Флавии Констанций женился на вернувшейся от готов императорской сестре Плацидии и сам стал императором, соправителем Гонория — чтобы умереть после неполных восьми месяцев правления. При дворе в Равенне шептались еще недавно о неких преступных отношениях между императорской родней, но теперь любой иудей на Альта Семита знает, что враждуют Гонорий и Плацидия и борьба обещает быть серьезной. Что делать?.. Чем заняться?.. На чью сторону встать?.. Вот что главным образом занимает мысли прибывшего от гуннов Аэция. Вернуться в армию?.. Командующий Криспин не был приятелем отца — ну и не надо пока в армию! Подождать, поглядеть — наверняка наступят какие-нибудь важные перемены… Император пухнет от водянки… Лучше всего войти в соглашение с примикирием Иоанном, секретарем императора Гонория, он ведь был всегда в хороших отношениях с отцом и вроде бы любил молодого Аэция… Итак, вечером он прикажет доставить себя к Иоанну… а теперь он хочет есть и спать… Хотел еще женщину, но ее он уже имел…
Вжавшись в угол атрия, дочь Карпилия с удивлением, страхом и глухой ненавистью смотрит на наконец-то возвращенного ей, спустя столько лет, супруга, по которому она так тосковала. Иисусе Христе, как страшно изменился ее Аэций! В светло-голубых глазах еще не высохли слезы. Судорожно сжимаются кулаки. Как он смел?! Как он смел?! Не успел войти в гинекей, как тут же, не ожидая, пока она с радостным возгласом повиснет у него на шее, пока покроет поцелуями его губы, лицо, глаза, стал грубо срывать с нее столу… Она гибко выскальзывает из его рук, умоляюще складывает ладони и просит: у нее недомогание, она не может… пусть Аэций потерпит… подождет день, два… ведь она ждала столько лет… столько лет!.. Он ничего не говорит, только сводит брови, стискивает зубы и начинает рвать белую тонкую ткань… Она снова молит его, плачет… пусть он выслушает ее… ведь она сама тоже жаждет… столько наждалась… Но он не слушает, обнажает ее грудь, живот, бедра… Нет, нет, Аэций! Она вырывается, задыхаясь от обиды и гнева, но все еще пытается сохранить спокойствие… улыбается сквозь слезы… подставляет под его губы свою руку… И вот тут-то он ее ударил. Неужели это не во сне?.. Она чувствует ужасную боль в руке, но неужели это возможно?.. В голове мелькнуло: «Поцелую руку твою — как будто сто мужей убил…» А удары сыплются на руки, на плечи, на обнаженную грудь… Дочь Карпилия ничего не знает о том, как усмиряют женщин гунны! Она плачет. А он уже несет ее на ложе и через минуту утоляет свое желание ее телом, все еще таким молодым, упругим и прекрасным.
Посреди атрия у водоема тихо сидит голубоглазый светловолосый мальчик с тонким патрицианским профилем, но с широко расставленными, уродливо торчащими гауденциевыми скулами. Ему грустно, и он еле сдерживается, чтобы не разразиться громким плачем. Он не только чувствует, что между матерью и отцом произошло что-то нехорошее, да еще как-то иначе представлял себе этого любимого, невиденного отца!.. Он не сопротивляется, когда Аэций протягивает к нему руки, но и не отвечает улыбкой на широкую, искренне радостную улыбку отца.
Личико его хмурится даже тогда, когда сильные руки вскидывают его, как перышко, высоко над отцовской головой и приятно покачивают в ритм плеска фонтана.
— Что ты собираешься делать? — слышится голос матери Аэция.
— Есть и спать…
— Я не об этом… Что вообще думаешь делать?..
Аэций пожимает плечами. Не следует поверять женщине своих мыслей. Но мать смотрит на него вопросительно и с каким-то беспокойством, поэтому он бросает:
— Может быть, стану чиновником у префекта! — И снова покачивает мальчика, теперь уже ниже, у самой груди.
Голос матери снова вызывает картину смерти отца, а потом зрелище висельников, среди которых, как всегда бывает при подавлении военных бунтов, по крайней мере половина — совершенно невиновные люди… А грека не повесили… понятное дело… Так всегда бывает…
И неожиданно его как будто осеняет. Теперь он знает, что его так радовало в ту ночь у шатра Ругилы. Сейчас он осознал, что тогда постиг — но не смог выразить — ту правду о жизни… правду, которую чувствовали и, так же как он, не могли облечь в слова тысячи и тысячи гуннов у бесчисленных, как звезды, костров. Аэций рывком прижимает мальчика к своей груди и шепотом, чтобы женщины не подслушали, говорит ему на ухо, хотя и знает, что мальчик почти ничего из этого не поймет:
— Вся жизнь — это охота, Карпилий, сынок мой… неустанная, безжалостная охота… Не будешь сам охотником, тут же станут на тебя охотиться другие, затравят, загрызут… Так что лучше самому охотиться и самому травить, грызть, душить… Будь же всегда готов к охоте… всегда будь сильный… всегда настороже, хищный, безжалостный… Никому не позволь вырвать у себя победу, иначе — смерть… А победа — это радость, упоение, счастье… Всегда побеждай!..
Борьба с женщиной
Целых пятнадцать веков потребуется истории для того, чтобы вновь сложилась (только сейчас… именно сейчас… на твой и мой, читатель, взгляд!) эпоха, столь же великая, столь же переходная и чреватая столь же блистательными последствиями, как та, когда с треском и грохотом рушились, обращаясь в развалины, римское государство и pax romana[16], погребая под собой весь античный мир и его душу, которых не могло уже спасти мощное впрыскивание нового «чудотворного» средства — христианства. Пятнадцать веков — это тысяча пятьсот лет по триста шестьдесят пять двадцатичетырехчасовых дней каждый! А каждый час — это три тысячи шестьсот секунд, и столько же ударов человеческого сердца, и столько же тихих ударов часов истории! Воплощения могучего духа, величайшие сердца и пытливейшие умы этого столь отдаленного от нас и столь сходного с нашим времени отлично понимали величие и громадную историческую роль своей эпохи: и не раз, ничего не ожидая для себя и мира либо, наоборот, ожидая очень многого, и притом такого, чего минувшие времена не в состоянии были дать, — без сожаления посвящали долгие десятки лет жизни постижению сути, смысла и цели свершающихся перемен и переломов.
Но красивая, хотя не очень молодая женщина, которая упоительной майской ночью 425 года (или — как она сама привыкла считать — 5933 года от сотворения мира) сидела в библиотеке епископского дома в Аквилее, склонившись над толстыми фолиантами, казалось, совершенно не интересовалась сутью, смыслом и целью великих, переломных, навсегда возвышеннейших деяний, хотя и сама rerum gestarum magna pars fuit[17]. Оглушительным голосом взывали к ней со страниц глубочайшие, блистательнейшие, оригинальнейшие мысли эпохи, на листах этих щитоносцы и меченосцы божьего царства вели титанический бой с когортами слуг царства тьмы, и — как гордую римлянку и набожную христианку — должны были бы занимать размышления, почему бог, которого она чтит, хочет, чтобы творилось именно так… чтобы на позор и поругание был отдан Рим, великое, могущественное, долгие века неприкосновенное, единое отечество ее и всех этих писателей, но сейчас ее ничуть не трогали ни солидные историографические и литературные конструкции, ни религиозные толкования духа истории. Зато с жадностью поглощала она те страницы «Истории против язычников», написанной в 417 году испанским священником Орозием, где находила свое собственное, изящно выписанное имя или два мужских имени: одно римское, громкое, окруженное ореолом величия… другое трудное, почти смешное, варварское, но куда более дорогое. Когда после долгого перелистывания страниц она находила наконец какое-нибудь из этих трех имен, сердце ее билось быстрее и резче, а несколько выпуклые глаза заволакивались дымкой.
Иногда что-то сердило ее в книге, тогда она откидывала назад хорошо вылепленную темную голову и, постукивая длинными, сужающимися к ногтям пальцами по цветным завитушкам букв, цедила сквозь зубы:
— Лжет… лжет… не так это было.
Потом вдруг умолкала и, не думая уже о книге, жадным ухом ловила доносящееся из-за пурпурной завесы глубокое, ровное, здоровое дыхание двух спящих в соседнем кубикуле детей. С легкостью она различала более тихое и медленное дыхание старшей девочки и быстрое, более громкое, время от времени переходящее в умиляющее ее посапывание, дыхание шестилетнего Плацида Валентиниана, благороднейшего кесаря объединенной Римской империи, который, ничуть не заботясь о своем величии, с удовольствием видел во сне, как он гоняется за чудесными белыми котятами по забитой простолюдьем константинопольской Месе.
Через верхний свет в библиотеку начала пробиваться утренняя серость. Кончалась благоуханная майская ночь — первая ночь отдыха и победного покоя, проведенная, однако, Галлой Плацидией так же бессонно, как и предыдущие ночи, полные трудов, тревог, борьбы и лихорадочной деятельности. Быстро протекли часы, наполненные материнской любовью и пестрым миром воспоминаний, которые нежданно, незванно ярким хороводом потянулись со страниц толстых книг Орозия и до самого рассвета наполняли библиотеку, навязчиво толклись в голове и сердце, спазмами сдавливали горло и выжимали слезы из черных, слегка выпуклых глаз. И все они жили буйной жизнью времен и людей, которых уже нет… от которых ничего не осталось, кроме двух стыдливо укрываемых белых волосков на висках и цветных знаков в книге испанского священника.
Некоторые из этих воспоминаний дерзко мрачны и безжалостно мучительны, горячей волной румянца заливают смуглые, увядающие уже щеки: вот шествует она — сестра императора, дочь великого Феодосия — пленницей в шествии дерзновенного Алариха Балта… Единственно горячая любовь к Христу, которого она боялась оскорбить, удержала ее тогда от того, чтобы не броситься на меч. Правда, позор этот был недолгим: сразу же за Саларийскими воротами ее с почестями усадили в плотно укрытую повозку и сам Атаульф, муж королевской сестры, следил, чтобы ни в чем не преступали церемониала, соответствующего ее достоинству и девичеству.
Атаульф…
Как прекраснейшая музыка, звучит это необычное, дикое, варварское имя… Уже не одни щеки, а все лицо, уши и шею заливает огненный румянец… румянец стыдливый, девичий, как будто она не была дважды вдовой и матерью двоих детей…
Как же это сталось, что гордая римлянка, дочь и сестра римских императоров, внучка Валентиниана согласилась выйти замуж за готского короля, полудикого варвара?.. Воистину чудо из чудес. Перед глазами, как будто это всего лишь позавчера было, встает картина свадебного пиршества в доме Ингена в Нарбоне: вся в белом, сидит она рядом с облаченным в королевский наряд Атаульфом… Вокруг гости — готы и римляне… Аттал, бывший узурпатор, некогда шут в пурпуре и диадеме, жалкое орудие в руках дерзновенного Алариха — поет эпиталаму… Чудо! Чудо!
Но большее чудо то, что, когда на ложе протянул к ней царственный супруг-варвар сильные, сладостные руки, совсем забыла она, что он арианин, еретик, обреченный на адский огонь, и с наслаждением пылала с ним в грешной, пусть супружеской, но из-за различия вер заклейменной любви.
Вот и разгневался на нее Христос: мало ему, видимо, показалось, что ходила босиком по острым каменьям… что стояла на коленях ночи напролет на холодном полу… молилась часами… постилась неделями… отнял у нее Атаульфа.
— Да святится воля твоя, господи, — шепчет увядающий рот. — Ты хотел меня уберечь… душу спасти… вызволить из пут грешной любви, разрешить от преступных уз с арианином… Справедливо поступил, господи, и справедливым наказанием было все, что потом ниспослал на меня, но… очень уж это было тяжко!..
Ни воля, ни набожность не могут удержать слез скорби, боли и стыда, которые потоком брызжут при воспоминании о жестокости, учиненной десять лет назад.
Чудесным сентябрьским ранним вечером пошел король Атаульф сам-третей с двумя слугами в свои конюшни взглянуть на новых коней, полученных в дар от муниципии города Барциноны. И вот тут-то подкупленный ненавистным родом Сара тайный убийца — лукавый слуга Доббий ударил сзади короля ножом в бок. Потом второй раз и третий. Сколько раз предостерегала Плацидия своего супруга: берегись змеиного племени Сара, — но не слушал, не верил, смеялся… И вот теперь брата Сарова Сигериха поднимают воины на щитах: слава новому королю готов!.. слава тому, кто не хочет мира с римлянами… кто поведет нас, как Аларих, на Италию… на Рим!.. Сигерих врывается в королевский дом, с диким радостным воплем выдирает из объятий епископа Зигесара пасынков Плацидии и жестоко убивает их на ее глазах… а потом и ее выгоняет на улицу… бьет… срывает одежды… одетую в мешковину, привязывает к своему коню и подгоняет бичом… Как же тяжко, хоть и справедливо, казнил ее за грешную любовь к еретику божественный Христос!!
Под тяжестью скорбных воспоминаний камнем опадает на увядшую грудь красивая Феодосиева голова, почти касаясь разгоряченным лицом холодных, бесстрастных страниц, украшенных разноцветными завитушками букв. Золотые, красные, синие, черные знаки пляшут и скачут перед бессмысленно уставившимися на них глазами — и вдруг замирают, торопливо сбегаются толпами в одно место и послушно выстраиваются в вереницу, приветствующую императрицу, но не громким возгласом, как сделал бы это строй солдат — а спокойным, безмолвным увековечением событий, воспоминание о которых вызывает на ее губах улыбку триумфа, гордости и полного удовлетворения. Случилось так, как и должно было быть! Горе владыкам, на которых отец небесный поднимет карающую длань свою, но стократ горе тем, кто безрассудно отважится на роль орудия божьего отмщения сильным мира сего! Нет таких, кто смог бы безнаказанно поднять святотатственную руку на величие императорской крови, освященной самим Христом: сам Христос сокрушит его, повергнет, уничтожит, только лишь тот перестанет быть ему нужным как орудие кары и воздаяния. Разве не уничтожил он Сигериха?.. Спустя семь дней кончился позор и мучение Плацидии — место Сигериха занял родич Атаульфа, который окружил вдову короля и сестру римского императора всеми положенными ей знаками почета, а вскоре отослал в Италию. Смуглое лицо отстраняется от книги с выражением недовольства: теперь можно бесконечно переворачивать страницы книги и в тысячный раз пробегать жадным взором по бесчисленным вереницам букв, уже не обнаружит она дальше ни разу искусно выписанного имени: Атаульф. Но зато чаще будет повторяться: Констанций — каждый раз с каким-нибудь новым прилагательным: illustris, gloriosissimus fortissimus, Defensor Imperii, Victor, invictus, pius, Dux Ducum, Consul…[18]
Констанций!
Несмотря на все свое почтение к жреческому сословию, Галла Плацидия не может сдержать навертывающейся на уста ироничной, но вместе с тем снисходительной усмешки: до чего же все-таки не сведущи в делах любви святые мужи, слуги христовы! Но усмешка эта быстро уступает место гневному и презрительному движению бровей: вспомнились вдруг предыдущие страницы… Неправда, неправда! Лжет Орозий, когда пишет, что Атаульф взял ее замуж, чтобы родить сына от дочери императора Феодосия… сына, которого потом возвел бы на римский трон, дабы самовластно править за него всеми земными пределами… Неправда, это не Атаульф, это она мечтала о пурпуре для их сына, а он только уступил ее просьбе. Дороже всякой власти было для него сидеть у ее ног и говорить о своей к ней любви… И разве не говорил он ей в минуты упоения, что стоит только Плацидии пожелать, и он покинет Галлию… выведет свой народ за границы империи и отправится добывать для нее новую империю в диких землях гипербореев — империю трижды обширнее и прекраснее Римской империи! Пусть только пожелает…
Или та война… Вот что вызвало улыбку на ее губах: полное неведение Орозия относительно того, что свирепые воины, которые вели между собой Атаульф и Констанций четыре долгих года, огнем и мечом опустошая Галлию, — это были войны из-за нее! Но этот испанский священник Орозий ничего об этом не знает, ничего не заметил, ничего не понял…
Как-то, еще задолго до нашествия на Рим Алариха, случилось так, что, возвращаясь из церкви со свитой прислуживающих девиц, молоденькая Плацидия, истомленная постом и всенощной молитвой, опустилась вдруг в бессознании на каменный пол. Прислужницы в страхе потеряли голову, и неизвестно, как долго бы лежала она в обмороке, если бы на помощь ей не поспешил молодой солдат, несущий стражу неподалеку от места происшествия. Вернувшись в сознание, Плацидия сочла уместным и не унизительным для ее сана поблагодарить солдата, по различиям которого она поняла, что он недавно окончил школу дворцовой гвардии и должен вскоре получить звание трибуна. Она присмотрелась к нему: большая голова, слишком большая для человека его роста и сложения; лоб очень высокий, крепкий, выпуклый; несколько округлые, точно совиные, глаза и большой ястребиный нос.
— Как твое имя? — спросила она милостиво.
— Констанций, о благороднейшая.
Она удивилась.
— Звучное у тебя имя… слишком звучное…
Он улыбнулся, не разжимая крепко стиснутых губ.
— Из какого ты народа?..
Вопрос этот она задала нехотя: сразу бросилось в глаза, что солдат не принадлежит ни к какому варварскому племени. А он, видимо, почувствовал себя задетым, так как слегка нахмурил черные брови и холодно ответил:
— Я римлянин, как и ты, о благороднейшая.
— Откуда ты?
— Из города Наисса, из Иллирии.
— Чем же я могу тебя вознаградить, Констанций из Наисса? — спросила она уже холодным и высокомерным голосом.
И тогда-то с уст этого солдатишки из Наисса сорвалось святотатство: тихо, тихо, чтобы ни одна из прислужниц не могла услышать, шепнул он с улыбкой:
— Я давно люблю тебя, о благороднейшая… Я хотел бы когда-нибудь жениться на тебе.
Она посинела вся. Она даже не знала, то ли ударить изо всей силы по этому такому дерзкому… такому гордому, такому римскому лицу… то ли кивнуть подошедшим евнухам или пожаловаться брату императору?.. С минуту она стояла неподвижно, задыхаясь от ярости и жажды мести, потом вдруг повернулась на каблуках и пошла, даже не взглянув на наглеца.
И вот тогда единственный раз в жизни принесла Галла Плацидия жертву Христу, поступившись уязвленной гордостью и оскорбленным величием, и хотя задыхалась от ярости и гнева, но пересилила себя, чтобы увенчать проведенную в молитвах ночь величайшим смирением.
Прошли годы, и Констанций из Наисса вырос в первого воина Западной империи. О нем-то — о святотатце и безумце, каким считала его Плацидия, — и писал священник Орозий: Сиятельный. Всеславный. Сильнейший. Защитник империи. Победитель. Непобедимый. Благочестивый. Вождь вождей. Консул…
Помнит Галла Плацидия… Как только исчезли в отдалении последние вестготские воины, она приказала служанке Спадузе поднять завесы, закрывающие повозку, в которой она возвращалась в Италию. Был чудесный раннеапрельский день. На небе ни облачка. Полной грудью вдыхала она упоительный, воздух. И вдруг увидела на востоке сияние тысяч звезд.
— Что это? — воскликнула она, удивленная и испуганная.
— Это копья, шлемы и панцири сверкают на солнце, — объяснил agens in rebus[19] Евплуций, — войско первым хочет встретить благороднейшую Галлу Плацидию.
Длинные сверкающие ряды… Тысячи неподвижных, устремленных на нее, как на алтарь, черных, серых и голубых глаз… Приветственный звон оружия, склоненные значки — золотые орлы и черные драконы… Все это для нее. Нет, для него… Она узнала его сразу — эту большую… слишком большую голову… совиные глаза… стиснутые тонкие губы… ястребиный нос… Стоя впереди первой колонны, окруженный пышной свитой, как будто глядя куда-то далеко вперед себя и не замечая ее присутствия, сидит он на белом коне, в длинном белом плаще, в серебряном панцире — солдатишка из Наисса — Констанций — защитник империи, победитель готов, освободитель Галлии, правая рука императора, а по сути — сам император без пурпура, наивысший правитель… И хотя пока притворяется, что не видит ее, не видит, как она с бьющимся сердцем идет вдоль шеренги, сейчас спрыгнет с коня и, усмехаясь точно так же, как несколько лет назад, скажет:
— Похоже, что я дождался…
И неужели это тоже должно было быть карой твоей, Христос, что в самые январские календы[20], ровно через три года после нарбонского обручения и нарбонской брачной ночи, стала дочь Феодосия, вдова короля Атаульфа, женой солдата из Наисса?..
Когда они остались одни и Флавий Констанций начал спокойно снимать с себя одежды, Плацидия, которая стояла уже посреди кубикула босая и в одном просторном белом пеплуме, разразилась вдруг плачем и, задыхаясь от бессильной злости, воскликнула:
— Я не люблю тебя… не выношу… напрасны вся твоя смелость и долголетнее упорство… я любила только одного и не забуду его… В твоих объятиях я буду думать о нем… тосковать по нему! Ты говоришь, что любишь меня, а я знаю: ты любишь казарменные попойки с друзьями… Ступай пей пиво и играй в кости… со своими комесами и их подружками… Я не хочу тебя!
Он стоял перед нею почти совсем голый, скрестив руки на груди. Спокойно выждав, когда она, зайдясь от рыданий, не могла уже слова выдавить, он тихо, но отчетливо начал:
— Я знаю, что ты меня не любишь, но я люблю тебя и жажду тебя всегда, и ничуть мне в этом не мешали пирушки с друзьями, игра в кости и вино — что ж делать, я солдат… У меня свои привычки, как у тебя свои воспоминания… И оставайся с ними… Но еще сегодня, вот сейчас, ты станешь моей, потому что я жажду твоего тела и хочу иметь от тебя детей… Так будет, и не оградят тебя от желания моего и моего супружеского права — права, которое я добыл себе мечом и кровью, — тени тысяч даже самых прекрасных варварских королей! Но прежде чем это наступит, прошу тебя, подумай здраво: ты можешь меня не любить, но не лучше ли для нас обоих, чтобы мы жили в согласии?.. Ты дочь величайшего христианского императора, а я подлинный владыка Западной империи: разве есть сила, превосходящая нашу? Не будем же разбивать эту силу, благороднейшая, но совместными усилиями употребим ее разумно к нашей общей, каждого из нас порознь и будущих детей наших славе. Так что будь мне покорна, жена, этой ночью и всегда впредь, и, я клянусь, ты никогда не раскаешься в своей покорности…
И протянул к ней руку, которую Плацидия после минутного колебания пожала ледяными длинными, сужающимися к ногтям пальцами.
И отдавалась ему всю ночь, не получая никакого наслаждения. Тем не менее ночь эта сделала ее матерью.
То, о чем дальше писал Орозий, не интересовало Плацидию: ни то, что поражения и унижения Рима вполне согласны со справедливостью милосердного бога христиан, ни горячая вера писателя-священнослужителя, что бог знает, чего хочет, а хочет он всегда самого благого: так что недалеко уже лучшее и счастливейшее время, которое — как день после ночи — неотвратимо принесет облегчение и радость и мир после ужасных лет завоевания Рима и распада империи. Плацидия вся погрузилась в воспоминания об этих холодных, как мрамор, гордых и величественных, лишенных любви годах своего второго брака, который был вместе с тем началом ее возвышения. Констанций еще дважды получил звание консула, а спустя неполных пять лет после женитьбы достиг полной вершины: стал императором, полноправным соправителем Гонория. Не разочаровалась в муже Плацидия: ей также пожаловали императорский титул, и она стала называться Августой, а детям — титулы благороднейших. Правда, царствующий в Константинополе Феодосий, сын ее покойного брата Аркадия, не хотел признать ни Констанция, ни их детей, но супруги не дали вырвать у себя пурпур. Констанций пугал Феодосия войной.
— Что, этот сын франконки, этот полуварвар смеет отказывать мне в диадеме? — кипел он от гнева, и тогда нос его выгибался еще больше, а выпуклый лоб от сведенных бровей казался еще выше.
Братоубийственная война казалась неотвратимой, но тут неожиданно после неполных восьми месяцев царствования, после краткой, но страшной и непонятной для лекарей болезни умирает Nobilissimus Caesar Imperator Flavius Constantius Tertius, semper Augustus…[21]
Умирал он спокойно. Смертельная бледность уже покрывала высокий лоб, большая голова тряслась в предсмертном ознобе, а он еще улыбался и говорил окружающим:
— Рановато немного, но что ж… Я же поднялся так высоко, что выше нельзя… чего же мне еще нужно?.. В хрониках обо мне будут писать: в жилах у меня не было ни капли варварской крови, никаких ересей я не признавал… Отхожу спокойно. Прощай, Плацидия… помни о наших детях.
Она думает о нем с уважением: о солдате, о вожде, о владыке, — но без любви, без тоски и даже без сожаления…
Но зато о том…
Все громче посапывает шестилетний мальчик в соседнем кубикуле. Плацидия какое-то время прислушивается в молчании, потом говорит вполголоса, про себя, но так, будто на самом деле с кем-то разговаривала:
— Вот там твои дети. Констанций из Наисса… Спят, здоровые, счастливые и сами даже не знают, какие сильные… А мой первенец… сын Атаульфа и моей единственной одержимой любви… младенец Феодосий, наследник великой империи и великих чаяний, тлеет в серебряном гробике в церковке под Барциноной…
Большая слеза медленно катится по увядающей щеке.
— Больше я ничем не обязана твоей памяти, Констанций Август… Разве я не отстояла пурпур и диадему для твоего сына?.. Разве я не билась с упорством, яростью и мужеством, равным твоему мужеству и твоей ярости, наиссец?.. А ведь я была одна, почти одинока, когда не стало у нас тебя…
Когда не стало Констанция, для Плацидии и ее детей наступили тяжелые времена. Она поссорилась с братом Гонорием, начала против него борьбу, проиграла ее и вынуждена была бежать из Италии, спасая свободу, а может быть, и жизнь — свою и детей: дочери Гонории и четырехлетнего Валентиниана. Но и тогда еще мера ее несчастий не наполнилась до краев: ждало ее новое унижение. Единственным местом, где она могла укрыться, был императорский двор в Константинополе: тот двор, который отказывался признать императорский титул ее мужа, а детям ее отказывал в правах на пурпур! Сколько раз, мечась в гневе и отчаянье на палубе корабля, которым она бежала из Италии и который наняла на взятые в долг деньги, хотела она уже отверзнуть уста и попросить бога, чтобы тот положил предел ее бедствиям… чтобы наслал бурю и утопил в морской пучине корабль вместе с нею и детьми ее… Но всегда до боли стискивала зубы, убежденная, что еще не время для милостиво дарованного покоя на лоне господнем… что у нее еще долг перед детьми и памятью мужа и что она должна его выполнить, не жалея ничего, не отступая ни перед чем… Последнее, впрочем, далось бы ей без особого труда; одержимость, суровость и жестокость были у нее в крови, а несчастья, через которые она прошла, и кровь, которую вокруг себя так часто видела, сделали ее сердце нечувствительным не только ко всяким проявлениям женской мягкости, но и к голосу милосердия и великодушия, которые не чужды были императору Констанцию. С гневными, до боли стиснутыми губами она готова была снести все, что должно было встретить ее при дворе в Константинополе, — но неожиданно была приятно разочарована. В ее споре с братом император Восточной империи решительно занял сторону Плацидии, а когда Гонорий преждевременно умер от водянки, никем не оплаканный и многими проклинаемый как император, в правление которого Рим познал величайшее унижение, ее племянник Феодосий Второй, император Восточной империи, противопоставил узурпатору западного трона, Иоанну, своего малолетнего двоюродного брата Валентиниана как полноправного наследника великого Феодосия и Гонория; Констанцию же был пожалован титул Августа. Поскольку Иоанн не имел ни малейшего желания отдавать императорскую диадему без борьбы, Константинополь отправил против него войско под водительством алана Ардабура, победителя персов, и сына его Аспара. Плацидия с детьми следовала за войском, готовая даже рискнуть жизнью в этой последней битве за пурпур для сына и за подлинную власть для себя.
В салонском порту на Адриатическом побережье войско было разделено на две части: пехота под началом Ардабура должна была плыть морем к Равенне, где заперся Иоанн; Аспар же во главе конницы, имея под своей опекой Плацидию, императора Валентиниана и Гонорию, отправился сушей через Иллирию и Юлийские Альпы. Хотя Адриатика в это время года была неспокойной, но, поскольку поступило известие, что Иоанн послал гонцов с просьбой о помощи к королю поселившихся над Данубом диких гуннов, следовало спешить: вскоре обе половины войска потеряли друг друга из виду. Плацидия и Аспар благополучно достигли Юлийских Альп и собирались как раз обойти горы с юга, когда пришла страшная весть: буря разметала корабли, Ардабур с горстью солдат сумел высадиться и после краткой неравной схватки без труда был взят в плен. Значит, отступать?.. Вожди были склонны считать, что да, но Плацидия с упорством требовала обрушиться на Италию. Наконец воля ее взяла верх: конница Аспара вторглась в италийскую землю и, оставив Плацидию с детьми в укрепленной Аквилее, изо всех сил устремилась к Равенне. Несколько дней Плацидия не имела никаких известий: это ужасное время, полное неопределенности, она проводила в лихорадочном ожидании, не спала, почти не ела, вызывая смятение в своем окружении неслыхано усилившейся гордой строгостью и болезненным блеском больше обычного выпуклых глаз, что делало ее почти уродливой. Но вот перед домом епископа Августина, где она поселилась, застучали копыта: задыхающийся гонец, хорошо известный Плацидии по нарбонским временам гот Сигизвульт, вбежал в атриум с радостной вестью:
— Иоанна схватили… Аспар и Ардабур ведут его сюда, завтра явятся…
Неописуемая радость воцарилась в Аквилее: из Равенны и даже из далекого Рима, запыхавшиеся, насмерть загнав лучших коней, начали прибывать высшие сановники, чтобы заверить Плацидию в своей преданности и верности, напомнить, что они никогда не хотели признавать Иоанна либо молить о прощении и публично покаяться в бездумном грехе отступничества от законного императорского рода. Закишел людьми обычно сонный город. Приведенного на веревке Иоанна толпа осыпала оскорблениями и каменьями — во всем городе, даже в самых дальних и бедных кварталах с жаром передавали друг другу подробности победы: как Иоанн почему-то не казнил схваченного Ардабура, а даровал ему жизнь, что умно использовал пронырливый варвар, войдя в сговор с комесами и трибунами войск узурпатора, он склонил их перейти на сторону Плацидии. Так что когда конница Аспара неожиданно появилась перед Равенной, приведенная к городу единственной дорогой, которая не была перекрыта войсками Иоанна и которую показал Аспару какой-то пастух («Не пастух это был… ангел господний!» — в восторге восклицали аквилейцы), — после краткого сражения войско покинуло Иоанна, громко приветствуя Плацидию и Валентиниана. Узурпатора, правление которого длилось восемнадцать месяцев, Плацидия приговорила к обычному в таких случаях обезглавливанию, но казни должно было предшествовать публичное посрамление и пытки. Италийские сановники, между ними и верный Плацидии с самого начала префект Рима Глабрион Фауст и comes rerum privatarum[22] Басе, были возмущены этим приговором. Они восклицали, что римское право не позволяет измывательств над приговоренным к смерти, и называли решение Плацидии прискорбным подражанием варварским обычаям, коими истинный римлянин должен гнушаться. Но Плацидия была неумолима: в Нарбоне и Барциноне первый ее муж не единожды выносил такой приговор; она считала его справедливым в случае величайшего оскорбления трона узурпацией и более устрашающим, нежели безболезненное обезглавливание, — и настояла на своем. После страшных мучений Иоанн был обезглавлен на арене переполненного амфитеатра огромным готом, который, отбросив окровавленный меч, показал воющей от восторга толпе истекающую кровью голову и воскликнул:
— Все это изведает и так, как вы видели, кончит любой, кто не только святотатственной рукой, но и мыслью кощунственной посягнет на диадему и пурпур императоров, законное наследие Феодосиева рода!
Она победила. За пурпурной завесой, громко посапывая, спит ее и Констанция из Наисса сын, которому через два-три месяца наденут на головку императорскую диадему, накинут на слабые плечики пышный пурпур. И никто их у него уже не отнимет, потому что величие, воплощенное в ребенке, так же как и независимость своей власти, опекать будет ревниво и защищать их будет с одержимостью, мощью и жестокостью, достойными супруги короля варваров, она — Галла Плацидия!
В предрассветной тиши громко застучали шаги. Где-то за стеной взлетают громкие голоса. Раскрывается дверь. Остро выгнутые дуги черных бровей гневно сходятся над выпуклыми глазами. Кто смеет входить в ее комнаты без зова?.. Наглецы… Она им покажет…
Запыхавшийся патриций империи Феликс и управляющий кабинетом императора Геркулан Басс преклоняют колени.
— Великая Августа… Аэций!
Голоса их взволнованы, дыхание бурное. Но что значит Аэций?.. Аэций, префект претория Восточной империи, остался в Константинополе… Спокойный, безвредный мужлан… Неожиданно она соображает: говорят наверняка не о том Аэции, а о другом… о сыне Гауденция… о том, кого узурпатор послал за помощью к гуннам… Она уже понимает: «Сомнений нет — Аэций вернулся и…» Она смеется.
— Sero venientibus ossa…[23] — начинает она. И вдруг при свете восходящего дня замечает смертельную бледность на лице патриция империи и тревогу в мудрых глазах Басса.
— Что?.. Что случилось?.. — спрашивает она трясущимися губами, охваченная вдруг судорожным страхом.
За день до этого, или спустя три дня после казни Иоанна, немногочисленный поезд двигался в сумерках труднопроходимой дорогой через южные склоны Юлийских Альп вблизи того места, где между Белой скалой и истоками Савы сходятся пограничные столбы Италии, Норика и Паннонии и где сильный сторожевой пост следит за безопасностью большой проезжей дороги, тянущейся через Сантий к Вирунуму. Тяжелая трона, которой двигался поезд, состоящий из десятка с лишним всадников и трех плотно закрытых шторами повозок, временами так близко подходила к большой дороге, что чуткое ухо могло уловить стук колес, цокот копыт и оклики воинов. Если приложить усилия, спустя какое-то время можно было пробраться с этой горной троны, почти тропинки, на широкий и удобный тракт, однако всадник в темном плаще с капюшоном на голове, возглавляющий всю процессию, не изъявлял никакого желания выбраться на большую дорогу, несмотря на то, что едущий сразу же за ним подросток неоднократно заводил о том разговор. Несколько поодаль за ними в молчании двигались вооруженные с ног до головы всадники — с мощными мускулами и грубо вытесанными лицами варваров; на одной из повозок чья-то рука время от времени приподнимала штору, и тогда можно было увидеть лица женщин, испуганные, заплаканные, или тупые, обрюзглые лица евнухов.
Ночь в горах спустилась быстро. Но человек в плаще с капюшоном, кажется, хорошо знал дорогу: он не помедлил ни минуты, не дал никакого знака путникам, чтобы те присмотрели место для ночлега, приготовились к ужину и были готовы нести ночной караул. А может быть, ему было все равно, куда ехать и что с ним станется?..
Большая дорога, надо думать, снова приблизилась, потому что даже евнухи и женщины в закрытой повозке услышали стук, топот и многоголосый говор. Но, самое странное, неожиданный шум этот не растворился в тишине столь же быстро, как возник из нее — как в прошлый раз, но продолжался и даже нарастал, несмотря на то что горная тропа снова отвернула от дороги.
Всадник в плаще с капюшоном кивнул одному из варваров, чтобы тот слез с коня, выбрался на большую дорогу и от солдат, а еще лучше — от самих едущих, которых должно быть много, узнал, что там происходит. Никогда не бывало, чтобы с наступлением ночи на дорогах царило такое оживление… Должно быть, произошло нечто поистине небывалое…
— Мы будем ждать тебя здесь…
Было уже совсем темно, когда высланный варвар вернулся с известием, что на дороге огромный людской поток. Сотни повозок, тысячи конных и пеших — с женами, детьми, слугами, со скарбом — мчат с криком, визгом и плачем… Чего-то боятся, от кого-то бегут… Но от кого?.. И что, собственно, творится?.. — этого он так и не смог разузнать…
Крик, визг и плач раздались в одной из трех повозок, но всадник в плаще не обратил на это ни малейшего внимания.
— Зажечь факелы… — приказал он. — Едем вперед… — И вздернул коня. Позади себя он слышал всхлипывания и рыдания в голос и еще топот копыт и стук колес.
Какое-то время тропа шла вниз, потом вверх, потом снова вниз — и вдруг резко свернула, стала шире, перед глазами открылось свободное от скалистых нагромождений пространство и неожиданно — как Адда в Пад[24] — влилась в широкую проезжую дорогу, залитую печальным лунным светом.
На дороге уже нет людского потока, лишь время от времени одинокие всадники, как будто преследуемые призраком смерти, выныривают на свет луны и в мгновение ока растворяются во тьме, оставляя за собой зловещее эхо шальной скачки. А с юга, из мрака, где-то совсем рядом доносится громкий гул голосов.
— Едем дальше, — говорит всадник в плаще с капюшоном и резко поворачивает коня направо, к Сантию, в сторону, противоположную той, откуда доносится шум.
Но тут как из-под земли вырастает усиленный сторожевой пост. Солдаты в шлемах и панцирях, вооруженные мечами, топорами и копьями, окружают всадников и повозки.
— Поворачивайте, — кричат они. — Дальше ехать нельзя…
— Почему?.. Что случилось?..
— Нельзя и все…
Но всадник в плаще не уступает. Он не позволяет завернуть повозки.
— Я не поеду назад.
Приближается начальник отряда, окруженный воинами с факелами. Это немолодой коренастый вандал в звании препозита; у него огромные усы, а на левой щеке глубокий шрам от уха до подбородка. Строгим голосом, нещадно коверкая язык римлян, он приказывает путникам немедленно повернуть.
Всадник в плаще с капюшоном долго вглядывается в лицо вандала. Потом с грустной улыбкой поворачивает голову к своим людям и, пришпорив коня, восклицает:
— Вперед!
Вандал мгновенно срывает с плеча арбалет.
— Еще шаг — и смерть! — яростно рычит он, торопливо закладывая стрелу и целясь в грудь всадника.
— Послушай, приятель… если я поеду вперед, то умру, как ты сказал, — спокойно, громко произносит всадник, — а если поверну назад, то тоже умру…
У вандала дрогнула рука, он выпустил арбалет, вырвал факел из рук стоявшего рядом солдата и приблизил кроваво трепещущее пламя к лицу всадника.
— Кто ты?
В голосе препозита, еще гневном, послышались дрожь и неуверенность.
Всадник откинул с головы капюшон. Факел выпал из руки вандала, рассеяв с шипением тучу искр.
— Flavius Castinus, vir illuster, magister militum…[25] — прошептал он.
— Только теперь ты узнал меня? А я тебя узнал сразу… по этому шраму… Помнишь, когда тебя им наградили, приятель?.. Вместе мы тогда разбили в прах готов Плацидии, а теперь ты ей служишь, а я вот…
Командующего войском Кастина Августа Плацидия приговорила только к изгнанию за пределы империи, хотя имела большое желание отсечь и ему голову. И не столько потому, что в борьбе за пурпур он стал на сторону Иоанна, предоставив узурпатору после его прибытия в Равенну все свои войска, сколько потому, что не могла ему простить ту роль, которую он сыграл, когда она спорила с братом после смерти Констанция. Кастин не только подстрекал Гонория против сестры, но и, когда та, доведенная до предела гнева и отчаянья, перешла к вооруженной борьбе, сумел сохранить большинство войск верными императору, а потом разбил наголову вернейшего и могущественнейшего сторонника Плацидии, наместника Африки Бонифация, в результате чего Плацидии оставалось только одно — бегство. Вот этого-то и не могла ему простить победоносная мать императора Валентиниана; однако ей пришлось уступить настояниям сановников, и без того уже недовольных варварской казнью Иоанна, к тому же, согласно букве закона, измена Кастина не была полностью доказана. Начальник войска ловко защищался, доказав, что вынужден был признать Иоанна из-за взбунтовавшихся подчиненных, которые грозили ему смертью. Разве не был растерзан мятежной солдатской чернью префект Галлии Эгзуперанций Пиктавий? И именно за то, что не хотел признать узурпатора! Плацидия с болью в сердце и с плохо скрываемым гневом вынуждена была ограничиться только тем, что на вечные времена вычеркнула из числа консуляров[26] имя Кастина, который избирался вместе с Виктором в год 424-й от рождества Христова. Самого же полководца — победителя франков, вандалов и Бонифация — cum infamia[27] изгнала из пределов империи.
— Земля дрожит.
Вырванный из скорбного мира своих мыслей, Кастин поднял к светлому от лунного сияния небу обтянутое сухой кожей гладко выбритое лицо. Они давно миновали последнюю воинскую заставу. Больше им не встречались ни повозки, ни всадники. Дорога была совершенно пуста и, как кладбище, спокойная и тихая.
— Земля дрожит, — повторил едущий рядом подросток.
Кастин прислушался. Земля действительно дрожала. Что-то надвигалось на них. Поначалу казалось, что это шелестит ветер в благоуханную летнюю ночь. Спустя минуту им уже казалось, что это шумят морские волны в час прилива. Потом это напоминало людской говор на форуме в послеобеденное время в будничный день. Потом этот же форум во время самого людного сборища… во время следования императорской процессии… в дни голода… накануне вторжения варваров в город! И вдруг точно из-под земли выросли огни, десятки, сотни, тысячи… подвижные огни, мчащиеся в бешеном галопе, рассыпающие миллионы искр, белых, золотых, красных… Кастину казалось, что это сам ад обрушился на голову с жутким ревом, воем сатанинским, зловещим топотом апокалиптических чудищ…
Захолонуло неустрашимое солдатское сердце, безумный страх поднял волосы на хорошо вылепленной патрицианской голове. Значит, правда то, что упорно твердит Плацидия, будто Христос возлюбил род Феодосия и врагов его карает, как своих собственных?! Вот взбунтовался против Феодосиева рода Флавий Кастин — и вот уже разверзлась перед ним, еще живым, адская бездна, чтобы по суду божьему поглотить его со всеми близкими и теми из слуг и друзей, которые не покинули его в последнюю минуту…
— Затопчут… затопчут… сомнут… — слышит он тревожные восклицания.
— Бежать…
— Христос… Спаси, Христос…
Но тут же возвращается к Кастину хладнокровие. Нет, это не геенна огненная подступает к нему… это мчит со свистом и криком огромная людская масса, которая через минуту сметет, как придорожный лист, и всадников и повозки. Но вот от черной, озаренной тысячами трепетных огней подвижной массы отделяется несколько огоньков и мчат вперед с удвоенной скоростью, все дальше и дальше оставляя за собой сверкающую движущуюся стену. При свете месяца опытный взор бывшего командующего с легкостью установил, что скачут несколько десятков всадников с шестью факелами и чернеющим на фоне огней драконом — боевым значком вспомогательных войск империи.
— Заметили наши огни… Приняли нас за сторожевой пост… сейчас ударят, — вновь послышались возгласы в свите Кастина.
Те действительно приняли путников за сторожевой пост, но отнюдь не собирались нападать. Шагах в двадцати они замедлили ход перед неподвижно стоящим Кастином и принялись взывать:
— Императорская служба…
Тут Кастин приподнялся в седле и, напрягая голос, крикнул:
— Кто вы?
— Мы ведем подкрепление нашему императору, — пал ответ, брошенный звучным и властным голосом, столь хорошо знакомым Кастину.
Он понял все. Издевательски горькая усмешка искривила гладко выбритое продолговатое лицо. Не двигаясь с места, бывший командующий приложил обе ладони ко рту и изо всей силы бросил в ночь жестокие, издевательские слова:
— А какому императору?
Он был уверен, что сейчас наступит минута молчания, полного замешательства и тревоги. Но он ошибся: немедленно тот же самый голос, что и до этого, далекий от всякой тревоги, звучный, властный и необычайно уверенный в себе, только несколько раздраженный, ответил:
— Императору Иоанну.
И тут Кастин, нервы которого уже не могли выдержать этой игры, разорвал на груди одежды и, до крови раздирая ногтями нежную кожу, крикнул голосом, полным беспредельного отчаяния:
— Слишком поздно, Аэций… поздно… по…
Неожиданная судорога железными клещами перехватила на лету последнее слово, сдавила его, вогнала обратно в гортань, умертвила… Кастин с трудом перевел дух; прежде чем он успел второй раз схватить ртом воздух, те — под драконом — кинулись на него цокающей лавой ошалелых кентавров и в мгновение ока окружили тесным венцом встревоженных и негодующих лиц, римских, грубо вытесанных германских и обезьяньих, раскосых…
— Кастин… Кастин… — шептал, не веря своим глазам, широкоплечий всадник в плаще аметистового цвета, напрасно стараясь обнять сильной рукой изгнанника, который пятился и сжился с отвращением, точно от прикосновения пресмыкающегося и не переставая кричал:;
— Будь ты проклят, Аэций… И ты, и жена, и дети твои… Три дня… три дня… несчастные три дня…
И рвал на голове волосы, и до крови яростно кусал зубами красивые узкие губы. Если он переставал кричать: «Три дня… всего три дня», — то только затем, чтобы вновь твердить: «Слишком поздно… поздно… поздно…»
Безумный взгляд его то загорался злорадством, когда замечал, как отчаянье и тревога до неузнаваемости меняют окружающие его лица, то вновь полыхал огнем ненависти, как только в поле зрения появлялись спокойные, уверенные, хотя и озабоченные глаза Аэция. Тут он совсем переставал владеть собой, своими движениями, лицом и речью, преображался в оскорбленного Ахиллеса — и одновременно в Эринию, — и уже совершенно сорванным, хриплым голосом; кричал:
— Чтоб тебе пришлось смотреть на смерть своего сына, как я смотрел на смерть Иоанна… Чтобы ему на твоих глазах отрубили правую руку, посадили на осла и возили по арене… а потом отрубили голову… А толпа бы плевала ему в лицо и норовила попасть камнями в кровоточащую рану… та самая толпа, что некогда падала перед ним ниц и кричала: «Аве, император!» Нет уже Иоаннам и нет уже Кастина, командующего войском… Есть только жалкий изгнанник и еще есть покрытый позором Аэций… кунктатор… изменник… трус… Поздно… поздно…
По мере того как голос его все больше хрип, взгляды всех украдкой переместились с его искаженного лица на недвижную фигуру Аэция. Тот, однако, казалось, ничуть не был задет ни словами, ни криком Кастина. Аэций спокойно переждал, пока перейдет в писк, прервется и совсем сломается хриплый голос, и только тогда начал говорить:
— Никогда не поздно, Кастин… Взгляни туда! Видишь эту черную, озаренную тысячами огней живую стену?.. Шестьдесят тысяч воинов дал Аэцию король Ругила, его друг… Разве виноват Аэций, что разлились воды и злобные демоны озер и рек задержали наше прибытие?.. Но повторяю — никогда не поздно… Плацидию, Валентиниана, их войска, а если надо, то и всю Италию мы сметем вмиг, как камешек на дороге… Идем, Кастин! Вели повернуть повозки и коней… Головой своего сына клянется тебе Аэций, что ты увидишь на арене Плацидию и Валентиниана в таких мучениях, что у Иоанна в земле побелеют волосы… Едем!
— Я не поеду вместе с Аэцием.
Из-под аметистового плаща появилась широкая, унизанная кольцами рука; толстые, короткие, отливающие золотом пальцы дружески прикоснулись к плечу Кастина, у которого, видимо, уже не было ни сил, ни воли сопротивляться. Погас лихорадочный блеск его глаз, взгляд стал тупым и равнодушным ко всему. Он даже не шелохнулся под ладонью Аэция.
— Может быть, сиятельный, великий воин, прославленный Кастин утомлен?.. Может быть, душа его, нервы и мышцы нуждаются в отдыхе? — голос Аэция, исполненный неподдельного участия и дружеского понимания, звучал подобно голосу любящего отца. — Может быть, нет временно сил и веры для дальнейшей борьбы?.. Это пустое — Аэций один все сделает за двоих: отомстит за Иоанна, опять впишет имя Кастина в золотые консулярии и честно поделит добычу и славу… Езжай прямо туда, куда ты ехал, Кастин… приедешь к моему другу, королю Ругиле… останешься у него, сколько захочешь… он примет тебя, как брата…
Кастин, уже совершенно спокойный, презрительно пожал плечами.
— И знать я не хочу твоих друзей и с тобой ничего не хочу иметь общего… Поеду куда-нибудь к ютунгам или гепидам… буду жить, как они, и умру среди них… только бы скорей…
И вдруг снова схватился обеими руками за голову и, уже не в силах кричать, застонал:
— Поздно… поздно…
С шипением погасли два факела. И сразу же утонула в темноте половина окружающих Кастина лиц. Аэций перестал быть живым, видимым, реальным — он был уже только бесплотным говорящим голосом:
— Для Иоанна поздно… для Кастина поздно… для живых — нет…
Не успел месяц золотистым краем коснуться черных нагромождений Юлийских Альп, как шестьдесят тысяч воинов снова мчались плотной огненной стеной к недалеким границам Италии, неся на копытах низкорослых, юрких коней ужас, смерть и разрушение. Флавий Кастин долго следил за ними взглядом, а когда на юге угас последний прыгающий огонек, прошептал:
— Ты не в Италии родился, Аэций… И быстро приложил полу темного плаща к неожиданно увлажнившимся глазам.
Одной только радости не изведала Галла Плацидия даже в день величайшего своего триумфа: той невыразимой радости, которую доставило бы ей зрелище последнего унижения и посрамления поверженного врага. Брошенный к ее ногам Иоанн не плакал, не скулил, не целовал ног, которые она незаметно сама подсовывала ему к окровавленным, разбитым каменьями губам. И не прославлял ее добродетелей, чтобы вымолить если не жизнь, то хотя бы конец без мучений. Упорно молчал. И только когда Геркулан Басс со слезами на глазах стал заклинать ее именем Христа, тогда в первый раз заговорил презренный Иоанн, еще два дня тому назад император и господин, прославляемый, счастливый, возвеличенный.
— Император, которого вы зовете узурпатором, благодарит вас, сиятельные мужи, — послышался из-под ног Плацидии голос, полный достоинства и спокойствия, — но откажитесь от дальнейших просьб и уговоров… Неужели вы не видите, что эта женщина — зверь столь же бешеный и жестокий, сколь трусливый и слабый?!
И снова замолк, устремив взгляд, полный упрека, печали и вместе с тем презрения, в клинобородое лицо Флавия Ардабура, которому десять дней тому назад даровал жизнь и который теперь яростнее всех настаивал на елико можно жестокой казни для узурпатора, подкрепляя свои слова примерами мук, к которым прибегали короли его племени, имея дело с пойманными живьем врагами. Примеры эти, излагаемые на плавном и отменном языке римлян и свидетельствующие об отличном знании предмета, определили окончательное решение Плацидии; в одном только не захотела она воспользоваться советом алана — насчет того, чтобы вырвать язык у приговоренного: она ждала, что еще услышит от него мукой вырванный крик боли, отчаяния или мольбу о милости.
Пришлось разочароваться. Ни жесточайшие мучения, ни самое страшное унижение, не смогли вырвать из уст Иоанна слов слабости и мольбы. А ведь — Плацидия знала — мучился он действительно нечеловечески… мучился так, что в переполненном до отказа амфитеатре не было ни единого человека, который бы не верил, что смертного мига ждет Иоанн, как радостного избавления… Поэтому кое-где раздались дикие крики, требующие продлить мучения, заставить осла сделать еще один круг… Но животное и без того было вымотано. Под тяжестью бессильного, почти бесчувственного тела оно валилось на землю, испуганно стригло ушами, между которыми текли на глаза и на морду струйки человеческой крови. Подгоняемое немилосердными ударами палок, оно на каждом шагу увязало в набухшем липкой черно-красной влагой песке и, только когда почувствовало прикосновение раскаленного железа к своему заду, с трудом сумело дотащиться до того места, где замкнулся наконец кровавый круг, тройным красным кольцом окаймляющий арену амфитеатра.
Тогда четыре пары сильных рук стащили безрукое тело с ослиной спины и швырнули его на песок прямо к императорскому подиуму. И тогда узурпатор заговорил во второй раз. Плацидия и окружающие ее сановники нагнулись как можно ниже, чтобы ничего не упустить из того, что он скажет; однако не к Плацидии обращался Иоанн и не к ней устремился его последний, все еще полный безрассудной надежды взгляд. Налитые кровью, почти ослепшие глаза с минуту остановились на чернеющем в глубине зеве двухстворчатых ворот, но, не увидев там никакого движения, ни замешательства, обратились к небу с выражением не муки и не боли, а удивления, упрека и жалобы, которые прозвучали и в его голосе, когда с почернелых, истерзанных губ сорвался последний возглас:
— О Аэций… Аэций…
Удивление, упрек и жалоба, наверное, еще и после смерти виднелись в застывших глазах, но единственный человек, который мог в этом убедиться, — тот, кто сильным ударом меча закончил историю императора Иоанна, — не доставил себе труда заглянуть в мертвое лицо, прежде чем движением Персея показал воющей толпе мастерски отрубленную голову.
Не поспел вовремя Аэций, не спас императора Иоанна, но, когда три дня спустя стал на границе Италии, страх обрушился на жителей Аквилеи и сановников, прибывших ко двору Плацидии. Аспар, правда, двинулся во главе войска в направлении города Форума Юлия, но после кровопролитного сражения поспешно отступил, не в силах противостоять числу и дикой храбрости врага. Гунны шли за ним, как буря, сметая все на своем пути. Аэций торжествовал. Плацидия же вдруг увидела себя свергнутой с вершины триумфа в пропасть тревоги и отчаяния: жестоко казненный Иоанн поднимался из могилы безжалостной, мстительной тенью, куда страшнее, чем был при жизни. Шестьдесят тысяч диких воинов, в сравнении с которыми готы Алариха казались образцом мягкости и благодушия, грозили Италии нашествием куда более страшным, чем те пятнадцать лет назад. Положение ухудшалось, с каждым часом: Феликс, Фауст, Басс и несколько других самых верных приближенных не скрывали от Плацидии, что не только во всей Италии, не только в Аквилее, но и при ее дворе, под самым боком, немало есть таких, кто в случае ее слабости без сожаления отправится в амфитеатр смотреть, как ее возят на осле или как терзают малолетнего императора. А проявиться эта слабость могла в любой миг: еще одна стычка с гуннами — и развалится войско, прежде всего отколются те отряды, которые несколько дней назад под Равенной изменили Иоанну, перейдя к Плацидии, а теперь не замедлят изменить бессильной Плацидии, перейдя к Аэцию…
— Через три дня, если положение не изменится, — говорил Плацидии патриций Феликс, — побежденный лагерь Иоанна во всей Италии открыто подымет голову, провозгласив Аэция своим предводителем…
Среди сторонников Иоанна Аэций не сразу занял видное положение. При жизни императора Гонория он умышленно держался в стороне от борьбы между партиями, служа высоким чиновником в претории Италии, проявив на этой должности столь необычные административные способности, что оба очередных префекта Венанций и Прокул не жалели усилий, чтобы удержать его от возвращения в армию, рисуя перед ним картины головокружительного возвышения именно в цивильной службе. После смерти Гонория Аэций не сразу примкнул к партии, которая решила любой ценой не допустить восшествия Плацидии и ее детей на трон Западной империи; только когда выяснилось, что этот лагерь собирается одарить императорским пурпуром дружески настроенного к Аэцию Иоанна, сын Гауденция без колебаний предложил свои услуги приятелю отца, получив взамен высокий сан при императорском дворе; однако к правлению не был допущен и в борьбе против лагеря Плацидии активного участия не принимал.
И вот пробил час, когда трон Флавиев, Валентинианов и Феодосия начал шататься под бывшим примикирием, а золотая диадема — как-то все крепче сжимать седеющие виски. Тогда-то и проявилась дружба, которой одарил Гауденциева сына могущественный король гуннов, и вес Аэция сразу возрос, что выдвинуло его на одно из первых мест в партии, которая только в дружественном Аэцию Ругиле видела помощь против надвигающейся из Константинополя бури. В качестве мощной опоры трона и партии отправлялся Аэций в Паннонию. Возвращался же оттуда не только как предводитель, но и как олицетворение партии, как ее воскреситель и мститель за казненного императора… Так что когда весть о стоящих под Аквилеей гуннах молниеносно разлетелась по всей Северной Италии, никто не сомневался, что теперь произойдут важнейшие события: Плацидия, запершаяся в Аквилее, находилась перед лицом поражения; Иоаннова же партия, воплощенная в Аэции, брала верх: борьба, которую она начала с женщиной и которой смерть Иоанна, казалось бы, положила конец, вновь вторглась на страницы истории, требуя для себя еще одной главы…
В ожидании этих важнейших событий императорский двор в Аквилее проводил медленно текущие часы в тревоге, бессоннице и бесплодных разговорах о том, что следовало бы делать. Так что настоящим громом поразила сановников и придворных весть, что Аэций, которого благодаря помощи гуннов считали непобедимым, выразил желание пойти на примирение с Галлой Плацидией как законной преемницей пурпура Валентинианов и Феодосия. Это был настоящий удар для тех, кто несколько дней все чаще в мыслях своих примыкал к партии Иоанна; не меньшую, однако, тревогу эта весть вселяла в верных сторонников Феодосиева рода. Что за этим кроется? Чем это кончится?.. Аспар, люди которого доставили в Аквилею эту весть, уведомил Плацидию, что Аэций требует заложников, которые обеспечили бы ему безопасное появление пред ее ликом.
Все эти дни Плацидия делала вид, что не придает никакого внимания опасности, которой ей мог угрожать Аэций. Но на сей раз она уже не могла сдержать радости.
— Значит, сдается?! — воскликнула она.
Аспар, улыбаясь, пожал плечами.
— Отнюдь, о великая… Он только хочет предложить тебе свои условия…
Она не дала ему договорить, разразившись диким гневом. Это что?.. Какой-то там Аэций, жалкий прислужник раздавленного, как гнусный червь, негодяя, смеет ей, внучке, дочери и сестре императоров, предъявлять свои требования?.. И он, Аспар, смеет ей об этом докладывать?.. Несчастный!.. Он действительно заслуживает того, чтобы ему вырвали язык!.. И если ему прощают, то — пусть он знает — отнюдь не потому, что она ему чем-то обязана, а потому, что он как солдат неримлянин, воспитанный вдали от двора, не ведает — несчастный! — что делает!.. Пусть же как можно скорей скроется с ее глаз!..
Аспар покинул комнату, отвешивая низкие поклоны и не переставая улыбаться; а через минуту явились декурионы Аквилеи, дабы коленопреклоненно, со слезами на глазах умолять великую Плацидию пожалеть город, в стенах которого она пережила минуты блистательного триумфа… Не успели они убраться, устрашенные ее гневом, как явились патриций Феликс и префект Фауст. Смиренно преклонили колени, поцеловали край одежды, даже коснулись лбом пола у ее ног — но не ушли, пока не убедила, что иного выхода нет.
Вечером того же дня отправился в лагерь гуннов в качестве заложника гот Сигизвульт, но еще раньше, чем месяц взошел над Аквилеей, вернулся обратно: Аэций велел сказать, что голова Сигизвульта не стоит его жизни…
— Каких же заложников хочет Аэций? — гневно спросила она.
— Сиятельного Аспара и святейшего епископа Августина…
Казалось, Плацидия обезумеет от ярости. Как?.. Один Аспар стоит по меньшей мере двадцати таких Аэциев, а что касается епископа — разве может набожная Плацидия позволить, чтобы из-за нее хоть один волос упал с головы Христова служителя?.. Подлый Аэций хитро обеспечивает себе безнаказанность: волосок не посмеет она тронуть на его голове, лишь бы не подвергнуть опасности жизнь заложников! А с каким бы наслаждением она искупала его в кипящей смоле!..
Аспар согласился без колебаний. Епископ Августин плакал и трясся всем телом, уверенный, что уже не вернется от язычников с обезьяньими лицами, от этих уродливых демонов… Но и не сказал: «Нет…» Судьба вверенного его попечению города казалась ему важнее собственной жизни. Он только созвал виднейших представителей Аквилеи и заклинал их, чтобы избрали его преемником священника Адельфа. Потом, уже совершенно спокойный, сел в неудобную лектику, не желая ехать в одной повозке с еретиком Аспаром.
Миновали ночь и день, который Плацидия провела в молитве и посте. С сумерками она велела принести самые роскошные одежды. Потом закрылась в библиотеке с сыном и двумя самыми преданными приближенными. Темнело, но она не позволила зажечь света. В то время как молодая Спадуза надевала ей на ноги затканные золотом башмаки, а старая Элпидия, с трудом управляясь в полумраке, закалывала золотыми шпильками черные переплетения волос, Плацидия качала на коленях шестилетнего императора, мерно колыхаясь и напевая грустную готскую песенку.
В какой-то момент Спадуза заметила, что красный, закрывающий дверь занавес дрогнул, будто его коснулась с другой стороны неуверенная рука.
— Можешь войти, Леонтей, — засмеялась Плацидия.
Верный старый слуга на коленях вполз в библиотеку и, склонившись как можно ниже, поцеловал покрытый затканной золотом тончайшей кожей большой палец Плацидии. Потом замер недвижно.
— Можешь говорить, — раздался спокойный и звучный голос.
— С твоего позволения, великая… Сиятельный Аниций Ацилий Глабрион Фауст…
Префект Фауст, казалось, совсем забыл о предписанном церемониале. Быстрым шагом вошел он в библиотеку и, резко прервав Леонтея, воскликнул звучным голосом, не в силах скрыть волнение:
— Аэций ждет!
Медленным, величественным шагом — укрыв руки в широких, затканных золотом рукавах, — Плацидия прошла в триклиний, а оттуда через фауцес в атрий, где десять больших ламп бросали десять светлых кругов на мозаичный пол с изображением десяти мудрых дев с зажженными светильниками в руках. Одна из этих дев, казалось, чем-то особенно привлекала внимание Аэция, он только после некоторого усилия сумел оторвать взгляд от мозаичной фигуры, чтобы перенести его на живую деву. Взгляды их скрестились и тут же отпрянули, точно спугнутые, книзу: один — к его голым коленям, другой — к обутым в золото ступням… Оба заметили одновременно: она — что колени слишком массивные… он — что ступни маленькие… короткие… слишком короткие… и широкие… И оба одновременно подумали одно и то же: «А пригодится ли это на что-нибудь?..»
Борьба началась.
— Мы были уверены, что ты не преклонишь колен, Аэций.
Только теперь он посмотрел на нее пристально и чуть ли не с восхищением. Противник, похоже, стоит игры. Первый удар она отразила без труда и теперь сама переходит в наступление.
— Ты ожидал, что, нарушая священный церемониал, ты разгневаешь нас… поколеблешь… выведешь из спокойствия, приличествующего величию? Бедняга! Ведь мы же знаем, что ты вырос среди диких варваров… среди народа, обезьяноликий король которого ночью не отличит своего слуги от нечистой скотины… Мы помним те времена, когда посылал тебя твой отец Гауденций к этим гуннам — сам великий брат наш Гонорий Август уронил тогда слезу, скорбя о тебе и твоей судьбе… Нет… не говори ничего… Мы знаем все, что хочешь сказать!.. Ты стремился сказать, что знаешь церемониал… что ты был cura palatii[28] при дворе Иоанна… Смейся, Аэций! Отличную рекомендацию даешь ты своему государю, который не научил тебя преклонять колени перед величием… разве что ни он, ни ты не верили в ту предерзостность, что императорское величие могло отринуть род Феодосия и почить на висках негодяя… Но в таком случае кому же ты служил, Аэций?.. Святые Юст и Пастор! Как же низко пала сиятельная Гауденциева кровь…
И неожиданно — по заранее намеченному плану — сурово наморщила чело и брови, пронзила Аэция взглядом громовержицы и голосом, который великолепно выражал возмущение и гнев, воскликнула:
— Как ты посмел служить узурпатору, выступая против законного своего владыки, негодяй?!.
Аэций развел руками.
— Да простит мне великая Плацидия… но я никогда не выступал против законного владыки…
Она удивленно взглянула на него, а он продолжал:
— Благоволи только выслушать меня, великая Плацидия… Благороднейший император Валентиниан, сын твой, мой законный владыка, не правда ли? Так вот, — насколько память мне не изменяет — сиятельный патриций Гелион провозгласил благороднейшего Валентиниана императором на десятый день перед ноябрьскими календами прошлого года, слуга же твой, Аэций, о великая, с сентября находился за пределами империи… Так как же он мог выступать против своего законного владыки?.. Тогда же, когда он действительно служил Иоанну, благороднейший Валентиниан еще не был императором, — так что не было и законного владыки, которому я мог бы изменить…
— Паясничаешь, Аэций! — уже с искренним гневом воскликнула Плацидия. — Не было ни дня, ни часа, ни минуты, потребной для единого лишь вдоха, когда бы империя была лишена законного правителя… Хотя есть Восточная и Западная империи, западный император и восточный — власть едина, едино величество и едина coniunctissimum imperium…[29] Со смерти великого брата нашего до провозглашения императором благороднейшего сына нашего как Запад, так и Восток имели одного владыку — моего племянника императора Феодосия Второго… И он был твой законный государь…
— Очень уж премудро и хитро для моего ума, великая Плацидия, и трудно уразуметь твои слова… Ты же знаешь, что вырос я среди диких варваров, так что и мыслю, как дикари мыслят: один — это один… а два — это два… На смертном ложе сказал великий Феодосий Август: «Делю, как яблоко, на две половины свою империю… Вот partes occidentis, вот partes orientis[30]. Император Запада и император Востока… Не один, а два…»
И мужицким жестом поскреб в голове, пронзив Плацидию таким вызывающим взглядом, что у нее уже не осталось сомнений: не двадцати, а самое большее трех таких Аэциев достоин был Аспар — недооценивала она противника… Но чем меньше было пренебрежение, с каким она к нему относилась, тем сильнее вздымалась теперь ненависть. Ох, как жаль, что этот ловкий наглец сможет безнаказанным уйти от нее, унеся целыми обе руки и ноги… и зрачки… «Надо кончать разговор, — подумала она. — Не пристало, чтобы он своей изворотливой и хитрой речью подвергал величие непочтению…»
Но как — то ли дальше вести начатую игру, делая вид, что принимает за чистую монету все, что он говорит, или сразу бросить ему к ногам, как кость бешеному от голода псу, эти жалкие условия?..
Эти условия?.. Она обдумала их вместе с Аспаром, Феликсом и Фаустом… Как же она их всех ненавидела, когда они принуждали ее пожертвовать поруганным величием, принеся его на алтарь блага и безопасности Италии!.. Губы ее шевелились в беззвучной молитве — она просила Христа даровать ей спокойствие и смирение… Когда настанет безжалостная минута унижения, когда придется назвать условия, — пусть же сделает Христос так, чтобы она не разрыдалась или не кинулась на дерзкого негодяя с укрытым в широком рукаве оружием…
В то время как Плацидия размышляет и молится, взгляд Аэция снова устремляется к одной из дев на мозаичном полу. Особенно занимает его светильник в руке этой девы: нет, не пламя цвета граната, пламя, которого никто никогда не видал… а то, почему у светильника, напоминающего по форме очень уменьшенный франконский щит, по бокам два равноудаленных от центра отверстия?.. Что за глупец выкладывал эту мозаику?.. Ведь даже маленький Карпилий и тот знает, что если в лампе пробить отверстия, то все масло тут же выльется…
— Хотя бы все, что ты сказал, было правдой, Аэций, — снова раздался голос Плацидии, — это не снимает с тебя обвинения в том, что ты служил против законного государя… если не раньше, то сейчас… Разве ты не спешил на помощь Иоанну, ведя тысячи и тысячи диких воинов?.. Разве не по твоему приказу горят вокруг Аквилеи деревни и леса?.. Разве не из-за тебя в борьбе с этими дикарями полегла не одна сотня верных императорских солдат?..
Удивленный взгляд Аэция перебегает с мозаики на лицо Плацидии: светильник этот пересечен снизу тройной волнистой чертой…
— Великая Плацидия несправедливо осуждает Аэция, — отвечает он. — Я шел к Аквилее не мстить за казненного Иоанна — пусть меня демоны схватят, если я лгу!.. — и не хотел биться с верными императорскими солдатами… Я хотел только чувствовать за собой такую силу, чтобы безнаказанно и безопасно стать перед твоим священным обличием, как стою сейчас: так что выслушай меня…
Память быстро убегает далеко-далеко, в давние времена: да… вот оно то, что ему нужно… изменить только человека, место и вот…
И вот…
— Выслушай меня, великая Плацидия… Давно, давно, когда тебе насчитывалось только шесть весен, а слуге твоему Аэцию четыре — твой великий отец победил язычников как раз здесь, под Аквилеей. И как раз в этом доме, в этом атриуме, где мы стоим — так же, как ныне твой, так после победной битвы разместился двор твоего отца, о великая… Там, где стоишь ты, стоял император Феодосий, где я — стоял центурион Гауденций. И соблаговолил спросить император центуриона: «У тебя есть сын, отважнейший из моих солдат?..» — «Есть, государь наш», — ответил центурион. «Как звать?» — «Аэций, о — великий…» И тогда священная рука удостоила милостью солдатское плечо, а священный императорский голос произнес: «Мы хотели бы, Гауденций, чтобы сын твой так служил нашим детям, как ты служишь нам…» Услышав эти слова, центурион Гауденций преклонил колено, так же как я преклоняю сейчас…
Ладонь в широком, затканном золотом рукаве быстро приближается к бурно вздымающейся груди: держать… держать… крепко держать, чтобы от неожиданной радости и гордости не выскочило из тела полное счастья сердце… Победила, одолела, подавила!.. Разве могла она верить, мечтать, рисовать себе, что это на самом деле случится?.. Какой он добрый и милосердный, Христос! Переполнил радостью сердце верной своей рабы и принизил ее врага… Вот она, минута возмездия… минута удовлетворения и мести за бессонные, полные муки и тревоги ночи… за полные слабости и унижения дни… Неужели она позволит уносящемуся в даль времени увлечь эту минуту, не дав насытиться ею всласть?.. Никогда, никогда!..
— Аэций преклоняет колено?.. Аэций может склониться?.. Мы думали, что немощь, которая такой толщиной поразила его колено (пригодилось, пригодилось!), не давала возможности сгибать его… А на самом деле все иначе… Все не так, как мы думали… Аэций не хотел ни спасать Иоанна, ни отомстить за него… он только хотел служить нам, как его отец служил нашему?! Похвальное стремление… Но Гауденций был солдатом… А Аэций? Спрашивали мы всех: кто же он таков, оный Аэций?.. Все смеются и говорят: заложник… Всю жизнь был заложником!.. У гуннов, а до этого у готов… Сколько же лет ты провел пленником у готов, Аэций?..
— Всего на два года меньше чем ты, великая… Я помню — ты не соизволила на меня взглянуть… вообще ни на кого не смотрела… шла — дочь великого Феодосия — перед конем Алариха…
Плацидия залилась пурпуром.
— Христос хотел нас испытать!.. Нас и всю империю! — воскликнула она в гневе. — И как день после ночи, так явилась к нам после покаяния слава… Ты знаешь, что мы стали супругой могущественного короля готов…
— Так мы и породнились, великая Плацидия… В моей жене также кровь готских королей… Мы чуть ли не брат и сестра…
— Дочь Карпилия?.. Далекое, очень дальнее родство с королями… А где ты с нею познакомился, Аэций?.. Признайся… Верно, прибегала к тебе по ночам, приносила объедки от ужина голодному пленнику?..
Ответа она не получила. И снова подумала: «Победа». Она вскинула надменные арки черных бровей и взглянула на него свысока, царственно, с презрением… Но тут же брови опали, лоб нахмурился…
— Куда ты смотришь, Аэций?..
Он не поднял на нее глаз.
— На твои ноги, о великая, — произнес он спокойным голосом. — Какие же они маленькие (пригодилось, пригодилось!)… видно, что нежные… непривычные ходить быстро, да еще по острому и твердому… Как же должны были они истекать кровью и болеть, когда, босая, ты шла по улицам Барциноны… Помнишь? Когда презренный Сигерих не посчитался с величеством, а толпящаяся на улицах чернь вторила ему, издеваясь над вчерашней королевой?..
Открытый рот ее с трудом ловит воздух.
— Сигериха наказал господь, — кричит она, — а нас король Валья с честью отослал нашему брату!..
Аэций кивает.
— Помню… помню… Отважный Констанций голодом принудил готов… что же еще оставалось делать королю Валье?.. За шесть раз по сто тысяч мер пшеницы отдал императору сестру… Неплохая цена… Помню — сколько нагруженных телег повел с собой к готам Евплуций!
Минута смертельной тишины. А потом глухое, придушенное:
— Уходи…
Спокойное пожатие плеч.
— Куда приказывает идти великая Плацидия?
Но и Плацидия через минуту обретает спокойствие. Только лицо у нее почти синее и рот почерневший, как у Иоанна перед ударом палача.
— Я хотела бы… — она уже не говорит: мы хотели бы. — Я хотела бы, чтобы там за дверями на тебя бросились мои готы… Чтобы они выкрутили тебе руки, так, чтобы я даже здесь слышала хруст костей… чтобы облили тебя смолой, а потом бросили на муравейник… Но мне жаль Аспара и епископа — не стоишь ты их жизни, Аэций… Ступай, куда хочешь, куда бы ты ни пошел, везде тебя настигнет месть поруганного тобой величия…
Аэций преклоняет колено.
— Иду, великая… Как прискорбно, что ты не жалуешь моих услуг… Удаляюсь… Скажи только своему слуге еще одно: как быть с шестьюдесятью тысячами воинов, которые, жаждая крови, грабежей и добычи, ждут в полумиле от Аквилеи моего приказа… а ведь завтра они будут уже в ста шагах?..
Что делать! Не уберег ее Христос еще от одного унижения. Придется сказать все, что она решила совместно с Аспаром, Феликсом и Фаустом. Будь проклята она, эта минута!
— Жена твоя, Аэций, и сын вот уже четыре дня в наших руках… Пока еще живы… Но будут ли живы завтра?.. Так вот, слушай нас, Аэций. Если ты клянешься святым крестом и ранами Христовыми, что отошлешь гуннских воинов королю Ругиле, а сам никогда уже не вернешься в пределы империи, — я отдам тебе жену и ребенка, и все твое имущество, которое ты сможешь продать, а все, что получишь от продажи, забрать с собой…
Она чувствовала, что через минуту разразится неудержимым потоком слез. Уже ломается ее голос, когда она спрашивает:
— Разве это не величайшая императорская милость, Аэций?.. Ты не рад, что спасешь сына и жену?.. Ты же понимаешь, что им грозит?..
— Понимаю. Ведь это по твоему приказанию задушили благороднейшую Серену, жену Стилихона… Допускаю, что и мою жену ты бы удушила… может быть, даже собственной рукой?..
А через минуту:
— Но это Аэций про себя так рассуждает, великая… и в упрек тебе этого не ставит… наоборот… Ни того, что ты с Иоанном сделала… Я не Басс и восхищаюсь твоей волей и строгостью… Но ты ошиблась… Аэций не может принять твоих условий…
Она бросила на него взгляд, полный удивления.
— Это что, Аэций? Тебе не дороги жизнь твоей жены и сына?
— Дороже всего, великая, дороже всего… Но то, что ты даешь — даешь мне… А что получат тысячи гуннских воинов? Им-то что до жизни моей жены и ребенка?.. Они жаждут крови, добычи, женщин… награды за тяжелый поход… Как бы я этого ни хотел, я уже не смогу их повернуть… а завтра они кинутся на Аквилею…
В голосе его звучала такая искренность и чуть ли не забота и тревога, что Плацидия, сама вдруг придавленная неожиданным грузом заботы, впервые взглянула на него без ненависти.
— А ты… ты мог бы что-то сделать, Аэций? — спросила она через минуту.
Аэций снова преклонил колено.
— Я и только я могу что-то сделать, о великая, — воскликнул он звучным горделивым голосом, — и посуди сама, не послужит ли то, что я посоветую, для блага империи и твоего правления… Отослать можно шестьсот гуннов, но шестьдесят тысяч… Вот так и сделаем: королю Ругиле пошлем заложника, который показался бы ему достойным… вождям устроим пиршество, дадим им богатые дары и отошлем назад, откуда пришли… воинов же примем на императорскую службу… Спроси Феликса, спроси Аспара, великая… Войска империи распадаются — и ничего удивительного… Готы, франки и бургунды предпочитают служить королям своего народа, а не римскому императору. На германцев мы уже не можем полагаться. Значит, возьмем гуннов — они храбры, жестоки, страшны и непритязательны… Особенно требуют пополнений доместики — дворцовая гвардия. Так пусть же великая Плацидия не теряет времени — отдай только приказ, и завтра у тебя будет шестьдесят тысяч доместиков…
Она слушала его со все возрастающим изумлением. Все, что он говорил, было правильно и умно.
— Почему же ты не говорил так с самого начала, Аэций? — произнесла она почти мягким голосом. — Хотя ты и тяжко оскорбил величие, но то, что ты сказал, не кажется нам ни дурным, ни неумным… Значит, ты уверен, что если только захочешь, то сумеешь склонить гуннов, чтобы они вместо того, чтобы биться против нас, стали биться за нас?..
— Ты сказала, великая… Только…
— Только?..
— Только соблаговоли выслушать еще одно… Дикие варвары, которые пополнят ряды доместиков, недоверчивы, ослушливы и не приучены к римским обычаям… Предводитель, которого они хорошо не знают и которому не будут доверять, не справится с ними — только вызовет бунт и лишится жизни… Так что нужен человек, который знает гуннов, как родных братьев, и который…
Она с лету поняла все.
— И ты хотел бы, Аэций?!. — воскликнула она голосом, снова гневным и возмущенным.
— Ты это сказала.
— Ты хотел бы стать?..
— Начальником дворцовой гвардии, великая Плацидия.
Она расхохоталась.
— Почему ты изволишь смеяться? — спросил он оскорбленно. — Разве мой отец не был начальником конницы?..
— Но ведь сколько лет он служил…
— А разве не был начальником дворцовой гвардии тесть мой, Карпилий?
— Но Карпилий был королевской крови, Аэций…
— Очень отдаленное родство, как минуту назад сказала ты, великая Плацидия.
Плацидия принялась расхаживать. Ноги ее то погружались во тьму, то выныривали в одном из десяти светлых кругов.
Аэций следил за ней молчаливым взглядом.
Наконец она остановилась.
— Даже наш супруг, Флавий Констанций Август, начинал службу с декана…
— Я уже был центурионом, великая.
— Мы нарекаем тебя трибуном, Аэций.
Он покачал головой с грустью.
— Это невозможно.
Она снова принялась ходить.
— Хорошо, Аэций, — сказала она вдруг, не замедляя шага, — отныне ты комес… нет, даже дукс, но над ауксилариями… Гунны доселе всегда служили ауксилариями…
— Но ты, великая Плацидия, сама изволила признать, что большого пополнения требуют дворцовые когорты…
— Будет так, как мы сказали, Аэций.
Тогда он поднялся с колен, скрестил руки на груди и, глядя исподлобья, процедил:
— А что будет с Аквилеей?
Она рассмеялась.
— Недаром наш супруг император был солдатом, презренный… Мы знаем, что гунны не умеют брать стены… не владеют осадным искусством… Два года ты простоишь, Аэций, а через три месяца сюда явятся войска из Галлии, Испании, с Востока… а через месяц из Африки…
— А через две недели сторонники Иоанна в Риме провозгласят нового императора… а через три — вернется из изгнания Кастин… Вся Италия снова поднимет голову, как один человек… Смута, беспорядки, пожары… А великая Плацидия и все сиятельные мужи, точно в склепе, будут замкнуты в Аквилее…
— Твоя жена и ребенок погибнут…
— Не погибнут. Ты сама знаешь, что они в Риме… Прежде чем префект Фауст успеет послать гонца с приказанием казнить их, в городе будет новый префект…
Она подошла к нему так близко, что кончики их ступней очутились в одном светлом круге.
— Раз уж ты так силен, Аэций, а я так слаба, то почему же ты не прикажешь своим гуннам убить меня (меня… не нас!) и моего сына и не станешь сам императором, как Иоанн?..
Он взглянул ей в глаза откровенным, ясным взглядом.
— Почему? Ответить нетрудно… Я хочу служить тебе и твоему сыну, как мой отец служил твоему отцу…
— Но нам неугодна твоя служба.
— Но тебе неугодно и разрушение Аквилеи.
— Довольно. Есть ли в Аквилее кто-нибудь, кого бы слуга узурпатора мог назвать своим другом?
Он пожал плечами.
— Мне кажется, что сиятельный Геркулан Басс не имеет обыкновения менять друзей с переменой государя…
— Удивляемся мы сиятельному Бассу. Сейчас Аэций преклонит колено перед величеством, после чего отправится в комнаты Геркулана, откуда мы призовем его завтра в полдень…
Аэций усмехнулся.
— Масло выгорает в светильниках — близится полночь… А я сказал гуннским вождям, что вернусь в полночь или пришлю какое-нибудь известие… Если я стану ждать до утра, то боюсь, что язычники не пощадят святости духовного сана и в полночь Августин…
— Через час мы призовем тебя, Аэций, а теперь ступай… ступай отсюда поскорее…
Он низко поклонился, но, как и при встрече, вновь не преклонил колен. Пружинным шагом двинулся он к выходу. И вдруг на пороге разразился резким радостным смехом.
Этого смеха Галла Плацидия не простит ему никогда. Вообще-то она ничего ему не простит… ни единого взгляда, ни единого слова… Но этого смеха прежде всего…
Аэций же смеялся потому, что разрешил загадку странного светильника в руках одной из евангельских дев. Пригодилась наука старого грамматика: ведь эта мозаика раньше изображала девять муз с матерью их Мнемозиной. По требованию набожного епископа пол переделали: художник воспользовался числом фигур и преобразил их в десять мудрых дев. А странный светильник с отверстием — это же маска в руках Мельпомены! Аэций долго не переставал смеяться.
В атрии вновь долили масла в лампы. Благороднейший император Плацид Валентиниан, посаженный Спадузой на высокое кресло, раскинулся между поручнями в напряженной и торжественной позе, к которой его приучили уже на втором году жизни и за нарушение которой его величество не единожды получало хороший шлепок от старой Элпидии. Стоящая рядом с креслом Плацидия, казалось, уже совсем не стыдилась слез, которые обильно струились по увядшим щекам; как только Аэций покинул атрий, она разразилась долго не смолкающими рыданиями, которые вместо того, чтобы затихнуть, только усилились, когда в комнату вошли Феликс и Фауст; женщина взяла верх над императрицей… Не переставала она плакать и все время совещания с сановниками, которые не только признали необходимым согласиться на требование Аэция, но и были того мнения, что то, что тот говорил о разложении войска и о необходимости и средствах поправить положение, лучше всего свидетельствует о качествах нового начальника дворцовой гвардии, от которого Плацидия и империя могут действительно иметь большую пользу. А если она так его ненавидит, как говорит, то чего же легче — взять и послать его в Галлию против готов или франков?! Тогда он или проявит себя хорошим и полезным полководцем, чем совершенно загладит свои провинности по отношению к Феодосиеву роду, либо покроет себя позором, а тогда столь же легко будет лишить его командования, сместить, ослабить, уничтожить?!.
— Кроме того, — говорил префект Фауст, — он же солдат, будет сражаться… каждую минуту подвергать себя опасности, встречаться со смертью… может даже погибнуть в первой же битве…
— И не обязательно в битве, — прервал его патриций. — Можно погибнуть даже от руки собственного солдата…
Залитое слезами лицо Плацидии оживилось. Но префект Фауст строго наморщил высокий выпуклый лоб.
— Вероломное убийство? — спросил он с отвращением в голосе.
Феликс пренебрежительно пожал плечами.
— Никто не говорит о вероломном убийстве… но разве не случаются военные бунты? Ведь и отец Аэция погиб как раз от рук разбушевавшейся солдатской черни… Так что можно предположить, что буде сын его желает идти по стопам отца, то, будем надеяться, во всем…
— Хоть бы небо даровало это, — вздохнула Плацидия. — Вы сказали, сиятельные мужи, и нам кажется, будет на благо поступить по вашему совету… Но мы клянемся вам мукой Христовой и главой благороднейшего сына нашего, что хоть бы Аэцир стал вторым Констанцием, хоть бы он, яко бич господний, поразил всех врагов империи, мы никогда ему не забудем, никогда не простим слез, которые вы впервые и — клянусь вам величеством — в последний раз видели в наших глазах, о славные мужи… Так будет.
Придворные, трибуны и юноши из школы дворцовой гвардии заполнили атрий. По правую руку Плацидии стали Феликс, Фауст и Ардабур, по левую сторону императорского трона патриций Восточной империи Гелион, священник Адельф и comes sacrarum largitionum[31] Руфин. На пороге появился в сопровождении Геркулана Басса Аэций.
— Пусть Аэций приблизится, — послышался спокойный, торжественный, почти милостивый голос Плацидии.
И сразу же:
— Ты говорил, Аэций, что королю Ругиле нужно послать достойного заложника. Я полагаю, что это не должен быть ни достопочтенный Аспар, ни сиятельный Феликс…
— О нет… Вполне достаточно моего сына Карпилия…
На лицах всех присутствующих рисуется изумление.
— Карпилий?.. Но ведь это еще ребенок! — восклицает Плацидия, удивленная и снова разгневанная.
— Уверяю тебя, великая, что во всей Западной империи для Ругилы нет более драгоценного заложника… разве что благороднейший император…
Новая волна ненависти приливает к сердцу Плацидии. О святые Юст и Пастор!.. Лучше уж быть слепой, чем видеть эту гордую усмешку на широком, так хорошо знакомом и ненавистном лице… С трудом пересиливает она себя, бросает на Аэция милостивый взгляд и что-то шепчет на ухо сыну.
И вот с высокого трона стекает тонкий детский голосок:
— Приветствуем тебя, Аэций… Отныне Флавий Аэций — начальник дворцовой гвардии… Здравствовать тебе, сиятельный…
— Ave, vir illuster[32] — повторяет Плацидия.
И тут Флавий Аэций, с этой минуты один из восьми наивысших сановников Западной империи, сгибает одно колено, потом другое, склоняет голову к подножию трона и, касаясь лицом холодной мозаичной маски Мельпомены, точно желая почерпнуть от нее вдохновение, говорит:
— Слуга твой ждет, благороднейший император… Приказывай. Твоя воля — единственная радость Аэциевой жизни… Как отец мой Феодосию и Гонорию, так и я тебе, государь наш, клянусь верно служить мечом и советом… Кровь моя, имущество мое и честь принадлежат тебе — да поможет мне Христос!
Когда в ночную тишь ворвались вдруг протяжные, заунывные звуки тибий, которым завторил мощный, оглушительный голос буцины и настойчивый призыв рогов, разбуженные ото сна, заспанные, стянутые с постелей препозитами и деканами солдаты долго не могли понять, что, собственно, происходит. Они не верили своим ушам. Вот уже четыре года, с самой смерти Констанция, ночная побудка ни разу не нарушила сна дворцовых когорт, даже самые старые солдаты успели от нее отвыкнуть, почти забыть о ней… И вот опять!..
Поспешно надевая одежду и оружие, солдаты смачно бранились от всего сердца на нескольких разных, не похожих один на другой языках. Ругались готы и вандалы, аланы и франки, бургунды, саксы, сарматы, свевы, норы, герулы и гунны… Когда же приходила охота дать единый выход своим чувствам, только тогда звучала речь латинян… раздавались витиеватые и похабные ругательства, которых они наслушались от своих случайных — обычно на одну ночь — подружек здесь, в Равенне, в Риме, в Аквилее…
Еще до недавнего времени доместики, очень немногочисленные как самостоятельное воинское формирование, являлись охранными войсками императоров, доступ в которые был необычайно трудным. Во многих отношениях они напоминали былых преторианцев: в предыдущие царствования иногда целые поколения доместиков никогда не покидали императорского двора, почти никогда не знали трудностей и опасностей настоящей войны, так как обычай наказывал императорам никогда не расставаться с ними: сами же императоры все реже появлялись там, где происходили военные действия. Если же некоторые из них, как, например, Феодосий в борьбе с языческим Западом, предпринимали дальние военные походы, то сопровождавшие их доместики пользовались рядом послаблений, исключений и привилегий, недоступных другим войскам. Но за последнее время многое изменилось: Констанций не раз бросал личные войска в самую гущу схваток с варварами за Галлию, что повлекло за собой большие потери в людях, потери восполняли наскоро, все меньше заботясь о качестве пополнения. Помимо этого, начальники дворцовой гвардии, коих воинские узаконения делали не подвластными начальнику войска, вверяя их непосредственному ведению императоров, с годами получали все большую независимость и свободу действий, ослабляя связь между этим войском и императором настолько, что в Константинополе двор уже подумывал о создании новой разновидности дворцовой стражи, более прямо, нежели доместики, подчиненной личному командованию государя. В период же, когда Плацидия от имени Валентиниана приняла правление, доместики почти полностью утратили характер дворцовой стражи и в любой момент могли быть использованы для военных действий, которые ни на полгода не переставали раздирать галльские провинции или Испанию.
Тем не менее, оставаясь и дальше особым войском, они не отказывались от притязаний на особые отличия, милости и привилегии, — а поскольку с ними считались, то им действительно чрезмерно потакали, несмотря на то, что это вызывало разложение и ослабление их боевой ценности, не особенно утруждали их службой даже в пределах весьма снисходительного толкования воинских правил.
Так что возмущение солдат по поводу ночной побудки не имело границ. Они не только ругались, но и угрожали деканам и центурионам, когда же кому-то из трибунов удалось перекричать галдеж и сообщить приказ нового комеса, что каждый, кто будет мешкать, получит сто палок, а тот, кого уличат, что он говорит товарищу: «Куда ты торопишься?», — тут же будет повешен, — солдаты остолбенели от изумления. Гул тут же смолк.
— Значит, есть уже новый комес! — восклицали они в изумлении.
Когда же узнали, что разбудили их потому, что новый комес хочет увидеть своих солдат, удивление и изумление их уже не имело границ. Они привыкли к тому, что комесы отсыпаются в своем дворце допоздна, а приказывают и управляют через трибунов, так что солдаты не видят их годами. Стремясь увидеть нового чудака-начальника, который норовит устраивать смотры по ночам, доместики одевались и вооружались в три раза скорее, чем делали это обычно днем. Одни расспрашивали других о новом комесе; многие служили у его тестя Карпилия, некоторые даже помнили его отца, но почти все: вандалы и готы, свевы и аланы, франки, бургунды и саксы, — морща носы и брови, недовольно крутили головами: «Опять римлянин!..» Они уже успели привыкнуть к предводителям из своей среды…
На огромном дворе Лаврового дворца, императорской резиденции в Равенне, шпалерами, сверкающими при лунном свете и факельных языках, выстроились прямоугольники доместиков. Одежду и вооружение они имели преимущественно одинаковое, римское, кое-где, однако, в шеренгах можно было увидеть варварское облачение: рога на шлемах, медвежьи шкуры на плечах, большие продолговатые щиты, франконские двойные топоры и скрамасаксы, иначе говоря, тяжелые, целиком отлитые из железа, ужасающе длинные копья аланов.
Вновь залились заунывные, протяжные тибии, снова загремели буцины. Готы, вандалы, аланы, франки, герулы, сарматы и гунны, как один, повернули головы направо, откуда, медленно выплывая из темноты, с хрустом приближалась многочисленная свита комеса.
Стоявшие впереди шеренг, на десятки, а то и на сотни шагов отделенные друг от друга, трибуны в один момент дружно как один человек повернулись на пятке и воскликнули:
— Баритус![33]
— Баритус! — эхом отозвались препозиты.
— Баритус! — рявкнули центурионы и деканы.
Громкий крик из многих тысяч глоток разорвал тишину упоительной италийской ночи. Гордость, мощь и непрестанное желание воинов сражаться звучали в этом древнем боевом кличе диких германских лесов. Клич этот, придя с той стороны Рейна и Дануба на Тибур, Босфор и Родан,[34] легко вытеснил из рядов императорской гвардии все римские боевые кличи. Идущий во главе пышной процессии невысокий мужчина в аметистовом плаще поблагодарил солдат за приветствие, подняв широкую ладонь.
— Ave, vir illuster! — грохнули готы, вандалы, франки, аланы и сарматы.
Они смотрели на него полным радостного изумления, уже дружественным, чуть не влюбленным взглядом. Им не верилось, что это римлянин: каждому казалось, что он узнает своего родича в этом лице — совсем неримском, широком, плоском, с выступающими скулами и невысоким лбом, в этих сильных мускулах, в этих широких плечах и в этом взгляде — пронзительном, пытливом, строгом.
— Ave!.. Ave!.. Ave!.. — долго не смолкали возгласы.
Он двигался вдоль рядов быстрым упругим шагом, почти не сгибая массивных колен. За ним шли Мавроций, Галлион, Кассиодор, молодой Астурий, Андевот и другие, имен которых солдаты не знали, и все они, казалось, невольно старались идти так же пружинно и так же необычно, как длинноволосый их комес.
Доместики ожидали, что сейчас они услышат речь: каждый предводитель-римлянин любил выступать перед солдатами. Они слышали красноречие Констанция, Криспина, Кастина, а некоторые из них и Феодосия и даже вандала Стилихона. Новый комес, однако, не очень-то, кажется, рвался произносить речь: быстрым внимательным взглядом оглядывал он шеренги. Он сразу заметил: в его свите один только варвар — Андевот. Среди трибунов преобладали римляне, но среди препозитов их было уже меньше половины, среди центурионов не более четверти, в плотно сомкнутых шеренгах наметанный взгляд Аэция напрасно искал римские лица.
Солдаты видели, как вдруг он улыбнулся и что-то шепнул Андевоту. Потом быстро приблизился к шпалеру, почти касаясь мощной грудью застывших в напряженных руках щитов, и неожиданно обратился к старому солдату в короткой тунике, в староримской лорике и резном шлеме с красным султаном, который замер недвижно, точно живой памятник легионера времен Сципиона или Цезаря.
И как один человек дрогнули вдруг две трети доместиков. Новый начальник дворцовой гвардии обратился на чистейшем готском языке к солдату, который по виду мог быть памятником триариям из-под Метавра или Пидны… Вспыхнули глаза старого солдата-варвара.
— Где ты заработал этот шрам? — спросил полководец, указывая пальцем с блестящим перстнем на рассеченную щеку гота.
— За Феодосия Августа, под Аквилеей, сиятельный.
Лицо Аэция оживилось.
— Ты знал моего отца, Гауденция, отважный воин?
Под староримской лорикой выгнулась могучая грудь.
Голубые глаза чуть не выскочили от радости и гордости из длинных темных ресниц.
— Два раза ночевал с ним в одной палатке, господин…
Широкая улыбка озарила лицо Аэция. Он стащил с пальца кольцо и, втиснув его в ладонь солдата, спросил:
— Есть у тебя сын, друг моего отца?..
Упала на мощную грудь старая голова.
— Отврати от меня гнев свой, господин, — послышались тихие, смущенные слова. — Сын мой служит королю своего народа…
— И, наверное, ему больше к лицу турьи рога на шлеме, чем римская одежда! — быстро воскликнул Аэций. — Когда вскоре встретишь его в огне битвы, не убивай…
И двинулся дальше вдоль сверкающей шеренги. А по солдатским рядам шорохом пробежало: «Идем на короля готов…»
Только на немногих лицах появилось огорчение и тревога. Большинство горело радостным огнем, радостно бились под панцирями варварские сердца: ведь скольких из них обида или родовая вражда к королю своего народа и его приверженцам пригнала сюда, под римские значки!.. И вот для многих из них приближался день расплаты и отмщения.
Вновь остановился Аэций. На этот раз перед молодым гигантом вандалом. И с ним заговорил на языке готов, на котором говорил почти каждый варвар в римском войске.
— Ты был уже в каком-нибудь сражении?..
— Еще нет, предводитель…
— Скоро побываешь… Я хотел бы, чтобы ты был таким же отважным, как твой родич, великий Стилихон…
Последние слова он произнес на языке римлян, громко и свободно. Изумились старые солдаты, испуганно насторожились в свите знатные и сановные воины: вот уже семнадцать лет никто не говорил с солдатами о Стилихоне иначе, нежели с издевкой и поношением.
А Аэций уже остановился перед другим солдатом. Положив ему палец на сверкающую грудь, он вновь заговорил на языке готов:
— Ты ведь из аланов, так?.. Помни же… бери от римлян только то, что умно и что может пригодиться… Почему ты сменил на это тонкое, красиво сверкающее, но так легко пробиваемое вооружение панцирь из конских копыт, какой носили твои отцы на диком Кавказе?
К каждому он обращался с дружеским словом: к франку, к бургунду, к свеву. О каждом народе и его обычаях он что-то знал, что-то помнил, что-то одобрял. И вдруг солдаты услышали, как он заговорил на ином языке, странном, диком, смешном, ни на один не похожем. И вновь он говорил бегло, быстро. Все повернули головы туда, откуда доносился его звучный голос. Они увидели его стоящим перед низким, как будто перекрученным, но широкоплечим, сильным человеком с кривыми ногами и маленькими раскосыми глазками. Человек этот радостно щерил зубы и время от времени прерывал слова вождя радостными возгласами.
— Скоро у тебя будет много товарищей из твоего народа, — с улыбкой говорил ему Аэций. Он хотел еще что-то сказать, но вдруг взгляд его упал на стоящего в нескольких шагах поодаль солдата и задержался на его фигуре с удивлением и даже с какой-то издевкой.
Это был худой, слабосильный юноша, почти мальчик. Видно было, как он сгибается под тяжестью снаряжения, щита и копья. Большие черные глаза его были устремлены на Аэция. В этом взгляде начальник дворцовой гвардии прочитал нечто столь необычное и неожиданное, что, дружески ударив гунна по плечу, быстрым шагом поспешил туда, где стоял, усилием заставляя себя не покачнуться, худой юноша. Аэций смерил его с ног до головы проницательным взглядом; чем дольше он вглядывался в него, тем сильнее вздрагивали уголки рта солдата. Аэций пренебрежительно выпятил губы. С минуту покачивал он головой и вдруг спросил со злорадством в голосе:
— Что ты тут делаешь?
— Служу Риму, — послышался ответ.
Аэций пожал плечами и обвел взглядом войско.
— Они все ему служат, — сказал он и тут же бросил новый вопрос: — Из какого ты народа?
Еще судорожней задрожали уголки рта юноши. Но большие черные глаза вызывающе смотрели в широкое усмехающееся лицо. Ответил он громко, и в словах его звучали упрек, обида и даже презрение:
— К сожалению, я всего лишь римлянин, вождь.
Аэций с минуту молчал. Потом медленным движением положил широкую ладонь на худое плечо и сильным голосом, чтобы его слышали в самых дальних рядах, воскликнул, не переставая улыбаться:
— Это ничего. Я тоже римлянин.
И вдруг, наклонившись к молодому солдату, поцеловал его в щеку.
Неужели призраки прошлого никогда не оставят ее? Неужели всегда будут возвращаться навязчивым хороводом мучительных или сладостных воспоминаний? Чего они еще от нее хотят? Неужели они не знают: в тот десятый день перед ноябрьскими календами, когда на Римском форуме патриций Гелион провозгласил ее сына императором Августом, навсегда захлопнула в своей душе Галла Плацидия дверь, в которую она позволяла проскальзывать теням минувших времен и минувших чувств… Кончилась навсегда та жизнь! Теперь началась жизнь новая… обращенная только к будущему… Но почему тогда вдруг вновь возвращаются забытые лица?.. Чего хочет от нее гот Анаолз, который в Нарбоне за свадебным столом сидел между Ингеном и женихом?..
— Чего… ради Христа, скажи, чего ты требуешь от меня, Анаолз?
— Хочу приветствовать тебя, королева…
Да, этот призрак говорит «королева», а не «Августа»… Но откуда в таком случае взялся этот глубокий шрам на шее, которого тогда, в Нарбоне, не было… Она спрашивает призрак:
— Откуда у тебя этот шрам?..
— Меня ранили в битве… под Арелатом… — слышит она ясный ответ.
Плацидия не понимает. Она никогда не слышала ни о какой битве под Арелатом. Твердой рукой она осеняет себя крестом. Но призрак не расплывается в сумраке, который заполняет тронный зал. Плацидия решается. Она хлопает в ладоши. Вносят лампы. Становится светло… призрак не исчезает… Живой, настоящий Анаолз!
С каким трудом принуждает она себя сохранять спокойствие — не может же она выдать своей радости, наоборот, она должна нахмурить брови и сурово отчитать гота за то, что он сказал «королева», а не «Августа»…
И вдруг она что-то припоминает. Лицо ее мгновенно проясняется — нет, она простит ему…
— Привет тебе, благородный Анаолз! — восклицает она. — Ты прибыл послом от короля Теодориха?
Какое наслаждение заключить с Теодорихом мир за спиной Аэция, собирающегося схватиться с готами!.. Просто хочется по-детски хлопать в ладоши.
— Нет, королева, я пленник.
Глаза Плацидии становятся еще выпуклее, еще круглее, чем обычно. Дрожат ее длинные, сужающиеся к ногтям пальцы.
— Скажи… скажи… Анаолз…
— Аэций прислал меня к тебе, королева… как дар… как невольника… Аэций — победитель… Под Арелатом он разгромил наше войско… король Теодорих еле ушел живым, весь израненный… Самые старые готские воины не помнят такого поражения… Радуйся, королева, ты выиграла…
«Проиграла, — думает Плацидия, полная безграничного отчаяния, — снова проиграла… Ему…»
Государственный переворот
Скоро полночь. В палатке вновь назначенного magister utriusque militiae[35] становится просторней. С рассветом войско двинется на юг, к Арелату, которому спустя три неполных года вновь угрожают готы: так что каждый хотел бы немного поспать, хотя бы вздремнуть с минуту. Андевот, Кассиодор, молодой Авит-арвернец, сын бывшего префекта Галлии Аполлинарис, войсковой казначей Валерий один за другим покидают палатку, в десятый раз желая полководцу долгих лет всегда победоносного командования войсками Западной империи. Один только Астурий, который не спал прошлую ночь и у которого нещадно слипаются глаза, должен остаться: таково желание главнокомандующего сиятельного Флавия Аэция.
И года не прошло, как в результате все новых побед Аэция и все растущей его славы Августа Плацидия оказалась вынужденной даровать своему начальнику дворцовой гвардии звание начальника конницы. Таким образом, сын Гауденция получал в начале четвертого года своей службы Феодосиевой династии титул и власть, которые для его отца казались пределом мечтаний, увенчанием многолетней и многотрудной солдатской службы. Но Аэций совсем не удовлетворился тем, что сравнялся с отцом: одержав важную победу над молодым королем франков Клодионом, он послал в Равенну комеса Астурия, требуя звания главнокомандующего — звания, которое последним и, пожалуй — так казалось Аэцию, — первым, носил муж Плацидии Флавий Констанций.
И вот Астурий привез ему желанное звание вместе с вручением ему власти над всеми вооруженными силами Partium Occidentis[36].
Аэцию не трудно представить, как ярилась Плацидия в момент подписания назначения и какая кислая мина была у патриция Феликса, который, хотя никогда не был солдатом, носил титул главнокомандующего. А что они могли поделать?
За четыре года Аэций сделал почти столько, сколько Констанций за десять, а может быть, и больше; его победы над готами и франками громким эхом отозвались по всей империи. В Галлии и Испании рассказывали чудеса о его храбрости, находчивости и прежде всего подвижности. Идя на помощь Арелату, он подоспел на несколько дней раньше, чем ожидали не только вестготы, но и осажденные. Разбив Теодориха, с непревзойденной быстротой ринулся он на запад и на север, чтобы задать хорошую взбучку маленьким германским народцам, которые, побуждаемые примером готов, попытались расширить свои владения за счет римских провинций. И так и повелось: достаточно было каким-нибудь там тайфалам, лето-батавам или свевам сделать две-три дерзкие вылазки, перекинуть два-три пожара за рубежи своих земель, которые им даровала империя как союзникам, как уже ястребом падал на них Аэций, вцеплялся в загривок, гнал назад, платил пожаром за пожар, грабежом за грабеж и через несколько дней исчезал, чтобы в противоположном конце Галлии подобным же образом отечески проучить нестрашного и неопасного, но докучливого и нечестного союзника. Проведав, что франки нагрянули из Токсандрии в Угольный лес, с поразительной быстротой пересек он всю Галлию и обрушился на Клодиона с той стороны, откуда его меньше всего ожидали. Разумеется, передвигаться так быстро Аэций мог только, если располагал достаточным числом конницы — он делал все для того, чтобы римское войско в Галлии полностью посадить на конь, одновременно пренебрегая староримскими приемами борьбы строенными порядками, считая их совершенно непригодными для борьбы с конными отрядами варваров. Вообще при Аэции императорские галльские войска все меньше отличались по виду от племен, с которыми сражались; в Равенне, а особенно в Риме не раз морщились от этого, но молчали: войско Аэция всегда побеждало!
— Ты вернешься в Равенну…
Астурий с трудом поднял тяжелые, как свинец, веки. Видимо, он такой сонный, что плохо слышит… ведь он только что вернулся из Равенны…
— Это ничего… вернешься туда снова…
— Надолго?
Аэций загадочно усмехнулся.
— Может быть, на целый год… может быть, дольше… Слушай…
Астурий знает, что раз уж Аэций сел рядом с ним… если положил ладонь на плечо и дружески смотрит в слипающиеся глаза, значит, спать нельзя. Огромным, мучительным усилием воли отгоняет он сон. И все же чувствует, что без поддержки не выдержит, и просит:
— Могу я велеть Траустиле дать мне воды?
Он не верит своим глазам. Аэций встает, собственноручно берет чашу, смешивает в ней воду с красным массикским вином, добавляет каких-то кореньев и подает напиток молодому комесу. Велит выпить залпом и с улыбкой говорит:
— А теперь не спи и слушай…
Астурий никогда потом не мог припомнить, как долго говорил с ним Аэций. Ему казалось, что он заснул очень быстро после того, как выпил воду с вином, но когда попытался повторить вполголоса хотя бы половину того, что услышал в ту ночь от Аэция, да еще со значительными сокращениями, то это заняло у него свыше двух часов. И действительно, Аэций до рассвета беседовал с юношей — да, беседовал… не только говорил ему! — и Астурий великолепно его понимал, отвечал, спрашивал, предлагал и объяснял, наконец с жаром — хотя лицо у него было очень бледное — крепко пожал протянутую руку и воскликнул:
— Так и будет, сиятельный!.. На Астурия ты можешь положиться…
Аэций хорошо знал, что может на него положиться. И знал еще кое-что: подле него было много толковых и влюбленных в него юношей, которых он называл сынами своей руки, но Астурий был единственным, кого он мог назвать сыном своей головы. Да, он рад был выбору, который сделал. Этот молодой испанец — не варвар, но и не римлянин, — казалось, лучше всех подходит на роль его помощника именно в таких серьезных и дерзких замыслах, о которых они только что беседовали…
Широкая ладонь Аэция, освободившись от крепкого молодого пожатия, перемещается на плечо Астурия. Золотые кольца дружески звякают о золотые украшения наплечника.
— Ты еще будешь когда-нибудь консулом, мальчик…
Бледное лицо Астурия заливается пурпуром. Глаза вспыхивают радостью. Но гордые уста честно восклицают:
— Я же не ради этого… Единственно для блага и славы империи… и из любви и веры к тебе, вождь…
И мгновенно засыпает.
Аэций усмехается. Парень не спал всю ночь… а он, Аэций, вот уже три дня ни на минуту не сомкнул глаз. И его совсем не тянет ко сну. Он выпивает одну за другой четыре чаши воды и, с наслаждением потянувшись, садится к столу, на котором между кувшинами, чашами и кубками лежит черная продолговатая шкатулка. Он осторожно приподнимает крышку, не торопясь, вынимает свернутые пергаменты, гладкие папирусы, твердые таблички и все это раскладывает перед собой. Все они написаны одной рукой, и все начинаются неизменными словами: «Флавий Констанций Феликс приветствует Флавия Аэция» — и ото всех веет изысканностью стиля и слабостью духа, головы и руки. Аэций внимательным взглядом пробегает письма: вот уведомление о присвоении ему звания начальника конницы… а вот письмо о смерти епископа Патрокла — длинная черная табличка… Аэций откладывает ее и думает: «Дать Астурию…» Потом читает дальше: вот поздравление с победой над франками… Боязливый выговор за излишнюю суровость с крестьянами, сопротивляющимися, не желающими отдавать коней… Вот опять уведомление о консульстве Феликса, а вот одно за другим пять писем по делу Бонифация… Самое длинное из них Аэций трижды пробегает глазами, наконец берет стилос и толстой линией подчеркивает разбитую на шесть строк фразу:
«Ты не должен, сиятельный муж, делать передо мной вид, якобы ты, по меньшей мере так же, как я, не хотел бы лишить Пл. единственного действительно ей верного, а нам обоим одинаково ненавистного друга».
И в другом письме:
«Ты один знаешь, что это мое дело, а у Пл. даже в мыслях не промелькнет…»
«Оба эти письма дать Астурию», — покусывая кончик стилоса, решает Аэций.
В палатку через многочисленные щели назойливо продирается блеклый рассвет. Аэций отбирает три письма, остальные неторопливо кладет обратно в черную шкатулку и прячет ее в большую кожаную суму, после чего неторопливо начинает раздеваться. Оставшись совсем голым, он зовет:
— Траустила!
В палатку вбегает юный гунн с лицом столь отталкивающим, что король Ругила выглядел бы по сравнению с ним, как Меркурий, сочетающийся с Филологией. Аэций дружески гладит его по щеке и, откинув завесу палатки, босиком выходит на обледенелую в это время года и суток землю.
Дует холодный ветер, его порывы с яростной силой раскачивают ноги сотни повешенных на деревьях людей возле римского лагеря. Все это или пленники-варвары, не пожелавшие вступить в имперскую службу, или же колоны, не хотевшие добром отдать для войска своих лошадей. Но Аэций не боится ни ветра, ни холода — Траустила влезает на высокий стул и выливает на своего господина целое ведро ледяной воды. Полководец фыркает, как лошадь, потом берет из рук подростка большой кусок белой жесткой ткани, закутывается в нее, как в тогу, и кричит как будто из-под земли выросшему трубачу:
— Поднимай лагерь! Через час в поход!
Большая пурпурная завеса вдруг дрогнула, покрылась тысячами мелких складок и бесшумно раздвинулась, явив глазам Феликса и Леонтея величественную фигуру Августы Плацидии. Оба, склонив колени, ждали, пока Плацидия изволит заговорить. Но она, хотя оба явились в Лавровый дворец по ее настоятельному и исключающему всякое промедление требованию, не очень-то торопилась начать разговор. Она мерила так хорошо знакомых ей людей испытующим, суровым взглядом, а они вынуждены были стоять на коленях. Феликс чувствовал, как вздымаются в его душе опасные волны, вот-вот готовые захлестнуть его: волна злости и волна веселья. Злило его то, что в ненастный и холодный вечер, когда ломит все кости, а особенно ноги, его вытащили — бог весть зачем — из уютной библиотеки, где он с укутанными Падузой ногами читал у камина девятнадцатую книгу «Царства божия». Смеяться же ему хотелось оттого, что он отлично знал, почему Плацидия, в комнаты которой он входил свободно, когда ему было угодно, так долго держит его на коленях вместе со слугой. Это был день особо ревностно выказываемой власти — один из тех дней, когда Плацидия считала необходимым даже самым знатным сановникам империи напомнить, что они всего лишь прах перед освященным Христом монаршим величием и что даже самые строгие требования церемониала обязывают их наравне с самыми низшими из гумилиоров[37].
Зато старый Леонтей, кости которого болели наверняка сильнее, чем у Феликса, стоял на коленях с восхищенным лицом, благоговейно устремив взгляд на кончики башмаков Плацидии. Стоять на коленях перед императорским величеством при жизни и пред ликом господним после смерти — вот что было для него наивысшим счастьем и, по его убеждению, совершенно нераздельным.
Наконец Плацидия, видимо, сочла, что вполне достаточно проявила свое величие, и повелела патрицию и слуге подняться с колен. Но вместо того, чтобы, как ожидал Феликс, обратиться сначала к первому лицу империи, она заговорила с Леонтеем.
— Мы призвали тебя, старый наш слуга, чтобы ты еще раз, в присутствии сиятельного Констанция Феликса, рассказал, кого ты видел вчера в Равенне…
Леонтей с лихорадочной поспешностью вновь повалился на пол.
— Недостойнейший из слуг твоих, о государыня наша, возвращался в священный дворец около двенадцати часов, сразу же после вечерни в церкви святой Агаты. Размышляя о божественном, шел он, не поднимая ни на кого глаз. И только около больших терм…
— Когда же наконец ты, славный муж, — прервала его Плацидия, обращаясь к Феликсу, — прикажешь окончательно разрушить эти термы?.. Не пристало, чтобы в нашей столице находился вертеп для игрищ и истинно языческих обычаев, да еще таких, что сеют соблазн и разврат… Ведь сколько раз мы уже говорили, чтобы на том месте возвели церковь святого Апостола-евангелиста… Продолжай, Леонтей…
— Так вот, как твой слуга осмелился сказать, только около больших терм вырвал его из благочестивых размышлений чей-то знакомый голос… Вернее, он услышал два голоса, но только один был знакомый недостойному твоему слуге, который, чтобы припомнить себе, кому этот голос принадлежит, поднял глаза и увидел комеса Астурия…
— Слышишь, Феликс? Астурий в Равенне! — лихорадочно воскликнула Плацидия.
Он с удивлением взглянул на нее.
— Воистину я не вижу в этом ничего тревожного, великая Плацидия! — произнес он, незаметно пожав плечами. Боль в костях донимала его все сильнее.
С трудом подавила она рвущийся с губ окрик: «Глупец!» (Ревностное почитание власти не позволило публично поносить патриция империи.)
— Ничего?.. Как это ничего?! — крикнула она. — Разве он не писал четыре дня назад сиятельному Бассу, что он в Риме, болен и, пожалуй, до июньских календ не покинет постели… Но говори дальше… дальше, Леонтей…
— Тогда слуга твой, который имел невыразимое счастье испытать при виде славного Астурия такое же удивление и тревогу, как и ты, великая, при получении вести об этом, стал прислушиваться. Те двое стояли под аркадой, в сумраке — слуга твой не мог видеть лица второго, но слышал, как он говорил: «Сидеть беспрерывно с зимы в Равенне и ни разу не показаться», Астурий засмеялся и ответил: «Я же нахожусь в Риме», после чего оба поспешили в бани.
Удивление Феликса не имело границ, когда он увидел, как с последними словами Леонтея толстая нижняя губа Плацидии начала неожиданно дрожать. С трудом сумела она прошептать:
— Ступай, Леонтей….
А когда тот, сгибаясь в низком поклоне, прополз на коленях через всю комнату и исчез за зеленой, затканной розовой нитью завесой, точно легкий дым, рассеялись без следа остатки так ревностно оберегаемого величия: лицо Плацидии стало серым, как пепел, священные руки, совсем как будто это были руки простой смертной, судорожно впились в вышитый золотыми птичками край голубой одежды Феликса.
— Ты не понимаешь?.. Действительно не понимаешь? — в ее лихорадочных словах попеременно слышались гнев, издевка, тревога, страх и почти отчаянье. — Так ты думаешь, что Астурий без всякой причины сидит с зимы в Италии, вместо того чтобы быть рядом с Аэцием на войне?.. И что он для забавы притворяется больным и прикованным к постели, сочиняя в Равенне письма из Рима?.. И это ты… ты вершишь дела государства подле Плацидии?.. Что же ты знаешь?.. Чем интересуешься?.. Тебя нисколько не тревожит, что Аэций замышляет что-то… может быть, вынашивает измену… Может быть, как наместник Африки Бонифаций, хочет отторгнуть от империи Галлию… а может быть, замышляет стать императором, как Иоанн…
— Но, великая Плацидия…
— Не смей меня перебивать… Я хорошо знаю… Чувствую… Ему все мало… Разве не для того соединил он в своей руке все воинские звания, чтобы сделать меня совсем бессильной… да, бессильной, Феликс… подвластной ему во всем… Разве ты когда-нибудь думал, друг мой, что если Аэцию придет желание отобрать у моего сына пурпур или отторгнуть у него половину империи, то у нас нет ни одного легиона, ни одного друнга, который бы ему не подчинялся, и мне, Августе, пришлось бы для защиты своего владычества подбивать на бунт против собственного слуги его солдат!.. Так дальше продолжаться не может, Феликс. Этот Астурий — лучшее предостережение…
— Только прикажи, и в эту же ночь префект вышлет цензуалиса с тремя людьми, чтобы они нашли Астурия и препроводили его в тюрьму.
Она рассмеялась.
— А вы с префектом были бы так же послушны, Феликс, если бы я приказала посадить в тюрьму Аэция?
— Великая Плацидия изволит шутить…
Она тут же перестала смеяться.
— Все вы его боитесь, — процедила она сквозь зубы с такой ненавистью, что Феликс, хоть и знал ее хорошо, невольно вздрогнул. — Если бы Аэций поднял святотатственную руку на величество, никто бы из вас пальцем не шевельнул… Но вы правы. Я его тоже боюсь… И потому пора кончать…
Ее разгоревшееся лицо почти касалось отливающей золотом бороды патриция. Она чувствовала его дыхание, отнюдь не с таким отталкивающим запахом, как у многих мужчин, а даже наоборот, приятно дразнящим. Дразнящим был и аромат благовоний, которыми было умащено все тело Феликса. В другое время близость этого привлекательного мужчины и дразнящие ароматы, которые от него исходили, может быть, напомнили бы Галле Плацидии, что вот уже который год она безупречно вдовствует, но сейчас ее сжигала только ненависть, самое действенное для женщины средство от всяких плотских желаний.
— Послушай, — голос ее понизился до шепота, и слух Феликса ловил его со все большим усилием, — помнишь тот день, когда вы принудили меня в Аквилее уступить дерзким требованиям Аэция? О, трижды будь проклят этот день!.. — на миг возвысила она голос, чтобы тут же перейти на шепот. — Ты тогда говорил, что полководцы гибнут не только на войне… а нередко от руки своего же солдата… во время бунта… как его отец…
— Я понимаю тебя, великая… но ради Христа… Помнишь, что сказал тогда Глабрион Фауст?.. Вот его слова: «Если же окажется полезным и хорошим полководцем, то тем сотрет все свои провинности перед Феодосиевым родом…» А разве он не оказался стократ полезнее, чем мы ожидали? Со дня горестной кончины твоего великого супруга ни один военачальник не покрыл себя такой славой и не сделал столько для империи, как Аэций… А ведь каждая его победа — это твоя победа, Плацидия…
— Каждая его победа — это мое поражение, Феликс…
— Тебя томит сегодня жар, может быть, даже недомогание… И впрямь, если бы не Аэций, Феодосиев род уже три года тому назад утратил бы Галлию, а может быть, и Испанию… Ведь и теперь сражается Аэций за тебя и за твоего сына императора… Может быть, как раз в эту минуту римские войска столкнулись с воинами короля Теодориха… Если Аэций не победит, половина Галлии будет потеряна для империи, как половина Африки…
Он улыбнулся.
— Горе империи, если падет в этой битве Аэций, но, поелику великая Плацидия жаждет его смерти, может быть, он и падет… И не понадобится никакого бунта…
— А если не падет?..
— Это твоя империя, государыня, а не моя… Я только слуга.
Лицо Плацидии оживилось.
— Это ты хорошо сказал, Феликс. Так что и воля должна свершиться моя, а не твоя. Да неужели ты и сам не понимаешь, друг мой, что, пока Аэций предводительствует и побеждает, твой патрициат и твоя власть — это зыбкая; тень… Разве не отобрал он у тебя титул главнокомандующего?
— Нет, Плацидия… Я поделился с ним этим титулом.
— Называй это как хочешь… Но помни: среди ауксилариев, и в легионах, и в когортах дворцовой гвардии ничто так не пробуждает веселья комесов, трибунов и даже препозитов, как подпись: Флавий Констанций Феликс, сиятельный муж, патриций Римской империи… а главное, — тут она вскинула голос и одновременно брови и кончики губ, — вождь и главнокомандующий… Запомни это себе…
Феликс преклонил колено.
— Что прикажешь, великая Плацидия?
Она посмотрела на него дружеским взглядом, в котором не было и следа так ревностно оберегаемого величия, но голос ее звучал все же сурово и повелительно, когда она сказала:
— Убей Аэция.
Она ждала. Ждала очень долго. Один за другим гасли светильники. Тишина становилась все мучительнее для обоих. Немым движением руки она отправила его.
— Великая Плацидия велит схватить Астурия? — спросил он, уже в дверях.
— Велит.
Элпидия и Спадуза не спали. Едва Плацидия переступила порог спальной комнаты, как они бросились к ней, чтобы снять с нее одежды. Она приказала им выйти. Оставшись одна, открыла в стене потайную дверь, но, прежде чем пройти в каморку, пол которой был весь усыпан толстым слоем битого камня, сняла башмаки и, с неприязнью глядя на короткие неуклюжие пальцы, выдающие неблагородное происхождение Валентинианового рода, босиком пошла по камню к освещенной двумя лампадами стене, с которой каждую ночь взирали на епитимию императрицы Рима три пары глаз: грозные золотые — бога отца… черные печальные, точно заплаканные — Христа… и голубиные — святого духа… Этой ночью, однако, Плацидия не ограничилась двухчасовым хождением по камню, в чем вот уже восемь лет видела воздаяние господне за один-единственный грех… Она подняла свои одежды почти до колен и, стараясь не смотреть на грешную наготу, опустилась на пол. Камень тысячами шипов впился в изнеженное тело — она не смогла удержать стона… Но не поднялась с колен. Молитвенно сложила на груди руки и, глядя на святую троицу, начала вполголоса молиться:
— Тебе ныне и присно ревностно возношу молитвы, святая троица, таинственная, непостижимая, всемогущая… Окажи милость свою слуге верной и почитательнице ревностной… Пролей струю благодати на истерзанное сердце… Не откажи… в благодати… Владыка владык… Смиренно прошу тебя: как древле Олоферна ужасного предал ты в руки Юдифи… Амана — в белые руки Эсфири, — так и мне предай ныне, триединый боже, ненавистную голову презренного Аэция. Аминь. Аминь. Аминь.
На флангах вестготы уже с полудня добились явного преимущества. Однако Аэций не позволил оттянуть от центра ни одного друнга пехоты, ни единого кунеуса конницы.
— К десяти мы расколем их центр, — говорил он спокойно окружающим его комесам, бросая в водоворот схватки все новые отряды гуннов, свевов, аланов, которые с боевой песней на устах убивали и гибли во славу римского оружия. Вернее, во славу Рима, потому что оружие воюющих сторон было почти одно и то же — неримское, варварское… Длинные тяжелые копья, огромные обоюдоострые мечи, высокие прямоугольные или треугольные щиты, которые не закрывали только голову и ноги воина, голову защищал массивный шлем, а о ногах никто не тревожился: раненный в ногу падал на землю и на коленях или лежа рубил, колол, кусал, душил или испускал дух, сам зарубленный, искусанный, исколотый или задушенный, а чаще всего размозженный копытами конницы, несущейся, как вихрь, по земле.
Однако в тот день коннице не было куда мчаться, и вообще ей было мало работы: сражение шло из-за взгорья, осажденного с рассветом вестготами, оно и было главной целью бешеного натиска отрядов Аэция. Овладеть южным склоном, втащить на него баллисты и катапульты — вот задача, которой Аэций должен был добиться любой ценой до восхода солнца. А уж воинские машины, царящие над полем битвы, без труда решили бы победу, молотя снарядами победоносное левое крыло неприятеля, которым командовал сам Теодорих. Захватить же взгорье можно было только пехотой, и Аэций, который вот уже пять лет прилагал все усилия к тому, чтобы каждый солдат галлийских войск был прежде всего всадником, оказался вынужденным сражаться в столь презираемых им строенных порядках. А для этого сражения гуннские воины, составлявшие почти половину римского войска, совсем не годились и бесполезно погибали у подножия, напрасно пытаясь конным натиском прорвать несокрушимую живую стену вестготов. Трибуны и препозиты наскоро выстраивали спешенных конников в плотные правильные колонны; лишенные хозяев кони как ошалелые табунами носились между рядами, разбивая и ломая с трудом установленный строй, их массами убивали на месте — тех самых коней, которых еще недавно армия отнимала у крестьян вместе с жизнью!.. Сам Аэций слез с коня и с огромным франконским щитом в левой и длинным аланским копьем в правой руке повел в бой первую спешенную тысячу всадников. Это были почти одни готы, ветераны Гайнаса, Сара и Стилихона. Они шли медленным, мерным шагом, не обращая внимания на тучу стрел, которой встретили их из арбалетов побратимы, родичи, соплеменники, может быть даже родные братья и сыновья… Через минуту они сошлись, как два мощных германских тура — точно рогами впились друг в друга двойным лесом копий, ревущим мычанием наполнили землю и небо, боевым кличем… Общим кличем!.. И на одном языке подбадривали их вожди, и одна молитва срывалась с губ умирающих… Бились храбро, одержимо, дико — и дико умирали — одни за римский мир, другие — закладывая основы будущего государства и будущей мощи, о чем они даже не подозревали…
Десять часов. Сражающимся с готами готам приходит на помощь особый палатинский легион, единственный во всей Галлии, несравненный, если дело касается битвы в староримском строю. Аэций, который давно уже сменил разбитое копье на топор, не переставая рубить направо и налево, кричит следующему за ним Кассиодору:
— Никогда еще не было так тяжело… Но ведь это то, что надо…
Золотые орлы главнокомандующего вырывают у цветных балтских значков крутую вершину — Колубрарскую гору.
Епископ Эгзуперанций с трудом поднимается с постели. Только теперь Астурий может разглядеть его лицо: совсем еще не старое, но исхудалое, пожухлое, болезненное.
— Сын мой, — говорит епископ, — ты христианин?
Смуглое лицо испанца покрывает горячая волна пурпура.
— Моя бабка жизнь отдала за Христа на арене, растерзанная дикими зверями, — восклицает он с жаром и одновременно с негодованием.
— Вот видишь, сын мой. А ты велишь мне, служителю Христову, распять его заново.
Астурий отступает на шаг. Дрожащей ладонью осеняет себя крестом.
— Что ты говоришь, святой отец? — произносит он дрожащими губами.
— Да, сын мой. Разве ты не пришел ко мне затем, чтобы сказать, что один из сильных мира сего хочет убить другого, а когда он это сделает, ты, слуга Христов, должен предать жертву анафеме и вознести молитву за убийцу.
Астурий громко, облегченно вздыхает. А он было так испугался слов епископа. Теперь он улыбается почти радостно, пожалуй даже снисходительно.
— Недостоин я судить тебя, святой отче, — говорит он, — но ты изволишь шутить над священными словами.
Безграничная скорбь проглянула в отмеченных страданием глазах епископа.
— Я не шучу… Разве не учили тебя, что каждый тяжкий людской грех — это для Христа новый via crucis[38]? А уж такой грех, как убийство…
— Но ведь и речи нет об убийстве. Речь идет о благе империи и об устранении человека, правление которого ввергает империю в пропасть… А если погибнет империя, то святая вера Христова…
— Погибнет, так ты думаешь?
— Нет, я так не думаю… Но верю, что если когда-либо — да хранит нас от этого Христос! — распадется или рухнет в обломках Священная империя, то для веры святой, для исповедующих ее и для церкви божьей вновь настанут столь жестокие времена, что истинный грех или безумие раздумывать, можно ли помешать этому, принеся в жертву жизнь одного человека…
— Сын мой, только бог имеет право распоряжаться людской жизнью — и только…
Но Астурий не слушает его и заканчивает:
— … одного человека, к тому же врага веры святой и церкви…
— Я не знал об этом, достопочтенный муж…
Астурий вновь заливается пурпуром.
— Нет… я всего-лишь достосветлый… clarissimus… пока что.
Эгзуперанций не может удержаться от улыбки.
— Так вот, не знал я об этом, достосветлый муж.
Испанец посмотрел на него с безграничным удивлением.
— В каком мире ты живешь, святой отец?! — воскликнул он. — Неужели ты и впрямь не знаешь, что еще в предыдущее совместное консульство императоров святой епископ арелатский Патрокл был столь тяжко ранен презренным трибуном Барнабом, что вскоре умер?.. А ты знаешь, кто толкнул Барнаба на это дело?
— Знаю.
— Но наверняка ты не знаешь, что было истинной причиной смерти твоего любимца Тита…
— И это знаю, сын мой.
— Ты знаешь, отче?.. Знаешь?.. И еще защищаешь убийцу от справедливой кары?..
— Бог покарает его, сын мой…
— Да, бог! — с жаром воскликнул Астурий. — Бог, который призвал нас свершать его святые приговоры. Ты можешь призвать вигилиев[39] или солдат, отче, можешь отдать меня на мучения, но того все равно это не спасет, а ты же, слуга Христов, помысли, разве не должен ты своим советом, именем своим и молитвами содействовать тем, кто хочет избавить этот мир от врага веры и церкви… от убийцы слуг божьих…
Тяжело опустилась на исхудалые руки сокрушенная голова.
— Неужели никогда не перестанете вы впутывать бога и веру в свои свары, похоть и злобствование, о слепцы?! Был Иоанн — тогда Бонифаций вопил: «Безбожный Иоанн! Тайный язычник! Гонитель слуг божьих!» Потом является Феликс и поносит: «Бонифаций — лицемер… всенародный совратитель… жена у него арианка… ребенка в еретической церкви крестили!» А теперь ты вот со своим Аэцием, сын мой, не то ли самое творите?.. Раздираете ризы и вопите: «Феликс — враг церкви… Феликс — убийца священнослужителей!» Завтра же придет новый и воскликнет: «Аэций водит дружбу с язычниками… Аэций ни во что не верит…»
— Ты думаешь о приязни, которой дарил сиятельного Аэция король гуннов, святой отец? — торопливо спросил Астурий, с трудом скрывая замешательство.
— Нет, не думаю… не могу думать…
— Что же мне сказать Аэцию?..
Епископ с минуту молчит. Наконец поднимает на Астурия большие горящие глаза и, с трудом извлекая из груди слова, говорит:
— Скажи Аэцию, что я скоро умру и что одна из тревог, которые я возьму с собой в могилу, будет тревога о будущем империи под его правлением… под правлением человека, который идет к власти через преступление… И еще скажи: если бы явился ангел господний и сказал, что ценой одного человека вернет на земле рай, я сказал бы: «Не надо рая…» А если бы он сказал: «Так хочет Христос», — ты знаешь, каким был бы мой ответ? Вот каким: «Я не верю тебе, ангел».
На краткий миг он замолк и прижал руки к исхудалой груди.
— Это для Аэция, — продолжал он спустя некоторое время. — А теперь для тебя, сын мой… Я даже не знаю твоего имени, не хочу его знать и уверяю тебя, что не отплачу за доверие изменой… Я не выдам тебя, не призову ни вигилиев, ни солдат, но знай: ныне же я пошлю к Феликсу, дабы предостеречь его от того, что ему грозит…
— Ты не сделаешь этого, отче…
— Спасением души своей клянусь, что сделаю… Ты хочешь еще что-то сказать мне?
Астурий был уже в дверях. Он обернулся, и епископ увидел его лицо, пышущее гневом и ожесточенном.
— Это болезнь тобой говорила, а не слово божье, — произнес испанец. — С умирающими я не борюсь… Прощай, апостольский муж.
— Мир с тобой, сын мой.
После ухода Аэциева посланца епископ какое-то время сидел недвижно, повесив голову на грудь. Потом лег и закрыл глаза. Но тут же открыл их снова: кто-то тихо подкрадывался к его постели. Может быть, вернулся тот… Неужели решил убить? Эгзуперанций улыбнулся.
— Святой отец…
Епископ узнал голос молодого диакона, которого через месяц собирался рукоположить в священство. Пожалуй, не доживет он до этого…
— Мир с тобой, Грунит.
— Святой отец… Прокляни меня… изгони… но я стоял за дверью и все слышал…
— Хорошо, сын мой. Ты наденешь теплую пенулу, потому что холодно и идет дождь, и пойдешь к патрицию Феликсу…
— Неужели, святой отец, ты действительно решил?..
— Ты же говоришь, что все слышал, Грунит… а разве я не сказал?
— Да… да… я слышал… но я думал, что это только так… для поучения этого молодого человека…
— У меня нет двух разных слов, сын мой… Ты пойдешь к патрицию и скажешь ему, что Флавий Аэций помышляет на его жизнь…
Грунит пал на колени.
— Ты истинно святой муж! — воскликнул он страстно. — Но разве ты забыл Тита… бедного дорогого Тита?.. Мы же вместе внимали твоему святому учению, отче… Вместе несли священные облачения, когда ты впервые шел исполнять епископский суд… Ты должен был нас помазать… И вот Тита уже нет… И никогда, никогда не принесет он бескровной жертвы… А кто его убил?.. Феликс… А святого епископа Патрокла?.. Феликс!.. И мы должны его спасать?..
Епископ приподнялся на локтях.
— Ты убедил меня, Грунит, — сказал он. — В соседней комнате лежит под столом старый меч. Еще довольно острый… Возьми его и ступай… убей Феликса… Отомсти за Тита…
Диакон вскочил на ноги… и укрыл в трясущихся ладонях смертельно побледневшее лицо.
— Нет… нет, святой отец… Не говори… не говори… Прости меня… — Он весь содрогнулся, — Я не могу убивать… я никогда мухи не убил… — закончил он.
Наступило долгое молчание. Первым заговорил Эгзуперанций.
— Грунит, сын мой, с каких слов ты начал читать писание в последний господний день?..
— Помню, отче… «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон…»
— Правильно ты сказал, сын мой. О чем же там говорилось?
— О любви божьей, отче…
— А в твоем вчерашнем уроке?
— Также о любви божьей.
— А как я его начал?
— Словами писания: «Кто ударит тебя в правую щеку твою…»
— А что ты сейчас делаешь, Грунит?
— Подвязываю башмаки, святой отец. Дом патриция далеко, и я боюсь, как бы не потерять обувь.
— Подвязывай крепче, сын мой. Это важнее, чем бояться убить муху.
Геркулан Басс дочитал письмо как раз до половины, и вдруг ему стало как-то не по себе. Сначала он не мог сообразить, что бы, собственно, могло быть, а когда наконец осознал, громко рассмеялся и вновь принялся за чтение. Неприятное чувство, однако, не покидало его и, даже наоборот, донимало сильнее, пришлось снова прервать чтение. Действительно, неприятно, когда чувствуешь и знаешь, что за тобой следят… Стоит чуть дрогнуть векам, сморщить лоб или брови, стоит лишь искривить губы — и это уже пожирается четырьмя парами безжалостных, хищных глаз, проницательно глядящих на него из четырех углов комнаты… Что с того, что глаза эти мертвы, что лица эти из гипса или из бронзы: возбужденное бессонницей и все нарастающей тревогой воображение могущественного сенатора само оживит загадочной улыбкой прекрасный облик Платона, а холодные черты Цицерона еще больше заморозит гримасой презрения и даже отвращения. На апостола Павла вообще лучше не смотреть — взгляд, брошенный в: его сторону, только углубляет борозду грустной задумчивости, прорезающую низкий лоб под кудрявыми волосами; один Октавиан Август сохранил еще в уголках рта благодушную улыбку, и похоже, что сам бы с удовольствием принял участие в чтении письма — так подалась вперед его тонкая юношеская шея. Но Бассу надо поскорее дочитать письмо до конца, и он не ждет, пока безрукий и безногий император сойдет с мраморной стеллы и скажет: «Подвинься-ка немного, приятель…» А в конце письма, трижды подчеркнутая, какая-то приписка — он еще не успел пробежать ее взглядом, осмысливая каждое прочитанное слово, важное и веское. Он намеренно не забегает вперед: будто вступает в бой с каждой новой фразой, вооруженный с ног до головы обстоятельно продуманными прочитанными словами. И вот он добрался до конца. Вот и приписка: «Писано» — потом зачеркнутое число дня перед июньскими календами — и дальше снова отчетливо: «в лагере на Колубрарской горе через час после разгрома короля готов».
«Значит, уже», — думает Басс. Он готов сказать себе: «Решено». Может ли тут быть более сильный аргумент?.. Но на лету перехватывает эту мысль, отбрасывает ее и топит в целом водопаде новых мыслей, из которых более всего его устраивает: «Прочитаю еще раз».
Он читает второй раз, потом третий и багрецом подчеркивает наиболее тревожащие его абзацы:
«Все окрест стенают и плачут: «Гибнет империя… близится погибель…» Но если это так, надлежит ли эту погибель приближать? Нет, как мужам пристало, надлежит ей противоборствовать, бороться с нею, делать все, что делают моряки на тонущем корабле. А что сделал Феликс, патриций империи? Есть ли такое дело, коим он мог бы похвалиться? Да, есть. Одно-единственное. Вернул провинцию Валерию, много лет занимаемую гуннами. Сам посуди, сиятельный Басс, не лучше было бы, если бы Феликс вообще бы ничего в своей жизни не сделал или, еще лучше, если бы он вообще не родился. Ибо что он сделал? Поссорил нас с королем Ругилой, который был единственным надежным и действительно могущественным союзником империи. Когда я упоминаю об этом, то тут не идет речи обо мне самом».
Басс улыбается. Для Аэция возвращение Валерии было чуть ли не ударом. Но и империи от этого не прибавилось. Басс уверен, что Феликс сделал это по требованию Плацидии только для того, чтобы насолить Аэцию. Разоренная, выжженная, вымершая провинция — сущее бремя для империи! Он читает дальше и через минуту вновь подчеркивает несколько дрожащей рукой:
«Брут не пожалел крови своих сыновей, Ромул убил брата, а Давид поверг Авессалома. А ведь мы тоже римляне, как двое первых, и чтим единого бога, как Давид. Предки твои, сиятельный, принесли не одну тяжелую жертву на алтарь отечеству, так что ты скорее, чем когда-либо, поймешь, что кровь, которая должна пролиться…»
Басс страдальчески морщится. Он ни за что не взглянет в угол, откуда сверлят его мозг гипсовые глаза апостола. Кровь! Иисусе, разве не заплакал он некогда над мучениями узурпатора Иоанна?! Единственные слезы в его жизни, с тех пор как он вышел из младенчества… А ведь это было всего лишь исполнение приговора, хотя и жестокого, но по сути своей справедливого. А тут…
«…в самые тяжелые, грозные минуты сенат добровольно вручал неограниченную власть диктатору, чтобы тот защищал отечество. Кто же ныне защищает империю? Уж не Феликс ли? Я вижу, как ты улыбаешься в этом месте, сиятельный. А ведь по букве закона Феликс исполняет при Плацидии, как патриций, власть диктатора — только он не умеет ее нужным образом использовать. А разве по воле или хотя бы с согласия сената? Ты и сам знаешь, сиятельный Басс. Тот же, кто на самом деле защищает империю, а как защищает — ты знаешь, тот, кто действительно сумел бы использовать диктаторскую власть патриция — возможно, ты скажешь, что нет? — хочет получить ее не от Плацидии, а от сената древнего Рима. И упаси Христос, чтобы ее пришлось брать от преторианцев…»
«Грозится», — решает Басс и читает дальше:
«Кто же из сенаторов более, чем сиятельный Геркулан Басс, достоин споспешествовать возрождению и укреплению империи? Кто же лучше сумеет объяснить всю суть дела отцам города и подготовить всех сиятельных, достопочтенных, достосветлых мужей к тому, что случится через несколько дней в Равенне…»
— Неужели им должен быть полуварвар, воспитанник обезьяноподобного короля полулюдей? — шепчет про себя Басс с искренним удивлением.
«…Некогда, во времена моей молодости, ты именовал возвратившегося от готов заложника своим молодым другом. Как же приятно мне было вспоминать об этом, когда я, спустя годы отправляясь на войну в Галлию, желал иметь за спиной в Италии такого префекта претория, в котором мог бы быть совершенно уверен. Но еще приятнее будет мне, когда я увижу, что славный род, великий ум и подлинная честная заслуга (честная — трижды подчеркнуто) по достоинству будут вознаграждены консульством на ближайший год».
Пробужденный от приятного сна майордом с трудом сдерживает зевоту.
— Ты звал меня, господин?
— Да. Сейчас же мне квадригу и восемь подставных коней. Я еду в Рим.
— С рассветом?
— Сейчас, вот-вот.
Добродушная улыбка все еще цветет в уголках рта Октавиана Августа. А это самое важное. Куда важнее, чем приписка на отдельном, с таким трудом расклеенном листке:
«Будь спокоен. Невольник, который принесет тебе это, глухонемой от рождения».
— Ты мой узник, Астурий.
Испанец вздрогнул. «Значит, все кончено! Глупец! Сам себе приготовил западню! Но как же это случилось? Даже самый быстроногий посланец не мог быстрее его проделать путь от епископского дома до инсулы патриция. Разве что у него крылья… Ангельские крылья», — промелькнуло в голове Астурия, и он невольно вздрогнул.
Но тут же быстро овладел собой. Хорошо, он пойдет в тюрьму, на муки, под меч палача, но никто не услышит от него ни слова… Он думает об этом без исступления и одержимости и без тревоги: он знает, что сумеет… выдержит… Он лишится жизни, но даже после смерти не лишится доверия и милости Аэция. Не зря же он почти с детских лет солдат: о том, что он каждую минуту может умереть, он давно привык думать абсолютно спокойно, хотя и не без искренней досады. А досада эта немногим отличается от чувства, которое вызывает в нем необходимость провести без сна две-три ночи подряд или же неожиданный упадок сил перед самым дележом пленниц после победоносной битвы. Но сейчас главное — это не то, что его схватили и что его наверняка ждет смерть, а то, как Феликс обо всем этом деле проведал и что именно он знает. Это надо из него обязательно вытянуть, а пока что необходимо сказать хоть что-нибудь.
— Если бы я сам не пришел в твой дом, то не был бы и твоим узником, — и пожал плечами.
Феликс смеется. Он всегда так смеется, когда в его руки попадает жертва, которой он не очень боится, но которая вызывает в нем непонятную тревогу. Так было и с диаконом Титом.
— Тебе ничто не поможет, Астурий… Раз уж ты ко мне пришел, то это явный знак, что сам Христос хотел, чтобы ты попал в мои руки… И теперь-то я узнаю…
Астурий с трудом скрывает радостное изумление. Немного же знает Феликс, если надеется что-то узнать. В голове его с молниеносной быстротой восстанавливается весь еще в дороге намеченный план, который был разрушен слонами: «Ты мой узник…» Но с чего начать? Пусть же мысль работает… работает быстро, но и спокойно — надо во что бы то ни стало что-то говорить… говорить как можно больше.
— Что ты хочешь со мной сделать, сиятельный патриций?..
Феликс снова смеется, а от этой улыбки лицо его кажется приятнее и привлекательнее, чем обычно. Астурий смотрит на него со все возрастающим удивлением и думает: «Если бы я не был в его власти, если бы наши силы были равны, это был бы не страшный противник…» И внимательно напрягает слух: не слова, которые он услышит, а сила и напряженность голоса, который их произнесет, дыхание, скрытая за ними душа — вот что для него важнее!
— Что я сделаю?.. Под усиленной стражей пошлю тебя в дар великой Плацидии, и не будет мне до тебя никакого дела, как его не было вчера… Как ты думаешь, обрадуется великая этому подарку, а?
И он снова смеется. Астурий смотрит на него с нескрываемой завистью: если бы он мог извергнуть из себя такой поток радостного, торжествующего смеха, который распирает Феликсу грудь, а подавляемый гнетет и душит; нет, никакой ангел не прилетал с предостережением к патрицию от епископа! А значит, действовать… действовать как можно скорее, точно по намеченному плану… «Только бы он не приказал меня обыскать», — возникает на миг тревожная мысль, но он уже не может удержать срывающихся с губ слов:
— Может быть, обрадуется, но вряд ли больше, чем письмам, которые ей вручат, — он бросает взгляд на большие солнечные часы, — в двенадцать часов…
Феликс тут же перестает смеяться. Лицо его, еще минуту назад такое красивое и обаятельное, в мгновение покрывается сотней мелких уродливых морщин.
— Каким письмам? — спрашивает он голосом, полным тревоги.
Астурий снова пожимает плечами.
— У меня не такая великолепная память, как у моего начальника, господина и истинного отца, непобедимого Флавия Аэция, так что я не сумею тебе, сиятельный муж, привести наизусть все письма, но кое-что я все же помню: «Ты один знаешь, что это мое дело, а у Пл. — это что значит, у Платона, сиятельный? — даже в мыслях не промелькнет». А вот еще одно место: «Ты не должен делать передо мной вид, якобы ты по меньшей мере так же, как я, хотел бы…»
— Довольно, Астурий… ради Христа, довольно… перестань… перестань…
Цвет лица Феликса не очень отличался от цвета земли, когда он кинулся к Астурию, одной рукой схватив его за плечо, а другой заткнув ему рот. Спустя минуту, убедившись, что молодой комес действительно умолк, он, точно укушенный ядовитым гадом, бросился к одной двери, к другой, к третьей… приподнял пурпурную завесу, потом другую — голубую, затканную серебром, наконец, убедившись, что никто не подслушивает, вернулся на прежнее место с еще более землистым лицом. Выхоленные руки его тряслись, тряслись красиво очерченные, утопающие в пышных кудрях бороды губы.
— Откуда… откуда ты знаешь об этих письмах?
— Я сам переслал их великой Плацидии…
— Ты?.. Ты?.. Откуда они у тебя… Ради бога, откуда они у тебя, Астурий?
Голос Феликса, вначале гневный и пышущий неудержимой яростью, звучит все более умоляюще.
— Я получил их от сиятельного Аэция.
Дрожащей рукой патриций осенил себя крестом.
— О Иисусе, ты видишь и не караешь?.. Не разразишь этого клятвопреступника?!. Святым распятием, мощами святых Юста и Пастора, стрелами Севастьяновыми, спасением души отца своего, Гауденция, клялся Аэций, что уничтожил эти письма, сжег, разорвал на мелкие клочки и пустил по ветру… Вероломец! Богохульник! Святотатец!
В голосе его снова звучит невольная ярость.
Теперь засмеялся Астурий.
— Значит, ты признаешь, что письма были?
Феликс метнулся к нему, схватил холеными руками за край одежды, приблизил искривленное от бешенства лицо вплотную к смуглой щеке — неожиданно разжал пальцы, покачнулся, закрыл рукой лицо и бессильно опустился на широкую мраморную скамью.
— О Аэций, Аэций, — глухо простонал он, — разве я не был тебе другом? Разве я не осыпал тебя почестями и титулами?.. Не уберегал тебя от яростного гнева Плацидии?.. А ты теперь против меня с нею… вместе с нею…
— Лжешь, Феликс. Ты не был ему другом. Ты жаловал ему блага и титулы, потому что вся империя требовала этого для него… для своего защитника… своего избавителя! Потому что, если бы поскупился для него, мы — его солдаты, коих он назвал сынами своей руки и головы, — сокрушили бы тебя вместе с Плацидией и всей Равенной… обратили бы в прах… А в действительности же в змеином сердце своем ты его всегда ненавидел, вредил ему как мог, бросал ему под ноги бревна, вместо того чтобы помогать… Почему же ты, несчастный, уперся на том, чтобы отобрать у гуннов — друзей и единственных наших союзников — Валерию, вся цена которой — три силиквы и из-за которой ты поссорил империю с Ругилой?..
Феликс посмотрел на Астурия так, как будто перед ним был безумец.
— О неразумный юнец! — воскликнул он. — Разве я не приумножил тем империю?!
По-солдатски, грубо харкнув, испанец сплюнул в напевно журчащую в бассейне воду.
— И эта голова правит Священной Римской империей! — крикнул он в гневе, действительно искреннем, но и с не менее искренним удивлением. Ведь Астурий знал, что не голове своей обязан патрициатом империи Флавий Констанций Феликс, а всего лишь родственным связям, хотя и отдаленным, с Феодосиевым родом, а прежде всего огромным своим богатствам, которыми он поистине ослепил обе столицы, всю Западную империю в год своего консульства. Сознавал это отчасти и сам патриций: вот уже несколько лет чувствует он, что задача, которую он взвалил на свои плечи, превышает его силы, способности, сообразительность и самую добрую волю. Мраморная статуя Атласа, украшавшая перистиль его прекрасной инсулы, вызывая досаду и гнев Плацидии, была тайным выражением его раздумий о бремени власти. К счастью для себя (если понимать счастье в самом узком смысле!), у него было мало воображения и неровный, а по сути дела легкомысленный и безмятежный характер: его никогда не угнетали мрачные мысли о будущем или о возможных несчастьях, ударах, каких-нибудь изменах, заговорах, покушениях, которые гнали сон от глаз Плацидии. Но в противоположность ей он также абсолютно не был закален и подготовлен для такого рода тревог, и, когда ему случалось — очень редко — сталкиваться с ними, он тут же впадал в совершенно обратное настроение: или в безнадежное отчаянье и полную беспомощность, или же бессмысленную жестокость. Это последнее проявилось четыре года назад в истории с Арелатским епископом и диаконом Титом; теперь же, кажется, начинало преобладать первое: неожиданное отчаянье и чувство полнейшей беспомощности. И он попытался с ними бороться.
— Как же это, Астурий, — прошептал он, — а разве письма, о которых ты говоришь, не являются лучшим доказательством моей дружбы к Аэцию?.. Ведь мы же вместе, имея в виду общее благо и общую выгоду, решили убрать Бонифация, чтобы он не влиял на Плацидию. Разве я не сделал этого?
— Сделал, Феликс, но для того, чтобы, избавившись от одного соперника, избавиться потом и от другого — от Аэция… И не лги, что ты замышлял это вместе с Аэцием… Ты писал ему, подбивал его, соблазнял, но чего добился?.. У тебя есть доказательство?.. Есть хотя бы одно письмо, в котором Аэций писал бы, что одобряет твое намерение?
Патриций сидел неподвижно, спрятав лицо в деревенеющие руки: о, глупец из глупцов… мужчина с умом ребенка!.. Было доказательство… было письмо от Аэция, правда, с туманным, но в общем-то легко угадываемым одобрением того, что Феликс предпринимал против Бонифация… И он уничтожил это письмо, о несчастный!.. Уничтожил, потому что так же, как и Аэций, клялся святыми Севастьяновыми стрелами, мощами святых Юста и Пастора, спасением души отца своего и святым распятием! Вдруг у него мелькнула надежда: призвать Аэция к епископскому суду за клятвопреступление, богохульство и святотатство! Но ведь тогда придется признаться в умышлении и выполнении всего хитрого и искусного плана против Бонифация, а этого Плацидия ему никогда не простит! И он впал в отчаяние и ни словом не обмолвился за время долгой речи Астурия, пока молодой испанец, сыпля сотнями аргументов и примеров, доказывал, насколько он, Феликс, не годится для правления империей — более того, сколько он причинил этой империи зла! И только тогда, когда Астурий произнес: «Победоносные войска не потерпят больше этого», — он в дикой тревоге вскочил с мраморной скамьи и воскликнул:
— Чего вы хотите от меня?.. Вы требуете, чтобы я ушел… чтобы отказался от власти, от патрициата? Говорите… говорите…
Вода в бассейне журчала все так же, как раньше, но Феликсу уже казалось, что плеск усилился тысячекратно… что это не журчание фонтана, а глухой, грозный ропот сотен и сотен недовольных солдат… страшных гуннов, готов… свевов… вандалов… В этот предвечерний час, когда из всех углов выползли немые, бесшумные, серые тени, он искренне пожелал скинуть с себя непосильный груз… Да, взять в руки тяжелый молот и на куски разбить мраморного Атласа!
И он с нетерпением ждал, что скажет Астурий. А испанец сказал:
— Что нам от того, что ты пожелаешь отказаться от власти? Плацидия не согласится… не согласится, так как знает, что после тебя вынуждена будет назначить патрицием Аэция… а ты не осмелишься пойти против ее поли…
Он оборвал речь, как будто ждал, чтобы тени, все быстрее, все наглее, точно гады, скользящие по полу, по стенам, по облицовке бассейна, начали взбираться по ногам патриция к самому его боязливому сердцу, — и наконец продолжал, понизив голос, так чтобы Феликс не проронил ни слова:
— Нет, Феликс… Для блага империи… для блага Аэция, мы, верные его солдаты, решили тебя уничтожить… Я сам должен был совершить это своими руками… вот этими руками…
И он вытянул руки.
Приглушенный стон вырвался из груди Феликса.
— Убийцы!
— Ты верно сказал: «Убийцы!» И это же говорили бы во всей империи, хотя мы сделали бы это единственно для ее блага и славы… Вот уже и сегодня мне бросили в лицо это слово. Что ж, неприятное слово. И потому мы решили сделать иначе: ты умрешь не от нашей руки, а умрешь… так, как мы пожелали… умрешь по воле Плацидии, как заговорщик и изменник. А об Аэции Плацидия будет знать, что он отверг твои гнусные подстрекательства и, более того, решил защитить и предостеречь от их последствий нашу владычицу, рискуя навлечь на себя жестокие и несправедливые подозрения… И тогда прекратятся былые недоразумения между Плацидией и непобедимым, и патрициат по добровольной милости императорского величества…
Дальнейшие слова заглушил громкий, долго не смолкаемый смех. Человек боязливого сердца, который минуту назад услышал свой смертный приговор, смеялся весело, счастливо, торжествующе. Смех этот не только заставил испанца замолчать, не только привел его в замешательство и встревожил, но и долго не давал говорить самому Феликсу.
— О глупцы! — восклицал он, с трудом пытаясь пересилить собственный смех. — Прекратятся недоразумения между Плацидией и Аэцием?.. Патрициат по добровольной милости ее императорского величества? — Новый взрыв безумного смеха, и только спустя долгую минуту снова: — Глупцы, глупцы!.. Да ты знаешь, Астурий, почему я тебе сказал, что ты мой узник?.. Потому что Плацидия вчера узнала, что ты в Равенне… и она охотится за тобой!.. Охотится… как в Африке охотятся на пантеру, прежде чем начать охоту на льва…
Астурий понял все на лету. Он спокойно выслушал, что рассказал ему, давясь от смеха, Феликс о требовании Плацидии убить Аэция.
— Теперь вы видите, верные солдаты, что не от меня грозит наибольшая опасность Аэцию, которого я почитаю и уважаю… Пусть Аэций бережется вечно несытой мести Плацидии, а Феликс с радостью уйдет в тень, в свои владения в Лукании и сам будет призывать в сенате дать патрициат Аэцию, только вы должны гарантировать мне жизнь, свободу и покой, и, как я сейчас Аэция, так вы меня должны уберечь от мести Плацидии…
Было темно, и Феликс не видел лица Астурия в тот момент, когда юноша с жаром воскликнул:
— О нет, сиятельный Феликс… тебе не придется уходить в тень… ты только переложи слишком тяжелый для тебя груз власти на сильные плечи Аэция, и ты увидишь: второе консульство, возможно даже уже в будущем году, тебе обеспечено!.. Но ты должен пообещать, что действительно в ближайшие же дни на заседании императорского совета изъявишь желание сложить власть и укажешь на Аэция как на своего преемника… И объяснишь, почему…
— Ты слишком многого требуешь, Астурий… Я сделаю то, чего вы хотите, но и ты должен мне пообещать, торжественно поклясться, что письма, о которых ты говорил, не дойдут до Плацидии…
— Клянусь тебе словом солдата.
— Ты говорил, что в двенадцать часов Пладиции вручат эти письма… Теперь одиннадцать. Поклянись, что ты немедленно побежишь отсюда к дворцу и задержишь человека, которого послал с этими письмами…
— Клянусь.
— Клянись своей головой… Честью своей матери… дочь у тебя есть?..
— Есть девочка…
— Тогда клянись ее девичеством и добродетелью, которые она утратит до замужества, если ты меня обманешь… Клянись спасением ее и своей собственной души… Кровью Христовой… ранами его…
Астурий нащупал левой рукой скрытые на груди под туникой письма, правую же поднял кверху и торжественно воскликнул:
— Клянусь всем, что ты назвал, что эти письма не дойдут до Августы Плацидии…
И потом добавил:
— А теперь ты клянись, Феликс, что Плацидия действительно склоняла тебя убить Аэция и что, пока он не прибудет в Равенну с войны, ты ничего не ска…
Он оборвал на полуслове, так как за пурпурной завесой блеснул раз, другой и третий приближающийся свет.
Аэций с улыбкой взглянул на толпящихся в комнате комесов и старших трибунов.
— Кто-то из вас, кажется, хотел отправиться к королю Теодориху, — сказал он.
Молодой Авит-арвернец выступил вперед.
— Это я хотел, сиятельный.
Аэций окинул его с головы до ног искренне удивленным взглядом.
— Ты, Мецилий?.. Так ведь двор (слово «двор» он подчеркнул иронической усмешкой) варварского короля не очень-то подходящее место для изнеженного сенаторского сына… Там грязно, шумно, все грубовато… право, не для тебя. Но коли уж ты так хочешь…
— Очень хочу, сиятельный.
— Что тебя туда влечет?
— Мой родственник Теодор заложник у короля Теодориха. Мать его исплакалась от отчаянья, рыдает дни и ночи. Я поеду: может быть, благородный и отважный владыка варваров захочет вернуть его матери по моей просьбе…
Все комесы и трибуны разразились громким смехом.
— Уверяю тебя, мой Мецилий, что не отдаст, — заглушил смех мощный голос Аэция.
— А если не отдаст, то я предложу себя в заложники вместо него. Ты позволишь мне, господин?
Смех оборвался: Аэций, комесы и трибуны смотрели на Авита, как на безумца или святого, взглядом, полным удивления, недоверия, но и уважения.
— Ну конечно же, позволяю… Только удивляюсь, Мецилий Авит…
— Ты удивляешься, сиятельный?.. Но ведь ты сам был некогда у готов, и даже у самого Алариха…
— Да, был. Ты верно сказал, Мецилий. Но я — не ты. А впрочем…
Он широко, весело и вместе с тем язвительно улыбнулся.
— Я дам тебе ручного голубя… Думаю, что через два-три дня ты решишь его отослать — только привяжи к ноге записку. Я тут же выкуплю тебя за подходящую цену — шесть голов готских вождей, которых морю здесь у себя в подземелье голодом… Еще с неделю выдержат. А там должен быть мир.
И как будто только сейчас что-то припомнив, поспешно добавил:
— Если уж ты действительно хочешь туда ехать, то просим тебя, сообщи королю Теодориху, что мы милостиво соглашаемся на его условия мира…
Громкий шепот удивления пробежал по набитой комесами и трибунами комнате. Аэций, не обращая на это внимания, продолжал:
— Мы даем народу готов для поселения, кроме Новемпопулонии, еще Аквитанию, но, однако, без битуригов, арверов и габалов. Из нарбонской же провинции только Толозу[40], а Нарбон — нет… С посессорами[41] пусть король договаривается сам, города же должны управляться по римскому праву. И все. Но король Теодорих должен принести присягу, и притом торжественную — в своей арианской церкви, — на феод…
На феод, или на верность императору, должно было присягать каждое варварское племя, которое желало поселиться в пределах империи. Присяга эта налагала на него обязанность быть вечным союзником, это понималось таким образом: если главнокомандующий императорских войск того потребует, то народ-федерат должен выступить во всеоружии, и притом незамедлительно, против любого врага Рима, причем король этого народа на время войны безоговорочно подчиняется приказам имперского начальника. Мелкие варварские племена, как правило, честно выполняли союзнические обязательства, но более сильные из федератов, а в первую очередь самые могущественные из них — вестготы, то и дело бунтовали против юридической зависимости от империи, вызывая длительные и опустошительные войны, истинной целью которых, однако — во всяком случае, в начале правления Теодориха, — была не независимость от Рима, а только стремление урвать от империи все новые и новые владения взамен за возобновление феода. Констанций вначале хотел было поселить готов в Испании, рассчитывая на их помощь в борьбе с беззаконно осевшими там вандалами, аланами и свевами, но, однако, от Испании, своей колыбели, Феодосиев дом не хотел отказываться добровольно и отвел для вестготов небольшой юго-западный кусок Галлии. И вот спустя пятнадцать лет мощь вестготов возросла настолько, что победоносный полководец добровольно соглашается отдать варварам столь обширные владения, никакое иное племя не может похвалиться обладанием — пусть даже беззаконно — хотя бы половиной отводимой Теодориху после его поражения на Колубрарской горе территории!
Почему Аэций так делает? — поражались комесы и трибуны. Ведь он после победы так силен, а неприятель так ослаблен, что если затянуть войну, если перейти от обороны к нападению, то вестготов можно так прижать, что те с радостью согласятся на условия пятнадцатилетней давности! Но Аэций не намеревался объяснять подчиненным своих намерений, и они перестали ломать голову, удивленные и ошарашенные тем, что произошло после отправки Авита к вестготам. Почти каждый из них получил повышение в воинском чине и более знатный титул; кроме того, главнокомандующий собственноручно повесил на шею каждому цепь чистого золота со своим изображением, которое все тут же с искренним почтением поцеловали. Но и это еще было не все: двадцать слуг под началом гунна Траустилы внесли в комнату тяжелые мешки с солидами и серебряными силиквами, серебряные чаши и блюда, искусно выкованные шлемы, панцири и поножи. Каждый из комесов и трибунов, побуждаемый Аэцием, мог брать из всего этого то, что хотел. Кроме того, те, кто в последней битве был ранен или находился подле вождя, могли отправиться в его конюшни и выбрать там по два коня — и все без исключения были званы на пир, который в тот вечер префект претория Галлии давал в честь победоносного полководца. Пригласив на это пиршество каждого в отдельности, Аэций попрощался с соратниками и только одного Андевота попросил остаться. Все ушли удовлетворенные, славя непобедимого, которому они клялись верно служить до последнего дыхания, до последней капли крови в сильных, крепких телах! Весть о неслыханной щедрости вождя быстро облетела лагерь, но это не вызвало у солдат удивления: деканы еще с раннего утра ходили между рядами с мешками и в каждую протянутую ладонь клали блестящий желтый кружок, с которого одинаково суровым взором смотрели на гунна, на гота, на свева, на франка несколько округлые и выпуклые глаза Августы Плацидии.
— Ты помнишь, кем ты был шесть лет назад, Андевот? — спросил Аэций.
Увешанный золотыми и серебряными отличиями варвар устремил на своего предводителя влюбленный взгляд.
— Никогда этого не забуду, господин мой, — ответил он грубым, несколько хриплым, но почти растроганным голосом. — Я был жалким пленником…
— А потом?
— Деканом в ауксилариях…
— А потом?
— Потом был год консульства императора Валентиниана… В том году до мая Андевот был все еще в ауксилариях, всего лишь центурионом, а после мая… — Он преклонил колено. — …после мая трибуном дворцовой гвардии… и даже трибуном личного отряда комеса! — воскликнул он со взрывом радостной благодарности.
— Хорошая у тебя память, Андевот. А кто ты ныне?
Больше уже не мог сдерживаться Андевот. Изо всех сил грохнул мощными кулаками в панцирь на груди, распираемой счастьем и гордостью.
— Нынче я комес!.. Соратник непобедимого…
— Солгал ты, Андевот. Ныне ты уже не соратник, а друг Аэция…
И положив ему ладонь на плечо, добавил:
— Отберешь триста человек…
— Ты сказал, господин…
— Но ни одного гунна…
Большие голубые глаза Андевота чуть не вылезли на лоб от удивления.
— Лучше одних готов… из дворцовой гвардии… тех, у кого жены и дети живут в Равенне…
— Твоя воля, господин…
— Но таких… знаешь?.. Самых надежных… Каждому дашь по три золотых… И по кувшину вина. И ныне же…
— Ныне же, господин…
— Отправишься с ними в Равенну. Найдешь там Астурия. Ты знаешь, где его искать. И скажешь ему: «Пора».
— Я скажу: «Пора».
Вторая ладонь Аэция легла на второе плечо Андевота.
— Я знаю, что вы с Астурием любите друг друга, но все равно поклянись мне, друг, что во всем, что он тебе скажет, ты будешь слушаться его так, как будто это приказал я… Клянись мне в этом самым дорогим и святым для тебя…
Андевот поднял к небу огненноволосую голову, красное лицо и большие голубые глаза.
— Клянусь, — сказал он, — клянусь тем, что в кровавом бою я паду, защищая твою жизнь, о непобедимый, клянусь тем…
Диакона Грунита разбудила острая боль выше левого колена. Удивленный, он сел на постели. И вдруг ощутил такую же боль в лодыжке, но уже на правой ноге. Он прикоснулся к больному месту, почесал его и почувствовал невыразимое облегчение. Снова лег. И снова боль — как будто что-то укололо его повыше крестца. А лодыжка ужасно зудела, там, где он почесал. И снова укол в живот. Он вскочил. Быстро снял со стены тускло светившую лампаду и поднес ее к самой постели. Все понятно! По полосатой ткани, которой он укрывался, огромными прыжками мечется черная точка. Резким движением ухватил он покрывало: черная точка исчезла. Но только Грунит успел поставить светильник рядом с постелью и вытянуться под покрывалом, как снова почувствовал боль, на этот раз в локте. Он начал чесаться — все быстрее, все сильнее: локоть, повыше крестца, живот… Страшный зуд и тут же новый укус в плечо. Ему казалось, что он задохнется от неожиданно подкатившей к горлу ярости. Он схватил левой рукой светильник, а трясущуюся правую, точно боевой топор, обрушил на постель. Из-под пальцев взвилось в воздух черное пятнышко и миг спустя упало на изголовье. И тут-то одеревеневшие, сильные, хищные пальцы кинулись к изголовью: черная точка издевательски и торжествующе отлетела к ноге. Пальцы к ноге — черная точка перескочила на живот. Но Грунит не прекратил охоты: скрипя зубами, обострив все мысли и чувства, он преследует ненавистного врага… шлепает всей ладонью по впалому животу, больно щиплет за бедро, ломает об себя в преждевременной радости ногти, пока не настигает врага в ногах постели; точно обрушивающейся скалой, накрывает он его распростертой ладонью, ошеломляет, ранит, сковывает движения… и только потом с радостным блеском глаз берет хищными пальцами… самозабвенно, медленно сдавливает ногти и убивает… расплющивает… уничтожает… А через минуту плачет.
Ведь он всегда был такой гордый и счастливый от того, что никогда даже самую ничтожную божью тварь не убил… не поранил… не обидел! И почитал это такой великой заслугой своей перед милосердным Христом! И что же оказалось?… Вот почему он был такой добрый, такой милосердный, вот почему так заботился, чтобы никому и ничему не причинить обиды: потому что сам ни от кого обиды не испытал, ибо никто никогда его не обижал, никто не был его врагом…
«Воистину, легко быть тогда добрым и милосердным, — шепчет он про себя, сотрясаясь от рыданий, — но пусть только явится враг — бедная, маленькая, беззащитная тварь… пусть только укусит доброго, милосердного Грунита, и что? — яко хищник, яко язычник, яко сатана кидается он с яростью на врага… пышет весь ненавистью, преследует, загоняет, борется, а потом терзает… терзает… терзает…»
Он вскакивает с постели, падает на колени, бьет себя в обнаженную грудь.
— Прости, господи… Смилуйся… — трясется он всем телом. А ведь как же?.. Не трудно догадаться: причини какой-нибудь человек ему обиду — и вот уже срывается милосердный слуга Христов, хватает меч или копье и убивает… убивает человека!
Разве не медлил он предостеречь об опасности патриция Феликса, поелику тот убил его друга Тита?.. А если это так, то кто знает, не пожелал ли бы он прямо смерти Феликсу, если бы не друга, а его самого тяжело поранил патриций! Слезы потоком льются из глаз диакона: как же далеко человеку до совершенства Христова!..
Неожиданно он перестает плакать и начинает размышлять о Феликсе и о всех этих странных делах. Погоди… когда же это было? Да, да, уже целая октава прошла с того вечера, когда, запыхавшийся, обливающийся потом, вбежал он в инсулу патриция, велел провести себя пред обличив патриция и, не глядя в глаза человеку, который убил Тита, залпом выдохнул из себя: «Сиятельный, тебя хотят убить… Аэций посягает на твою жизнь». А Феликс рассмеялся тогда и сказал: «Благодарю тебя, юноша… меня хотели убить, но уж не хотят…» И дал ему полный кошель серебра. Грунит взял его и на другой день перед церковью святой Агаты раздал силиквы нищим.
Да, уже октава. Пятый день пошел с того вечера, когда он неожиданно встретил юношу, который приходил от Аэция с недобрыми словами к епископу. Он и сам не знает, что его тогда толкнуло подойти к нему и сказать: «Истинным Христовым словом благодарю тебя, господине, за то, что отказался от злых мыслей против патриция Феликса». А тот мгновенно как-то переменился в лице и сказал: «Не понимаю твоих слов… и вовсе тебя не знаю…» Тогда улыбнулся лучисто Грунит и сказал: «Я все знаю. Это меня святой епископ посылал предостеречь патриция». А тот больше ничего не сказал, только как-то странно посмотрел на него и пошел…
К концу подходит чудесная майская ночь. Но Грунит не чувствует ее волшебства и даже не подозревает о нем — прежде, чем одеться, он хочет закончить молитву, свою собственную, самим сложенную:
— Сделай так, милосердный господи, чтобы недостойный из слуг твоих воистину мог сотворить что-то во имя твоей любви к человеку… Аминь. Аминь. Аминь.
— Едет, едет! — прервал наконец тишину ожидания чей-то далекий голос.
— Едет, едет! — загудело в колышущейся у подножия храма толпе.
Центурионы дали знак: вся prima schola scutariorum[42] — пять сотен рослых юношей — одновременно застучала остриями коротких мечей о гулкую бронзу крепких щитов. И тут же отозвалась secunda schola spathariorum[43], длинные копья с резким звоном ударились в сердцевины маленьких круглых щитов. Выстроенные же на ступенях церкви когорты дворцовой гвардии выдохнули из закованных в мрачную тайну грудей оглушительный «баритус», который прозвучал совсем невинно и мягко, как невинным и мягким был этот купающийся в солнечных лучах господний день, последний перед июньскими календами.
Приближался патриций империи.
Сначала над толпой выросли длинные копья букцилляриев[44], сверкающие настоящим золотом в лучах предполуденного солнца. Потом прошел белый клин скороходов, надвое рассекая черную колышущуюся массу, открыв глазам выстроенных у церкви солдат кортеж патриция, сверкающий золотом, серебром, пурпуром и белизной. В первой квадриге ехал знатный и прославленный сенатор Петроний Максим, в другой — приятель Феликса молодой Квадрациан, в третьей колеснице, запряженной четверкой молочно-белых коней, следовал сам патриций с женой своей Падузией.
Невыразимое волшебство упоительной майской ночи — волшебство, которого диакон Грунит даже не заметил и которого не сознавал, — так околдовало скромную, тихую жену Феликса, что она сама вдруг стала подобна этой ночи, столь же упоительной, полной невыразимого очарования, пышущая желанием и наслаждением… словно ночь, смелая в наготе своей и щедрая в расточении всех своих прелестей… словно ночь настойчивая, неутомимая, все заполняющая собой. Пятый год пошел с той поры, как впервые познали они друг друга на брачном ложе, и вот обоим, Феликсу и Падузии, показалось вдруг, что до этой ночи они совсем не знали, что такое любовь. Когда же последние серые тени стыдливо рассеялись перед первым натиском дня, изумленным глазам патриция показалось, что не живое, так хорошо знакомое ему и так недооцениваемое столько лет тело жены покоится на широком супружеском ложе, а чудесное изваяние из розового мрамора, изумительное, хотя и грешное творение языческого художника, неожиданно поднесенное в дар ему и теперь вобравшее в себя все лучи столь же, как и Феликс, восхищенного неожиданным зрелищем солнца. Никогда он не предполагал, что жена его так прекрасна! И когда она выразила желание сопровождать его в церковь, он тут же согласился, хотя вообще-то был против того, чтобы высоких сановников сопровождали при торжественных выездах женщины, пусть даже в законе господнем состоящие с ними!
Но в этот день он сам того захотел: пусть все сиятельные… все войско… вся Равенна убедятся, как прекрасна его Падузия!.. Да, пусть увидят и пусть почтут жену патриция! Но он тут же заинтересовался, почему, собственно, она хочет отправиться вместе с ним в церковь, и вдруг почувствовал искреннее волнение, когда она самым серьезным голосом ответила:
— Я хочу чувствовать, что ты рядом со мной, в ту минуту, когда я буду горячо благодарить господа нашего Христа за то, что он в Кане благословил и чудом освятил связь мужчины с женщиной…
И вот тогда, пожалуй, впервые в жизни Констанций Феликс растроганно и благоговейно поцеловал руку своей жены.
Отправляясь в базилику, оба нарядились как можно роскошнее, в самые торжественные облачения: омытое, умащенное и обрызганное благовониями тело Феликса сначала покрыла богатая, вышитая пальмовыми ветвями туника, на которую ловкие руки слуг накинули златотканное шелковое платье без рукавов далматинского покроя, в то время как раз начинающее свою победную борьбу со всеми разновидностями староримской тоги. Единственным украшением такого одеяния были клави — длинные полосы, обычно темных тонов, идущие от плеч до самого низа, где сливались с оторочкой того же самого цвета. Клави на далматике Феликса были пурпурные, такого же цвета были и высоко зашнурованные башмаки, плотно охватывающие всю ступню и половину щиколоток.
Падузия надела пеплум цвета неочищенного миндаля и чудесное сапфировое верхнее облачение, отороченное двумя рядами серебряных колечек, в каждом из которых помещались три сердца, обращенные друг к другу острыми концами. Вблизи каждое сердце напоминало готового вспорхнуть голубка, а острые концы — целующиеся клювики. На ноги жена патриция надела скромные темные сандалии.
— Ты будешь выглядеть, как умбрийская крестьянка! — с удивлением и гневом воскликнул Феликс.
— Вот увидишь, — рассмеялась Падузия.
Действительно, через минуту он вновь с удивлением смотрел на ноги жены: скромные ремешки сандалий и уродливо прошитые подошвы совершенно скрывались в складках длинного пеплума; виднелись только пальцы, но и они тут же утонули в сверкании золота и драгоценных разноцветных камней — так как на каждый палец Падузия надела по меньшей мере по два кольца. Да и ногти как будто никак не подчеркивали непристойной благородным женщинам наготы ног, каждый из них был искусно выхолен и выкрашен под цвет камня на кольце.
В базилику Феликс отправился в наилучшем настроении: Астурия он так больше и не видал, но испанец все еще сносился с ним через доверенного варвара и не только неоднократно уверял его, что патрицию ничего не грозит от людей Аэция до возвращения самого командующего из Галлии, но даже назначил день — июньские ноны, когда Аэций, буде удачно закончит войну с готами, хотел бы встретиться с патрицием, но не в Равенне, а в Медиолане[45] с тем чтобы обдумать пути и средства совместной защиты от гнева Плацидии, который рано или поздно обрушится на Феликса, хотя бы известные письма и не были преданы огласке… Дело с письмами больше всего тревожило патриция, поэтому он почувствовал себя полностью успокоенным и счастливым, когда доверенный Астурия разрешил ему на расстоянии пяти шагов вглядеться в черные таблички, на которых он с невыразимой радостью прочитал собственное письмо, и прежде всего жирно подчеркнутые слова о деле Бонифация, могущие в любой момент бесповоротно погубить его. С минуту он раздумывал, не броситься ли на посланца с мизерикордией, но тот, читая его мысли, с приятной улыбкой заявил, что стоит ему сделать шаг или повысить голос, что может привлечь слуг, — и патриций тут же поплатится жизнью, а кроме того, славный Астурий будет ждать своего посланца только до захода солнца, а если тот к назначенному времени не вернется, то немедля отправится в священный дворец еще с одним письмом, о котором сиятельный муж, кажется, забыл. Как бы то ни было, Феликс изведал чувство невыразимого облегчения, убедившись, что Астурий сдержал свою клятву; но, чтобы окончательно обезопасить себя от Аэциевых людей, он как раз в канун последнего в мае господнего дня переслал Астурию известие, что, согласно со своим торжественным обязательством, он взял голос на императорском совете, выразив желание отказаться от сана патриция и назвав в качестве своего преемника Аэция. Он говорил правду, но не сказал всей правды: он не счел нужным уведомить Астурия, что, как только он начал свое слово, Плацидия строгим голосом велела ему замолчать, заявив, что никогда не согласится на его отставку, наоборот, она считает его единственным достойным носить этот сан именно за великие заслуги, которые он принес империи, а в качестве первой и самой важной назвала отторжение от гуннов Валерии. «Во всяком случае, — закончила она, — не Аэцию быть твоим преемником, светлейший».
Последняя октава принесла еще одно событие огромного значения: сближение патриция Феликса с епископом Эгзуперанцием, коих даже сама Плацидия не могла доселе примирить. Обрадованный и тронутый предостережением, которое прислал ему с молодым диаконом епископ-враг, патриций на следующий же день отправился к Эгзуперанцию, чтобы лично поблагодарить его, а одновременно и рассеять его опасения и, если удастся, выведать, откуда епископ знает о намерениях Аэция. Эгзуперанций ни единым словом не обмолвился, от кого и как узнал о грозящей Феликсу опасности, но Христом богом заклинал своего недавнего врага, чтобы тот остерегался, так как не склонен был верить полным веселости заверениям патриция, что опасность уже миновала. Феликс во всеуслышание выразил раскаяние в том, что по служил причиной смерти диакона Тита, и торжественно пообещал поставить ему богатое мраморное надгробие, выложенное золотыми плитами, епископ же согласился отслужить в ближайший господний день молебен — с благодарением и с молением, дабы торжественно отметить великое примирение: благодарение именно за примирение, а моление о том, чтобы Христос отвратил всякую опасность, каковая еще могла грозить патрицию империи. Желая отблагодарить епископа, Феликс выразил пожелание, чтобы молебен был двукратно благодарственный и моление тоже было двукратное, ибо Христа надлежало благодарить еще и за то, что здоровье святого епископа Эгзуперанция вдруг улучшилось; молить же его следовало о даровании победы над еретическим королем готов, о войне с которым вот уже длительное время в Равенну не поступало никаких сведений.
Услышав приветственный лязг оружия и все нарастающие крики: «Едет! Едет!», епископ Эгзуперанций медленным, величественным шагом в окружении священников и диаконов двинулся к пропилею базилики, где уже толпились многочисленные сановники и сенаторы. Возгласы: «Едет! Едет!» — сменились радостными выкриками:
— Ave, vir gloriosissime! Ave, Felix! Ave!.. Ave!.. Ave!..
В пропилей Урсианской базилики вело около пятнадцати ступеней, застланных по случаю примирительного торжества пурпурной тканью. Еще во время первого визита Феликса к епископу было решено, что Эгзуперанций приветствует патриция на половине лестницы, но не сразу спустится на эту восьмую или седьмую ступень, чтобы там ждать, пока приблизится патриций империи, а будет находиться у пропилея до той минуты, когда патриций сойдет с колесницы и поставит ногу на первую ступень: тогда они пойдут навстречу друг другу, и каждой ступени, пройденной Феликсом, должна соответствовать ступень, пройденная епископом.
В этом приветственном сошествии до половины лестницы епископа должны были сопровождать священники Иоанн и Петр, прославленный оратор. Феликс же один должен был взойти по ступеням и поцеловать крест, который ему поднесет к губам Эгзуперанций. И только после того, когда в сопровождении ожидающего его перед пропилеем префекта претория патриций войдет в перистиль базилики, на лестницу смогут подняться знатные мужи из его свиты. Поэтому удивление и недовольство епископа не имело границ, когда он увидел рядом с Феликсом стройную фигуру молодой красивой женщины. Он сразу сообразил, что это законная жена патриция, но это отнюдь не уменьшило его недовольства. Что же теперь делать? Как поступить? Дать и ей крест для целования?.. Но приличествует ли вообще, чтобы епископ сходил навстречу женщине, которая не является императрицей и вообще не принадлежит к императорской фамилии? Он кинул беспомощный взгляд на священников Петра и Иоанна и прочитал в их глазах немую тревогу и чуть ли не возмущение: весь столь обстоятельно продуманный до последних мелочей церемониал был бесповоротно нарушен!
Пока епископ раздумывал, как поступить, Феликс уже поднялся на третью ступень лестницы, Эгзуперанций же неподвижно стоял под пропилеем. Но растущее с каждой минутой беспокойство перешло в настоящее замешательство, когда сиятельный патриций неожиданно сделал прыжок сразу через четыре ступени и, забыв обо всем, даже о жене, вбежал между шеренгами доместиков и схватил за плечи высокого, стройного комеса, лицо которого до половины было прикрыто широкими крыльями шлема.
— Смотрите… это Андевот! Комес Андевот! — воскликнул он с величайшим изумлением. — Как же так? Ведь ты же в Галлии… С Аэцием… На войне с готами…
И вдруг что-то вспомнил, от чего его красивое лицо сразу покрылось землистой сетью уродливых мелких морщин.
— Ты жив? Жив? — закричал он в ужасной тревоге. — А говорили, что погиб… еще зимой… Астурий говорил… Астурий…
Он не закончил. Андевот резким движением вырвал плечо из его руки и, прежде чем Феликс успел закрыться, сильным ударом в живот отбросил его прямо на неожиданно обнажившиеся мечи солдат. На пурпурную ткань брызнула пурпурная кровь. Падузия испустила пронзительный крик, но крик этот тут же утонул в мощном, звонком, бронзовом голосе, который издали пять сотен мечей, ударившись о большие щиты. И тут резким звоном ответили скутариям спатарии. Отчаянно продирающаяся сквозь шеренгу доместиков Падузия не услышала стонов убиваемого мужа.
Последним увидел Феликс смуглое лицо комеса Астурия. Испанец стоял на верху лестницы и, размахивая обнаженным мечом, что-то угрожающе кричал мечущимся с перепугу священнослужителям и сановникам. Остатком сил Феликс попытался подтянуться: только бы доползти до Астурия… Он спасет… Он знает… Он один только знает!
Новый сильный удар по голове — и струя горячей крови заливает все лицо, один глаз, другой… Ничего уже не видит патриций Феликс…
Но зато все видит диакон Грунит. И как спатарии обрушились на напирающую с воплями толпу… и как тщетно пытается закрыть своим телом лежащего патриция прибывшая с ним женщина… и как священники и знать в тревоге прячутся в перистиль базилики, где тут же за порогом без сознания падает на каменный пол епископ Эгзуперанций… Солдаты с обнаженными мечами бегут по лестнице, чтобы ворваться в церковь, но юноша, который приходил от Аэция к епископу, удерживает их одним коротким:
— Стой!
Сильные руки священника Иоанна заботливо пытаются втащить Грунита в базилику. Но тщедушный диакон с огромной силой, какой он от себя никогда не ожидал, резко отталкивает почтенного священнослужителя и кидается между солдатами. Не успев даже понять, чего хочет, он уже заслоняет своим телом Ахава, Навуходоносора, преследователя слуг божьих, убийцу Тита… Он не знает, жив ли еще Феликс, но отсюда он не уйдет…
— Ведь правда, Иисусе, ты не дашь мне отсюда уйти?!
Первый удар… Как сквозь туман, видит Грунит рядом чье-то окровавленное, искаженное звериным страхом и болью лицо… видит широко раскрытый рот, высунутый язык… но ничего не слышит: приветственным звоном оружия все еще перекликаются скутарии и спатарии. Окровавленная фигура опускается на недвижно лежащее рядом тело — судорожно растопыренные пальцы накрывают руку диакона. Впервые в жизни прикоснулся Грунит к руке женщины. Самозабвенно закрывая гибнущего, столкнулись неожиданно любовь женщины и Христова любовь к ближнему, да так и замерли в коснеющем объятии. Огромный гот занес над головой Грунита франконский топор, но тут его привел в замешательство вид священнической одежды… Обезумевший, но ничего не понимающий, преданный взгляд — взгляд пса — устремлен к стоящему неподалеку Астурию. Испанец смотрит на распростертую над трупом Феликса пару и припоминает вдруг слова: «Я все знаю. Ведь это меня посылал с предостережением святой епископ» — и радостно кричит готу:
— Добей!
Последнее, что на этом свете видит и слышит диакон Грунит, — это Астурий, вскинутый десятками рук над бурным морем голов, кричащий оглушительным, поистине нечеловеческим голосом:
— Солдаты! Друзья! Изменник и трус Феликс хотел убить Аэция! Вы спасли непобедимого!..
И хотя раскрытые глаза диакона уже никогда не отвратятся от западной стороны форума, откуда доносится наибольший шум, они не увидят, как Астурий плывет в воздухе над тысячами голов к восточной стороне. Доместики передают его спатариям, спатарии — скутариям, до того места, где сверкающая граница щитов и копей отделяет солдат от черной воющей массы. К этой черной массе обращены его слова.
— Граждане Равенны!.. Гнусный патриций Феликс хотел убить единственного защитника империи… гордость Италии… преданнейшего слугу Плацидии — Аэция!
Рядом с Астурием вырастает внезапно огненная голова Андевота.
— Благородные равеннцы! — кричит он. — Я вернулся из Галлии, страшная сила готов угрожала империи… Они мчались, как буря…
— Как лавина в Альпах!.. — кричит Астурий.
— Как лавина! — повторяет Андевот. — Они уничтожали все на своем пути… поля, виноградники, села, города… Они приближались к границам Италии! Были близки от Равенны!
Молниеносно беспорядочный шум сменяется приглушенным ропотом беспокойства. На толпу спадает тревога совсем иного рода, чем та, которую вызвала весть об убийстве Феликса.
Царящие над толпой Астурий и Андевот выжидают минуту, пока беспокойный ропот не растечется с форума по узким уличкам, и только тогда, радостно вскидывая к небу руки, Астурий снова до боли напрягает голос:
— Равеннцы! Италийцы!.. Возблагодарите Христа!.. Аэций вас спас… он разгромил готов… вырвал у врагов бедную Галлию… и еще раз спас Италию…
— Слава Аэцию! — взлетает чей-то одинокий голос.
— Слава ему! — ревут спатарии, скутарии и доместики, они повторяют этот возглас, пока его не подхватывают десятки, сотни, тысячи голосов.
— Аэций благодарит вас, жители Равенны! — остатками сил исторгает из себя эти слова Астурий. — Он стоит под Равенной… вот уже три дня! И не входил в город, потому что знал: здесь ему грозит убийство из-за угла! Граждане, неужели мы не выйдем все как один вознести благодарность Аэцию за победу… за спасение?!.. Уверить его, что ему теперь нечего опасаться?!.
Плацидия не плачет. Горестно стиснув губы, она вглядывается в лежащие у ее ног тела. Красивое лицо Феликса теперь превращено в сплошную ужасную липкую кашу. У Падузии разорван рот до самого уха — на руках и на ногах ни одного пальца: все двадцать отрублены вместе с кольцами. Отрублена ровно и умело левая грудь — нет сомнений, над нею глумились уже после смерти. И только диакон Грунит, кажется, беззаботно и спокойно спит. Плацидия с трудом отрывает взгляд от полунагих останков и с бешенством и презрением смотрит на лица сановников, бледные, белые, как их тоги.
— Трусы! — бросает она им в лицо. — Трусы и предатели!
Сановники молчат.
О церемониале забыли, будто он никогда и не существовал. Старый Леонтей с громким топотом вбегает в комнату. Сразу же за ним входят Астурий и Андевот.
При виде их Плацидия уже не может сдержать ярости.
— На колени! — кричит она нечеловеческим, хриплым голосом. — На колени, изменники, убийцы!.. Бешеные псы! Вот здесь, здесь… целуйте его лицо… ее изуродованные ноги… Я сама, своей рукой отрублю вам ваши подлые головы… тупым мечом, видит бог… Меч! Дайте меч!
Крик ее переходит в дикий, смешной писк. Никто не двигается.
— Прости, великая Плацидия, — холодно говорит Астурий, — мы пришли уведомить тебя, что твой верный слуга, единственный защитник империи, непобедимый Флавий Аэций счастливо избежал злокозненной смерти… Но поскольку, как я вижу, ты уже знаешь…
На лице Плацидии тут же появляется маска достоинства и спокойствия.
— Флавий Аэций предстанет перед нами под стражей, обвиняемый в предательстве и убийстве…
— Нет, великая, он предстанет здесь и уже скоро — может быть, через два-три часа — как счастливый победитель короля Теодориха…
Вскрик удивления и отчаяния вырывается из груди Плацидии. Среди приближенных небывалое смятение. Астурий же спокойно продолжает:
— Он предстанет перед великой Плацидией уверенный, что его не минует заслуженная награда… награда не только за победу — это не столь важно, поскольку для Аэция она привычна, — он должен быть обласкан тобой за опасность, которая ему грозила из-за угла, а не тогда, когда он подставлял свою грудь в честном бою за тебя, о великая.
Снаружи донеслись вдруг громкие крики, трубы, звон оружия. Еще сильнее побледнели сановники и сенаторы.
— Что это? — тщетно пытаясь сдержать тревогу, воскликнул префект претория Феодосий.
Андевот усмехнулся.
— Это италийские легионы, и прежде всего преданные спатарии и скутарии Августы Плацидии выходят встречать победителя. А зачем они сюда пришли? Им, наверное, кажется, что сиятельные мужи захотят следовать во главе их…
— И действительно, сиятельные мужи, — подхватил Астурий, — кто пойдет приветствовать победителя от имени Августы Плацидии и сената Рима?
Не услышав ответа, он с нарочитой небрежностью добавил:
— Кто знает, а вдруг солдаты, которые проливают кровь за императора и сенат, обидятся… и очень обидятся, что никто, кроме них, не хочет воздать победителю…
— Я иду, — сказал Геркулан Басс.
— И я, — поспешно подхватил Секст Петроний.
— Я тоже, — откликнулся молодой Квадрациан, друг патриция Феликса.
Астурий посмотрел на них благосклонно, Петроний Максим — с презрением; Плацидия не посмотрела совсем — возможно, она уже никому не смела показать своих глаз.
— От имени легионов и орденов Италии благодарим вас, сиятельные мужи, — послышался снова голос Астурия, — но смею думать, что счастливому победителю, чудом спасшемуся от коварного убийства…
— Ты хотя бы постыдился своей трусости и лжи, Астурий, — произнесла, не поднимая глаз, Плацидия. — Почему у тебя нет смелости сказать: Аэций нам велел — и мы убили… Мы сильны и сегодня убиваем Феликса, а завтра кого-нибудь еще… Ведь ты же сам не веришь в то, что говоришь о коварном убийстве, которого избежал Аэций, а…
И тут произошло вдруг неслыханное. Даже Андевот оробел и смертельно побледнел. Астурий смелым быстрым шагом подошел к Плацидии, чуть ли не оперся еще окровавленным локтем о священную руку и, приблизив свое лицо к священному уху, что-то зашептал.
— Это неправда… — услышали сановники и придворные уже не возглас, а стон, который сорвался с внезапно побледневших губ Плацидии.
— Ты сама знаешь, что это правда, великая Августа… Когда Леонтей принес тебе в эту самую комнату весть о том, что видел меня около терм, ты велела Феликсу…
— Молчи… не говори ничего, — громко прервала она его шепот. — Закончи то, что ты хотел сказать до этого, Астурий…
— Я говорил, что Аэцию, несомненно, будет приятно встретить сиятельных мужей, но наверняка большую радость ему доставит, если высшему воинскому начальнику первым воздаст честь высший в данную минуту цивильный начальник…
Слова «в данную минуту» он произнес, особо акцентируя их.
— Я пойду, если ты, великая, повелеваешь, — сказал префект Феодосий.
— Великая Плацидия повелевает, не так ли? — устремил на Плацидию испытующий, многозначительный взгляд Астурий.
— Повелеваю…
После этого все сановники стали тесниться к Геркулану Бассу, выражая желание сопровождать его при встрече Аэция. Один только Петроний Максим не двинулся с места, где он стоял, склонившись над окостеневшими обрубками ног Падузии.
— Что мы должны сказать сиятельному Аэцию? — спросил префект.
Все вопрошающе взглянули на Плацидию. Она молчала. Молчали и Астурий с Андевотом.
И тут тишину прервал голос Геркулана Басса:
— Ты скажешь, сиятельный, что великая Плацидия благодарит великого полководца и своего возлюбленного слугу за блистательную победу… что она радуется и возносит благодарения Христу, поскольку оный возлюбленный слуга ее счастливо избегнул злокозненной смерти. Об одном только жалеет она, что тот презренный, кто умышлял этот коварный удар, не станет пред императорским судом, а сразу перед господним, иже покарал его сурово — о, воистину сурово! — но и справедливо, самовольный, к прискорбию, но понятный и правый гнев народа, обожающего своего заступника и предводителя италийского войска… И еще скажешь, что в следующий господний день епископ Эгзуперанций по настоятельному желанию Августы Плацидии отслужит в Урсианской базилике двукратный благодарственный молебен: за победу над готами и за чудесное избавление Аэция от коварного удара убийцы…
— Эгзуперанций при смерти. Он не проживет и дня, — прервал его Секст Петроний.
— Значит, его преемник! — воскликнул Андевот, уже не в силах скрыть своей радости.
Басс же продолжал:
— И еще скажешь прославленному победителю…
Через бесконечно длинные коридоры и семь обширных комнат прошла Августа Плацидия ровным, спокойным, царственным шагом. Но как только упала за нею пурпурная завеса на пороге триклиния императора Западной империи Валентиниана — бессильно рухнула на пол, задохнувшись, как малое дитя, судорожным, громким рыданием. Но услышав, что одиннадцатилетний император вторит ей еще более громким плачем, Плацидия тут же вскочила на ноги, крепко обняла сына и, прижимая черную головку к увядшей груди, быстро зашептала:
— Запомни: Аэций — это бешеный пес… змея… самый большой, смертельный враг… Не прощай ему никогда… никогда не прощай… не успокаивайся в кознях против него, подкопах, мести… Когда меня уже не будет, ты отомстишь за унижение и слезы матери, ведь так, сын мой?
Неожиданно она легко оттолкнула Валентиниана и, вскинув стиснутые кулаки, крикнула:
— Но и я еще не проиграла! Не отступлю, не сдамся, не успокоюсь! У меня есть еще друзья… Есть Бонифаций!..
Соперник
Бонифация, у которого был необычайно чуткий и легкий сон, сразу разбудил шорох босых ног около ложа. Удивленный, он сел в постели: рядом стояла Пелагия. Волосы у нее были распущены, ногти не накрашены — одета она была в одну только ночную столу, открывавшую плечи, шею и верхнюю часть груди. Остатки сна тут же покинули Бонифация: значит, произошло что-то особенное, если Пелагия прибежала сюда из гинекеи, в чем спала, не накинув на себя никакой одежды, не надев сандалий!
Сердце забилось у него сильнее: неужели, пока он спал, вандалы вторглись в город? Он бросил на жену вопросительный, полный тревоги взгляд и вдруг почувствовал, как кровь мощной горячей волной подплывает к голове: а может быть? Может быть, она пришла только для того, чтобы быть с ним?.. И может быть, поэтому она так одета?! Совсем забыв о вандалах, он протянул к ней полные робкой надежды руки, гладкие, красивые, сильные… Неужели она наконец смягчилась?.. Поняла его?.. Решила примириться?!
Но тут же отдернул их, пораженный её необычайным взглядом: не мягкость, непонимание, нежелание примириться, а гордая, дерзкая издевка и странная, настораживающая радость были в этих самых любимых черных африканских глазах, в которых Бонифаций годами привык видеть только неуступчивое упрямство, пренебрежительную грусть или обиду и гнев.
Он слишком хорошо знал ее, чтобы не понять сразу все. Значит, случилось что-то, о великий боже?! Кровь отливает от лица уже не такой сильной волной. Бонифаций дрожащей рукой крестится, вскакивает с ложа и, стыдливо прикрывая красивое нагое тело, бежит к широкому окну, откуда открывается чудесный вид на всю главную часть королевского Гиппона — от побережья до самой базилики Восьми мучеников.
Никакой праздник не приходился на этот пятый день перед сентябрьскими календами; вандалы, осаждающие город вот уже несколько недель, не проделали в стенах нового пролома; час ранний: время работы для гумилиоров и еще не прерванного сна для гонестиоров[46]; на небе ни тучки, на море штиль — утреннее африканское солнце слепит тысячами лучей, гнетет безжалостным зноем: но ведь вот же — Бонифаций видит — весь Гиппон, как один человек, высыпал на улицу, невзирая на время, на работу, отдых, зной… Тысячные толпы мужчин и женщин, старцев и детей, гонестиоров и невольников — мрачно рокочущими ручьями, потоками, реками выплывают со всех сторон к главному форуму и сливаются в одно безмерное, скорбно гудящее море, беспомощно бьющее сотнями посыпанных прахом голов о желтый мрамор базилики Мира.
Солнце как будто меркнет, ослепленное апокалиптическим светом, идущим от такого множества свеч, светильников, ламп и факелов, никогда никакая, даже темнейшая из темных гиппонских ночей ничего подобного не видала. Перед самым домом, где живет Бонифаций, катится толпа, состоящая преимущественно из людей в зрелых годах: рыбаки, ремесленники, крестьяне — почти все плачут и то и дело бьют себя в мощную грудь большими и тяжелыми, как молоты, кулаками… Исцарапанные ногтями лица вымазаны грязью либо плотно укрыты вместе с головой… Из общего гула и плача время от времени вырывается чье-то громкое рыдание или полное невыразимого отчаянья: «Увы нам!» или «Господи Христе, смилуйся!»
В какой-то момент Флавий Бонифаций, наместник Африки, гордость римского оружия, неустрашимый и несокрушимый, хотя и не всегда удачливый солдат, заметил вдруг, что по обеим его щекам катятся крупные жгучие слезы. Он торопливо вытер глаза и лицо краем ткани, которой, вскочив с постели, прикрыл свою наготу, и отвернулся от окна, кинув настороженный взгляд на Пелагию: видела ли?
Видела. Об этом явно говорил ее взгляд, еще более издевательский и радостный, торжествующий, дышащий гордым сознанием силы, свободы и победы. Если бы не этот полный жизни взгляд и не беспрерывное подергиванье пальцев, выдававших ее необычное волнение, могло бы показаться — так неподвижно застыла она возле ложа! — что это не живое существо, а изваяние, под которым спустя много-много веков — когда сойдут с него краски, а глаза вместе со зрачками утратят свое выражение — прибьют табличку с надписью: «Гипс. Римлянка из Африки в ночной одежде».
Бонифаций же, глядя на нее, подумал: «Торжествующая ненависть», и еще подумал: «Иисусе, разве это возможно, чтобы так могла ненавидеть женщина, слабое, хрупкое творение?! И кого?!»
Быстрым шагом он приблизился к ней и, взяв за дрожащую руку, произнес полным невыразимой печали голосом:
— Ты победила. Признаю. Но в этом нет твоей заслуги, твоих усилий — просто случайно. Как ручной голубь мысленно побеждает сраженного стрелой орла. Так будь победительницей, достойной своего великого противника и… своего мужа… Ты пойдешь поклониться ему.
С минуту она смотрела на него в остолбенении: впервые Бонифаций ставил ей в пример для подражания себя! Вот-вот она уже готова была взорваться от негодования (может быть, издевательским смехом — она сама еще не знала), но вдруг лицо ее просветлело, и она склонила голову в знак согласия. Хорошо, она пойдет с ним… пойдет охотно, даже с радостью, но не за тем, чтобы поклониться, а чтобы победно взглянуть в навсегда застывшее лицо… на закрытые глаза, из которых никогда теперь не блеснет молния вдохновенного гнева, и, конечно, для того, чтобы увидеть навеки сомкнутые уста, еще недавно для нее — это она признает — такие страшные, а теперь такие бессильные…
Бонифаций пожимает плечами.
— За свои чувства и мысли, — медленно, тихо, точно с трудом сдерживая гнев, начинает он, — ты сама ответишь перед богом на последнем суде; боюсь, что это будет страшный для тебя суд… Но помни: ты не смеешь не уважать горя, отчаяния и скорби этих тысяч…
И он указал рукой на окно.
В самый полдень заколыхалась молитвенно поющая толпа, окружившая базилику Мира. Громкие возгласы: «Дорогу… дорогу комесу Флавию Бонифацию!» — заглушили на минуту гул молитв и скорбное, молящее, покаянное пение… Людская толпа с готовностью расступилась, освобождая проход для своего земного вождя и защитника, который в закрытой траурными завесами колеснице ехал отдать последний поклон духовному вождю и защитнику. Не одна сотня глаз заметила в колеснице рядом с Бонифацием стройную женскую фигуру: и тогда взгляды мрачнели, ожесточались, наполнялись гневом и ненавистью. Сжимались кулаки, а губы, еще минуту назад произносившие священные, сокрушенно скорбные и сладчайшие благостные слова, бросали тихое, набухшее с трудом сдерживаемой яростью слово: «Еретичка!»
Она же, чувствуя на себе жгучий огонь сотен ненавидящих взглядов и мучительную тяжесть, точно каменья, швыряемых проклятий, еще больше утверждалась в своей торжествующей издевке и мстительном злорадстве: для них всех это день поражения и скорби, для нее — победы!
Траурная колесница наместника Африки остановилась перед небольшим старым домом прямо против северного крыла базилики Мира. Наиболее густая в этом месте толпа увидела сначала укрытого с головой в черную траурную тогу Бонифация, а потом Пелагию — также в трауре. В старом доме перистиль, фауцес, атрий, триклиний и все кубикулы были тесно забиты плотной людской массой, над которой, словно кроны пальм, шелестя, колыхались сотни голов, преимущественно черных, курчавых, лоснящихся, резке седых или лысых — все всклокоченные, густо посыпанные прахом или пеплом. Казалось, что руки некуда просунуть ни в одной из комнат — и все же, как только высокая фигура Бонифация завиднелась у входа в перистиль, сейчас же через все комнаты насквозь пробежал к перистилю в три шага шириной свободный проход, в конце которого сверкнул ослепительный, точно неземной, свет.
И тогда наместник Африки взял жену за руку, как берут ребенка, и быстро повел ее под огнем сотен пар сверкающих глаз через длинный ряд утопающих в полумраке комнат. Пелагия сразу заметила, чем ближе приближались они к свету, тем меньше внимания обращали на них тесно сгрудившиеся люди: сосредоточенные, набожные, заплаканные лица смотрели в одну точку — на низкую дверь, из которой струился на скрытые мраком головы этот необычный свет. На пороге этой двери Бонифаций на миг задержался: быстрым движением руки стянул с головы черную тогу, после чего, зачерпнув из ладони стоящего рядом старца пригоршню праха, посыпал на свои темные, но гладкие — не курчавые — волосы и, шепнув Пелагии: «Останься тут», — решительным, упругим солдатским шагом двинулся в свет…
Свет, бьющий из низкой двери (входя в нее, Бонифаций вынужден был нагнуться), сразу заставил Пелагию плотно закрыть глаза; лишь через минуту она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть перед собой. Она стояла на пороге комнаты, низкой, но просторной, освещенной по меньшей мере двадцатью разного рода и величины светильниками и в два, а то и в три раза большим числом свечей. Шестнадцать больших свечей на высоких бронзовых подставках окружали стоящее посреди комнаты узкое ложе — по четыре на каждом углу. Первое, что уловил взгляд Пелагии, когда она впилась жадными глазами в скромное ложе, — это большую молочно-белую бороду, в которой совсем тонули губы… те губы, что — некогда столь страшные для нее — умолкли и сомкнулись навсегда… губы врага… Да, врага. А разве не был он им для нее? Разве не был он ярым врагом ее веры?.. Жупелом священнослужителей этой веры?! Она отлично помнит: ведь еще так недавно ее пастырь — арианский пастырь, святой епископ Максимин, вызвал вот этого покоящегося вечным сном ее врага на религиозный диспут. Ах, и теперь еще гнев охватывает Пелагию при воспоминании, что женщинам не разрешили присутствовать на диспуте. А она так хотела там быть! Весь день говорил тогда Максимин — говорил, как рассказывают, прекрасно, медоточиво, вдохновенно, как ангел божий… а враг слушал. Назавтра должен был слушать Максимин — весь Гиппон провел бессонную ночь, с волнением ожидая того часа, когда заговорит его пастырь. И вот с восходом солнца разлетелась весть, что епископ Максимин уехал! Святая Агата, что тогда поднялось в городе! Пелагия потом две ночи не спала, а днем тщетно старалась чем-нибудь занять себя: такой стыд сжигал ее и такая злость… Бонифаций смеялся, говорил, что Максимин струсил!.. Пелагия с жаром защищала своего епископа, но сама не очень верила в то, что говорила, и только тезисы, которые Максимин написал для этого диспута и огласил полностью, успокоили ее. Тезисы эти она читала много раз, так что знала их почти наизусть.
Максимин… Максимин… Неужели то, о чем она на этом месте сейчас думает, тут же чудесным образом приобретало зримые формы? Она отчетливо видит в нескольких шагах перед собой большие буквы: «…llatio cum Maximino»[47]. Первых букв недостает: пергамент до половины свернут, но Пелагия знает, что там написано: «Collatio…» Только теперь она замечает, что в одном из углов комнаты, где лежит покойник, большой беспорядок: книги рассыпаны, свитки в футлярах, накрученные на валки, наполовину развернуты, какие-то огромные листы и маленькие, убористо исписанные таблички — все это свалено в огромную кучу, которую, видимо, не успели убрать. А может быть, умышленно не тронули из уважения к покойному, который — как Пелагия слышала от Бонифация — в последние дни перед смертью хотел иметь под рукой все любимые или самые необходимые книги. Взгляд Пелагии с любопытством разглядывает бесформенную груду книг; некоторые названия бросаются в глаза: «Apollonius», «Pauli Apost…» «Contra Julianum», «Victorini Prosodia», «De tempore barbarico…» Но вот ее любопытствующий взгляд отрывается от книг и вновь обращается к смертному одру. Теперь она разглядела, что темный предмет странной формы в ногах умершего — это чья-то голова, сотрясаемая судорожным рыданием. Пелагия не знает, что голова эта принадлежит епископу Севериану, не знает она и священника Кводвультдея, который стоит на коленях чуть левее ложа, касаясь низко склоненной головой согнутого колена Бонифация. Зато она сразу узнает горячо молящегося старичка епископа из Буллы Регии, который еще в июне укрылся в Гиппоне от вандалов, и Каламского епископа Поссидия, коленопреклоненного с левой стороны останков, так что лоб его слегка касается уже навеки застывшей руки. Кроме этих пяти, в комнате находится еще один человек: единственный, кто молится стоя, — епископ города Константины Антонин. Его высокая фигура заслоняет широкими плечами заднюю часть комнаты, но за его спиной Пелагия высматривает два из Давидовых псалмов, которые покойный за одиннадцать дней до смерти велел повесить на больших листах над ложем. Антонин молится тихо, беззвучно плачет — его длинные, скрещенные на груди руки отбрасывают причудливую тень на белую бороду умершего. Время от времени руки двигаются, тогда худые, угловатые, остро торчащие локти взлетают черными крыльями справа и слева от черного неподвижного силуэта, заслоняя на стенах: «Miserere…» и «…ericordiam Tuam»[48].
Пелагию вновь охватывает волна торжествующего злорадства: плачьте… молитесь… бейтесь головами о землю — ничто вам не поможет… не воскресить вам его… никогда уже ни словом, ни писанием не вооружит он, не призовет к битве с ее святой верой…
И с нею самой!
Пелагия с трудом сдерживает рвущуюся на уста улыбку радости и гордости: да, на сей раз она действительно победила… победила окончательно! И пусть даже это будет, как говорит Бонифаций, победа голубя над сраженным стрелою орлом… пусть она не принесет ей никакой славы… Не в этом дело. Не ради славы она боролась, ради истины господней, и вот ныне вместе с этой истиной она и победила! Воистину глупы и слепы все эти здесь, которые, полные тревоги, боли и отчаяния, все молятся и оплакивают кончину пастыря своего… глупые, глухие и слепые, неспособные понять ни воли божией, ни божьего предначертания… Для нее совершенно ясно: потому-то господь и насылает на них тревоги, горести и погибель, потому и лишает их последней опоры и утешения, которые они видели в том, кого называли величайшим слугой господним, — что не угоден богу такой слуга… Не угодны ему их обеты, молитвы и почитания: потому что извращают они правду божию… умаляют божье могущество и кощунствуют против него, дерзко утверждая, что не могло оно породить святейшего Христа, а само от века с ним составляло единое… Единость? Единосущность или подобосущность?.. Мысли Пелагии мешаются и мутятся, вдруг она чувствует себя усталой… Единость и множественность, единосущность и подобосущность — все это путается и переплетается одно с другим, становится непонятным и нелепым… А ведь когда она не касается этих вопросов, то все кажется таким легким, простым и понятным… все, чему учат теперь Максимин и Пасхазин и во что вот уже три поколения нерушимо верует могущественный род Пелагиев. Из знатных родов Африки — это, пожалуй, последний, что так упорно, невзирая на все возрастающие притеснения, верен учению Ария, которое на всем Западе уже почти никто не признает, кроме германских варваров. Но последняя наследница рода не только обороняется, как ее отцы и деды, — она побеждает…
И вновь нужно большое усилие, чтобы задушить распирающую все ее существо и стремящуюся вырваться наружу радость и гордость. Четыре года борьбы!.. Да, да, через девять дней, как раз в сентябрьские ноны, будет ровно четыре года, с тех пор как могущественный Флавий Бонифаций — наместник Африки и начальник дворцовой гвардии, любимец и друг Августы Плацидии — с первого взгляда влюбился в насчитывающую семнадцать весен последнюю наследницу рода Пелагиев. Разумеется, обширные и богатые владения между Гиппоном, Диаритом и Тамугади, которые должны были достаться в приданое молоденькой Пелагии, сыграли не последнюю роль в решении прославленного комеса, а все-таки прежде всего великая любовь, которой он к ней воспылал, заставила его просить ее руки. Род Пелагиев с охотой согласился породниться с другом и любимцем Августы Плацидии, но все же поставили условие, что их дитя, сочетаясь браком с исповедующим никейский символ веры, не будет принуждаемо к смене вероисповедания. И набожный Бонифаций согласился. Это была первая ее победа.
А другие?.. Другие она одержала не только над мужем, но и над епископом Африки… Когда она почувствовала себя матерью, Бонифаций потребовал, чтобы его ребенок, как только появится на свет, был окрещен и воспитан в вере, которую он исповедует. Пелагия ответила: «Нет». Началась борьба. Родилась девочка. Епископ Африки засыпал прославленного наместника письмами и устными строгими напоминаниями и дружескими советами. Пелагия отвечала: «Нет». И девочка была окрещена арианским священником.
— Ты меня поймешь?.. Ты меня простишь? — с грустью и тревогой в голосе шептал Бонифаций, глядя в окаменелое лицо епископа Африки. — Не справился… не смог… Пусть тебе Христос всезнающий, в лоне которого ты уже покоишься, сам скажет, мог ли я сделать иначе?..
И через минуту:
— Разве ты не учил нас словами апостола и своими собственными, что Христос — это бог любви и вся его вера и церковь только на любви и зиждутся?!. На любви, а не на насилии… Как же я мог насилием склонить ее, чтобы она почитала нашего Христа, нашу веру?.. Ты, который теперь знаешь все, скажи… скажи сам, разве угодно было бы отцу нашему, иже на небесех, уловление для него душ устрашением, насилием, мужской властью?! Я солдат, мудрейший отец, — не священнослужитель: всех путей мудрости божьей не уразумею, не проникну, но верю, что нимало не почту и не порадую господа нашего, если сумею принудить чьи-то стопы следовать в ту, а не в другую церковь, а сердца не переделаю… И поэтому… только поэтому…
Он вздрогнул. Как только он произнес «только поэтому», оживилось вдруг неподвижное, мертвое лицо, и, хотя не раскрылись мудрейшие глаза, хотя не сказали ему ничего в ответ толстые африканские губы, даже после смерти еще по-молодому мясистые и почти пурпурные, все равно Бонифаций отчетливо увидел тонкую, какую-то многозначительную и, скорее всего, издевательскую улыбку в уголках губ епископа Африки, и вместо того, чтобы побледнеть от испуга, он залился горячим румянцем.
— Да… да… я знаю… знаю, что ты хочешь сказать, — начал он шептать быстро, лихорадочно, страшно растерянный и пристыженный. — Ты издеваешься надо мной и смеешься над моими словами, потому что думаешь: «Правду ты сказал, Бонифаций: любовь тобой правит и дела твои определяет, но не Христова, а суетная, земная, людская любовь». И еще думаешь: «Бонифаций — это лист осенний, господней рукой кинутый на распутье: земной голос сердца, как вихрь, подхватит его без сопротивления и понесет, куда захочет». Правду сказал ты, святой, мудрейший отец, только кто, кто лучше тебя знает, что суть сердечные бури и сколько мощи и святости надо, чтобы с ними бороться?! А вот этой мощи и святости не даровал господь бог наш солдату, которого ты как-то раз изволил назвать своим другом и сыном…
Епископ Антонин снова пошевелил локтями, и тень, лежавшая на губах покойного, придавая им выражение издевательской усмешки, переместилась на шею и грудь. Перед Бонифацием снова был недвижный облик, серьезный, спокойный… Но мысль его все еще судорожно цеплялась за упоминание о сердечных бурях и теперь, призвав на помощь память, бродила уже по всем книгам «Вероисповеданий», отыскивая все больше сходства между собой и тем, кому господь не отказал в милости, даровав святость и мощь…
— Как это правдиво, что он писал потом о милости… Воистину, ничего бы я так не хотел, как дождаться той минуты, когда я почувствую, что на меня нисходит милость… милость святого господнего покоя…
Доселе этой милости он никогда не изведал. Вся его жизнь — вопреки тому, что было начертано на красивом, благородном лице, — была сплошной полосой тревог и терзаний. Действительно, он был подобен осеннему листу, кружимому страшной бурей вечно неудовлетворенного сердца. Как тяготила его борьба с женой из-за веры, а потом из-за крещения ребенка! Он не солгал перед собой и перед духом епископа Африки, когда говорил, что верит, что нельзя принуждением уловлять души для Христа, но одновременно чувствовал, что только любовь к Пелагии руководит его поступками, в глубине же души нередко считал себя достойным адского огня за нерадивость и лень в служении господу… Сколько раз бывало по утрам, с обожанием целуя ноги Пелагии, клялся ей, что сделает с ребенком, как она пожелает, — а вечером, возвращаясь из епископского дома, решал навсегда расстаться с женой-еретичкой. За три дня до смерти святого епископа он сказал ей это прямо в глаза! А разве после сражения с Маворцием, Сенекой и Галлионом не велел он своим солдатам жестоко истязать их, потом же, когда увидел растерзанные останки своих противников, разразился рыданиями, три дня не ел и не спал и наконец решил уйти от мира и стать отшельником?! И не стал им! А его отношение к Августе Плацидии? К вандалам? К народам африканских провинций?.. Он уже больше не может… нет сил… Поистине, сверх человеческих сил измучен он бурями вечно беспокойного сердца… Неужели никогда не снизойдет на него святой покой?.. С восхищением и одновременно с какой-то грустью и завистью жадно всматривался он в невыразимый покой, исходящий от лица умершего старца: вот и тут достиг он наконец счастья покоя, искусный воитель, неутомимый в борениях с бурями сердца… столькими вихрями терзаемый, несгибаемый великий дух, искатель путей божьих, Августин… А когда же я?..
— Славный муж… Вандалы…
В мгновение ока срывается Бонифаций с колен! Еще один торопливый прощальный взгляд на мертвое лицо Августина — и вот он уже идет быстрым, упругим шагом к низкой двери. Ни о чем не спрашивает — некогда. Он и без всяких расспросов знает, что произошло что-то действительно важное, если, не доверяя никому из своих подчиненных, комес Сигизвульт, его заместитель, лично, покинув стены города, идет в дом Августина — он, истый арианин, приверженец и могущественный поборник епископа Максимина! За низкой дверью как будто уже начинался ад: мрачная темнота, невыносимый шорох трущихся друг о друга в мучительной тревоге и отчаянье десятков тесно сдавленных тел, горестные возгласы, стенания, рыдания, взвизгивания — гиппонцы любили и почитали своего епископа, но еще больше боятся они вандалов: от этого такой безумный взлет горя и отчаянья. Даже в комнату, где покоится мертвый, проникает отчаянье и безумная тревога живых, жаждущих жить: епископ Северная отрывает от ложа голову и с беспокойством смотрит вокруг, Кводвультдей поднимается с колен и спешит за Бонифацием, почтенный пастырь Буллы Регия поднимает молящий взгляд на гота Сигизвульта. Один Поссидий, казалось, ни о чем не знает, ничего не слышит, а высокий черный Антонин вновь резко вскидывает острые крылья локтей и говорит негромко, но отчетливо, мгновенно унимая тревожную сумятицу:
— Утишьтесь, здесь покоится слуга божий Августин. Ты же — слуга императорский, ступай и сделай так, чтобы еретики не нарушали покоя и святости сна отца нашего…
И вновь погружается в тихую молитву. Кровь ударяет Бонифацию в лицо: никто не сомневается, что слова епископа относятся к Сигизвульту, каждый, однако, видел, что взгляд Антонина, когда он говорил, покоился на Пелагии, которая на какое-то время появилась на пороге и остановилась в полосе света. Еще до этого ее все узнали и передавали из уст в уста приглушенным шепотом: «Пелагия… еретичка». Но никто не знал, то ли следует ее осудить за то, что осмелилась сюда прийти, то ли, наоборот, радоваться, что пожелала поклониться епископу Августину; но после слов Антонина сдавленное шипение перешло в громкий ропот. И вновь почувствовала на себе Пелагия жгучий огонь ненавидящих взглядов и мучительную тяжесть каменьями швыряемых проклятий. И она, обведя их взором, платила им тем же — уводимая, — нет, увлекаемая мужем к перистилю. Они были сильнее, их было больше: это прибежище величия, покоя и святости смерти неожиданно сделалось каким-то чисто земным чистилищем, которое двойным пламенем ненависти и презрения клеймило ересь, выжигая клеймо на челе идущей вдоль двойного шпалера ортодоксов женщины.
Женщины, но не идущего вслед за нею солдата. Почему? Потому что солдат был варваром, готом, а все готы, известно, суть еретики; она же плод их земли, их крови, их обычаев… И еще потому, что солдат этот, хотя и еретик, но сражается под значком правоверного императора и грудью своей защищает от других еретиков святыню, алтарь и правоверных жителей Гиппона: ведь если бы не он и не его товарищи, стадо Августиново давно бы постигла судьба остальной Нумидии. Так что и теперь взгляды, подгоняющие ненавистью Пелагию, тут же смягчаются, заметив узкую полоску крови на рассеченной щеке Сигизвульта, и совершенно преображаются и дышат только преданностью, почитанием и полным доверия восхищением, когда задерживаются на высокой фигуре наместника Африки.
«Отошел к господу Августин, теперь у нас только ты», — будто говорят они.
Перед домом епископа пятьдесят готов с трудом сдерживают щитами отчаянно напирающую со всех сторон толпу.
— Спаситель… защитник наш! — окружают выходящего Бонифация тревожные, молящие возгласы.
Известие, которое привез Сигизвульт, уже облетело весь город. Вандалы пробили таранами большой пролом в наружной стене, прорвались в него и теперь напирают на железные ворота внутренней стены. Ворота долго не выдержат; отправившись в город, Сигизвульт велел засыпать осаждающих снарядами из баллист и катапульт и лить на них кипящую воду и смолу, может быть, понеся большие потери, отступят, а если нет, придется открыть ворота и попытаться в рукопашной схватке отбросить их за пролом; но, прежде чем до этого дойдет, следовало обязательно уведомить Бонифация. Но ни один из солдат не осмелился бы проникнуть в дом умершего Августина, и Сигизвульту пришлось отправиться самому.
— Будь здорова, Пелагия, — сказал Бонифаций. — Я еду на стены…
— Я с тобой! — воскликнула она.
— Ты с ума сошла?!
Пелагия уперлась на своем.
— Поеду.
— Но ты не представляешь, что такое битва с вандалами… даже просто стоять на стене — и то уже большая опасность для жизни…
— Но ты же едешь…
Он рассмеялся.
— Ты забыла, что, кроме того, что я твои муж, я еще и солдат…. На стенах я у себя. А ты?.. Ты даже воинского учения не видала… И почему ты пожелала именно сегодня?.. Осада длится столько недель, а ты…
Сигизвульт также принялся убеждать Пелагию: она и думать не должна о том, чтобы отправиться на стены. Но тут же умолк, растерявшись от ее странного взгляда. Как?.. Это он, Сигизвульт, не знает, почему она хочет идти на стены, к солдатам, пусть ей даже грозит опасность?.. А почему именно сегодня?.. Не знает?.. Не догадывается?.. Он, с которым она столько говорила о святой правде божьей и который в дни диспута с Августином дважды прибегал к ней, чтобы подробно рассказать, что говорил Максимин? Храбрый ты воин и умелый вождь, славный муж, но душа и ум у тебя детские: неужели ты на самом деле не понимаешь, не чувствуешь этого после всего, что было сегодня. Пелагия хочет… Пелагия должна быть только среди людей своей веры… они нужны ей как воздух… она должна слышать, как они молятся… должна видеть, что они существуют на самом деле и что их много… А где она их найдет, если не на стенах?!
Если бы Пелагия все эти свои лихорадочные мысли облекла в слова, комес Сигизвульт наверняка на лету понял бы ее чаяния и с жаром поддержал ее, но — поскольку уста ее молчали и только глаза были удивительно выразительными — гот, хотя и придя в замешательство от их выражения, просто не имел времени уразуметь, что они, собственно, хотят ему сказать. Правда, его самого, так же как ее и общую их веру, уязвили в доме покойного епископа, но разве сейчас время задумываться над этим?.. Ведь вандалы каждую минуту могут выломать ворота — и это самое важное… куда важнее, чем туманный намек на то, что осаждающие город вандалы той же веры, что и защищающие его готы, в то время как пассивный предмет борьбы — жители Гиппона — и тех и других одинаково считают проклятыми еретиками… А комес Сигизвульт прежде всего солдат: набожный и ревностный арианин считал борьбу с тем, против кого пошлет его Августа Плацидия, своим первым и основным долгом. Он предложил свою службу Плацидии еще в Нарбоне и Барциноне, при дворе Атаульфа, и с тех пор с одинаковым спокойствием, готовностью и обыкновенно удачно водил своих готов против любого, на кого она указывала. Еще два года не прошло, как он этого же самого Бонифация, который ныне является его начальником, неоднократно бил и свирепо преследовал по всей Нумидии, ибо такова была воля Августы Плацидии.
— Нет, нет, ты не пойдешь со мной! — в десятый, а может, в двадцатый раз упрямо повторял Бонифаций.
Тогда Пелагия устремила на него выразительный, полный нежности взгляд и мягко, но решительно сказала:
— Пойду. Разве я не говорила: «Где ты, Кай, там и я, Кайя»?
С минуту он смотрел на нее искренне удивленный, но уже тронутый и счастливый. И вскоре все трое, окруженные тесным кольцом конных готов, мчались к южной части городских стен. Перед Леонтийской базиликой с ними поравнялась квадрига проконсула Целера, который, хотя и не был солдатом, лично доставил Бонифацию продовольствие, прорвавшись морем из Карфагена к мысу Стоборрум, а теперь не мог вернуться, так как вандалы срочно изготовили галеры, дерзко овладели мысом Стоборрум и, хотя их оттуда быстро скинули, успели перед этим уничтожить, сжечь и серьезно повредить корабли Целера.
Какое-то время они ехали рядом. Но вот Бонифаций обратил к проконсулу Африки озабоченное лицо и, придержав коней, заговорил полным тревоги и приглушенным, чтобы солдаты не слышали, голосом.
— Я не знаю, известно ли тебе, что мне и епископу Поссидию сказал святой наш епископ за несколько дней до смерти, когда мог еще говорить?.. Так вот, он сказал: «Вы знаете, о чем я молю бога в эти горестные дни? Или пусть он избавит этот город от неприятеля, или пусть даст нам сил, чтобы мы могли снести тяжесть его воли, или пусть меня заберет с этого света и призовет к себе». Ты понимаешь, славный муж?.. Бог внял молению своего святого слуги и исполнил… но только последнюю его просьбу!.. Не значит ли это, что он не хочет исполнить две первых?.. Значит, ни город не спасется, ни сил нам не будет даровано, чтобы снести страдания…
— Воистину, не была это молитва, достойная епископа Африки, молитва пастыря стада Христова! — злорадно воскликнула Пелагия. — Покинуть стадо в опасности, зная, что если бог призовет его к себе, то, значит, не спасет город…
Гневно топнув ногой, прервал ее Бонифаций.
— Как ты смеешь кощунствовать?.. Дерзким умом своим женским соваться туда, где промысел господний, где господь сам вершит свои счеты с верным душепастырем?.. Право, Пелагия, — воскликнул он, не думая о том, что все окружающие слушают его с любопытством, — право, ты еще накличешь на себя, на меня и на ребенка нашего праведный гнев божий!
Не успела Пелагия открыть сердито дрожащие губы, как проконсул Целер резко рванул своих коней — и обе колесницы столкнулись, вызвав смятение, что позволило всем отвлечься от супружеской ссоры. Но Целер не очень рассчитал движения своих серых коней: колесница Бонифация оказалась поврежденной, комесам пришлось пересесть на солдатских коней, Пелагию же проконсул пригласил в свою колесницу.
Она даже не знала о том, что в доме Августина Целер стоял в нескольких шагах от нее и, втиснувшись в густую толпу, не только ловил любопытным взглядом все, что делалось вокруг и в комнате покойного, но и отлично понял, что значили и к кому относились слова епископа Константины о еретиках. Поэтому она страшно удивилась, когда проконсул, помогая ей сесть в квадригу, посмотрел на нее взглядом, в котором было возмущение, сочувствие и понимание, и с полугрустной, полуиронической улыбкой сказал вполголоса:
— С младенчества нас учат, что христианство — это религия братства, а бог наш — бог любви, но поистине никогда ни один из сотен свободно почитаемых в старом Риме богов не пробуждал в сердцах своих противников сотой доли той ненависти, каковой но-братски оделяют друг друга христиане, когда дело доходит до понимания божественного.
Она гневно свела брови.
— Славный муж, — воскликнула она, — ты забываешь, что говоришь с христианкой!
— Но ведь и я христианин, — ответил он, — и верю в единосущность, тогда как ты, прекрасная Пелагия, признаешь только подобосущность… Но разве должен я из-за этого ненавидеть столь прекрасное божье творение?
— Ты говоришь, как безбожный платоник, славный Целер, — ответила она строго, — и я немедленно сошла бы с твоей колесницы, если бы…
— Ты можешь без опасения оставаться в моей колеснице, — прервал он ее, рванув коней сильным ударом прошитого золотыми нитями бича. — Я действительно признаю Христа, как и ты, благородная Пелагия… Впрочем, — засмеялся он, — посуди сама: разве мог бы я быть проконсулом Африки, не будучи христианином?!
Вступая на стену, Пелагия испытывала совсем иные чувства, нежели представляла это в городе. Солдаты-единоверцы — те, что горластыми толпами расхаживали, сидели или лежали подле стен, встретили красивую молодую женщину целым градом пламенных взглядов, очень выразительных, но не имеющих ничего общего с чисто духовной любовью, которая в любых обстоятельствах должна воодушевлять собратьев по вере… «А ведь они не могут не знать, кто я и какого почитаю Христа», — подумала она чуть не со злостью. Те же, что стояли на стенах или взбирались и опускались по крутым узким лестницам, казалось, не обращали никакого внимания на сопровождающую комеса женщину. Только один, с рассеченной метательным снарядом головой, залитый кровью — его сносили на руках трое товарищей, — перестал на миг пронзительно кричать, пораженный видом необычайно красивой знатной римлянки.
А война?.. Город был опоясан тройной линией стен: средняя стена была на пять футов выше наружной и на семь ниже внутренней. Стоя на внутренней стене, Пелагия отлично видела вандалов, бегущих в пролом в наружной стене — ей только не были видны те, которые высаживали ворота средней стены. Но она угадывала, где эти ворота находятся, там было много солдат, она видела их мерное движение плеч, рук и голов, они беспрестанно бросали что-то в закрытое для глаз Пелагии пространство, и там, в этом месте, то один, то другой, выпуская вдруг из рук арбалет, щит или тяжелый камень, с криком валился под ноги товарищам.
— Гензерих! — услышала она вдруг возле себя чей-то взволнованный возглас.
Она вздрогнула и, быстро оторвав взгляд от стены, с лихорадочным любопытством и почти с суеверным ужасом устремилась жадным взглядом в том направлении, которое подсказывал ей взгляд мужа. В каких-нибудь пятидесяти футах за захваченной стеной она увидела нескольких воинов с огромными орлиными крыльями на шлемах… Один из них — это король Гензерих, завоеватель Африки, кровавый хищник, самый жестокий из всех варваров, какие когда-либо населяли orbem terrarum. Сердце ее колотилось все быстрее, все резче: ведь это он превратил в пепелище цветущие владения — ее приданое, — раскинутые на огромном пространстве между Гипионом, Зарифом и Тамугади… и он же в Новом Городе на Хилемоте сделал члена ее рода судьей и защитником… Как римлянка, она всей душой ненавидела дикого варвара, уничтожающего самые плодородные провинции империи и для всего римского имеющего только одно позорное и срамное слово, презрение, рабство, насилие, мучения и жестокую смерть! Но как арианка, она не могла не восхищаться и чуть ли не почитать ревностного воина их веры, свято убежденного, что он является сосудом божьего гнева и мечом в деснице господней, призванным небом для борьбы с теми, на кого бог прогневался.
— Где… где Гензерих? — взволнованно выспрашивала она. — Который?.. Этот великан с топором?..
И не могла поверить, что меч господний — всего-навсего невысокий, худой, будто изломанный, невзрачный человечек лет тридцати в скромной коричневой одежде и почернелой железной броне, на которого указал ей Бонифаций.
— Не может быть… не может быть… — повторяла она.
Бонифаций совсем не дивился ей, так как знал, что могущественный Гундерих, король вандалов и аланов, умирая в страшных муках, разразился неистовым смехом, узнав, что воины хотят провозгласить после него королем его единоутробного брата Гензериха. «Гензериха? Этого ублюдка? Заморыша? Колченогого?.. Лучше уж возьмите порченую бабу!» — пронзительно выл он, все еще сотрясаемый взрывами веселья, так и скончался, не переставая смеяться до последнего мгновения.
Действительно, Гензерих был не только маленький, щуплый и какой-то изломанный, но еще и хромой. Пелагия сразу заметила это, когда он двинулся с места. Она видела, какой болезненной гримасой искривилось у него лицо, когда он пошел, волоча за собой калеченую ногу. Ему подвели коня; сильные руки приспешников оторвали короля от земли и осторожно посадили в седло. Гензерих тотчас извлек меч, начертал им в воздухе тройной крест и бешеным галопом ринулся к стене. Без труда перепрыгнул он гору обломков, раскиданных у пролома, и бросился к воротам. По приказу Сигизвульта в него начали стрелять сразу из четырех катапульт. Как будто из упрямства, король тут же сдержал коня и под градом стрел, из которых ни одна его не задела, исчез из глаз Пелагии.
— Отворяйте ворота! — загремел голос Сигизвульта.
Ударили в рога и буцины, солдаты с громким криком спускались по лестницам.
— К воротам! К воротам! — кричали препозиты и центурионы.
— Будь здорова, Пелагия. Возвращайся в город.
Она почувствовала на своих волосах теплое прикосновение губ и повернулась. Бонифаций стоял перед нею, почти весь закрытый огромным франконским щитом. В руке он держал топор, такой большой и такой на вид тяжелый, что Пелагия никогда бы не поверила — если бы сама этого не видела, — что ее муж может поднимать такую тяжесть. И вообще он весь был другой, не такой, каким она его знала: она никогда не думала, что бывают минуты, когда он, Бонифаций, может быть именно таким…
Она улыбнулась ему благожелательно и почти с искренним восхищением.
— Ты не боишься Гензериха?! — спросила она, и в вопросе ее слышался полный гордости ответ.
— Боюсь, — ответил он. — Вот если бы со мною был Аэций…
— Аэций, убийца Феликса? — прервала она его удивленно.
— Аэций, храбрейший из римлян, — ответил он, надевая на голову высокий золоченый шлем с красным султаном.
До того самого момента, когда Аэций устранил со своего пути Феликса и взял после него власть при неспособной дальше сопротивляться Плацидии, он крайне мало уделял внимания личности и делам Бонифация. Наместник Африки, на его взгляд, ничего не сделал такого, что позволяло бы предполагать, что он может в будущем стать опасным соперником. Повсеместно прославляемые воинские заслуги и преданность вернейшего слуги и друга Плацидии не возбуждали в Аэций ни уважения, ни, опасения. Единственное, что его злило (но одновременно и смешило) в связи с личностью Бонифация, — это огромный авторитет, которым он пользовался у хронистов и панегиристов, щедро осыпавших наместника Африки теми же эпитетами и прилагательными, коими под их пером обычно обрастало имя покойного Констанция или самого Аэция, многократного победителя готов, франков и других врагов империи. Оскорбленный этим, победоносный начальник дворцовой гвардии, а потом и главнокомандующий войск Западной империи без труда, однако, сообразил, в чем кроется тайна этого авторитета: в дружбе, которой дарила Бонифация сама Августа Плацидия, а кроме того, вернее — прежде всего, в его набожности и ревностности в делах веры, что не могло не повлиять на его популярность, если учесть, что почти все хронисты и панегиристы принадлежали к духовному званию. Иначе нельзя было себе объяснить эту широчайшую известность, во всяком случае, она никак не объяснялась действительными его воинскими деяниями. Ведь Бонифаций не мог похвастаться ни одной победой, ни какой-нибудь удачей, равной Аэциевой. В молодости, правда, он оказал некоторые услуги Констанцию, но в первой же битее, которой он самостоятельно руководил как полководец в Испании, потерпел поражение — и кем разбит-то был!.. Вандальскими племенами асдингов и силингов, которые беспорядочной ордой мчались на юг Испании, только что разгромленные полководцем Кастином! Тот же Кастин без особого труда разгромил самого Бонифация, когда тот стал наместником Африки и держал сторону Плацидии в ее борьбе с братом. А когда после восшествия на трон Иоанна Бонифаций выступил против узурпатора, тут уж никак не военные способности комеса Африки вселили страх в сердца йоанновых сторонников, Нет, нечто совсем иное было причиной беспокойства, которое возбуждала тогда несокрушимая верность и преданность Бонифация Плацидии, нечто такое, в чем Аэций видел разрешение всей загадки значения, мощи и славы Бонифация. Так вот, Африка, войсками которой он командовал, была плодороднейшей провинцией Западных областей, а может быть, и всей империи — она была житницей Италии! Не воинские способности, не несокрушимая храбрость, даже не дружба Августы Плацидии и не ревностность в вере, а хлеб… безбрежные хлебные поля — вот что делало комеса Африки одним из могущественнейших людей империи! В борьбе с Иоанном Бонифаций не потерял ни одного африканского солдата, но достаточно ему было задержать галеры с хлебом, идущие в порты Италии, чтобы сделать Иоанновы войска податливыми к уговорам Ардабура, не теряющего зря времени в плену! Но Аэций не был уверен, сознает ли Бонифаций мощь, которая у него в руках: события последних лет говорили о том, что наместник Африки скорее прислушивается к голосу чувств, чем к языку холодных расчетов.
Сразу же после вступления в должность патриция империи Феликс начал плести интриги, целью которых было подорвать дружбу между Плацидией и Бонифацием. Аэций был слишком осторожен и вместе с тем слишком занят войной в Галлии, чтобы дать втянуть себя в эту игру, довольно опасную и малопривлекательную: ему-то уж никак не на руку было усиление Феликса. Но, и не имея ничего против того, чтобы два приятеля Плацидии ссорились между собой, он даже переслал Бонифацию письмо, в котором заверял его в своей дружбе и выражал удивление, что человека, имеющего такие заслуги перед императорской фамилией, держат вдали от столицы.
Он даже не предполагал, что письмо его подольет еще одну каплю масла в огонь, пожирающий с некоторых пор комеса Африки. Бонифаций, видимо, совершенно не сознавая своего могущества, которое давало ему командование армией в житнице Запада, давно рвался к императорскому двору, чтобы занять там полагающееся ему по заслугам и верности место, разумеется, одно из высших в империи. Феликс тоже подогревал его, время от времени давая понять, что Плацидия недооценивает своего верного слугу и умышленно держит его вдали от себя; с другой стороны, он предостерегал и Плацидию перед жаждущим власти любимцем, стремящимся якобы отторгнуть Африку от империи.
В середине третьего года правления Валентиниана Бонифаций получил приказ явиться перед Плацидией в Равенне; еще несколько месяцев назад он счел бы это осуществлением своих мечтаний, теперь же, под влиянием предостерегающих писем Феликса, понял вызов как смещение — и сжигающий его внутренний огонь тут же разгорелся грозным пожаром. В Равенну вместо наместника Африки прибыло дышащее оскорбленной гордостью и гневом письмо, в котором Бонифаций упрекал Плацидию в недостойной величества неблагодарности и отказывался повиноваться. Феликс был вне себя от радости: наконец-то добился своего! Дабы покарать бунтовщика, в Африку послали войско под командованием Галлиона, Маворция и варвара Сенеки, но Бонифаций, не очень удачливый в битвах с врагами империи, на сей раз оказался победителем и, упоенный триумфом, провозгласил себя независимым от Равенны повелителем Африки.
И как раз тогда-то — провидя события, которые потом действительно разыгрались в Африке, — Аэций пришел к неколебимому убеждению, что прославляемый хронистами и панегиристами Бонифаций, собственно, не заслуживает ничего, кроме пренебрежения, и никогда не дорастет до того, чтобы стать опасным соперником.
Ведь что следовало, по мнению Аэция, сделать после победы над императорским войском? Опираясь на всех недовольных, которыми кишела Африка — прежде всего на ариан и донатистов, — потребовать от Плацидии, под угрозой задушить Италию голодом, самых высоких званий, вплоть до патриция включительно, и для подтверждения своих намерений действительно на месяц прекратить подвоз хлеба. Аэций настолько был уверен в близком триумфе и возвышении Бонифация, что начал спешно запасаться галльским хлебом, готовясь к долгой смертельной борьбе с новым и действительно грозным, имеющим в руках страшное оружие — голод — соперником. А что сделал Бонифаций? Вместо того чтобы требовать и угрожать, как это три года назад с отличным результатом сделал Аэций в Аквилее, он повел с Плацидией войну, дав ей время собрать и отправить в Африку новое войско под командованием Сигизвульта, который не только удачно и почти беспрепятственно высадился, но и в первой же битве наголову разбил независимого властителя Африки и без труда захватил важнейшие порты: Гиппон и Карфаген, восстановив сообщение между Италией и ее житницей.
Все, что произошло потом, Аэция уже не волновало, но только еще больше убедило в неспособности и в незадачливости Бонифация. Как некогда Иоанн к Ругиле, так теперь комес Африки обратился к вандалам за помощью против Плацидии. Вандалы, для которых плодороднейшие и богатейшие африканские провинции всегда являлись предметом мечтаний и вожделений, как в свое время для Алариха, поспешно переправились из Испании на помощь Бонифацию, но вместо того, чтобы содействовать его цели и выполнять его приказы, начали грабить весь край и захватывать города. Пришедший в отчаяние Бонифаций, который невольно стал виновником бедствий, постигших управляемую им страну, и жестоких преследований своих единоверцев, стремясь загладить вину, выступил против вандалов: король Гензерих без труда разбил его и в короткое время стал хозяином обеих мавританских провинций — Цезареи и Тингитаны. Тогда перед лицом опасности, грозящей потерей всей Африки, наступило примирение Плацидии и Бонифация. Войска наместника Африки и Сигизвульта, еще недавно борющиеся друг с другом, объединились для совместной защиты империи, римского мира, ортодоксальной веры, а прежде всего, как полагал Аэций, хлеба.
Почти в то самое время, когда Аэциевы люди совершили покушение на Феликса, колченогий ублюдок Гензерих разгромил соединенные войска Бонифация и Сигизвульта и, вторгшись в Нумидию, осадил Гиппон. Аэций не сомневался: через две-три недели город сдастся… Он уже знал, чего стоит прославляемый хрониками и поэтами комес Африки!
Даже после смерти Феликса особа Бонифация еще какое-то время куда меньше привлекала внимание Аэция, чем, скажем, подозрительная активность норов и ютунгов в верховьях Дануба. Он выступил против них для защиты пограничных провинций — Реции и Винделеции, и туда-то прибыло просто невероятно звучащее известие, которое заставило Аэция взглянуть на осажденного в далеком Гиппоне комеса Африки как на соперника. Когда на заседании тайного императорского совета префект претория Италии Вирий Флавиан от имени всего совета обратился к Августе Плацидии с просьбой увенчать заслуги Аэция патрициатом, Плацидия с язвительной усмешкой ответила, что куда дольше ожидает наград за выдающиеся заслуги славный Бонифаций. Известие это насторожило Аэция, и он более пристально начал присматриваться к деятельности пренебрегаемого им Хлебного амбара, как он его обычно называл. С некоторым удивлением убедился Аэций, что Гиппон держится вот уже полгода с лишним, и он невольно даже признал в душе превосходство Бонифация в искусстве обороны города. Сжившись с варварскими способами сражаться, Аэций не выносил крепостей, ненавидел осады и никогда не давал загнать себя даже в самую мощную цитадель.
На какое-то время от особы Бонифация его отвлекла просьба епископа Гидация, который из Испании просил помощи против короля свевов Гермериха. Испанцы уповали, что Аэций не только с молниеносной быстротой разгромит все усиливающихся за Пиренеями свевов, но и триумфальным походом пересечет всю страну и через Геркулесовы столпы вторгнется в Африку, обрушившись на вандалов с тыла, и вынудит их снять осаду с Гиппона, как это он двукратно делал, громя готов под Арелатом. Но Аэций вовсе и не рвался драться с вандалами; да и со свевами у него что-то не ладилось, не так, как с варварами, населяющими Галлию. Гот Веттон, который по его приказу вторгся в Галлецию, вынужден был быстро из нее убраться, одновременно пришло известие, что жена Аэция умерла от сильной горячки. Ни глубоко взволнованный Астурий, который первым принес весть о смерти дочери Карпилия, ни близкий Аэцию молодой Кассиодор, да и все приближенные не могли понять, какие чувства вызвала в душе непобедимого весть об утрате златокудрой подруги, которую все окружение Аэция дарило искренним почтением. Как бы то ни было, Аэций немедленно выехал в Италию, чтобы торжественно похоронить жену, и в Испанию уже не вернулся, предоставив вести борьбу со свевами Астурию, которого повысил, нарекая его комесом Испании. Астурий в благодарность направил любимому вождю молодого трибуна и поэта Меробауда, дабы тот своими стихами воспевал каждый поступок Аэция.
Погребя бренные останки дочери Карпилия в чудесном склепе, где уже давно покоились вечным сном Флавий Гауденций и его жена, Аэций вернулся в Галлию, которую покинул после победы на Колубрарской горе. Тут он чувствовал себя лучше, тут его больше почитали и уважали; а он решил, что сейчас лучше всего — находиться среди преданных ему людей, поскольку пренебрегаемый им ранее Бонифаций начинал казаться ему все более опасным. Гиппон мужественно оборонялся вот уже год, приковывая Гензериха и его быстро тающие силы к одному месту. А тем временем из Восточных областей уже плыло в Африку огромное войско под началом еще одного друга Плацидии — Аспара. Консул Басс недвусмысленно предостерегал Аэция против козней Августы, которая не скрывала, что после уничтожения Гензериха соединенные силы Бонифация и Аспара наверняка пригодятся для восстановления покачнувшегося престижа императорского трона во внутренних провинциях империи.
Аэций давно уже не испытывал такого волнения, которое охватило его при известии, что Гензерих, понеся огромные потери, снял осаду Гиппона. Спустя неделю Аспар соединился с Бонифацием и Сигизвультом, чтобы всей громадой преследовать отступающих вандалов.
Была ночь, когда в палатку главнокомандующего Меробауд ввел запыхавшегося гонца. В палатке было темно, но Аэций не спал: он не велел зажигать света, чтобы никто не видел лихорадочного волнения на его лице. Он не поднял глаз на посланца. Но голос его был абсолютно спокоен, когда он спросил:
— Какие новости из Африки?
— Сиятельный! Презренный и безбожный король Гензерих…
— Говори смело. Не бойся.
— …почти наголову разбил соединенные императорские поиска. Славные военачальники едва спаслись бегством…
Аэций приказал внести свет.
Спустя месяц пришло известие, что Гензерих вошел в Гиппон и начисто его разорил. Аэций презрительно пожал плечами. Бонифаций теперь ничего не значил. Абсолютно успокоенный, Аэций последовал с войском к северным рубежам Галлии, где франки снова угрожали Бельгике. Покидая Арелат, он послал в Равенну письмо, полное тонко скрытых угроз, в котором решительно домогался патрициата и одновременно консульства на наступающий седьмой год счастливого царствования великого Валентиниана Августа, на 1184 год от основания Великого города, или на 432 год от рождества Христова.
По трем руслам плывет неудержимо с раннего утра тысячеголовый людской поток: от Виминала и Альта Семита через старые Салютарские ворота на Марсово поле; от Целемонтия и Капуанских ворот между Большим цирком и Палатином до самого Коровьего рынка; и, наконец, из Затибрья по четырем мостам мимо театров Бальба, Помпея, Марцелла, под портиками Филиппа и Октавии. Чем ближе к Велабру, к Капитолию или стрелой устремляющейся на тот берег, к Ватикану, великолепной и нарядной улице, тем сильнее давка, тем многочисленнее драки за место, тем чаще обмороки и громкие, радостные крики. В этот день выдали двойную порцию хлеба, обильно сдобренного оливками и вином, — так что толпа с готовностью, несмотря на январскую погоду, платила великой Плацидии тем, чего она хотела: возгласами, приветствиями, рукоплесканиями… Все надрываются и надсаживают горло, но все уста и все глаза спрашивают только об одном: «Что же это за торжественный день сегодня!.. Что за празднество?.. И какой же это император ведет свою победную процессию путем Сципионов и Цезарей по триумфальной дороге?..» И все получали один ответ: «Поистине, это торжественный день… Дорогой триумфаторов едет некто воистину превзошедший избранников слепой Фортуны: едет несокрушимый, преданнейший и ревностнейший слуга веры Христовой и великого императора. Слава ему!» С безмолвным удивлением в глазах выслушивали люди этот ответ и на лету подхватывали возглас, и от садов Агриппины до Тригеминских ворот звучало только одно, долго не смолкающее слово:
— Слава, слава, слава!
На форуме Траяна, где собрались почти все находящиеся в то время в Риме сенаторы, у подножия статуи Констанция возвышался весь обитый пурпуром императорский подиум с двумя тронами: на более высоком, более торжественном сидел тринадцатилетний император Валентиниан Третий, на более скромном — Августа Плацидия, с трудом старающаяся сохранить маску бесстрастного высокомерия, приличествующего величеству. Ибо все ее лицо — глаза, рот, даже щеки — оживляет, озаряет и молодит улыбка невыразимого счастья. Наконец-то убедятся упрямые, вздорные головы истинных римлян, которым все еще видится salus rei publicae[49], что все идет так, как должно быть: что Рим будет награждать не тех, кому удалось сделать для него то или это, а осчастливленных милостью императорского величества избранников, тем больше достойных славы, чем большей дружбой и доверием одаривает их великий император, а не какой-то там princeps liberorum[50].
Перед самым подиумом стоят высшие сановники — императорский совет: их пятеро, недостает только одного, главнокомандующего. Ах, как жаль, что как раз его-то и нет… Но через минуту Плацидия строго сдерживает буйную радость: неужели ей и в самом деле жаль, что его тут нет?!
С форумов Веспасиана и Августа доносятся радостные, победные звуки трубы: процессия друга Плацидии уже свернула к Велабру, на улицу Тускус; голова ее уже минует храм Великой Матери и через минуту остановится перед старейшей христианской церковью на Палатине (некогда храмом Божественного Августа), дабы возблагодарить Христа за милость императорской дружбы, которая пролита на недостойное чело нынешнего триумфатора…
Префект претория Вирий Никомах Флавиан, с трудом сдерживая ироничную улыбку, незаметно склоняется к уху квестора святого дворца.
— Одно-единственное справедливое слово, которое прозвучало сегодня, — это именно недостойное чело, — шепчет он.
Квестор улыбается, но весьма сдержанно: он всегда умеет должным образом оценить шутку, но пусть не думает сиятельный префект, что квестор разделяет его чувства. Все знают, что возвышение друга Августы Плацидии — это настоящий удар по сенаторским родам, которые еще почитают староримских богов, и в первую очередь удар по Никомахам Флавианам, находящимся в тесной дружбе с главнокомандующим. Квестор с большой охотой позлорадствовал бы над щекотливым положением, в котором очутились могущественные Вирии (он презирает их веру и завидует их прославленному имени): взять, например, да и спросить с заботой в голосе, а что, сиятельный коллега не испытывает никаких опасений относительно дальнейшей посмертной судьбы своего отца и его памятника в сенате?.. История с этим посмертным почитанием и статуей натворила полгода назад много шума в Риме: отец нынешнего префекта при императоре Феодосии был также префектом претория Италии, главой староримской партии, принимал деятельное участие в последней вооруженной борьбе против христианства и пал под Аквилеей, победоносный же Феодосий приказал убрать из сената его изваянье и лишить посмертного почитания. Только Аэций, который после покушения на Феликса искал сближения с сенатом, добился от Плацидии снятия позора с Флавиана и согласия на восстановление его памятника в курии, чем завоевал расположение всех могущественных языческих сенаторских родов, которые благодаря численности и своему весу в Риме и всей Италии все еще держали верх над христианскими родами. Теперь квестор был уверен, что друг Плацидии пожелает все, что касается посмертной славы Флавиана, вернуть в первоначальное состояние. Но после краткого раздумья признал, что разговора об этом начинать, пожалуй, не следует, а чтобы что-то сказать, произнес:
— Воистину, со времени бегства Варрона из-под Канн Рим не помнит ничего подобного…
Тем временем новоявленный Варрон, так же как и настоящий шесть веков назад, пристыженный и придавленный, уже въезжал на форум Траяна. Как только он показался под аркой, все сенаторы, как один, подняв правую ладонь, воскликнули: «Ave, vir illustor!»
И все как один впились тысячеглазым взглядом в благородную статную фигуру… в красивое, с тонкими чертами лицо… в устремленные в землю красиво опущенные глаза…
А он, чувствуя на себе этот палящий жар любопытства, удивления и наверняка скрытой издевки, предпочел бы провалиться сквозь землю: ведь кто он, собственно, друг Плацидии, встречаемый как триумфатор императорами, сенатом, римским народом?.. Бунтовщик, которому не повезло и которого милостиво простили!.. Изменник, изменил императору и святой вере, призвав на помощь еретиков и хищных варваров!.. Плохой полководец, трижды разбитый хромоногим ублюдком!.. Беглец, который, потеряв надежду, малодушно бросил вверенный его попечению край, отдал его на разграбление яростным грабителям и кинулся через море, чтобы молить о прощении, готовый принять все: казнь, епитимью или презрительную милость, только бы обрести наконец после стольких лет бурь и треволнений желанный покой!
Под конной статуей Траяна стоят два мандатора в красных, расшитых золотом далматиках. Мандатор — это язык и ухо государя во время публичных выступлений.
— Приблизься, сиятельный муж! — скандируют оба сразу, великолепно соблюдая меру и силу голоса.
Дует пронзительный, холодный ветер, но друг Плацидии знает, что он не смеет в теплой, темной одежде предстать пред императорские очи. Поэтому он сбрасывает ее на руки стоящего сзади трибуна — гота и в одном далматике оранжевого цвета с черными клави идет через весь форум. Но он не чувствует январского холода. Гот следует за ним, чтобы в нужный момент набросить теплое одеяние.
Под конным изваянием Траяна возвышаются на высоту локтя два гипсовых бюста консулов — того года, который кончился, и того, который только что начался. Два белых изваяния: бородатое — Геркулана Басса, и грубо вырубленное, широкое, почти варварское — Аэция. Между двумя этими бюстами друг Плацидии преклоняет колени в первый раз.
— Кто это идет? — протяжным ритмичным голосом спрашивает мандатор с левой стороны памятника.
— Флавий Бонифаций, — таким же голосом отвечает мандатор справа.
— Пусть он приблизится к нашему обличию, — снова скандирует первый.
Бонифаций поднимается с колен и делает десять шагов. Гот с одеянием остается на своем место.
Мандаторы меняются местами. Бонифаций снова опускается на колени.
Теперь вопрошает мандатор, который до этого стоял справа:
— Кто мечом и советом служил великому Констанцию Августу, тогда еще патрицию, в борьбе с презренным — да будет он проклят богом! — Гераклианом?
— Достойный Бонифаций, трибун, — падает ответ.
— Кто по первому зову великой Августы Плацидии поспешил ей на помощь, мешая злым козням трижды презренного Кастина?
— Достосветлый Бонифаций, комес.
Голос левого мандатора возносится нотой выше:
— Кто поспешил незваным с денежной помощью к великой Августе Плацидии, отбывающей из Италии под давлением неблагодарности и измены? Кто нанял корабль для великой и ее благородных младенцев?
— Достопочтенный Бонифаций, вождь и комес Африки.
— Кто стойко отказывался признать презренного узурпатора Иоанна?.. Кто, пострадав от измены и козней неблагожелательных к нему сановников, пренебрег своим благом, когда настали тяжкие времена для святой веры и римского мира?.. Кто, укрепляемый царем нашим небесным, не согнулся, не поддался искушению, но мужественно грудью своей защищал божьи церкви и императорские города?..
Бонифаций поднялся с колен и двинулся прямо к обитому пурпуром возвышению. За ним следовали голоса мандаторов.
— Кто целый год геройски отражал грабителей и еретиков, посягающих на город, освященный жизнью и смертью святого епископа и мудреца божьего Августина?
— Сиятельный Бонифации, вождь и комес Африки, начальник дворцовой гвардии…
В это время поднялись с тронов Валентиниан и Плацидия. Бонифаций преклонил колени на ступенях подиума, прикоснувшись лицом к пурпурной ткани. Широкие складки оранжевой далматики с шелестом трепались на все усиливающемся ветру.
Префект претория Флавиан перехватил многозначительный взгляд Геркулаиа Басса: лицо бывшего консула было куда белее его гипсового изваяния. У обоих — у верного почитателя старых богов и у ревностного христианина — одинаково задрожали уголки побелевших губ, когда голос не мандаторов, а голос Плацидии, рискующей простудить свое священное горло, с огромной радостью и силой взлетел над вековым мрамором сердца Рима:
— Кто всегда был, есть и будет преданным слугой и верным другом великого императора Западной империи?..
И тут частым биением нескольких сот сердец ответил ей форум Траяна, опережая на несколько чреватых глухой тишиной мгновений тоненький голосок императора Валентиниана, восклицающий:
— Поистине никто, только трижды сиятельный и славный Флавий Бонифаций, комес и вождь, главнокомандующий и патриций Священной империи…
Префект Вирий Никомах Флавиан был слишком римлянином, чтобы у него не подогнулись колени при виде, как вырванное сильным порывом ветра одеяние Бонифация вылетело из окоченелых рук гота и упало на белое лицо Аэциева бюста.
Шел снег. Бессолнечное небо с раннего утра наваливалось непроницаемыми рядами мелких белых хлопьев, которые, ни на минуту не утрачивая плотного скошенного строя, победно кружили над головами, покрывали волосы, брови, усы, бороды, ресницы, оседали на плечах и даже пробивались под броню и одежду. Но Аэций все равно не пригласил послов из Италии в палатку. Спокойно выслушал он длинную речь Басса. Двукратно велел прочитать письмо Бонифация. Слушая, испытующе смотрел в лица послов. Он сразу обратил внимание, что бывший консул с героическим усилием сдерживает чувства и исполняет свою миссию так, как будто отбывает наложенную на него за очень тяжелый грех строгую епитимью. Сигизвульт не отрывал взгляда от заснеженных ног. Епископ Иоанн, прозванный Ангелоптес, то и дело судорожно стискивал сплетенные на груди пальцы рук. Один сиятельный Петроний Максим время от времени бросал исподлобья быстрый, насмешливый взгляд. «Это враг» — решил Аэций. А Максим, казалось, и не скрывал, что эту неприятную и почти мучительную для остальных послов минуту он переживает с чувством непритворного удовольствия. Ведь он же специально согласился поехать, чтобы — как он говорил друзьям в сенате — собственными глазами узреть, как выглядит дерзкий счастливчик, а вообще-то плохой игрок, наконец-то оставленный в дураках. И никто, слушая тогда его слова, не знал на самом деле, то ли в нем говорит все еще неутоленная жажда мести за смерть друга — Феликса — или же давняя презрительная ненависть и тщательно скрываемая зависть, которую в гордом представителе могущественного рода — партии Анициев — вызывал избранник бездумной Фортуны, сын солдафона, homo novus[51] который не скрывал своего нежелания иметь дело с Петронием и самым решительным образом разрушал все честолюбивые надежды, питаемые могущественным сенатором, в том числе и виды на патрициат.
Но, выступая в качестве посла, Петроний Максим действительно думал прежде всего о Феликсе. Как только он заметил огненно-рыжую голову Андевота, он сразу припомнил май — два года назад… Лавровый дворец в Равенне… лежащие на полу истерзанные останки Феликса и Падузии… «А ты вспоминаешь сейчас об этом, Аэций? — будто спрашивали его издевательски усмехающиеся глаза и презрительно искривленный рот. — Ты же такого тогда натворил… ты и твои бешеные псы… Ты шел к власти с сердцем и душой варвара: через ужасное, подлое убийство… И чего ты этим добился?.. Ты думал, что ты уже на вершине… что никто не станет тебе поперек пути… что стоит только руку протянуть к патрициату… Вот тебе теперь твой патрициат!..»
— «…и это ты тоже сделаешь, сиятельный, ибо такова священная воля великой Плацидии и таков мой приказ — приказ главнокомандующего и патриция империи», — закончил второй раз чтение письма молодой трибун Меробауд.
Но прежде чем он произнес последнее слово, Андевот разразился криком, похожим больше на звериный рев, чем на людской голос. Все, кроме Аэция и Максима, вздрогнули: огненноволосый Андевот вскинул к небу огромные, судорояшо стиснутые кулаки и, задыхаясь, вопил:
— Псы! Неблагодарные, подлые псы! Позор Риму! Позор Плацидии! Позор тем, кто согласился на такое гнусное посольство! Повесить таких послов!
Трое или четверо комесов и трибунов подхватили его последние слова, но остальные из Аэциевой свиты молчали, хотя глаза всех выражали изумление, тревогу, возмущение…
Аэций, ни на минуту не переставая улыбаться, пытался уловить взгляды послов. У епископа тряслись губы, Басс побледнел, но голос его был спокойный и строгий, когда он воскликнул:
— Ты можешь приказать нас повесить, Аэций, но ты не смеешь позволять, чтобы варвар бесчестил Рим и императорский трон.
Андевот вплотную подскочил к нему.
— Варвар проливает кровь за Рим и императора! — крикнул он хрипло, и лицо его исказилось гримасой гнева и ярости. — А вы, неблагодарные собаки, втихомолку, сзади обрушиваетесь на человека, единственного, который своей грудью защищает вас!..
— Довольно, Андевот! Аэций благодарит тебя. Послов я вешать не стану. Не дрожи, Петроний.
Лицо Максима залилось пурпуром. Аэций мстил за каждый взгляд.
— Я не дрожу, — с трудом сдерживая бешенство, ответил Петроний. — Изволь, я даже хочу — вели меня повесить, тебе это легко сделать — и увидишь, как я боюсь.
Комес Кассиодор бросил на Аэция умоляющий взгляд: у посла великой Плацидии волос с головы не может упасть!
Но Аэций, казалось, пропустил мимо ушей, словно бы не заметил оскорбления, содержащегося в словах Петрония.
— Верю, что ты не боишься, — сказал он почти дружелюбно, — и сиятельный Басс не боится, и святой епископ Иоанн. О Сигизвульте я и не говорю — он солдат.
А спустя минуту, будто что-то неожиданно вспомнив, он, придав лицу выражение удивленной задумчивости, воскликнул:
— А ведь бывают такие солдаты, что боятся… Вот, например, Бонифаций…
Послы посмотрели на него с удивлением, а Аэций тем же задумчивым голосом продолжал:
— Да, да… если бы не боялся, то наверняка не отправил бы такого знатного посольства… Вы только посмотрите: консул, епископ Равенны, прославленный и трижды победоносный полководец, сиятельный Максим — краса и гордость сената… Даже к грозному персу Варану не отправлял император Феодосии таких блистательных послов…
Максим снова улыбнулся уголками губ. «Грозного перса легче умилостивить, чем бешеного вепря из гуннской Паннонии», — подумал он, но тут же вынужден был признать про себя, что вепрь оказался не таким уж свирепым, как он ожидал. И это его рассмешило, ну теперь-то он все понял! Это не вепрь, а змей… подколодный змей… Свернется, а через год вновь попытает счастья на ступенях какой-нибудь базилики…
И довольный, что наконец-то понял Аэция, угадал его намерения, Петроний Максим начал прислушиваться к словам Басса.
— …и потому отправил такое блистательное, как ты изволишь говорить, посольство, чтобы ты уразумел и уверовал, что никто не посягает на твою честь и заслуги… что ты по-прежнему являешься величайшим полководцем империи…
— Ты так говоришь? — прервал его Аэций. — А почему же тогда не я, а Бонифаций назначен главнокомандующим?..
— Это только вопрос титула. Ведь и Феликс так назывался, а разве он командовал армией?..
Аэций рассмеялся и хлопнул себя ладонями по бедрам.
— Наконец-то поумнел Бонифаций! — воскликнул он. — А может быть, это Августа Плацидия поумнела? (Басс нахмурился.) Давно пора понять, что он даже в комесы не годится… Но поелику я должен и дальше командовать, то почему я должен выполнять его приказы, да еще в военных делах?..
Басс преклонил колено на снегу.
— Сиятельный муж, непобедимый воин, меч и щит империи! — голос его дрожал от волнения. — Твоего слова слушаются солдаты, трибуны, комесы, как будто это божье слово. Почему? Ты скажешь: потому что я веду их от победы к победе, от добычи к добыче… Это правда. Но если бы ты повел их в бой первый раз, почему бы они тебя стали слушаться? Потому что ты власть над ними, поставленная императором… Ибо воля императора, милостью божьей освященного, — это все равно что воля самого бога… Так что послушайся этой воли, сиятельный… Не время сейчас для раздоров, обид, личной мести. Франки — вон там, за этим синим лесом, ужасные вандалы — за морем, готы, свевы, бургунды — вот что повинно быть единственным предметом заботы истинного римлянина… Так напряжем же совместно все силы — спасем империю… спасем сладостный и благословенный римский мир! Покорись воле великой Плацидии, Аэций, о которой — если ты любишь правду — ты не осмелишься сказать, что она не помнит твоих заслуг… Разве ты не консул, сиятельный?..
— Да, я консул, Басс, но если я не захочу подчиняться воле Плацидии, разве я останусь им?..
— Вспомни Кастина, Аэций…
— Ты слышишь, Меробауд?.. Они замажут или сотрут мое имя на всех таблицах, разобьют все мои изваяния. Бедный ты, молодой друг!.. Можешь своим панегириком накормить короля франков — пергамент может быть съедобным, если как следует приготовить… Ты знаешь, Басс, с первым заморозком я придушил франков голодом!..
Послы с беспокойством следили за игрой мышц на лице Аэция. Низкий лоб перерезали борозды. Напряженно двигалась массивная, выступающая челюсть. Огромными ладонями он то и дело похлопывал себя по массивным, крепким бедрам. Торопливо скрылись куда-то устрашенные надвигающейся бурей остатки улыбки.
— Да, я заставил поголодать сикамбров, — в голосе Аэция появились свистящие нотки, — но они уже не будут голодать… Славный Андевот! Ты поедешь послом к благородному королю Клодиону… Если они возобновят феод и завтра же отступят в Токсандрию, то получат пятьдесят тысяч модиев[52] хлеба и всех захваченных нами женщин…
— Как сиятельный?! — воскликнул Кассиодор. — Мы их так прижали и теперь вдруг мир?..
— Да, будет мир. Мне некогда возиться с франками. Я еду в Равенну.
— Один?.. — вырвалось у Максима.
Аэций снова усмехнулся, но это была уже другая улыбка.
— Еще не знаю, Петроний… Узнаю… А что, достойный поэт Меробауд, ты не хотел бы, чтобы вот этот сиятельный Максим, стоя в сенате, вынужден был три часа слушать твой панегирик? Пойдешь за мной?
— Повсюду, господин.
— А ты, Кассиодор?
— Куда поведешь, непобедимый.
— А Валерий?
— Ave, vir illuster!
— А достойный трибун Литорий?
— На смерть и жизнь, Аэций!
— А о чем думает Вит?..
— Я считаю, сиятельный.
— Что ты считаешь, друг?
— На пальцах одной руки — битвы, выигранные Аэцием. На пальцах другой — победы прославленного патриция. Вы видите?.. На этой руке мне не хватает семи пальцев, а на этой — четыре торчат бесполезно. Придется снова посчитать — не может быть, чтобы я считал хуже великой Плацидии.
Громкий взрыв смеха. Аэций треплет Вита по плечу и кричит:
— Трубачи!..
Басс хватает обеими руками край его одежды.
— Что ты хочешь делать?
— Спросить тех, кого я водил на Угольный лес, на Колубрарскую гору, на левый берег Дануба, — хотят ли они прогуляться со мной в Равенну?!
— Это бунт, Аэций?..
— Это возмездие, Басс!
— Но послушай, сиятельный муж, — воскликнул в испуге епископ Иоанн. — Ради Христа, которого ты почитаешь…
— Уж я-то лучше его чту, чем Бонифаций. Я не женат на арианке и не крестил своего ребенка в арианской церкви…
«Но зато, когда был у гуннов, жег церкви», — думает Максим.
Аэций кладет руку на плечо Сигизвульта.
— А ты, славный полководец, не хочешь еще раз побить Бонифация?.. Возможно, ты считаешь его более великим, чем я?..
Гот гордо хмурит брови.
— Слава тебе, непобедимый. Но я служу великой Плацидии.
— Мы также хотим ей служить. Для того и отправляемся в Италию, чтобы принести к стопам Августы Плацидии свою преданную службу…
Тибии, буцины и многочисленные рога заглушают голос Басса, снова строгий и полный торжественности и достоинства:
— Флавий Аэций, именем Августы Плацидии призываю тебя подчиниться приказу патриция империи. Призываю в третий раз.
— Я подчиняюсь его приказу, Басс. Разве я не делаю того, что он велит… чему учит? Как Бонифаций в консульство Пиерия, так я в свое собственное — его покорный и послушный ученик и подчиненный Аэций отвечает на приказ Плацидии: «Нет!»
Басс в отчаянье хватается за голову.
— Значит, война? Междоусобная война?.. Сейчас, когда вандалы…
— Пусть ад поглотит вандалов, Бонифация, Плацидию! Кто не умеет ценить заслуг, недостоин править. Стань на мою сторону, Басс, и ты увидишь, как надо награждать друзей.
— Я всегда был твоим другом, Аэций, — медленно и отчетливо произносит бывший консул, — но… но… в битве при Фарсале не за Цезаря стояли Бассы…
— Но после битв при Тапсе и Мунде встали на его сторону. Ты видишь? И Аэций читал Цезаря, друг мой. Слышишь эти трубы?.. Вот мой Рубикон. «Alea iacta est»[53] — так тогда было сказано.
Взор Бонифация скользнул по золотой радуге, которая во всю стену плавной, но резко бьющей в глаза аркой разрезала строгую однотонность сапфира и переливающуюся всеми цветами мозаику. Его гораздо больше занимали фигуры на мозаике, обрамленные радугой: Христос с бородой (Бонифаций второй или третий раз в жизни видел бородатое изображение Спасителя!), благословляющий неимоверно длинными пальцами слишком коротких рук Галлу Плацидию и Констанция, непонятно каким образом поместившихся на одном неправдоподобно узком троне с зелено-розовой обивкой.
— Это сирийская мозаика, — начала объяснять Плацидия, которая стояла рядом, почти касаясь Бонифация плечом.
Но Бонифаций, не отрывая глаз от выложенного из мелких цветных камешков лица Констанция, поспешно воспользовался паузой, которую Плацидия сделала, припоминая имя сирийского мастера, и торопливо вернулся к прерванному разговору.
— Я еще раз умоляю, о великая, — голос его переливался мягкими, сочными тонами. — Прежде чем я получу из твоих священных уст последний приказ, благоволи взвесить все еще раз. Ведь речь идет о человеке огромной известности и заслуг… о непобедимом полководце, поистине — пусть меня простит великая Плацидия — равном твоему великому супругу, — он указал кивком головы на мозаичный портрет Констанция с пышной, красивой бородой, которой тот никогда не носил.
— Старые книги гласят, что еще более великих полководцев скидывали с Тарпейской скалы, — возразила она без всякого гнева, — да и разве сами мы не посылали Маворция, а потом Сигизвульта против полководца, столь заслуженного перед нами и нашей империей?!
Красивое лицо Бонифация покрылось огненными пятнами. Плацидия какое-то время вглядывалась в него со странной усмешкой и наконец тихим, чуть дрожащим голосом сказала:
— Одним только я обязана Аэцию… Его можно поблагодарить за ступени Урсианской базилики…
Он недоуменно посмотрел на нее.
— Какой ты недогадливый, патриций империи, — произнесла она почти шепотом. — Ведь если бы Феликс был жив, то по сей день был бы патрицием… Презренный Феликс, который чуть не лишил трон его вернейшей опоры. Как ты мог ему верить! — воскликнула она снова громко, с упреком и почти гневно.
Но прежде чем он успел ответить, она вновь приглушенным голосом, почти касаясь пальцами его большой руки, прошептала:
— Но теперь мы будем вдвоем при императоре… Ты и я, и никого, кроме нас… Наконец-то… Ты не рад, Бонифаций?..
— Я хотел бы радоваться, великая…
— Ты не веришь в себя?.. Боишься Аэция?! Низкого человека!.. Но ведь за тобой стоит Плацидия, а за Плацидией — сам Христос… Он одолеет гнусных гуннских демонов… Он не оставит своей ревностной почитательницы и преданной слуги…
— А если?
— Молчи… молчи… Это невозможно. В это нельзя поверить. А если случится это — но видит Христос, не случится, Бонифаций! — я верю: император Восточной империи Феодосий не откажет в гостеприимстве и опеке своему великому брату, Валентиниану, его родительнице и преданному их слуге…
Длинные, сужающиеся к ногтям пальцы почти лежали на широкой, сильной и нежной ладони.
— Никогда, великая Августа… Никогда, клянусь Христом и спасением моей души!.. Ты никогда не увидишь — разве что в день страшного суда — Бонифация, вновь побежденного… убегающего от врага… Если победит Аэций…
— Не победит… Ты победишь… Ты должен победить!.. Только с тобой я чувствую себя в безопасности и сильной… Только с той поры, как ты рядом, я не дрожу за нашего императора… только теперь я спокойно ложусь в постель…
Необычно маленькие уши мозаичного Констанция наверняка не услышали слово «постель», но слишком круглые, почти рыбьи глаза его не могли не видеть, как с последним словом Плацидии сплелись вдруг в судорожном пожатии две пары дрожащих рук, а красивая темная голова бессильно опала на свое собственное, выгравированное на бронзе изображение, висящее на странно подвижной в эту минуту цепочке. Умерший одиннадцать лет назад солдат из Наисса, казалось, с абсолютным равнодушием к делам этого мира и даже с дружелюбным сочувствием к лишениям и тяготам строгого вдовства смотрел на этот неожиданный взрыв, в котором все для него было человеческим, простым и понятным, кроме одного: как же это получилось, что Бонифаций не только не отодвинулся, даже самым деликатным образом, дабы избавить и себя и Плацидию от искушения: он — такой скромный, стыдливый и всегда такой строгий к себе! — нет, более того, судорожно сжимая ее руки, он ласкал припавшую к нему женщину взглядом, столь тоскующим и выдающим такой великий, мучительный и как будто давно не утоляемый любовный голод, как будто у него вовсе не было красивой молодой жены, которая подарила ему ребенка и в которую он был до безумия влюблен?!
В следующее мгновение они очутились в разных концах радуги. У Бонифация еще дрожали руки, а у Плацидии судорожно вздрагивали уголки губ и часто-часто стучали зубы.
А через минуту, когда Бонифаций стоял уже на пороге, Плацидия сказала спокойным, повелительным голосом:
— Послы вернулись. Завтра сенат провозгласит Аэция бунтовщиком, объявит его вне закона и попросит Августу Плацидию поручить патрицию империи возглавить карательную экспедицию. Да поведет тебя Христос!
В ту ночь уже не два часа, а до самого рассвета ходила босиком Плацидия по острому битому камню. На другой день она не могла надеть башмаков, и в этот день никто не удостоился милости лицезреть священное обличив великой Августы Плацидии.
Словно окаменелые в тревоге и отчаянье жены воинов-братьев, вышедших на смертельный поединок друг с другом, со стиснутым сердцем, затаив дыхание следила Галлия и Италия за начатой сразу же после январских ид игрой. Аэций — предваряемый снегами и заморозками, точно мандаторами своего гнева и мести, с присущей ему быстротой перебросил войска из Бельгики в Рецию и выискивал самое удобное место для перехода через Альпы, в то время как Бонифаций только еще выходил из Рима, направляясь Фламиниевой дорогой к Равенне. Аэций вел около тридцати тысяч воинов, в том числе четыре тысячи конницы или — как подсчитали сведущие в Риме люди — почти все, включая гарнизоны городов, комитатные отряды[54] Галлии, которые — кроме двух легионов — как один пошли за своим главнокомандующим. Таким образом, Галлия была совершенно оголена и отдана на милость федератов. Те пока не двигались с места, зачарованно следя за борьбой непобедимого Аэция с Плацидией, кроме того, они были так загипнотизированы величием Аэция, что ни на минуту не переставали верить, что не может быть иначе, чем сказал Аэций, который обещал — с титулом патриция и с головой Бонифация на аланском копье — через две недели вернуться в Галлию и самым суровым образом расправиться с теми федератами, которые, воспользовавшись его отсутствием, нарушат перемирие. В Италии мнения поделились: опытные люди полагали, что если Бонифаций сумеет помешать Аэцию переправиться через Альпы, то решающая победа наверняка будет за Плацидией; а если же Аэций вторгнется в Италию, то к нему примкнут гарнизоны Аквилеи, Медиолана и стоящие на Паде ауксиларии; тогда силы обеих сторон будут равны, и более чем сомнительно, сможет ли патриций противостоять непобедимому, разве что запрется, как в Гиппоне, в каком-нибудь из укрепленных городов; наиболее подходящим для этого знатоки считали Медиолан, Патавию[55] или Аримин.
В амфитеатрах — атлеты, в цирках — белые, красные, голубые и зеленые квадригарии, в театрах — трагики, мимы, канатоходцы и фокусники — все они сразу перестали занимать жителей Вечного города. Спорили об заклад только о том, кто победит: Аэций или Бонифаций?.. И прежде всего о том, что сделает победитель с побежденным и схваченным противником… Больше всего интересовала в случае поражения судьба Аэция. Известны были его угрозы, что схваченного соперника он сначала прокоптит в дыму и, когда тот задохнется, отрубит голову. Но никто не знал, как поступит победитель-патриций. Бонифаций покидал Рим, облеченный такой властью и свободой действий, какой не имел даже Констанций, пока не стал императором. В то время как муж Плацидии был обязан всех побежденных и схваченных им узурпаторов и бунтовщиков отсылать на императорский суд или же наказывать строго по букве полученного им приказания, — Бонифаций добился у Плацидии и сената позволения самому решать, что делать с побежденным Аэцием: и, стало быть, он мог, даже не обращаясь в Рим, ограничиться одним ослеплением, отрубить правую руку, а то и просто изгнать и конфисковать имущество. Плацидия очень неохотно, после длительного сопротивления рассталась с мыслью увидеть голову ненавистного Аэция у своих ног, но Плацидии в то время, более чем когда-либо, требовалось сохранить хорошие отношения с сенатом, а сенат как раз не только поддержал, но и почтил решением желание патриция выбить медаль, на которой были бы увековечены его истинно римская humanitas[56] и милосердие, присущие христианскому полководцу. Сенат был того мнения, что заслуги Аэция в защите римского мира и всей Западной империи настолько велики, что даже за бунт и гражданскую войну нельзя бесповоротно приговаривать его к казни. Правда, Петроний Максим и Квадрацнан в длившихся несколько часов речах ссылались на старину, в первую очередь на Манлия Капитолийского, а в качестве недавнего примера приводили Стилихона, но Вирий, Басс, Секст Петроний и Глабрион Фауст в еще более длинных речах сумели убедить подавляющее большинство сенаторов — и не только своим весом, влиянием и красноречием, а и тем, что три четверти всех сиятельных, достопочтенных и достосветлых мужей отнюдь не были уверены в исходе борьбы и предпочитали по возможности застраховаться на случай победы Аэция. Надо сказать, что их одолела страсть биться об заклад: Глабрион Фауст поставил четыре прославленные в цирковых ристалищах квадриги против снолетского виноградника одного из многочисленных Лициниев Крассов, утверждая, что все закончится примирением; Секст Петроний втихомолку поспорил с молодым Ауксенцием на десять самых красивых невольниц, каких только можно будет найти весной на рынке «Трех Таверн», причем по крайней мере половина из них должны быть негритянки из Южной Ливии, особенно дорого ценящиеся в Риме в эту пору года. Предметом их спора была не столько судьба Аэция в случае поражения, сколько место предстоящей битвы. Ауксенций, который какое-то время служил под началом Аэция, был уверен, что галльские войска беспрепятственно спустятся с Альп и долину Пада и, чтобы не дать втянуть себя в длительную осаду, тут же поспешат встретиться с Бонифацием, осаждая по дороге все более или менее значительные крепости, вынудят его к битве в открытом ноле и наверняка разобьют где-нибудь между Мутиной и Бононией. Секст Петроний соглашался с тем, что Аэций без помех перейдет Альпы, но считал, что это займет у него столько времени, что Бонифаций успеет запереться или в Медиолане, или в Патавии, но уж никак не в Аримине, так как не бросит на милость бунтовщика любимую Плацидией Равенну.
В действительности произошло и так и не так, как они предполагали. Аэций перешел Альпы и двинулся по дороге, ведущей через Тридент и Верону к Патавии. Сделал он это в более короткий срок, чем предвидел даже Ауксенций; более того, едва он вступил на италийскую землю, как семь из двадцати одного легиона ауксилариев, стоящих в Италии, немедленно перешли на его сторону, сведя на нет численное превосходство, которое имел вначале Бонифаций. Ауксенций почти уже держал в руках свои десять невольниц: быстрота Аэция не позволила Бонифацию не только спрятаться в Медиолане или в Патавии, но даже защитить Равенну. Горящий жаждой мести Аэций рвался встретиться с противником, поэтому Равенну он оставил нетронутой, обошел ее и вскоре, как Ауксенций необычно точно предсказал, уже двигался от Мутины к Бононии. Бонифаций же, казалось, совсем не спешил, к этому времени он прошел только Ареций и направился к реке Рубикон. В свою очередь торжествовал и Секст Петроний: сомнений нет — Бонифаций спешит к Аримину, чтобы запереться там, как в Гиппоне, и связать Аэция, пока из Африки не подойдут новые, верные Плацидии войска под командованием преданного ей друга Аспара.
— Кто первым подойдет к Аримину, кто овладеет крепостью?
В ответе на эти вопросы содержался весь исход борьбы. Судя по последним полученным в Риме известиям, Бонифаций был ближе к цели.
— Ну и ноги у Аэция! — лихорадочно восклицали под портиками сторонники непобедимого и тут же добавляли с издевкой: — Знаем… знаем… а у Бонифация книги и жена..
Бонифаций действительно вез с собою всю библиотеку: Цезаря, Ливия, Салюстия, Непота и несколько кодексов, посвященных воинскому искусству. Сопровождала его и Пелагия. Она заявила, что не останется без него в Риме, а когда Бонифаций попытался упорствовать, вновь прибегла к безотказному: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». Она не могла оставаться в городе, где из-за своей веры испытывала более многочисленные и более тягостные ущемления, чем в родной Африке. Плацидия явственно дала понять Бонифацию, что не может допустить к своему двору благороднорожденную римлянку, упрямо коснеющую в ненавистном богу учении Ария; Сигизвульт же и другие ариане-варвары, часто соприкасающиеся с двором, уведомили Пелагию, что и Плацидия, и епископ Ксист склоняют Бонифация расстаться с нею если не навсегда, то хотя бы на какое-то время. «Пусть возвращается к себе в Африку», — якобы сказала Плацидия. Кроме того, Пелагия не выносила свою падчерицу, уже взрослую дочь Бонифация от первого брака, только что выданную за молодого комеса Себастьяна, который вместе с Сигизвультом и сиятельным Петронием Максимом сопровождал патриция как его заместитель и советник. В совете при патриции Максим ведал гражданскими делами, а воинскими — Сигизвульт и Себастьян.
Пелагия едва держалась на ногах от усталости после трех дней пути и двух бессонных ночей, когда вдали на востоке завиднелись наконец мощные стены Аримина. Идущий во главе войск четвертый палатинский легион пронзительным воем тибий и рогов дал знать, что неприятель приближается. Действительно, через час словно тысячи солнц выплыли из-за левого берега Рубикона — непобедимый вождь и главнокомандующий подошел к городу одновременно с патрицием. Бонифаций немедленно собрал совет: вообще-то Аримин был почти что в его власти, так как восемнадцатый легион ауксилариев уже входил в город, но ввести все войско без битвы было невозможно.
— И потому я постановил, — говорил он с взволнованным, слегка побледневшим лицом, но совершенно спокойным голосом, — что Сигизвульт с восемнадцатым, четвертым и одиннадцатым легионами ауксилариев станет в городе, мы же с Себастьяном, прикрываясь стенами города, обратимся лицом к врагу и еще сегодня выиграем сражение.
Пелагия так устала, что, как только Бонифаций провел ее в спальную комнату в предоставленном им доме, тут же скинула с ног башмаки и бросилась на постель. Она понимала, что сейчас она не смеет спать… что вообще может уже не встать с ложа или проснется в объятиях кого-нибудь из Аэциевых комесов… Но у нее нет больше сил. Вот уже два часа она буквально теряет сознание и почти не соображает, что делает… Последнее, что она помнила, — это огромный наполовину белый, наполовину черный луг между двумя войсками… Что-то Бонифаций ей тогда говорил… что-то показывал… Она даже видела в отдалении сверкающие золотом значки, совсем такие же, как у войск Бонифация… и еще заметила какую-то подвижную красную точку…
«Вон он… Аэций… — кажется, сказал ей муж. — В расшитой тоге консула…» Она просто валилась с ног. Но, рухнув на постель, не сразу уснула. С минуту она потягивалась с наслаждением, как ребенок, радующийся свободе уже ничем не скованных ног, когда можно шевелить всеми десятью пальцами. Потом она почти не помнит, что делала: поцеловала Бонифация в лоб, в щеку и в губы и сказала: «Да хранит тебя Христос» — и, кажется, заплакала… Она уже не слышала, как Бонифаций сказал: «Двести готов охраняют дом… сам Сигизвульт сразу же тебе все сообщит…» Ей показалось, что он хотел что-то еще сказать, но только прикоснулся рукой к ее щеке, улыбнулся и вышел… Пелагия совсем не слышала своего голоса, когда произнесла: «Да ведь я же совсем не буду спать… разве я могу в такое время уснуть?! Я только полежу минуточку… ноги отдохнут — и тут же встану».
А потом появилась нагая серая пустота, испепеленная, подернутая каким-то серым туманом. Ни стебелька на земле, ни пятнышка лазури в небе. Пелагия знает… уверена, что это не ночь, даже не сумерки… Глаз ее напрасно высматривает золотисто-огненный диск солнца, ищет окрест след какого-нибудь луча… хотя бы какого-нибудь отблеска… И ни следа тени… Не отбрасывают ее ни разбросанные мелкие серые камни — неподвижные угрюмые отшельники, — сварливые, брюзгливые, острые, безжалостные, если ступить на них ногой: пусть только попробует двинуться с места! Ни такие же суровые и грозные груды скальных обломков, которые даже с самого большого отдаления никогда не будут ни белыми, ни черными… а всегда серыми… мрачными, бесконечно жестокими в своей серости из всей окружающей мир серости! Даже тела — два живых, горячих, прильнувших друг к другу человеческих тела, — и они не отбрасывают никакой тени на стелющуюся под окровавленными ногами серость. Пелагия отчетливо видит: его и ее… как будто смотрит откуда-то со стороны… А ведь это она!.. Ведь это с ее разрезанной камнем ноги скатилась капля крови… Это она чувствует жар, бьющий от его сильного, мускулистого — поистине дикого! — тела, к которому она прижимается, дрожащая, обливающаяся слезами, но уже уверенная, что ничего с ней не случится, если она, как в спасительную пещеру, всунет голову между широкой, сильной, мохнатой грудью и руками, твердыми, жесткими, но самыми дорогими… Самыми верными и созданными только для того, чтобы защищать ее…
И снова, как будто со стороны, видит она отчетливо, что мужчина сидит на большом сером камне, почти касаясь посиневшим коленом ее посиневшей груди, а ее колени покоятся: одно на мелком колючем щебне — болящее, саднящее… другое — доверчиво и блаженно — на больших, сильных, напряженных пальцах его ступни… Кто же они?.. Она видит его лицо — широкое, грубо вытесанное, варварское или мужицкое… Когда-то она видела его — да, наверняка видела!.. но как будто лишенное жизни… мертвое… каменное…
А она?.. Да, это она, но зовут ее не Пелагия… Неужели она Ева?.. А он Адам?.. Они изгнаны из страны счастья, из страны безмятежности и иллюзорности счастья; что же они могут поделать в испепеленной, голой пустыне, укутанной в угрюмую, жестокую серость?! Пелагию охватывает уже не страх, не отчаянье, а усталость, безразличие и равнодушие ко всему, к чему она стремилась… о чем плакала… Как будто ее смертельно изнурила какая-то жестокая непосильная битва… Пусть будет так… пусть… Только бы с ним… ближе к нему!.. И она прижимается все сильнее, все жарче к твердому, как из бронзы, но живому, обжигающему телу…
Но если они Адам и Ева, то почему они не стыдятся своей наготы, хотя уже познали ее? Почему, наоборот, то, что они голые, она воспринимает как облегчение, и радость, и почти счастье от того, что они одни и одиноки?! Поистине, в несчастье и отчаянье обретается единственная победа… победа!.. победа!..
— Победа! Победа!! Победа!!!
Пелагия вскакивает с постели. Из ноги, разрезанной камешком, который в дороге попал в ее башмак, действительно стекает капля крови. Сияющий Сигизвульт наклоняется над нею и не в силах найти от радости другого слова — в десятый, а может, и в двадцатый раз восклицает:
— Победа! Победа! Победа!
В комнате темно. Но вот вносят светильники. «Проспала целый день», — думает Пелагия, быстро всовывая отдохнувшие ноги в красные башмаки. В комнате появляются все новые и новые фигуры — лица потные, измученные, нередко окровавленные либо перевязанные, но все сияющие от радости, счастья и гордости, прежде всего от невыразимой гордости… За семь часов они разбили непобедимого!
Разбили… уничтожили…
— Разбили в прах! — восклицает молодой Себастьян, который входит в комнату, слегка хромая, задетый стрелой в бедро.
С жаром рассказывает он Пелагии, с какой легкостью в первый же час разбил Бонифаций оба фланга противника и с трех сторон обрушился на его центр. И это непобедимый?.. И это полководец, имени которого не произносит без страха ни один король варваров?! Воистину только для схваток с варварами он и годится! Бросать ауксилариев на счетверенную черепаху отборных палатинских легионов?! Оттягивать с флангов конницу, прежде чем неприятель окажется под градом снарядов из катапульт?! А самое последнее?! Самое худшее?! Самое позорное?! Свести все свои силы в одну массу, как будто для страшного удара, а на самом деле только затем, чтобы дать себя легко окружить?! Такое поражение! Войско абсолютно рассеяно… почти все комесы взяты в плен… сам Аэций, возможно, убит… сейчас ищут его тело… А Бонифаций еще перед полуднем думал, что придется на полгода запереться в Аримине!..
Только теперь Пелагия спрашивает о Бонифации.
— Он преследует с конницей Кассиодора, который с двумя легионами бежит в верховья Бубикона… Целый день на коне… Все время в первой шеренге…
Пелагия сама не знает, почему лицо ее заливается вдруг жарким румянцем.
— А с ним ничего?..
— С ним?.. С ним никогда ничего… — начинает Себастьян и вдруг замолкает, видя, что встревоженный взгляд Пелагии остановился на молодом трибуне-алане, который выразительным жестом указывает на плечо.
— Ранен?!
Она сама не ожидала, что так крикнет. Румянец тут же сбежал, лицо стало белым.
Испепеляющим взглядом Себастьян глянул на алана.
— Царапина, — произнес он свободным, почти веселым, голосом. — Стрела задела ключицу… Далеко от шеи… Когда ее выдернули, всего три капли крови вытекло. Пустая царапина, — и добавил: — Но какая блистательная победа!.. Куда крупнее разгрома язычников под Аквилеей… Пока стоит Римская империя, до тех пор живет слава Бонифация!
Когда Бонифаций открыл глаза, съежившаяся до величины пальца тень на солнечных часах в перистиле показывала ровно полдень. Три лекаря быстро перекинулись многозначительным взглядом: «В первый раз за три дня… несмотря на все средства!» А взгляд самого старшего и умудренного из них говорил: «И в последний…» Они быстро отступили, открывая близкому к кончине победителю вид на утопающий в радостных лучах солнца перистиль. Тут же у ложа, с лицом, окаменелым от боли и невероятного изумления, стояла Пелагия. Крик, который она неожиданно для себя самой испустила три дня назад при вести о ранении Бонифация, был вещим криком. Могущественнейший человек Западной империи, победитель непобедимого, умный и образованный полководец, храбрый воин, который всю битву ни разу не отступил за вторую шеренгу, умирал в муках от крови, смертельно отравленной ржавым наконечником стрелы, хоть при этом вытекло всего три капли… Губы его были уже совсем синие, щеки землистые, глубоко запавшие, пальцы одеревенели, судорожно растопырясь, но лицо его все еще выражало осмысленную озабоченность земными делами. Он был вождем, смертельно сраженным в самой гуще битвы, он даже не позволил вынуть стрелу из раны, пока не убедился, что триарии, которые должны решить победу, уже поднялись с колен… уже устремили вперед копья… Пелагия, считавшая мужа человеком слабым, почти с женской душой, не могла отрешиться от удивления, глядя на него в эти последние дни. Но Сигизвульт, часто видавший его в огне сражения, совсем не удивлялся, что патриций ведет себя в последние минуты именно так; и, полностью разделяя заботу, которая выразилась на лице Бонифация, как только тот открыл глаза, быстро приблизился к ложу и произнес:
— Аэций прибыл.
Все вздрогнули. Все взгляды, удивленные и встревоженные, вопросительно устремились к посинелым губам Бонифация, а он кивнул лекарям, чтобы его приподняли на постели, и, уже сидя, сказал свистящим, но вполне осмысленным и спокойным голосом:
— Пусть скорее войдет.
Тогда взгляды всех присутствующих оторвались от страшных Бонифациевых губ и с лихорадочным любопытством и с еще большей тревогой, чем до этого, метнулись к двери, за которой исчез Сигизвульт, чтобы через минуту явиться с ним… с Аэцием.
Пелагия, которая никогда его до сих пор не видала, чуть не вскрикнула от изумления — такой знакомой и удивительно близкой показалась ей вся его фигура… очертания плеч и ног… а прежде всего лицо! Она знает его… и знает очень хорошо… она видела его совсем недавно! Но где?.. Когда?.. Когда Бонифаций показывал ей перед сражением Аэция, она видела только движущуюся красную точку… Тогда где же?.. На минуту она успокоилась: столько раз приходилось видеть его статуи, бюсты, диптихи и медали с его изображением! Хотя нет, тут же вернулась волна тревожного изумления — она готова поклясться Христом, могущественнейшим и совершеннейшим творением божьим, что недавно… совсем недавно… совсем близко видела живой эту фигуру и это живое, раздираемое вихрями чувств лицо… С тем большим любопытством приглядывалась она к нему; поскольку она знала его по изображениям, то совсем иначе представляла себе прославленного, непобедимого полководца, гордость римского оружия и римской — среди варваров — славы. Он походил на варвара… На галльского или фракийского мужика — на кого угодно, но только не на воплощенное римское величие и мощь. Плечи широкие, колени массивные, лоб низкий — длинные, неопределенного цвета волосы падают на глаза, на брови, на обрубок шеи, широкое лицо к тому же заросло длинной колючей щетиной также неопределенного цвета — местами рыжей, а кое-где черной… На нем была синяя туника из грубой материи, а на ногах крепиды из невыделанной шкуры; в волосах и на одежде Пелагия без труда заметила несколько соломинок и следы грязи… «Не удивительно, — подумала она, — вот уже три дня, как обложенный волк, прячется по лесным чащобам… да еще зимой». Но что больше всего ее поразило, так это его взгляд… Взгляд бешено дерущегося за свою жизнь зверя… Бывший главнокомандующий, усмиритель и ужас королей и народов, смотрел исподлобья на Бонифация и на всех присутствующих с такой дикой, нечеловеческой ненавистью, что Пелагия вздрогнула, увидев, что он открывает рот, чтобы заговорить: какой же нечеловеческий, хриплый вой или рев вырвется из этого искривленного бессильным бешенством рта! И не могла поверить, что это действительно он говорит, когда над перистилем взлетел его звучный, властный голос:
— Дочь твоя не только останется вдовой, Бонифаций, но и узнает о всех ужасающих муках, которые изведает ее муж, если ко мне хоть пальцем прикоснется кто-нибудь из этих твоих…
Он осекся и повел глазами по всему перистилю. С особой ненавистью смотрел он дольше, чем на остальных, в злорадное лицо Петрония Максима; Пелагию он вообще как будто не заметил; и весь вспыхнул огнем, когда поодаль от ложа увидел стройную фигуру Кассиодора, схваченного Бонифацием уже в пяти милях к югу от Аримина.
— Я уверен, что с Себастьяном ничего дурного не случится, Аэций, так же как здесь никто не осмелится посягнуть ни на тебя лично, ни на честь прославленного военачальника…
Все, не исключая самого Аэция, с безграничным удивлением слушали с трудом выговариваемые слова умирающего, а он огромным усилием воли протянул к Аэцию обе руки и продолжал:
— Ты приехал в закрытой лектике, да?.. Я нарочно послал ее за тобой, чтобы никто в городе, кроме присутствующих здесь, не знал, что это ты едешь.
— А я послал бы за тобой только клетку и возил бы тебя в ней по всему городу. Говори скорее, чего ты хочешь… Каждая напрасно потерянная минута приближает час вдовства твоей дочери… Да и ты сам недолго протянешь… Немного дала тебе эта победа над Аэцием…
Он разразился громким, искренне веселым смехом. Бонифаций молча смотрел в безобразно заросшее, широкое смеющееся лицо и, когда смех наконец утих, сказал:
— Ошибаешься, Аэций. Мне много дала эта победа. Я говорю не о славе, не о панегириках, не о хрониках — через час я скончаюсь, и ничего из этого не прочту, и никогда не узнаю, читал ли это кто-нибудь… Я имею в мыслях другое. Сначала знай, что я всегда испытывал к тебе восхищение и почтение…
Аэций судорожно стиснул большие кулаки.
— Если ты не потешаешься сейчас надо мной, — воскликнул он глухо, — если хоть немного уважаешь меня, то прикажи на время, пока я здесь, пусть выйдет отсюда гнусный предатель и неблагодарный перебежчик! — И он указал стиснутым кулаком на Кассиодора.
— Это не предатель, Аэций, — начал было Бонифаций, но тот не дал ему закончить.
— Не предатель?! — крикнул он. — Не перебежчик?.. В таком случае что же он здесь делает — свободный и надменный, когда его товарищи кусают снег или корчатся в муках…
— Никто из них не мучается и никто даже не заточен, Аэций… Своей властью патриция я сразу же после битвы помиловал всех, кто сражался на твоей стороне, причем каждый, кто только захочет — комес это или простой солдат, — может вернуться в ряды императорского войска на прежнее место…
Пелагия с удивлением заметила, что взгляд Аэция, озадаченный и неожиданно угасший, уставился в пол, а большие кулаки разжались и распрямились.
— Благодарю тебя, — услышала она его глухой голос, — благодарю за всех их…
А через минуту, все еще не поднимая глаз, спросил почти робко и как будто стыдясь своего любопытства:
— А много… много их вступило под твои значки?.. Я говорю… о комесах…
— Только трое… Нет, нет, Аэций, ты ошибаешься… Кассиодор не принадлежит к ним… Верь мне, это действительно твой преданный друг… Он тут потому только, что я позвал его…
И снова Бонифаций кивнул лекарям. Через минуту он уже сидел совсем прямо. На него взирали с удивлением: лицо его выглядело не таким мертвым… глаза горели… даже пальцами одной руки он двигал уже свободнее…
— Сиятельный Петроний, — обратился он к Максиму, — можешь ли ты здесь, в присутствии епископа Иоанна, перед лицом сиятельного Флавия Аэция поклясться муками Христовыми и своим законным происхождением от того, кого ты именуешь своим отцом, что сенат города Рима облек меня властью и правом распорядиться судьбой побежденного Аэция, как я сочту нужным, а великая Плацидия это решение сената благоволила утвердить?..
— Клянусь, — сказал Максим и беспокойно нахмурился, но, прежде чем он успел что-нибудь сказать, Аэций уже подскочил к ложу и с перекошенным от бешенства лицом процедил сквозь стиснутые зубы:
— Ничего ты мне не можешь сделать… ничего… ничего!.. Мужа твоей дочери мои гунны посадят на острый кол или привяжут за ноги к двум коням и…
— Изволь выслушать меня спокойно, Аэций, — прервал его патриций ослабевшим вдруг голосом. — Ты видишь… моя минута уже близка… Я должен поторопиться… Слушай меня внимательно… Мне все тяжелее говорить… И вы слушайте все… всех призываю в свидетели… тебя, муж апостольский… тебя, сиятельный Максим… тебя, Пелагия, а особливо вас, храбрые солдаты — Сигизвульт и Кассиодор…
Он замолк, чтобы глотнуть воздуха, дыхание его становилось все более хриплым, то и дело прерывалось; тогда видно было, как он задыхается и все лицо становится синим, как и губы.
— Слушайте внимательно, — продолжал он минуту спустя, — слушайте, и пусть вас бог покарает, если вы угадаете мысль, но не расслышите на мертвеющих губах слова и потом скажете, будто ничего не слыхали… Я знаю, что согрешил против бога, господа нашего… знаю, что ошибался, но… я никогда не грешил со злым умыслом и предерзостно… а только, — с минуту он задыхался, и лекари решили, что это уже конец, — только по слабости и жару сердца… в гордыне, в гневе, одержимости и неразумии. И теперь… теперь я хочу свою вину загладить, а ошибки исправить… Первая из главных вин моих: то, что принял патрициат, одному лишь человеку в Западной империи прилежащий — сиятельному Аэцию… Ну где мне с ним равняться?! С полководцем храбрым, умелым… удачливым… И другая моя вина: что, увлекаемый гордыней, а не разумением, лишил империю и римский мир могущественнейшего человека… единственного защитника, разбив его под Аримином… Простишь ли ты мне эту обиду, Аэций? Простят ли мне эту вторую вину историографы?..
— Но послушай, славный муж! — воскликнул Петроний Максим.
— Не прерывай меня… Сейчас я умру… Эта вторая вина была вместе с тем и милостью божьей… Почему, думаете вы, даровал мне бог победу над Аэцием? Мне, который недостоин быть его комесом?! Чтобы испытать Бонифация в смертный час… испытать, будет ли он упиваться гордыней и умрет, обрушив вместе с собою в пропасть римский мир, или образумится и последует голосу совести?.. Яко червь есмь перед господом, но — горжусь — устоял перед искушением, как Иов… Слушайте! Желая исправить обиду, причиненную великому Аэцию, и радея спасти империю и римский мир властью своей, каковую получил из рук великой Августы Плацидии и сената, нарекаю присутствующего здесь Аэция своим преемником… наследником всего, что я имею, и именую его главнокомандующим… вождем и главнокомандующим и патрицием империи… Не говори ничего, Максим! Взгляни в лицо Сигизвульта… на его глаза… на его улыбку… Солдат этот, пусть и верный слуга Плацидии, знает, какой ему нужен вождь… Так будет… Такова моя воля… А теперь, простишь ли ты мне, Аэций?!
— Это подвох… это какая-то хитрость… — невольный крик Аэция заполнил весь перистиль. — Вы хотите меня усыпить и выманить из укрытия какими-то хитростями, а потом… О нет… я не дамся… я вам не Стилихон!..
— И правда, ты не Стилихон, — почти шепотом сказал Бонифаций. — Стилихон был варвар с душой римлянина… а ты, Аэций, ты римлянин с душой варвара, но только такой и может спасти гибнущую империю…
Аэций повел вокруг беспредельно удивленным взглядом. Петроний Максим потерял всякое самообладание: он топал ногами и кусал край тоги. Кассиодор устремил на Бонифация почтительный и восхищенный взор. Сигизвульт опустился на колени перед ложем и поднес к губам деревенеющую руку, по лицу его, будто выбитому из бронзы, текли слезы. Иоанн тихо молился. Пелагия встала на колени по другую сторону ложа. К ней устремился потухающий взгляд Бонифация.
— Пелагия, — прошептал он, — я любил тебя больше всего на свете и всегда — не так, как пристало мужу, — делал все по твоей воле, часто рискуя спасением души… А ты, памятуя об этом, сделаешь, когда я умру, то, чего я сейчас от тебя потребую?..
— Все…. все… — рыдала она.
— Так вот, слушай… и ты тоже, Аэций… Чтобы править, повелевать, бороться, мало меча, даже твоего… мало даже головы, равной великим умам прошлого… Нужно еще кое-что… И это есть как раз у нее, Аэций… Пелагия — самая богатая наследница в Африке… Возьми ее, Аэций, ты видишь: она красивая, умная, не как другие женщины… правда, упрямая и строптивая, тяжелая, — но для меня, а не для тебя, Аэций… И ты уж выйди за него, Пелагия: он один сумеет отобрать у вандалов твое приданое… он один сделает твое имя долговечнее бронзы… И вспоминайте меня. Благослови вас Христос.
Только теперь взглянул Аэций на Пелагию, но, прежде чем у них успело вырваться слово, Бонифаций, опадая на постель, хрипло выдавил из себя:
— Тебе пора, Аэций… Боюсь, что, когда я скончаюсь, найдутся тут такие, для кого все равно, что я в неутоленной скорби оставляю трех вдов: Пелагию, мою дочь и римский мир… Поспеши же к своим… Тебя ждет тяжелая борьба за мое наследие, но я знаю — ты выиграешь ее…
— Выиграю, Бонифаций.
— Vale. Дай мне свою руку, славный патриций. А когда выйдешь отсюда, оберни еще раз свой лик и скажи: «Salve aeternum…»[57]
— Прощай, благороднейший из римлян…
— Прощай, спаситель Западной империи… Vale… vale… magna… rei publicae… Occidentalis… sains…[58]
Когда исчезла в двери коренастая фигура Аэция и Петроний Максим, заламывая руки и до крови кусая губы, припал к ложу, Бонифаций последним усилием дружески улыбнулся ему и повернулся к епископу, глухой к тому, что лихорадочно излагал ему сенатор.
— Святой отец… — послышался через минуту его шепот. — Ты веруешь в учение о помиловании?..
— Да, сын мой, — твердо ответил Иоанн. — Не было вечера, чтобы я, отправляясь спать, не укрепил перед тем дух свой благостным учением Августина…
— Отче… А я отхожу помилованным?
Епископ ничего не ответил. Рыдания лишили его голоса, слезы белым туманом заволокли старческие глаза, жадно взирающие на смерть солдата. Он только кивнул головой.
Тогда Бонифаций поднял глаза к сияющей над перистилем солнечной лазури и, сложив руки на груди, прошептал:
— Какие же святые и правдивые были твои слова, мудрейший Августин… Воистину, до тех пор не познает сердце наше покоя, пока не упокоится в тебе, господи!
Двойная победа
Длинной и утомительной была обычно дорога от церкви святой Агаты до великолепной инсулы, которую поднесли еще Бонифацию в дар три набожные вдовы из знатного рода Наулинов вскоре после прибытия его из Африки, желая таким образом почтить его ревностность в вере. Но в этот день Пелагия, следуя в лектике, которую несли четыре привезенных ею из родных краев нумидийца, казалось, вовсе не замечала расстояния — настолько ее поглотили размышления над тем, что она видела и слышала в церкви. У священника, который совершал заключительное благословение во имя подобосущного отцу Христа искупителя, был и вид и голос препозита из аукенлариев. Но диакон!.. Разве не был он похож на архангела Рафаила, каким она видела его на диптихах?! Он тоже был гот — но так мало в нем было всего, что в ее понятии неразрывно связывалось с типом гота! Скорее уж по виду — если бы не эти голубые глаза и золотистые волосы — один из тех греческих или египетских священников и монахов, которыми закишела последнее время Италия и которые проповедуют новое и непонятное для Пелагии учение, что дева Мария была матерью не только Христа-человека, но и матерью бога… Но что особенно затронуло в тот день ум и душу Пелагии, так это с детства любимая евангельская притча о сеятеле, которую она сегодня услышала впервые на готском языке. Как же молодой диакон не походил ни в чем ни на Сигизвульта, ни на одного из его солдат. И в падающих с амвона словах евангелия, переведенного на готский епископом Ульфилом, — непонятных и все же полных какого-то дивного очарования — ничто не напоминало Пелагии тех готских приказов и окриков, к которым привыкло ее ухо за время осады Гиппона. Она чувствовала себя счастливой и гордой, что именно ее вера — ненавидимое и поносимое здесь, в Италии, учение Ария — провозглашает слово божье не только на языке римлян, но и языком варваров… «Совсем как апостолы, что сразу говорили на разных языках!» — думала она в восторге, не подозревая, что через минуту ее ждет новая радость, уже иного рода, хотя проистекающая из того же самого источника.
Когда лектика свернет с Аргилета на улицу Патрициус, взгляд Пелагии заметит большую мраморную плиту с золотой надписью. Тихий хлопок в ладони — и тут же замрут черные нумидийцы. Ее маленькие руки с дрожью раздергивают укрывающие лектику завесы: святая Агата, неужели действительно возможно такое счастье?! Пелагия не верит собственным глазам… Она читает надпись десять… пятнадцать… двадцать раз… А когда велит отправляться дальше, то на каждом углу, на каждом перекрестке, под каждым портиком вновь будет звучать повелительный хлопок: стойте! Потому что до самого дома с каждого перекрестка, из-под каждого портика бьет в глаза одна радостная весть-весть, гласящая, что на близящийся новый год — десятый год счастливого царствования великого Валентиниана Августа — консулом Западной империи будет провозглашен сиятельный Флавий Ардабур Аспар… Аспар — человек ее веры… пожалуй, первый со времен Констанция Второго консул-арианин! Чувство беспредельного счастья и гордости наполнило душу Пелагии.
С тех пор как она стала вдовой, еще больше возросли ее набожность и ревностность в делах веры. Хотя она искренне оплакивала Бонифация и упрекала себя в том, что лишь после смерти оценила все величие и благородство его души, но ведь не могла же она, особенно в период возросшей набожности, не изведать чувства какого-то облегчения при мысли о том, что наконец-то борьба закончилась и уже никто не возмутит спокойствия ее духа, никто не воспрепятствует ей в самом важном деле: в воспитании дочери по учению Ария. Жила она замкнуто, в полном уединении, необычайно скромно, несмотря на то, что считалась одной из самых богатых женщин империи и действительно была ею. Но вторжение Гензериха в Африку лишило ее всякой связи со своими владениями; а то, что имелось у нее в Италии, хотя все еще делало ее предметом всеобщей зависти, никак не являлось тем, что — по словам умирающего Бонифация — было необходимым спасающему римский мир Аэцию…
Об этом своем женихе — как она иногда с грустной улыбкой называла его в разговорах с самой собой — она думала удивительно мало, а последнее время почти не думала. Не знала, где он, что с ним. Наверное, нет уже в живых. В тот день, когда Аспар будет провозглашен консулом, исполнится год и четыре месяца с той поры, когда она имела последнюю весть об Аэции. Он бежал за Адриатику на маленькой старой галере… бурной, ужасной ночью… И может быть, как раз тогда и погиб?! Бежал, не отвоевав Бонифациева наследия, всеми покинутый, побежденный, чуть ли не обезумевший от стыда и отчаянья… преследуемый, как самый дикий, опасный зверь! Ненависть к Аэцию оказалась в Плацидии сильнее, чем дружба к умершему комесу Африки. Она преступила последнюю волю Бонифация. Того, кого он нарек своим преемником, она объявила врагом империи и римского мира… Конфисковала его имущество… Требовала его головы и публичного позора. Сигизвульт и на сей раз сохранил ей верность: италийские войска не устремились в бой для защиты последней воли Бонифация. Астурия же от этих дел отделяло море, Пиренеи, Альпы и яростные битвы со свевами. Дабы почтить мертвого друга, Плацидия нарекла патрицием его молодого зятя: она заранее была уверена, что Себастьян будет только слепым ее орудием… Дождалась наконец-то чаемой минуты: она действительно самовластная и единственная! Друзей и сторонников Аэция она лишила чести, должностей, влияния; honesta missio[59] коснулась и — спустя неполных два года его службы — префекта претория Флавиана. В сенате она умышленно при каждом случае подчеркивала вопросы религии, стремясь таким образом противопоставить христианские роды дружественным Аэцию Симмахам и Вириям. Басса, несмотря на большой вес, который он имел, она отстранила от дел, зато всячески поддерживала Петрония Максима, именовав его консулом сразу же после Аэция. Консульство Аэция шло единственной уступкой, которую она сделала его сторонникам и всем требующим исполнения последней воли Бонифация: имени преследуемого бунтовщика не вычеркнули из списка консуляров, а бюсты с широким, грубым лицом украшали все общественные места еще и тогда, когда о том, кого они представляли, уже пропал всякий слух.
«Вот и не сбудется воля Бонифация… не будет Аэций мужем самой богатой землевладелицы Африки… не будет и salus rei publicae Occidentalis», — твердила про себя Пелагия, когда еще, бывало, обращалась мыслями к последним минутам умирающего мужа и к клятве, которую она ему дала. Ведь она же поклялась. И действительно, если бы Аэций вернулся и напомнил о своем праве, она, пожалуй, согласилась бы стать его женой. Но предпочитала, чтобы он не возвращался, а то вновь началась бы борьба из-за детей, которые появились бы, из-за их крещения и воспитания…
Только так она о нем и думала. А если иначе, то, пожалуй что, с сочувствием, которое выражают малоизвестным людям — тем, что умерли, не изведав радости и счастья, за которое всю жизнь боролись. Закончились res gestae[60] Аэция, причем закончились куда лучше и благополучней, чем могли бы закончиться. Разве мало таких людей, о которых напишут хронисты: «Скончался во время своего консульства»?!
Когда лектика, несущая Пелагию из церкви святой Агаты, остановилась наконец перед действительно красивейшей в городе инсулой, майордом, который давно уже с нетерпением ожидал возвращения своей госпожи, торопливо подошел к ней и, согнувшись в низком поклоне, сказал:
— Какой-то благородный муж вот уже час ожидает тебя в атриуме, о достойнейшая! Совершенно не известный никому из домашних…
Удивленная, она поспешила в атриум, предшествуемая майордомом и двумя арианскими диакониссами, которые постоянно жили в ее доме и без которых она никогда не показывалась гостям. На ходу она тщетно пыталась угадать, кого через минуту увидит. Может быть, кто-нибудь из Африки? А может?.. Сердце резко заколотилось, и лицо побледнело от волнения: может быть, это сам святой епископ Максимин, до которого, наверное, уже дошла весть о ее ревностном почитании своей веры и который прибыл, чтобы лично дать ей благословение… Даже ноги подогнулись — воистину, неужели она могла ожидать чего-то большего?!
Благородный муж, однако, оказался, к великому удивлению Пелагии, абсолютно незнакомым юнцом, который — как только она появилась в двери — быстро вскочил с каменной скамьи и отвесил поклон, почтительный, но лишенный всякой униженности. Как бы то ни было, фигура у него действительно гордая и почти благородная, кроме того, он был вовсе даже недурен — с первого взгляда показался было Пелагии смешным: было в нем что-то от того, что в подрастающих юнцах страшно смешит их ровесниц. Но прежде чем она успела осознать, что бы это могло быть, она услышала голос, также очень молодой:
— Я приношу тебе, достойнейшая госпожа, привет от сиятельного Флавия Аэция…
Ошеломление… как будто от близкого удара молнии… и тут же возвращение в сознание… Первая мысль: «Отослать майордома и диаконисс…» Но юнец, как будто читая в ее душе, дружелюбно улыбается и словно с благодарностью нарочито громко говорит:
— Весь Рим не сегодня-завтра узнает о скором возвращении прославленного мужа… Но волей Аэция было, чтобы первой узнала об этом его невеста…
Диакониссы смотрят на Пелагию с тревогой и обидой. Значит, она не пополнит сонм святых вдовиц! Вот теперь по-настоящему подгибаются колени и бледность покрывает все лицо. Она опускается на каменную скамью, куда более взволнованная, чем при мысли встретить в атриуме епископа Максимина.
— Значит, он жив? — спрашивает она дрожащим голосом, и не известно, то ли это радость, то ли досадливое удивление, а быть может, разочарование и сожаление заставляют ее голос дрожать.
— Жив, достойнейшая, и, как я уже сказал, скоро возвращается в Рим…
Она внимательно посмотрела на него. В сердце ее вдруг стало закрадываться недоверие. А может быть, это какой-нибудь тайный агент Плацидии, нарочно подосланный, чтобы выведать, не знает ли Пелагия что-нибудь о своем женихе?..
— Кто ты, благородный господин? — спросила она строгим, пытливым голосом.
— Имя мое Марцеллин.
Это ей ничего не говорило. И то — как после этого она узнала, — что он из Далмации, тоже.
— Ты видел Аэция?
Он рассмеялся, как будто угадав причину ее недоверия.
— Пятнадцать месяцев исполнилось в последние иды, — воскликнул он, — как в бурную ночь одинокий путник постучал в дверь моего дома. Я узнал его сразу. А он, угадав это, сказал: «Я не знаю твоего имени, но отныне оно уже принадлежит историографам, что бы ты со мной ни сделал». Всю весну я скрывал его у себя, и не только ищейки и гончие Плацидии, которыми кишели Далмация и Адриатика, но даже ты не знала, где Аэций…
— Ты сказал: всю весну. Но ведь прошла вторая весна и лето, и осень уже кончается… Откуда ты знаешь, что сейчас, когда мы тут стоим, Аэций еще жив… что он был жив год назад?..
— Я видел его в сентябрьские иды и могу сказать точно, где — у границ Паннонии… в городе Бриганцие… Он велел приветствовать тебя и сказать, что ты скоро увидишь его в Риме…
Тут в свою очередь рассмеялась Пелагия.
— Я с радостью встречу его, как пристало его невесте. Но так же ли радостно встретят его Италия, город, сенат и прежде всего Плацидия?..
— Уверяю тебя, достойнейшая, что встретят его как патриция так же радостно, как восемь лет назад встречали его как начальника дворцовой гвардии… Ведь Аэций возвращается не один… его сопровождают тысячи гуннских воинов… Как только кончилась та первая весна, сиятельный изгнанник простился со мной и отправился к своему старому другу, королю Ругиле… А то, что владыка гуннов не оказался Эолом…
— Что это еще за Эол? — удивленно прервала она.
— Эол? — он столь же удивленно взглянул на нее. — Это бог ветров, который Улиссу…
— Бог ветров?! — воскликнула с величайшим возмущением Пелагия. — Ты веришь в какого-то бога ветров, благородный Марцеллин?..
— Я верю и в других богов, достойнейшая… во всех богов, сильных, мудрых и прекрасных… Вот и теперь, если бы я уже не осушил до дна кубок с массикским вином, которым угостил меня твой майордом, я бы с радостью стряхнул несколько капель в честь богини Венеры, дабы отвратить ее гнев и зависть… А она не может не испытывать их, видя ту, что как само счастье взойдет на ложе великого мужа, который изволит звать меня своим сыном…
Она гневно нахмурила брови.
— Ты издеваешься надо мной или лжешь, юноша. Я не верю, чтобы сиятельный Аэций звал своим сыном язычника, почитателя мерзких идолов и распутных богинь…
Марцеллин пожал плечами.
— Сиятельный Аэций, — ответил он все с такой же улыбкой, — слишком много видел в своей жизни стран, народов, храмов и алтарей, чтобы не понимать, что на самом-то деле существует почти столько же богов, сколько людских сердец…
Да, теперь Пелагии все ясно. Она уже знает, почему на первый взгляд Марцеллин показался ей забавным. Как же это получилось, что она только сейчас поняла, в чем дело, хотя давно уже разглядывала его?! У этого юнца была борода, редкая, смешная, удивительно не идущая к его лицу, но необычайно выхоленная и вместе с тем как-то нарочно запущенная и умышленно небрежная… Такую же бороду Пелагия видела у одного из Аврелиев Симмахов — Бонифаций сказал ей тогда, что таким образом язычники почитают память императора Юлиана, гнусного отступника… Но Симмах-то был взрослый человек! А этот просто смешон. На него даже обижаться трудно. Как и на то, что он говорит…
— А если даже, как ты изволишь полагать, Аэций верит в единого бога — в бога христиан, то, право же, эта его вера ничуть не мешает ему любить и ценить тех своих друзей и близких, которые верят иначе, — заканчивает свою мысль Марцеллин и тут же добавляет уже совсем иным тоном: — Ну, я должен с тобой проститься, достойнейшая. Мне еще надо сегодня передать привет от Аэция сиятельному Геркулану Бассу.
Остаток дня Пелагия провела как в горячке. Она не могла читать божественных книг, совсем не говорила с дочерью об истинной вере, не показалась на глаза ни майордому, ни диакониссам. Она страшно волновалась, но при этом совершенно спокойно обдумала, что ей надо делать. Она еще не верит, что Аэций вернется, но если вернется, то последняя воля Бонифация исполнится. И вот что удивительно: когда она думает об этом, то испытывает даже какое-то удовлетворение, источника которого никак не может доискаться в своих мыслях. Только ночью, неожиданно очнувшись от неглубокого сна, она, как только подумала об этом, сразу поняла, что ее обрадовало. Аэций наверняка добрый христианин, может быть, действительно его вера не мешает ему любить и ценить тех, кто верит иначе, как говорил Марцеллин. Когда она снова засыпала, на лице ее играла радостная улыбка: если Аэций дружит с язычниками, то наверняка не будет с неприязнью смотреть на инаковерующую жену. А ведь это самое важное.
— …У одного были серебряные кружки на лорике, у другого — медные… Я понял: препозит и центурион… И не из ауксилариев, а из школы телохранителей… Препозит вырвал из рук центуриона мизерикордию и выкрикнул: «Если ты не боишься Христа, то подумай… подумай, глупец, ведь Аэций еще вернется!»
Голос Басса дрожал от волнения, будто он сам был этим препозитом, который, предсказывая Аэциево возвращение, спасал товарища от самоубийственной смерти.
— Я видел своими глазами! Слышал так хорошо, как минуту назад все мы слышали мудрейшие слова сиятельного Вирия Никомаха! Право же, это был глас народа, отцы! Глас народа — глас божий… Сиятельные мужи, блистательные мужи, славные мужи! А что самое главное, — на устах говорящего заиграла веселая и несколько ироничная улыбка, — это был голос вооруженного народа, сенаторы! Спросите кого-нибудь из них: кто самый прославленный человек в империи?.. Каждый ответит без колебания: Аэций. Кто вел нас за добычей и победой? Аэций. Кто единственно достоин командовать вами так, чтобы вы его почитали, боялись и любили? Аэций.
Он замолчал, чтобы отереть стекающий ручьями пот; этой паузой воспользуется первый консул Петроний Максим, быстро взбежит на ораторское место и воскликнет:
— Аэций, Аэций, все только Аэций! Действительно, он достоин, чтобы мы только о нем и говорили! Кто же еще несет на себе столько преступлении и грехов против императорского трона и закона?! Аэций. Кто коварно убил славного Феликса, чтобы посягнуть на осиротевший патрициат? Аэций. Кто попрал закон и волю великой Августы Плацидии, отказавшись повиноваться законно провозглашенному патрицию? Кто развязал трижды пагубную междоусобную войну, в которой была одна лишь польза, что выявила никчемность и смехотворность требований бунтовщика? Кто? Действительно, никто, только Аэций. А кто стоит сейчас у границ Италии, угрожая стране и Риму огнем и мечом? Кто против своей страны бросает дикость и мощь многих тысяч варваров? Я сказал: Аэций.
Не успел он закончить, как между всеми креслами и на всех скамьях поднялась дикая сумятица. Как стая белых голубей, затрепыхался вдруг весь сенат крылами белых курульных тог.
— Recte dicis, Herculane[61] — кричали Бассы, Валерии, Симмахи и Вирии.
— Recte, Maxime![62] — сотрясали воздух Паулины, Гракхи и многочисленные Апиции.
— Аэций! Аэций! Хотим Аэция! — все громче, все настойчивее и смелее кричали первые.
— Не хотим! Это Тарквиний! Катилина! Кориолан! Врагов Рима на помощь себе призывает… угрожает вражеской силой!.. Изменник! Кориолан! Кориолан! Кориолан! — подавляли выклики первых гулом своих голосов сторонники Максима, который, чувствуя за собой численное преимущество, обратил торжествующее лицо к сидящему на возвышении патрицию империи и величественно, хотя и несколько хриплым голосом сказал:
— Благоволи донести великой Августе, сиятельный Себастьян, что сенат города — так же, как и ее величество — понимает и сознает: как и несколько веков назад, так и ныне, нет в Риме места Кориоланам…
— Как жаль, что у сиятельного консула такая малопривлекательная внешность, — послышался чей-то голос с задних скамей. — Он не сможет заменить нам ни Ветурии, ни Волумнии[63]…
Весь огромный зал затрясся от единого взрыва смеха и бури рукоплесканий. Петроний Максим побледнел, но, прежде чем он успел что-то сказать, Геркулан Басс снова потребовал голоса.
— Не время теперь для шуток и смеха, славные мужи, — сказал он серьезно, почти строго. — Италии и Риму грозит опасность в десять раз большая, чем во время недоброй памяти нашествия Алариха. Сто тысяч гуннов под началом короля Ругилы ждут только знака…
— Который ему должен дать обожаемый сиятельным Бассом Аэций, — прервал его Себастьян. — Поистине зрелище, достойное историографов! Когда находящийся вне закона изгнанник угрожает нашествием диких орд, славные отцы города рассуждают, стоит ли…
Неожиданно он весь побагровел от гнева, на лбу и на сжатых кулаках набрякли жилы, молодое его лицо сразу постарело на десятки лет.
— Нечего вам рассуждать! — гаркнул он на весь зал. — Вы не власть… вы слуги величества, и, когда величество захочет, вы все пойдете в первой шеренге ауксилариев бороться с гуннами Аэция!.. Копать рвы!.. Кормить собой стервятников!..
Петроний Максим с бешенством и отчаяньем кусал губы. Каждое слово Себастьяна — это удар по антиаэциеву лагерю. То же самое с радостью подумал Басс и, окинув взглядом притихший от величайшего возмущения зал, заговорил:
— Дурную услугу оказываешь ты великой Плацидии и императорскому трону, сиятельный патриций! Вот тут перед тобою восемь сотен представителей самых знатных родов Рима. Взгляни на них: каждый из них думает по-своему, но все чувствуют одинаково — мы не в Персии… не в далекой стране синов… Мы никому не принадлежим, а если так именуемся, то для того единственно, чтобы почтить величие… чье? Величие вечного Рима, воплощенное в особе первого римского гражданина — императора… Вот так, сиятельный, первый среди свободных граждан, которыми он правит…
Он кинул многозначительный взгляд на четыре ряда скамей, заполненных одними Бассами — Леканиями и Геркуланами. Те как один воскликнули:
— Закон!
Теперь рукоплескали не только сторонники Аэция, но и Гракхи, Паулины, Крассы, Корнелии и большая часть Анициев. А Геркулан Басс продолжал:
— Хорошо сказали вы, славные мужи: «Закон». Тот закон, который запрещает кормить сенаторами стервятников, но который требует, чтобы в минуты грозящей границам Италии опасности главнокомандующий, патриций находился в армии, а не в стенах города…
Последнее слово утонуло в новом гуле и буре рукоплесканий. Патриций, смертельно бледный, пронзил Басса ненавидящим взглядом, потом окинул глазами весь зал, точно желая запомнить лица кричащих, и наконец сказал:
— Никакой опасности нет, Аэций сидит в Бриганцие вот уже несколько месяцев и, если бы мог, давно бы уже угрожал нам гуннами. А не только сейчас, когда вам это выгодно, славные мужи… А закон, о котором вы говорите… сиятельный Басс, ты сам не веришь в то, что говоришь! Разве ты не сказал минуту назад: глас вооруженного народа — вот глас божий! Это не глас играющих в кости центурионов и пьяных препозитов, сиятельный муж. Глас полководцев, за которыми стоят ауксиларии, доместики, палатинские легионы…
И снова разразились громкие рукоплескания. Противники Аэция снова получили преимущество, вновь перетянув на свою сторону Крассов, Корнелиев и Гракхов. На минуту зал замер, но вот тишину прервал, требуя голоса, прославленный и могущественный Фауст Ацилий Глабрион. Он хотел прочитать сенаторам какое-то письмо.
— «Флавий Сигизвульт приветствует сиятельпого Ацилия Фауста, — зазвучал его спокойный, ровный голос. — Ты спрашиваешь, сиятельный муж, действительно ли грозит какая-нибудь опасность Италии и можем ли мы полагаться на возглавляемые мною войска. Я пишу «мною», поскольку сиятельный патриций еще не прибыл в Равенну, хотя опасность так страшна, что даже та, восемь лет назад, когда Аэций так же, как ныне, вел за собой сонмы гуннов, не может с нею равняться. Ведь сам король Ругила возглавляет сто тысяч язычников, Ругила, только что вернувшийся с войны, которую год вел в Мезии с полководцами Восточной империи…»
— Вот ответ на то, что ты изволил говорить минуту назад, сиятельный патриций, — обратился к Себастьяну с торжествующей улыбкой Басс. — Вот почему Аэций и выступил только сейчас…
— «А что касается войска, — читал дальше Фауст, — то, может быть, и удалось бы противостоять гуннам лучше, чем восемь лет назад, но… — Фауст оборвал на минуту, выждал, когда лихорадочное напряжение зала достигнет предела, и вдруг бросил в мертвую тишину: —…но войско не хочет сражаться против Аэция, который ныне вчетверо сильнее, чем тогда, после казни Иоанна!.. А все потому, что за ним следует в два раза больше гуннов, чем тогда… что ведет их сам король… и, наконец, потому, что тогда шел на Италию никому не известный друг узурпатора, а ныне идет полководец, под началом которого сражался и побеждал почти каждый из моих солдат, каждый видел его в бою и почти каждый слышал от него дружеское слово, добрую улыбку или награду… Когда я разговариваю с солдатами, каждый — от комеса до последнего велита — убежден, что с Аэцием произошла величайшая несправедливость, и, право же, очень неразумно, сиятельный, поступают те советники великой Плацидии, которые стремятся заключить союз с королем Теодорихом против гуннов и Аэция… Я сам гот, но знаю, что солдаты, которые под командованием Аэция дважды разбили готов под Арелатом…»
— Вот истинный глас вооруженного народа! — воскликнул вдруг Секст Петроний Проб. — Надо ли еще что добавить к этому, славные мужи?..
— Да, нужно добавить, — сказал Геркулан Басс. — Послушайте последние слова письма славного Сигизвульта.
Себастьян вскочил с места.
— Это заговор!.. Измена!.. — крикнул он. — Басс заранее знает, что будет читать Глабрион Фауст.
Но никто не обращал на него внимания. Сенаторы дружно повскакивали с кресел и скамей, теснясь к оратору, чтобы лучше слышать.
— «Я удивляюсь, что сиятельный Петроний Максим не показал тебе, славный муж, письмо, которое я ему послал в самые календы. Но полагаю, однако, что он обязательно сделает это, когда узнает, что Аэций, который ни к чему так не стремится, как действовать совместно с сенатом, сказал: «Я не понимаю этого сотрудничества без активного участия сиятельного Максима…»»
Десять долгих, полных событий и переживаний лет не сделали бы молодого Себастьяна таким зрелым мужем, каким он стал за эти несколько минут, слушая, заслонив лицо тогой, совершенно не владеющего голосом Петрония Максима:
— Вот это письмо… вот оно… «Флавий Сигизвульт приветствует сиятельного Петрония. Мы вместе были у одра умирающего Бонифация. И тогда ты впервые увидел, как плачет Сигизвульт. Почему я плакал? Спроси об этом Августу Плацидию. Она сказала мне как-то: «Сигизвульт, верный слуга, ты хотел бы быть главнокомандующим войск Западной империи?» — «Пока что нет, о великая!» Удивление выразилось на ее священном облике. «Почему нет, Сигизвульт?» Я ответил то же, что ответил бы богу, если бы тот призвал меня в лоно свое: «Пока что нет, боже, я еще никогда не воевал под началом Аэция»».
Читая это письмо, написанное по желанию Сигизвульта поэтом Меробаудом, Максим то бледнел, то краснел: о, как же должен торжествовать Басс… как злорадствуют теперь все враги Петрониев… Но он уже действительно не мог владеть собой. Иметь дело с Аэцием?! Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то можно сбросить маску… можно стать самим собой!..
Замолк в нем внутренний голос, напоминающий о жестоко и подло убитом Феликсе… и память забыла о том, что Аэций жег в Паннонии церкви… Да и не он один находился в таком состоянии духа: обезумел весь сенат. Теперь никто уже не кричал: «Катилина! Кориолан!..» Только Глабрион Фауст, который больше всех способствовал перемене настроения, воскликнул с какой-то грустью:
— И опять все точно так же, как тогда, когда Аэций стал начальником дворцовой гвардии…
— Все иначе… все иначе! — торжествующе откликнулся Басс. — Разве тогда кто-нибудь спрашивал сенат о согласии?!
Эти слова довели до предела радость сиятельных, достославных и достосветлых мужей. Забытый всеми патриций беззвучно плакал под тогой, привалясь разболевшимся юношеским лбом к золотому двуглавому орлу, украшающему поручень патрициевого кресла. Вот он раздвинул складки тоги, и большая, тяжелая слеза упала на орлиную голову, которая смотрела на запад.
Слеза быстро высохнет и не оставит следа на отлитой из золота голове орла, которую через шесть недель схватит ораторским жестом рука патриция империи. Широкая, унизанная кольцами рука. Не восемьсот, а тысяча восемьсот толпящихся в ужасной тесноте сенаторов поймут этот жест как олицетворение варваров, окружающих Западную империю… тех варваров, от которых освободит империю новый патриций. При слове «освободит» рука его несколько разжимается, но орлиная голова, если бы она могла чувствовать, видеть и понимать, наверняка дала бы знать, что не варвары, а эта широкая, унизанная кольцами рука сдавила ей горло. Новый патриций с высоты великолепного кресла бросает в тесно сбившеся головы и сердца сильные, властные, звучные слова, и на каждое из них зал отвечает невольным воплем:
— Ave, vir gloriosissime! Ave, ave… ave!..
Его уже подхватывают на руки — сенаторы, солдаты, горожане. Кто вернул былое значение сенату? Кто поведет к новым победам?.. Кто добился, что король гуннов не обрушится теперь на Италию и ее города? Рядом с ним несут на руках Сигизвульта, Басса, Петрония Максима. Людской поток течет от Римского форума через Аргилет и улицу Патрициус и наконец останавливается перед великолепной инсулой. Просунув одну руку под локоть Сигизвульта, другую — под локоть Петрония Максима, патриций идет через пустой перистиль, фауцес, атрий, а когда становится на пороге триклиния, улыбается и говорит:
— Флавий Аэций приветствует свою невесту. Ты помнишь, что ты пообещала благороднейшему из мужей в годину его смерти, Пелагия?
И она ответила:
— Никогда не забывала. Где ты, Кай, там и я, Кайя.
— Тут так темно, как в цирковом сарае! Я даже не знаю, где ты находишься… Двести палок получит завтра старший над слугами… такое чудовищное нерадение! А может быть, это святые диакониссы? Интересно: если бы одну из них кто-то захотел взять к себе в постель, она бы тоже погасила светильники в спальне?
Стоящая уже за порогом Пелагия тихо вздохнула. Нет, напрасны ее надежды! Бросаемые в темноту слова дышат таким раздражением и таким безграничным удивлением, что ей уже не стоит обольщаться, будто бы цитатами из посланий Павла можно изменить ход вещей! А она уже хотела принести такую великую жертву: хотела сослаться не только на слова патриарха Аттика, которого, впрочем, считала еретиком, но и на все, что говорил и писал о супружеской жизни, девичестве и вдовстве ее великий враг — епископ гиппонский Августин! Но теперь она знает, что все напрасно, поэтому только говорит:
— Это я велела погасить светильники, Аэций!
— Но я же хочу видеть свою жену в постели! — голос его, так быстро становящийся гневным, все еще звучит удивленно. — Ты что, издеваешься надо мной, Пелагия?.. Что это еще за девическая чистота?! Ведь ты уже давно…
Но вдруг он прерывает сам себя и бросает с порога в непроницаемый мрак спальной комнаты вопрос, в котором столько же удивления, сколько и глубокой обиды:
— Ты что, действительно не хочешь меня видеть, Пелагия?.. Ты думаешь, что мое тело не сравнить с Бонифациевым?!.
— Но ведь я тебя еще столько раз увижу, Аэций… Ты привык к женщинам, которые исчезают с ложа к рассвету, и потому так нетерпелив…
Но он уже не слушает. Пелагия видит, что фигура его не заслоняет освещенного прямоугольника двери. Она слышит громкий топот его шагов о плиты фауция, таблинума и, наконец, атрия. Вот он уже спешит обратно. Несет в руках большой, бросающий яркий свет светильник. Он полон гнева и беспокойства. Что бы могло значить странное поведение невесты-вдовы?.. Почему она велела погасить свет? Неужели у нее ноги, как палки, или уродливо болтающиеся груди, а может, она кривобокая?.. А ведь не выглядит такой. Сейчас он ее увидит. Всего он ожидал, только не этих штучек с погашенными светильниками… И именно сейчас, когда он пуще всего желает на нее смотреть! Как все это странно… Все совсем не так… ничуть не похоже на ту брачную ночь восемнадцать лет назад!
«Да, ничуть не похоже!» — скажет он про себя еще раз, входя в кубикул и бросая сильный сноп света на фигуру спокойно раздевающейся Пелагии. Потому что, хотя светлый круг, как и тогда, восемнадцать лет назад, прежде всего захватывает две ступни, с которых только что спали красные, вышитые золотом башмаки, даже эти ступни — казалось бы, такие похожие у всех людей — ничем не напоминают Аэцию дочери Карпилия. И во всей фигуре и поведении Пелагии ничто не напоминает ему первой жены. Вдова Бонифация не очень высокая, но стройная и гибкая… цвет лица матовый, темный… глаза черные, всегда блестящие — даже когда на них падают длинные, еще более темные ресницы… Равнодушным, разве лишь несколько удивленным взглядом смотрит она на почти обнаженного Аэция: ни слова не произнесет, когда он приблизит светильник почти к самой ее груди. Обнаженными, очень темными руками вынимает она из блестящих прядей длинные золотые шпильки, а покончив с ними, начинает снимать широкую пурпурную ленту, четырехкратной диадемой охватывающую красивую, хотя и маленькую головку. Когда же волосы, словно густой клубок черных змей, быстро скользнут на плечи, грудь и спину, она ловким движением скинет с себя тяжелое, затканное золотом облачение, оставшись в одной только длинной тунике.
Ночная рубашка, которая была в брачную ночь восемнадцать лет назад на дочери Карпилия — ярко-красная, из грубой шерсти, — открывала всю грудь и ноги выше колен; туника Пелагии закрывает ее всю от шеи по самые щиколотки, но зато сшита из дорогой тончайшей ткани, какую привозит из далекой страны синов для модниц Западной империи александрийский купец Домин, — выглядит всего лишь прозрачной завесой, бледно-розовый оттенок которой причудливо сочетается с темным телом нумидийской патрицианки. Аэций уже знает, что у его жены нет ни ног, как палки, ни уродливо болтающихся грудей и она не кривобока. Он пожирает ее взглядом, таким жадным и пламенным, что Пелагия начинает испытывать беспокойство: не согрешила ли она, надев эту драгоценную тунику, которой так завидует ее падчерица?..
А Аэций испытывает чувство громадного удовлетворения: четыре месяца назад ему пошел сорок пятый год, значит, он уже далеко оставил за собой возраст, когда мужчиной, его поступками и мыслями правят всемогущие телесные желания, невольником которых, впрочем, он, Аэций, никогда не был. Но долгие месяцы, которые ему до недавней поры пришлось провести среди гуннов, заставили его тосковать по прекрасному женскому телу и лицу. Право, ни дочь Карпилия, которая услаждала в минувшие годы, ни Пелагия, которая будет услаждать его вожделения отныне, по своей женской сути почти ничем не отличаются от гуннских женщин, заполнявших ласками тоскливые ночи изгнания. Но, получая от их губ, грудей и бедер наслаждение не меньше, чем то, что таили в своих губах, грудях и бедрах первая жена и Пелагия, он считал одной помехой свет, безжалостно открывающий все невыразимое уродство женщин гуннского племени… уродство, вид которого — даже у него, так свыкшегося с этим народом! — способен был погасить и отвратить самую сильную похоть, вызывая одновременно невыносимое, мучительное влечение к женской красоте.
И вот она перед ним.
— Прошу тебя, сними с себя и эту одежду, Пелагия…
В голосе его слышатся мягкие и нежные тона, каких никогда не слышали от него ни Плацидия, ни Бонифаций, ни Басс, ни Феликс, ни Кассиодор, ни Андевот или король Ругила.
— Нет, Аэций.
И больше ни слова не произнесла она в ту ночь, хотя через несколько часов Аэций, обильно упоенный и даже пресыщенный и утомленный любовью, начал засыпать ее вопросами, которые задавал все более сонным голосом, но все еще полным искреннего интереса и удивления. Но, не получив никакого ответа, заснул, чтобы проснуться только тогда, когда солнце будет высоко в небе.
Спал он, как всегда, без всяких сновидений. А проснувшись, сразу же вспомнил все, что происходило перед самым сном, и взглянул на Пелагию. Темный цвет ее тела в солнечных лучах выигрывал еще больше. Взгляд его вновь с искренней радостью, хотя уже и без жажды обладания, принялся блуждать по всей ее фигуре. С огромным удивлением он заметил, что слишком быстро, слишком высоко — для утреннего сна — колыхалась темная грудь, почти не тронутая временем: пять лет супружества и материнства… Удивленный еще больше, взгляд Аэция скользнул наконец на лицо, на губы… на щеки… на широко открытые глаза… Она не спала! Во взгляде ее он прочитал столько удивительного и непонятного, что тут же наклонился над нею, почти касаясь лицом широко раскрытых над стиснутыми зубами губ… И вдруг эти губы впились в него… Темные, гибкие руки мгновенно обвились вокруг шеи сильным змеиным объятием… так хорошо знакомое лицо изменилось до неузнаваемости, преображенное желанием столь безумным, что сорокапятилетний Аэций не мог удержаться, чтобы не отпрянуть инстинктивным движением подростка и не спросить дрожащим шепотом:
— Что с тобой?..
Огромные глаза смотрели на него с диким обожанием, как будто не понимая, о чем он говорит.
— Я не знала… не знала, что любовь — это такое счастье… — услышал он наконец после долгой-долгой минуты.
Он вздрогнул всем телом.
— Но ведь ты же вдова! — воскликнул он с величайшим изумлением.
В ближайшие сентябрьские ноны восемь лет исполнится с того вечера, когда в карфагенском доме Пелагиев состоялось сочетание последней наследницы рода с могущественным комесом Африки. На море в это время ревела буря: проконсул Георгий, который опоздал на свадебное пиршество, доставил печальное известие, что близ Котонского порта затонула небольшая хлебная галера и восемнадцать рыбацких лодок. Сильный ветер, идущий с севера, с острова Мегалии, правда, не доходил до самой Бирсы, на крутом берегу которой возвышался дом Пелагиев, — силу его напора сдерживали высокие стены акведука, но проведенная в спальную комнату невеста ясно слышала глухое, жалобное стенание ветра, как нельзя лучше отвечающее ее тогдашнему настроению. Потому что хотя Бонифаций и очень понравился ей — красивый и такой учтивый и мягкий во всем своем поведении, — ее то и дело распирала гордость, что она будет самой знатной матроной Африки (проконсул Георгий не был женат), но, переступая порог кубикула, где ее уже ожидало широкое, застланное мягкими тканями ложе, она испытывала такое чувство, словно переступает адские ворота, которые с гулом и лязгом захлопнутся, навсегда отрезав ее глухой, непроницаемой стеной от всего, чем она до сих пор жила: от молитв и святых обрядов… от надежды на спасение… от самого бога… Ей казалось, что сжирающий ее внутренний огонь… огонь стыда и страха — это уже предвестие вечного огня, который будет сжигать ее всегда… всегда… бесконечно!.. и никогда не сожжет… Стенание ветра время от времени переходило в свист, и тогда Пелагия была уверена, что слышит смех самого сатаны… Она часто соприкасалась с донатистами и их суровым учением, чтобы поддаться уверениям, будто то, что перед полуднем еще было страшнейшим грехом — ужасающим оскорблением господа, теперь является уже чем-то совершенно невинным и обязательным, и даже, наоборот, грехом отныне будет непослушание и всякое сопротивление, которое она будет оказывать воле супруга, препятствуя ему удовлетворить — когда бы он ни захотел — его желание. О том, что произойдет через минуту, Пелагия имела весьма смутное представление: необходимость продолжения человеческого рода, стыд, боль, страх, какое-то грешное, нечистое удовольствие и одновременно отвращение и брезгливость — все это мешалось в ее мыслях и чувствах, в предчувствии и сознании в какую-то пугающую сатанинскую оргию, неизвестно почему освященную семейным празднеством, торжественностью обрядов и благословением священнослужителя. Одно она знала наверняка: невинность, которая делала ее близкой Христу, ангелам и небу, покинет ее навсегда… уйдет безвозвратно, а вместе с чистотой тела будет мерзостно поругана и чистота ее души… Когда прислужницы приблизились к ней, чтобы снять с нее облачение и приготовить к приходу жениха, в глазах Пелагии появился такой страх и такая мука, что старшая сестра ее отца, которая заменяла в тот день покойную мать, хоть и сама вдова, очень строгая и стыдливая, не в силах больше выносить ее муки, быстро подошла к племяннице и, изобразив веселую, почти ветреную улыбку, шепнула ей на ухо:
— Радуйся! Честью своей клянусь, что ждет тебя сегодня величайшее наслаждение, какое на этом свете может познать женщина…
— Ты очень добрая, настоящая мать. Ты так хотела меня вчера успокоить и утешить! — сказала ей назавтра в полдень Пелагия, с почтением и благодарностью целуя старческую, сморщенную руку.
Старая женщина с удивлением взглянула на ее улыбающееся лицо, когда же племянница присела у ее ног на маленькую скамеечку и стала искренне, свободно рассказывать обо всем, что она пережила в эту ночь, удивление тетки перешло все границы. Не было никакого наслаждения, даже малейшего удовольствия, но не испытала она и боли, отвращения или чувства поругания или униженности — только усталость, а потом почти скуку… И теперь она ничего не понимает! Так где же таится это пресловутое грешное, сатанинское наслаждение?.. Где находится та ужасная граница между невинностью и падением?.. Чего же тогда велели ей бояться и чего с ранних лет учили стыдиться? Ей кажется, что она могла бы совсем голой выйти на улицу; она действительно не может понять, где в этой наготе и в акте созидания новых людей таится грязь и грех?! На все, чего от нее муж домогался, она соглашалась, без охоты, но и без неохоты. Одного только она не понимает: почему время от времени лицо Бонифация бледнело, а глаза заволакивались странным туманом?!
Старая женщина, которая сначала, пораженная и огорченная, затыкала пальцами уши, слушала потом с напряженным вниманием и не только уже с удивлением, но и с восхищением, и с завистью. Насколько иными были ее собственные воспоминания о замужестве!.. Воспоминания, которых она так стыдилась сама перед собой и за которые до последнего дыхания будет расплачиваться перед богом строжайшей епитимьей и покаянием!
— Дочь моя, — сказала она, торжественно поднимаясь со своего места, когда Пелагия закончила наконец исповедь, — радуйся и благодари царя небесного… Даровал он тебе, дорогое дитя, такую огромную силу, столь редкую, что позавидовали бы тебе, если бы знали о том, многие тысячи женщин… Смотри, умно и согласно воле божьей пользуйся дарованной тебе властью от бога над могущественным Бонифацием… власть, ту самую, которой некогда наделил борющийся с господом ад Еву, Далилу, Иезавель…
Долго беседовала в тот день Пелагия с сестрой своего отца; а когда наконец прошла в свои комнаты молодая жена комеса Африки, то нарочно выбрала самую длинную дорогу в триклиний, где ждал ее муж: немало нужно было времени, чтобы согнать с лица радостную улыбку… улыбку гордости и торжества, рожденную сознанием собственной мощи, еще несколько часов назад совершенно не сознаваемой… А старая женщина провожала ее взглядом, в котором, пожалуй, больше, чем восхищения, было теперь странной задумчивости и чуть ли не сочувствия. Хоть старая и набожная, хоть стыдливая, строгая и смиряющая дух и плоть покаянием, но все-таки была она женщиной и, по правде говоря, не знала, поменяла ли бы она мир своих (грешных и проклятых! — как всегда она про себя называла их) воспоминаний на поистине огромное и редкое могущество, которое досталось в удел Пелагии…
Могущество это и Бонифаций и Пелагия почувствовали очень быстро. Когда между супругами произошла первая серьезная ссора, вызванная письмом Карфагенского епископа Аврелия, который в самых суровых словах осуждал тех правоверных, что женятся на еретичках, Пелагия целую октаву не показывалась мужу на глаза, а когда согласилась впустить его в свою комнату, то уже никакой речи о письме Аврелия не было. Полгода спустя, когда Бонифации, держа жену в объятиях, сказал ей с грустной улыбкой, что она должна подарить ему сына, который станет монахом и вымолит у бога прощение отцу за его небрежение в делах веры, Пелагия спокойно выскользнула из его объятий и, закутавшись в какую-то ткань, вышла из комнаты, воскликнув с гневным злорадством: «Для этого возьми себе другую жену — не еретичку!» И не вернулась ни в эту ночь, ни в следующую, несмотря на жаркие мольбы и страстные заклинания терзаемого желанием и отчаянием мужа. Это ее преимущество, вытекающее из несоответствия чувств и желаний, которые они друг в друге вызывали, не только дало ей возможность сохранить верность учению Ария, но и сделало ее хозяйкой мыслей и поступков не только Бонифация — влюбленного в нее мужа, но и Бонифация — главы дома, patris familiae, и даже Бонифация — комеса Африки! Обида же, которую она питала к Плацидии за все ее упреки, что, дескать, друг великой Августы опозорил себя женитьбой на еретичке, почти явилась причиной разрыва Бонифация с Равенной: ведь и жестокая казнь побежденного полководца Маворция в какой-то мере была вызвана его письмом, в котором тот, отправляясь против взбунтовавшегося комеса Африки, оповещал благородных африканцев, что он идет не столько за головой бунтовщика, сколько затем, чтобы в соответствии с духом писания отсечь его десницу, поелику она развращает всех, отравленная смертельным ядом ереси.
Впрочем, воля Пелагии, торжествующая над узаконенной властью мужа — patris familiae, обязана была не одному только обстоятельству, связанному с телом и вожделением. Молодая жена нередко с удивлением думала о том, что захоти Банифаций, и он мог бы противопоставить ее могуществу другие силы: он мог бы выгнать ее из дому… публично обесчестить… начать морить ее голодом… найти какие-нибудь средства, хотя бы бить, как это, говорят, нередко делают с самовольными или непокорными женами другие мужья… Ведь он же сам нередко говорил с грустной улыбкой: «Почему я не такой, как все?! Тогда бы ты узнала, что такое власть мужа… Другие так не поступают…» Но никогда не пускал в ход ничего такого, что могли бы сделать с нею другие… Никогда ничем ее прямо не обидел… В минуты самого сильного гнева или абсолютно справедливой обиды он не только не тронул ее пальцем, но даже не оскорбил никаким резким словом.
Зато он делал много других вещей, которые ее удивляли и смешили. В первую же ночь после свадьбы, прежде чем заключить ее в объятья, он положил свою голову на ее колени и так пребывал долгое время, потом опустился к самым ее ногам и с жаром принялся целовать длинные, тонкие, слегка искривленные пальцы. Читая как-то впоследствии абсолютно случайно найденную в библиотеке отца книгу языческого поэта Марциала о разных любовных особенностях, какие нередко проявляются у людей, преимущественно у мужчин, она подумала, с отвращением откинув книгу: «А может быть, это именно такая особенность Бонифация?.. Невинная и смешная…»
Но вскоре она изменила свое мнение.
В то время как посланец Плацидии, Дарий, прилагал старания, чтобы перед лицом вандальской опасности объединить войска Бонифация и Сигизвульта, вновь одаренный милостью и прежним своим титулом комес Африки опять прибыл в Карфаген, а с ним и ожидающая скорого разрешения жена. Пелагия никогда не ходила в церкви никейцев, как она их называла, или правоверных, как они называли себя сами, но тем не менее уступила мужу в исключительном случае (совершалась панихида по матери Бонифация) и согласилась сопровождать его в Фаустинскую базилику. Там-то она и увидела картину, которая глубоко взволновала ее и дала много пищи для раздумий: лежащий в прахе великий Феодосий Август, облаченный в пурпур и диадему, с почтением целовал нагие, окровавленные ноги распятого, одетого в лохмотья, в терновом венце — такого несчастного и вызывающего сожаление и безграничное сочувствие — Христа! В какой-то момент она вздрогнула от испуга: то, что она так смотрит на это изображение, — святотатство, а то, что о нем думает, — кощунство! Ведь как же она может сравнивать себя с Христом?.. Нет, нет… она совсем и не сравнивает!.. Она только понимает сейчас Бонифация и то, что означало это страстное целование ее ног, часто запачканных песком или грязью… Вон как самый могущественный из людей, сам великий император простирается к прахе и, целуя ноги Христовы, показывает свою слабость и покорность перед терновым венцом, и то же самое — такую же слабость и покорность — простирает могущественный комес Африки к стопам своей жены… Выходя из базилики, она все еще трепетала в тревоге: а может быть, мысли ее — это грех и святотатство? — и одновременно ужасно радовалась: поистине могущество ее вдвойне велико, ибо не только вытекает само из себя, но его еще умножают слабость и покорность, заключенные в душе великого сановника, полководца и солдата… Теперь он уже никогда не победит: она спокойна и уверена в себе.
С таким же спокойствием и с огромной уверенностью в себе и в своих возможностях начала она борьбу за крещение дочери. Ей даже не потребовалось прибегать к своему могуществу, которым она была обязана абсолютному отсутствию любовных желаний, теперь она знала все другие слабые места Бонифация и била и по ним. Только когда за слабым мужем, словно сильная тень, встал епископ Африки Августин, она почти на целые недели стала лишать Бонифация возможности приблизиться к ней. Тогда же в результате возросшей из-за этой борьбы за дочь набожности она решила добиться того, чтобы уже вообще никогда не сочетаться с мужем в любовном объятии. Правда, она и не чувствовала в этой связи никакого преступного наслаждения, никакой скверны или греха, но, подчиняясь основам веры и святого учения о совершенстве, хотела придать своему замужеству форму девичьей или вдовьей дружбы, очень распространенной в те времена. И только в Риме ее желание осуществилось полностью: правда, пути, которыми она к этому пришла, были совсем иными, нежели она себе представляла.
Спустя месяц после бегства Бонифация из Африки, перед объявлением его патрицием, в Риме состоялась торжественная свадьба дочери его (от первого брака) с Себастьяном. Пелагия, которая не выносила своей падчерицы, в тот свадебный вечер заменяла ей мать. Провожая ее в спальную, она с удивлением заметила, что молодая невеста — почти совсем еще ребенок, — хотя и скромно опустила длинные ресницы, но бросает из-под них лихорадочные, взволнованные взгляды, полные смущения, любопытства, нетерпения, но никак не страха и не муки… «Развратница… думает, что ее ждет наслаждение», — подумала с гневом Пелагия и почувствовала неудержимое желание испортить распущенной девочке удовольствие ожидания… рассеять ее мечты о наслаждении… Рассказать ей все, как оно есть на самом деле!.. Она уже было открыла рот, но овладела собой и сказала какой-то пустяк. «Нет, не скажу… ничего не скажу… — подумала она со скрытым злорадством. — Пусть сама разочаруется… пусть сама страдает от напрасной тоски и ожидания…»
Она не спала всю ночь, все еще со злорадством думая о падчерице, о ее разочаровании и неудовлетворенности. Около полудня Пелагия пошла ее навестить, снедаемая горячкой любопытства. Молодую жену она застала в гинекее: сидя с ногами на низкой мягкой постели, высоко подобрав колени к подбородку, она читала какую-то книгу. Пелагия посмотрела на титульный лист и онемела от удивления: это был тот самый Марциал, которого она в Тамугади с отвращением откинула от себя… Однако она дружелюбно улыбнулась и, сев рядом с распутной девочкой, устремила на лицо падчерицы выразительный, полный серьезности, материнский вопрошающий взгляд. Дочь Бонифация зарумянилась, выпустила книгу из рук и, прижавшись к плечу мачехи, стыдливо прошептала:
— Это такое наслаждение, что у меня слов нет…
Солгать она не могла: ведь она только что обратилась памятью к переживаниям минувшей ночи — и тут же ее молоденькое личико покрылось бледностью… И Пелагия почувствовала, что и сама бледнеет…
В тот день Бонифаций вернулся позднее обычного в свою инсулу, полученную в дар от трех вдов рода Паулинов. Он не лег сразу спать: не чувствовал себя усталым, хотя с раннего утра был на ногах… Прохаживался по своей спальной комнате, взволнованный и полный лихорадочных и в то же время серьезных раздумий: только что он узнал, что будет патрицием… впервые присутствовал на императорском совете… возвращался прямо из Палация… Согласился взвалить на свои плечи тяжесть власти… Да, он чувствует, что она предназначена для него, хотя и превышают милость и благородство Плацидии его заслуги. Но справится ли он?.. Он отлично сознавал, что его ждет борьба с Аэцием… А вот как раз и Аэций… lupus in fabula[64]. Прямо напротив окна на перекрестке двух уличек стоит бюст консула текущего года. Всматриваясь в широкое, грубо вытесанное лицо, Бонифаций хотя и слышит за своей спиной тихий шорох ног, но не обернется: наверное, кто-нибудь из слуг… Но вот он чувствует прикосновение к своему лицу двух нежных разгоряченных рук… Удивленно поворачивается… Боже, за что сегодня такое непомерное счастье! Он даже затрепетал весь. Перед ним стояла Пелагия. Он взглянул ей в глаза и протянул руки. Охваченный радостью, любовью, желанием и гордостью, до самого рассвета не выпускал он жены из своих рук. С рассветом она резким движением оттолкнула его и процедила сквозь зубы:
— Ступай…
С той ночи до самой смерти Бонифаций уже ни разу не мог приблизиться к Пелагии. Он и сам ее избегал, не в силах вынести странной, презрительной улыбки, которая таилась в уголках ее губ, как только она на него смотрела; Пелагия, только сейчас действительно понявшая все, еще ревностнее отдалась делам своей веры и прежде всего воспитанию дочери. Долгие месяцы вдовства не пробудили в ней никаких стремлений и желаний, кроме тех, источником которых являлась вера и учение Ария. За месяц до возвращения Аэция она настолько погрузилась в свою веру и набожность, что даже о телесных желаниях, о Бонифации и о своей падчерице думала совершенно спокойно и в полном соответствии с душевным каноном. Все больше уверялась она, что это сам наипаче возлюбивший чистоту владыка земли и неба намеренно дал ей такого мужа и так направил ее жизнь и плотские дела, чтобы в награду за ее набожность и несокрушимую твердость в вере охранить ее перед всяким соблазном. Она уже не думала, что любовное наслаждение не существует вовсе; нет, существует, но ей не дано познать этих нечистых упоений, чтобы ничем не осквернить свободной от земных страстей души.
Но она никогда не думала, что это любовное наслаждение… это нечистое упоение может быть таким, какое она познала после замужества с Аэцием. С той поры для Пелагии началась другая, новая, совсем непохожая на прежнюю жизнь… Она была вся полна любви и никогда не была сыта ею. Собственное тело показалось ей каким-то совсем другим, чем раньше… За короткое время она познала все заботы, радости и тайны, связанные со столь важным (а раньше казалось: бессмысленным) делом, как холить его, делать еще красивее, подчеркивать те его прелести, которые в первую очередь вызывают в любимом муже такой дорогой ей и столь желанный любовный трепет… Начали выпадать такие дни, которые существовали только для того, чтобы, следя за ходом проходящих часов, с наслаждением мечтать о приближающейся ночи. Терзаемая любовным голодом или, наоборот, пресыщенная, ослабленная избытком наслаждения, она все больше времени проводила абсолютно бездеятельно; при этом все больше времени отнимали у нее купания, умащения, причесывание, одевание, так что минуты, которые она могла посвятить набожным размышлениям, беседам с диакониссами, а прежде всего дочери и ее воспитанию, с каждым днем становились все короче. И ей не казалось, что она проявляет нерадивость в делах веры: ежедневно она уделяла молитве столько же времени, что и раньше… пожертвовала много денег на строительство нового арианского храма и в каждый седьмой день, в день господний, отправлялась в лектике в церковь святой Агаты. Но на самом деле она понимала, что уже не имеет права именоваться избранным сосудом святой чистоты; хотя разве мало набожных, ревностных и действительно богобоязненных матрон, что каждый год дарят своих мужей новым младенцем?! Угрызения, которые она испытывала несколько первых недель, совершенно исчезли в тот день, когда она как откровение выслушала в церкви Агаты уже хорошо ей известную, но никогда дотоле не наводившую на глубокие размышления главу о свадебном пире в Кане Галилейской. Она чувствовала себя даже более одухотворенной, чем раньше: ее верности арианскому учению и воспитанию дочери в его духе, казалось бы, ничто со стороны Аэция не грозит. Правда, в Равенне — как донес ей всегда дружески настроенный единоверец Сигизвульт — сенаторы Басс, Максим и Секст Петроний якобы предостерегли патриция, что Плацидия намеревается использовать против него новое оружие — неортодоксальность его жены, а жена комеса Кассиодора намеренно не возвращается в Рим, чтобы избегнуть необходимости появиться у еретички; но Аэций отвечал на это с улыбкой и злостью одновременно: «Оставьте меня в покое! Это женские дела! У вас нет дел поважнее?..»
Отношение его к ее арианской вере никогда не было ей приятно, но не вызывало и опасений: никогда он с нею прямо об этом не говорил, лишь посмеивался над святым для нее оборванцем Арием и наполовину серьезно грозил, что вышвырнет из дому набожных диаконисс. Так же как Бонифаций, он с издевкой вспоминал о знаменитом диспуте Максимина с Августином, но в противоположность Бонифацию как будто отнюдь не страдал от того, что его с женой разделяет непроходимая пропасть — пропасть проклятия, которому соборы предали учение оборванца Ария и его приверженцев…
Чем для нее стал Аэций — не только для тела и любовных утех, но и для всего ее существа, для всех ее мыслей и всех закоулков души — она поняла, когда он выехал на целых восемнадцать дней в Равенну. Сначала она думала, что время пролетит быстро и она сможет посвятить его дочери и проверить, строго ли в соответствии с известным письмом епископа Максимина воспитывают дочку няньки, учительницы и диакониссы. Действительно с неподдельной радостью проводила она целые дни в обществе девочки, играла с нею и приказывала носить по городу в лектике, показывая ребенку все достопримечательности Рима, а главным образом многочисленные изваяния отчима. Но длилось это не больше четырех дней… потом Пелагию охватила такая тоска, что с рассвета до сумерек бродила она по всем комнатам мрачной, унылой тенью, ночами же не могла сомкнуть глаз, плакала или в муках ворочалась с боку на бок на мягкой, жаркой постели, чаще же всего вскакивала с ложа и снова скиталась призраком при лунном свете, напрасно надеясь, что, скользя босыми ногами по холодным плитам пола, охладит сжигающий ее жар…
Но вот наконец ей сказали, что он приехал. С радостным криком вскочила она с бортика бассейна, где сидела, с трудом заставляя себя ловить золотых рыбок, к которым девочка непременно хотела прикоснуться пальчиком. Но почему же он не идет в гинекей?.. Оскорбленная и раздраженная, Пелагия решила, что не будет пытаться увидеть его, пока он сам не придет к ней. Но когда опустились сумерки, она быстрым, беспокойным и радостным шагом бросилась к таблину[65] где он сидел в одиночестве с самого прандиума[66].
Башмаки ее громко стучали по плитам, но Аэций и головы не поднял, когда она вошла в таблин. Он сидел, низко склонившись над бронзовым столиком, уткнув лицо в широкие, сверкающие от колец ладони. И только когда она робко коснулась его пальцами, он неохотно повернул мрачное, опухшее лицо.
Вопрос замер на губах Пелагии. В глазах Аэция она увидела слезы (Бонифация она никогда не видела плачущим!), нижняя губа тряслась. Почувствовав на себе ее взгляд, он тут же овладел собой; губы сжались, слезы исчезли из глаз, будто их там никогда и не было… он выпрямился и совершенно спокойным, хотя и глухим голосом ответил на ее испуганный, вопрошающий взгляд:
— Умер король Ругила… мой самый большой друг… якобы молния его убила во Фракии… Глупец этот император Феодосий (Пелагия побледнела от страха: такое кощунство!..) — пишет, что это кара божья… За что? За то что вторгся в императорские владения!.. Этим Феодосиям действительно кажется, что богу только и дела, что до их владений, до их величия! А, да что об этом с женщиной говорить!.. — И он пренебрежительно махнул рукой.
Через минуту она уже сидела у него на коленях. Гибкие руки заботливо обхватили его массивную, твердую, точно из бронзы, шею. Она старалась утешить его, как умела. Хотя о Ругиле совершенно ничего не знала, но задавала вопросы так, будто умер кто-то очень ей близкий. Когда-то она слышала от Бонифация, что это самый дикий и жестокий из всех варварских владык, предводитель скорее злых демонов, чем людей, наводящий ужас в обеих империях, — и все же с готовностью поддакивала, когда Аэций стал прославлять мудрость, монаршьи и воинские достоинства своего самого большого, как он упорно повторял, друга. Неутомимо и ни на минуту не переставая пылать любопытством, она выслушала длившийся несколько часов рассказ о жизни и деяниях Ругилы, о его братьях и племянниках, о многочисленных женах и наложницах, а прежде всего о дружбе, которой он дарил римского заложника, а потом изгнанника. Казалось, что раньше Аэций устанет говорить, чем она слушать. Наконец, когда он кончил, они вместе поужинали и пошли на ложе. Занявшийся день они встретили так же, как провели всю ночь: без сна. Но когда Аэций встал, собираясь поскорее отправиться в цирк на состязание прославленного римского зеленого квадригария со знаменитым гостем из Антиохии, облаченным в голубой цвет, — Пелагия, глядя на его невысокую, но великолепно сложенную фигуру, почувствовала сожаление, что уже утро. Она сказала ему это. Он рассмеялся и на миг задумался. Потом взглянул на жену с загадочной улыбкой, которая удивила ее, но ничуть не встревожила, и сказал:
— Я лишаюсь из-за тебя великолепнейших ристалищ. Но останусь, если ты хочешь. Только с одним условием, что и ты сегодня не пойдешь в церковь святой Агаты.
Был господний день. Но это был и первый день после почти трехнедельной разлуки с мужем. Да, но ведь уже два года такого не было, чтобы она в первый день недели не пошла в церковь! Она закрыла лицо руками и быстро кинула:
— Останусь.
Тогда Аэций голым направился к двери и на языке гуннов крикнул:
— Траустила! Пойдешь к Кассиодору и скажешь, чтобы префект города оповестил в цирке, что состязание переносится на завтра.
— Ты опять была в церкви Агаты?
Под Пелагией подкосились ноги. Дрожащими руками закрыла она глаза. Она не могла смотреть на Аэция: никогда еще не видала она этого столь дорогого ей лица до неузнаваемости искаженным гримасой страшного гнева.
— Была, спрашиваю?..
— Была, — шепнула она, удивленная и испуганная.
Он тут же успокоился.
— Хорошо, что говоришь правду. Терпеть не могу женских уверток. Избавишься от унижения: не будут за каждым твоим шагом следить платные двуногие ищейки. На этот раз я тебя прощаю. Но больше в церковь святой Агаты ты ходить не будешь.
С минуту она смотрела на него непонимающим взглядом. Но тут же гневным огнем сверкнули черные африканские глаза, судорожно сжались кулаки, темный лоб прорезали глубокие вертикальные морщинки, а в уголках рта заиграла злорадная улыбка, та самая, которая столько раз торжествовала над побежденным Бонифацием.
— Пойду! — крикнула она.
Он пожал плечами.
— Ты слышала, что я сказал? Больше ты в церковь Агаты не пойдешь.
Она топнула ногой.
— Пойду.
Лицо Аэция снова побагровело. Но Пелагия уже не боялась. Исчезла только издевательская улыбка в уголках рта, но тем гневнее сверкали глаза. Видя, что Аэций двинулся с места и идет прямо к ней, она высоко поднялась на носках и, подавшись всем телом вперед, устремила искаженное гневом и упрямством лицо в налитые бешенством глаза.
И в ту же минуту рухнула на пол со страшным криком тревоги и боли; Аэций не ограничился одним ударом тяжелой ладони прямо по лицу, нагнувшись над лежащей, он принялся бить ее по плечам… по спине… но шее…
Нанося удары, он не топал ногами, не проклинал, не кричал… А когда ударил последний раз, воскликнул уже почти спокойно и скорее с издевкой, чем с гневом, но все еще тяжело дыша:
— Я тебе не Бонифаций, Пелагия! Забудь об этих своих уловках и женских приемах, которыми ты управлялась с ним… Если я сказал нет — никогда уже не говори да, потому что тогда тебе будет куда больнее и ты будешь вопить, а не стонать… Неужели ты действительно думала, что жена патриция империи будет явно веровать в ересь и всенародно показываться в арианской церкви? Я не предостерегал, считая тебя умной женщиной, и думал, что ты сама это поймешь… Мне жаль, что приходится такими вот способами учить тебя разуму…
Она села на полу. По щекам катились слезы, но лицо все еще было искривлено скорее бешенством и упрямством, чем болью… И гневно поблескивали два ряда стиснутых ослепительно белых зубов…
— Не знала, что ты такой, — процедила она, — а должна была бы знать… Ведь король гуннов был самым большим твоим другом! Можешь меня бить, можешь истязать… убить! Я не отрекусь от своей веры…
Вдруг она, что-то вспомнив, вскочила на ноги.
— Кто это вдруг стал таким правоверным?.. Гонителем еретиков?! — воскликнула она презрительно. — Друг богомерзких язычников… короля Ругилы… Марцеллина… Литория… А разве твой сын Карпилий не растет язычником среди твоих друзей гуннов?! Что это вдруг за неожиданная ревность! Бей меня, Аэций! В ближайший же господний день я пойду в церковь Агаты…
Из глаз ее посыпались искры… она подавилась последним словом… крикнула… схватилась рукой за горящую страшной болью щеку… Как сквозь сон, услышала его слова: «Говори, что хочешь, но насчет церкви Агаты даже пикнуть не смей!..» — И все же, не переставая гневно топать ногами, кричала:
— Бонифаций меня не отвратил от святой веры… даже епископ Августин… Не отвратишь и ты!
— Бонифаций, хоть и великий человек, был рабом ложа, а Августин — святой и ученый муж, никто из них не знал, как укротить строптивую женщину… А я знаю, Пелагия…
Он ушел, оставив ее задыхающуюся не только от боли, гнева и бессильной ярости, но и от страха и отчаянья. Вот и миновали счастливые и беззаботные дни, началась борьба, стократ опаснее прежней, так как в руках у нее нет никакого оружия против врагов… Как с ними бороться?! У нее руки опускаются — так она оглушена неожиданным страшным наскоком… Да, это не Бонифаций! Целый день и ночь проплакала она, кусая в бессильной ярости покрывало… Но на утро встала полная новых сил и твердых решений, мрачная, суровая, готовая к борьбе… Нет, она не сдастся!
Семь дней не видела она его. На шестую ночь плакала уже по другой, чем неделю назад, причине. А утром велела одеть себя как можно великолепнее и приготовить лектику. Но едва только она удобно устроилась на висящем в воздухе ложе, как увидела перед собой лицо Аэция.
— Куда это ты отправляешься?
Она побледнела.
— В церковь святой Агаты, — бросила она сквозь стиснутые до боли зубы.
В один миг он выхватил ее из лектики, на руках — как ребенка — пронес, сопротивляющуюся и кричащую, через перистиль, фауцес и атрий… головой раздвинул завесу на двери, ведущей в какой-то кубикул… бросил там, как тюк, потом вошел сам и занес руку для удара… Она испуганно закрыла глаза, но Аэций не ударил, он схватил ее за плечи и тряс до тех пор, пока она не подняла веки и не взглянула ему в лицо. С виду он совсем не был ни разгневан, ни возмущен. Голос его звучал совершенно спокойно, когда он сказал:
— Сама посуди, ревностная и святая христианка, чего стоит твоя набожность?! Нумидийцам, которые все видели и слышали, как ты кричала, придется свернуть шею или вырвать язык… Прошу тебя на будущее помнить, что никто не должен знать о подобных ссорах патриция империи с женой, потому что ему придется за это дорого заплатить… Ты еще не знаешь меня, Пелагия; так вот, я повторяю: патриций империи не должен иметь жены еретички, и тут ты ничего не поделаешь…
Она ответила ему, к удивлению, столь же спокойным голосом:
— Если бы я знала, что ты такой, я бы за тебя не вышла… Твой молодой друг, язычник с бородой гнусного отступника, сказал мне: «Аэцию его вера не мешает любить и ценить инаковерующих друзей и близких…» Почему ж ты теперь становишься таким ревностным и жестоким гонителем иноверцев?.. Палачом собственной жены?
Он улыбнулся.
— А все же я не ошибся: умная ты женщина, Пелагия… Что ж, скажу тебе правду: дух мой и совесть никогда не страдали от того, что ты веришь в подобосущность, тогда как вера, которую я чту, гласит, что надо признавать единосущность… Но повторяю: патрициат стоил мне стольких трудов, борьбы, жертв и пролитой крови, что я на самом деле был бы диким варваром или величайшим глупцом, если бы позволил отнять его — неважно как, вместе с жизнью или без жизни — только потому, что молодой красивой женщине не угодны статьи никейского символа веры…
Произнося эти слова, он отнюдь не допускал, что из-за арианства Пелагии вынужден будет потерять с таким трудом после стольких лет завоеванную, наконец, власть, но отлично помнил все предостережения Басса и Секста Петрония Проба, все отнюдь не выдуманные сплетниками надежды, которые Плацидия связывала с тем, что он женился на еретичке… Он хорошо знал, что у Плацидии было тайное совещание с епископами Равенны, Рима, Аримина и Медиолана, которые должны были во всеуслышание высказать возмущение и сокрушение по поводу грешного попустительства первого сановника Западной империи упрямству жены-еретички, каковая коснеет в грехе и после того, как ее пытался обратить в истинную веру сам святой Августин Гиппонский… Дошла до ушей Аэция и весть о существовании анонимной рукописи, предвещающей скорый конец нового патриция: автор рукописи выражал твердую уверенность, что случайная и жестокая смерть Бонифация не была — как утверждает какой-то там языческий ритор — еще одним примером бессмысленной или злорадной жестокости, присущей всем божествам, а наоборот: справедливой, хотя и суровой карой за попустительство жене еретичке. Но больше всего встревожили патриция слова Максима, якобы произнесенные на заседании императорского совета, состоявшемся в Равенне в отсутствие Аэция, на другой день после его свадьбы. Петроний, который вновь подружился с патрицием и приблизился к Плацидии, якобы напомнил, как Аэций в Галлии, не желая подчиниться приказу Бонифация, кричал послам: «У меня нет жены арианки… я не крестил своего ребенка в еретической церкви!»
— Да, Пелагия… Завтра в Рим прибывает жена Кассиодора и тут же по приезде навестит тебя. Иначе Кассиодор не был бы уже не только моим другом, но и вообще никем… Но на будущее не может повторяться, чтобы жена подчиненного избегала общества второй после Августы Плацидии матроны Западной империи из-за какого-то там различия между единосущностью и подобосущностью…
На сей раз улыбнулась Пелагия.
— Я вижу, что ты не думаешь ни о боге, ни о вере, ни даже обо мне, Аэций… а думаешь только о своем патрициате… Как же я могла забыть, что ты только потому на мне и женился, чтобы моим богатством усилить свою мощь… Но от моего богатства тебе будет мало проку: все захватил Гензерих… Я же, повторяю, веры своей не переменю, но и тебе потери патрициата не желаю… Если уж иначе быть не может, давай разойдемся… Любой епископ с радостью признает твой брак недействительным…
Последние слова она произносила быстро-быстро… единым духом… делая страшные усилия, чтобы не дрожали губы… чтобы не разразиться плачем… Аэций спокойно выждал, когда она кончит, и только тогда сказал, пожав плечами:
— Как хочешь, Пелагия… Если тебе уважение к памяти Бонифация и к собственному слову позволяет это… Но об этом мы поговорим, когда я вернусь из Равенны… Пока что у тебя хватит времени освоиться с радостями одиночества и вдовства… И ты уже больше не пойдешь в церковь святой Агаты… А твоих диаконисе я еще вчера выгнал из дома, впрочем, щедро одарив их. Дочь же твою, по моему желанию, вчера посетил диакон Леон и долго беседовал с ребенком о боге и Христе. С радостью убедился он, что малютка вовсе еще не сделала выбора между единосущностью и подобосущностью и без труда поверила, что дева Мария была богоматерью…
Сразу же после отъезда Аэция в Равенну Пелагия велела отнести ее в церковь святой Агаты. Но едва она поставила ногу на первую ступень, как увидела перед собой хорошо знакомую высокую фигуру центуриона Оптилы. Статный варвар был ревностным арианином, но тем не менее, почтительно приветствовав жену патриция, он заявил, что не впустит ее в храм. В голосе его и во всем облике было столько решительности, что она, придя в полное замешательство, даже не упиралась. Позволила проводить себя к лектике и велела возвращаться домой. Когда уже на Аргилете она повернула вдруг голову, то увидела, что Оптила в сопровождении еще трех германцев, которых она нередко видала в церкви святой Агаты, верхом движутся за лектикой в каких-нибудь пятидесяти шагах.
— О Иисусе, — прошептала она с изумлением, — неужели для них воля Аэция значит больше, чем божья?
Давно уже миновала полночь. Но Пелагия ни на минуту не сомкнула глаз. Вот уже пятая ночь, как ее совсем оставил сон. Но в прежние ночи она хоть как-то еще боролась, а теперь даже не ворочается в лихорадочном волнении с боку на бок: неподвижно лежит она на спине, напрасно стараясь проникнуть взглядом через толщу непроницаемого мрака, плотной массой наваливающегося на грудь… на голову… на все тело… на уже безвольную мысль… Она не видит даже себя. «Может быть, это и лучше?» — промелькнуло в голове и исчезло. Она села на постели. Потом свесила с ложа ноги. Сидит так с минуту и говорит себе: «Сейчас снова лягу». Ищет длинными пальцами расстеленную на полу ткань, встает и идет. Не берет ни одеяния, ни сандалий. Идет через длинный ряд темных пустых комнат босиком, в одной только белой столе, открывающей плечи, шею и верхнюю половину груди. Вот так же шла она утром пятого дня перед сентябрьскими календами неполных пять лет тому назад. Шла, чтобы, торжествуя в своей ненависти, бросить в лицо Бонифацию скорбную для него и радостную для нее весть о смерти ее врага — Августина… весть о выигранной ею битве, которая бесповоротно заканчивалась с кончиной отца Африки…
И вот снова кончается ее последняя битва.
Четыре месяца не возвращался Аэций из Равенны. В начале пятого Пелагия послала ему короткое письмо — только три слова: «Хочу, чтоб вернулся». Хотело этого не только ее тело, покорное лишь зову любви, хотела и еще борющаяся ее воля: она знала, что чем дольше не возвращается Аэций, тем отчетливее становится ее поражение. Аэций не вернулся и не ответил на письмо. Однако когда Пелагия собралась — впервые за четыре месяца — в церковь святой Агаты, на лестнице она уже не встретила Оптилы, и никто не воспрепятствовал ей войти в храм. Но молиться она не могла. Все, что она раньше слушала, на что смотрела или что шептала с радостью, восхищением, упоением, а иногда и с перехватывающим горло рыданием, — все казалось теперь безразличным и скучным, а прежде всего удивительно чужим и далеким. Диакон-гот, напоминавший ей раньше архангела Рафаила с диптихов, в тот день казался похожим на Иуду Искариота с мозаик. Она быстро покинула церковь и как можно скорее вернулась домой. От Аэция не было никаких известий. Она стала навещать живших в Риме жен знатных сановников и приглашать их к себе. Как-то ее уведомили, что она может увидеться с дочерью, которой не видала с самого отъезда Аэция: учителя и воспитатели получили строгий наказ — не позволять девочке видеться с матерью. Побуждаемая скорее долголетней привычкой, нежели настоящим интересом, Пелагия завела с нею разговор о боге и святой вере: девочка — как ей сразу показалось — очень продвинулась вперед, но Христа упорно называла сыном божьим, единосущным отцу, а произнося имя девы Марии, с почтением возносила глаза к небу и добавляла греческое слово «Теотокос»[67] Пелагия простилась с нею без гнева, но и без особой скорби, поспешно вернулась в свои комнаты и бросилась на ложе, стараясь ни о чем не думать. Однако изо всех закоулков памяти выползли воспоминания. Вот она быстро вскочила и пошла в другую комнату — но только мысленно!.. На самом деле не шевельнулась с места и сама начала помогать памяти. С той поры она уже не сомкнула глад. После двух бессонных ночей она узнала, что Аэций вернулся. Прошел еще целый вечер и долгая, самая ужасная из всех ночей, а он не приходил. С радостью, как будто чудом избавляясь от преисподней, встречала она наступающий день. Но Аэций опять не появился. Когда спустился сумрак, Пелагия поняла не только то, что предстоит ночь еще в сто раз ужаснее предыдущей, но и то, что каждая последующая будет куда страшнее и ужаснее каждой минувшей. И вот на пятую ночь она встала и идет.
В одной из комнат висит на стене маленький светильник, бросающий тусклый свет: она снимает его и слабым желтым пламенем прокладывает себе дорогу… во всяком случае, себя она видит…
В какой-то момент сердце ее ударяет громче и резче: она уже знает, что Аэций заперся в комнате, в которую никогда не позволяет ей входить. И вот она видит пробивающийся сквозь щели свет. И ничуть не колеблется: бесшумно идет она вперед и широко раскрывает большую двухстворчатую дверь. А теперь, если что и чувствует, кроме радости и удивительного и сладостного ошеломления, то разве только восхищение. Посреди комнаты стоит залитый светом Аэций. Гун Траустила растирает своего господина обильно смоченным грубым жестким холстом. «Снова хотел работать всю ночь», — думает Пелагия, и именно это наполняет ее восхищением.
Она прикрывает глаза. Сейчас гнев исказит до неузнаваемости любимое лицо… Как она посмела прийти?! Вон!.. А может, начнет бить?.. Но самое важное все-таки то, что — она может поклясться — никого больше она в этой комнате не заметила…
— Входи, Пелагия… Я хочу поздороваться с тобой…
Он нежно берет ее за руку и ведет к широкому, заваленному табличками и свитками столу. Траустила исчез, как сквозь землю провалился.
— Взгляни на эти каракули, — говорил Аэций, — на это большое «Г» и уродливое «р»… Это собственноручная подпись короля Гензериха — она стоит больше всей Ульпиевой библиотеки… Тригеций вернулся из Африки… Я победил хищника, который еще поныне твой единоверец, Пелагия… Мир заключен… Гензерих, не проигравший ни одной битвы, согласился присягнуть на феод, он получает Мавританию, Ситиф и часть Нумидии… Три четверти твоих владений я вернул, Пелагия.
Взгляд ее быстро отрывается от подписи еще столь недавно страстно почитаемого врага — брата — короля — ревнителя веры, который борется лишь с тем, на кого прогневался бог… В комнате нет ничего необычного, кроме какого-то странного оружия и огромного белого изваяния, лицо которого тонет в темноте. Пелагия бросает вопросительный взгляд.
— Не узнаешь? — улыбается Аэций. — Ведь это же благороднейший из римлян… великий человек… твой муж Бонифаций…
Пелагия не спешит разглядеть увековеченное в мраморе красивое, благородное лицо первого мужа. Голова ее бессильно падает на плечо Аэция. Большие жесткие руки заботливо, нежно обнимают ее.
— Ведь и я соскучился по тебе, Пелагия, — как сквозь туман, слышит она его голос. — А ты, глупая, говорила, чтобы мы разошлись… Теперь не скажешь этого?.. Теперь все будет так, как должно быть, да?..
— Да, как должно быть… — отвечает она, точно в полусне. И вдруг пробуждается, захлебнувшись безграничностью воспламенившего все тело и кровь счастья — дрожащий от страсти голос Аэция произносит:
— Сними это облачение, Пелагия, прошу тебя…
С радостью, торопливо срывает она с себя столу и безвольно — но уже совсем в иной безвольности — опускается к его ногам. Под своим коленом, полная радости, чувствует она напряженные, горячие пальцы его ноги… а грудью опирается о его колени… Неожиданно с шипением-гаснет светильник… Но не темно… В комнату пробивается рассветная серость… все становится серым…
Да, теперь Пелагия все понимает. Вот оно, сбылся тот странный сон, который она видела в день битвы под Аримином. Как же она могла тогда не узнать столь хорошо знакомое ей по диптихам и бюстам лицо! Как она не узнала эту грудь — широкую, сильную, волосатую… это великолепное тело?!. В рассветный час все большие предметы выглядят как зловещие, мрачные скопления больших серых глыб, а маленькие — напоминают одинокие острые камешки. И все какое-то испепеленное, окутанное странным туманом…
Теперь уже намеренно, припоминая подробности сна, она просовывает голову между широкой ладонью и сильной грудью… Все сбылось: ее изгнали из рая, но она не плачет… не отчаивается… не борется… чувствует только усталость, когда думает о прошлом… Единственное, что утешает ее в эту минуту одиночества… в момент оторванности от всего, чем она до сих пор была, — это их нагота… нагота первых людей…
Аэций поднимает ее… Берет на руки и несет, как ребенка… Он не сгибается под тяжестью… идет уверенным упругим шагом… Конечно же, его сильная ступня не боится ни серых груд острого щебня, ни злобных камней-отшельников…
Неожиданно он останавливается, поднимает ее высоко, почти на уровень своей головы… Колышет ее воспламененное тело и расслабляет ладони, как будто грозит, что вот-вот бросит ее… бросит на серый щебень… на серые острые камни… на страшные глыбы…
— Сделаешь так, как надлежит жене патриция?..
Прежде чем безвольно повиснуть в его руках, она еще раз вся напряжется и упьется своими собственными словами:
— Сделаю все, что ты захочешь…
— Я сказал: вот он день, двукраты торжественный… О, что я сказал, любезные братья и сестры?.. Не двукраты, а истинно трикраты…
В заполнившей новую Либерийскую базилику тысячной толпе движение. Мужчины и женщины, старцы и дети, крещенные и катехумены, сенаторы, чиновники, военные, купцы и многочисленные гумилиоры, все как один человек обращают к амвону один тысячеглазый, удивленный, почти встревоженный взгляд. Толпа не любит неясности, особенно неожиданной неясности… Что это может значить, если мудрый и ученый диакон Леон поправляет сам себя и говорит, что этот день не двукраты, а трикраты торжествен?! Но все знают, что святая жертва, которую впервые в только что выстроенной базилике свершает епископ Ксист — двукратная жертва, нет, трикратно благодарственная… Вот и непонятно — тем более, что минуту назад сам диакон Леон объяснил верующим, за какие милости надлежит от них Христу двукратное — нет, все же трикратное — благодарение…
— Первая милость, — говорил он, — та, что угодно стало господу нашему иже на небесех благосклонно взглянуть на то, что в год четыреста тридцать и пятый от воплощения единородного сына его воздвигнулся на этом вот Эсквилинском холме новый великолепный дом господен к вящей славе господа нашего и к чести матери его Марии и для увековечения памяти епископа Рима — Либерия… Так кто же посмеет сказать, что негодна или хотя бы безразлична господу эта смиренная жертва наша?.. Разве не сделал он так, поддержав всемогущей волей своей наши слабые силы, что никакой трус земной ни разу не поколебал ни стен, ни лесов?.. Что ни один варварский народ, ни одна рука святотатственная не потянулась к сокровищам, доброхотно со всех сторон в храм принесенным?.. Более того, скажу, братья: ни один художник, ни резчик, ни каменщик, работая в самом высоком и опасном месте, не упал с лесов, не разбил себе голову, не сломал и не вывихнул руку или ногу… Никто также неспособностью или небрежением не исказил, не испортил, не погубил своей или чужой работы… Разве же не виден в том промысел божий?.. Явная милость, за которую мы должны принести самое горячее наше благодарение?!.
Что за вторая милость, за которую надлежало ныне благодарить Христа, — хорошо знали не только собравшиеся в базилике толпы, но и почти вся Италия… Ведь еще не прошла октава, как вернулся из Африки в Рим блистательный Тригеций, доставив радостную новость, что в третий день перед февральскими идами заключил в Гиппоне мир со страшным хищником, сущим дьяволом в обличьи дикого варвара, королем Гензерихом.
— Да благословит тебя Христос, Тригеций, — шепчут все губы в Либерийской базилике. — Теперь не грозит Италии ни нашествие, ни голод… Удержал свой порыв жестокий варвар… смирился перед величием империи, отдернул алчную лапу, которую уже наложил на нумидийский и византийский хлеб…
Взгляды всех присутствующих в церкви устремляются к сенаторию, где в первом ряду справа, рядом с проходом к протезису, сидит человек, спасший житницу Италии…
Большинство, особенно из числа гонестиоров, знает, что Тригеций — это только послушное и добросовестное орудие чужой воли, мощной воли патриция империи. «Так пусть же возносятся хвала, честь и благодарность славному Аэцию», — растроганно и восхищенно думают тесно сбившиеся в нёфе чиновники, солдаты, даже ремесленники, а прежде всего владельцы многих югеров плодородной земли в Африке и хлеботорговцы. «Насколько же он могущественнее Бонифация, о котором в общем-то не стоит жалеть… Ведь дважды заставил нас голодать и в конце концов потерял бы всю Африку… Разве сравнишь его с Аэцием! Да и какое может быть сравнение, если уж страшный Гензерих — который только и бил Бонифация, — так, без единого сражения, испугался Аэция, что хоть и победитель, а сразу согласился на мир и феод?! Поистине, имея такого патриция, можно не бояться ни нашествия, ни голода…» Сознание, что при правлении Аэция никакое зло не постигнет ни империю, ни Рим, ни кого-либо вообще, наполнило бы сердца собравшихся в Либерийской базилике чувством полного счастья, если бы не разочарование и не обида, нанесенная обожаемым патрицием: все как один были уверены, что увидят славного мужа в церкви — ведь не могли же они себе представить, что он не явится в храм, где свершают благодарственную жертву по случаю его же побед!.. Не хотели верить, что еще третьего дня он уехал в Равенну, и то и дело с надеждой пожирали тихим взглядом отделенный колоннами от нёфа сенаторий. Лишь немногие знали, что отсутствующего патриция — как представители его особы и власти — замещают комес Кассиодор и сиятельный Геркулан Басс, со времени возвращения Аэция вновь, после семилетнего перерыва, исполняющий должность префекта претория Италии. Кассиодор, в панцире, в поножах и военном плаще, олицетворял воинскую власть патриция, префект претория — гражданскую.
По левую руку Басса сидел Секст Петроний Проб. Взгляд обоих с неослабевающим любопытством блуждал по всей церкви — по абсиде, пресвитерию, нёфам, по опирающемуся на мощные колонны архитраву, — а чаще всего возвращался к многочисленным изображениям, и в первую очередь к великолепной мозаике, почти целиком состоящей из картин, посвященных деве Марии как богоматери. Басс с каким-то напряженным внутренним беспокойством смотрел на Благовещение, на Жертвоприношение и Сон Иосифа, на Избиение младенцев и Поклонение волхвов. Принципы веры, оглашенные недавним собором в Эфесе, если и не встречали в его мыслях и сердце открытого сопротивления, то с большим трудом прокладывали через них дорогу… Проблема единения ипостасей во Христе сравнительно мало колебала правоверность префекта претория: хотя, зная греческий язык, он был хорошо знаком со взглядами Феодора Мопсуестского и в значительной мере сам их разделял, не мог же он не согласиться, что доводы патриарха Кирилла больше согласуются со святым писанием, во всяком случае с буквой его; зато куда трудней было ему поверить, что дева Мария была матерью не только Христа-человека, но и самого бога… Слишком глубоко запал ему в мысль и сердце возглас ересиарха Нестория: «Я не могу поверить, чтобы богу было два или три года!» — так что, глядя на эту часть мозаики, которая представляла розовенького младенца Иисуса, принимающего в Египте смиренное поклонение мудрейшего Афрозидия, — он не мог сдержать невольного трепета: до чего же легко впасть в ересь!.. И положив голову на мрамор сталлы[68] начал тихо молиться: «Милости твоей — веры молю у тебя, господи…»
Секст Петроний, хотя и глядел на те же самые изображения, что и Басс, был далек от подобных мыслей. Если бы префект претория спросил его, верит ли он в Марию Теотокос и в полное единение божества с человечеством во Христе, он удивленно ответил бы, что верит в авторитет собора, а значит, и во все, что собор провозглашает. Верит и в то, что представляет вот это изображение слева: покуда Аарон и Ор будут поддерживать высоко поднятые руки Моисея, до тех пор не исхитят победы амаликитяне у избранного господом народа? Почему? У Секста Петрония есть краткий ответ, которому его научила в детстве мать, в те времена, когда он проказничал с мальчишками-варварами: «У бога ни единое слово не будет всуе…» Так что он с невозмутимым спокойствием смотрел на мозаику и фрески, слушая слова диакона Леона:
— Почему же трикраты торжествен сей день?.. А вот почему, дорогие мои: заключая почетный мир с бешеным хищником и мужеубийцей Гензерихом, мы празднуем победу не только над ним и его народом, но и над богомерзкой арианской ересью… Вот за что возносим мы Христу благодарения и свершаем жертвы и моления за тех, чьей волей и деянием это мир обретен… Слава им и покой господний во все дни да будет с ними! Я знаю, братья, что не один из вас думает сейчас: «Что же это за триумф истинной веры над ересью, если мы победили еретиков руками и мечами также еретическими». О дорогие мои, неужли вы по правде думаете, что, пользуясь помощью наемного солдата-еретика, мы тем самым заключаем мир с ересью и братаемся с нею?! Воистину, кто так думает, кощунствует так же, как если бы он сказал: «Бог братается с сатаной». А разве же не прибегал отец наш небесный к сатане, когда на то была его святая воля?.. Разве не предал в руки нечистого верного своего Иова? Зачем?.. Чтобы служил его божественным целям. А разве спаситель наш, изгоняя демонов из безумного, не велел им войти в свиней и разве те не послушались его, как наши еретические солдаты слушают набожных, правоверных военоначальников и комесов?! Братья и сестры, ересь — вот самый страшный враг… пагубнее голода, варварского нашествия, заразы и самой смерти… Берегитесь ее! Верьте в одно то, чему учат святые соборы… Отвергайте то, что они проклинают… И молитесь всегда: «Господи, сотри ересь и еретиков с лица земного… Пусть одна только пребудет вера, одно божье учение — правоверное, католическое, именно то, о котором говорит святой муж Винцент Лерский: «Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus credilum est»[69]… Что еще скажу я об еретиках, братья мои?! А то, что они хуже язычников… Ибо что суть язычники, как сказал епископ Константинопольский Иоанн Златоуст?.. Они суть яко дети неразумные, неспособные понять того, что есть самое важное, единственно важное в жизни человеческой… А богомерзкие еретики…
Слово замерло у него на губах. И одновременно громкий шепот пробежал по всей базилике. С великолепного курульного кресла, помещенного между алтарем и абсидой, с трудом, но почтительно встал епископ Рима Ксист, поддерживаемый епископом Дамазом из Порта и молодым диаконом Хиларием. Весь сенаторий как один обратили головы к виднеющемуся в глубине перистилю, откуда через нартекс[70] входила в нёф жена патриция империи, держа за руку девочку.
Толпа расступалась с почтением и изумлением, оставляя посреди церкви широкий свободный проход. Пелагия точно плыла по нему, ни на минуту не отрывая глаз от разноцветных плит пола.
Секст Петроний наклонился к уху префекта претория.
— Вот величайший триумф Аэция, — шепнул он удивленно. — Действительно втройне стерт позор поражения под Аримином. Чего не добился Бонифаций, сделал Аэций… Он одержал блистательную победу… победил женщину.
— Двух женщин, славный муж… Взгляни на сиятельного Паулина…
Взгляд Секста Петрония обратился туда, куда показывал Басс: сенатор Паулин, непреклонный враг Аэция как друга еретиков и язычников, нерадивого в делах веры и сеющего разврат, смотрел на идущую по церкви Пелагию дружелюбным, восхищенным взглядом. Поистине, насколько же благороден и достоин наивысшей почести патриций империи: он отблагодарил Бонифация за благородство тем, что доставило бы покойному величайшую радость, — он обратил его вдову в истинную веру!
С трудом сдерживая волнение и радость, диакон Леон пытался докончить проповедь, но не мог отделаться от ощущения, что обращается уже не и сенаторам, не к набожным матронам и собравшейся толпе… а говорит только для этой одинокой — он хорошо чувствовал, как она одинока, — женщины, идущей посреди храма.
— Господь отвратит благородные души от ереси и всякой скверны… Укажет им, где настоящая вера… В канонах святых соборов… Тот, кто в них верует, будет благословен — истинное дитя господа и церкви…
— А теперь взгляни на Максима, — шепчет Басс.
Секст смотрит на своего родича. Смертельно бледный Петроний Максим, не скрывая сокрушения и чуть ли не ярости, рвет зубами белый треугольный платок.
— Проиграли, — снова наклоняется к Бассу Секст Петроний. — Плацидия проиграла последнюю ставку… Действительно, прав ты, сиятельный Геркулан… Это не обычная победа, хотя бы и великая. Это двойная победа… Двукраты торжественный триумф…
Басс смотрит на епископа Ксиста, на диакона Хилария, на онемевшее от изумления и радости лицо молодого священнослужителя из «Tres tabernae» Люцифера и, с трудом сдерживая улыбку, думает: «Да что там, четырежды торжественный день!»
Пелагия входит за ограждение сталл и быстрым, решительным шагом направляется к кафедре для чтения евангелия, к матронеуму[71]. На лицах жен сановников и сенаторов видно удивление, замешательство, даже недовольство. Вот идет жена патриция, чтобы занять первое место в первом ряду — перед самым алтарем.
Высоко-высоко возносится звучный, сильный голос диакона Леона:
— И это есть настоящее учение божье… Так поучает о Христе господе нашем святой собор в Никее…
Пелагия, поддерживаемая женой Кассиодора, опускается на колени перед алтарем.
— А те, — гремит с амвона Леон, — кто говорит: «Было время, когда его не было» — или: «Прежде, чем он появился, его не было» — или: «Прежде, чем он воплотился, он не существовал» — и утверждают, будто сын божий был сотворен, — пусть они будут прокляты!..
Римский епископ Ксист дрожащей рукой творит пастырское благословение над покорно склоненной Пелагией.
Последний щит Рима
Наконец-то он появился. Вошел в курию быстрым, упругим шагом, почти не сгибая колен. По этой походке его сразу узнали, хоть лицо у него до невероятности изменилось: похудело, удлинилось, сузилось и стало более благородным — широкие Гауденциевы скулы почти совсем потонули в густой выхоленной темной бороде, и волосы уже не спадали, как раньше, длинными прядями на шею и чуть ли не на плечи, теперь они коротко острижены, искусно завиты и послушно лежат под двойной пурпурной повязкой. Тем же самым, как и раньше, жестом он вскинул в знак привета широкую, унизанную кольцами руку и улыбался точно так же, как тогда, когда внесли в курию статую Флавиана и все Вирии, Аурелии и Деции, вне себя от счастья и гордости, целый час рукоплескали опухшими ладонями самому справедливому из христиан. Теперь же, через восемь лет, не только те отцы города, которые еще почитали старых богов, но и все сенаторы как один: старые и молодые, богатые, как Красс и Саломон, и абсолютно разорившиеся, могущественные и ничего не значащие, внуки освободителей и потомки похитителей сабинянок, — все почтительно и радостно под-хватили долго не смолкающие рукоплескания, в которых тонули радостные, приветственные возгласы:
— Будь здоров, славный муж!..
— Привет, Аэций!
— Привет тебе, защитник римского мира! Гордость города! Украшение света! Триумфатор!
Во всей курии только одна пара ладоней не сомкнулась в рукоплескании… даже не дрогнула… не шевельнулась на прикрытых пурпуром коленях… Торжественно восседающий на золотом троне худенький двадцатилетний юнец, увенчанный золотой диадемой, неуклюже сползшей на большие оттопыренные уши, — неуверенным, раздраженным взглядом мерил гордую фигуру победоносного врага своей матери. Еще четыре года назад окончательно завершилась ожесточенная битва дочери Феодосия с презренным слугой узурпатора и убийцей Феликса. Возвращение Аэция из изгнания, бегство Себастьяна и обращение в истинную веру Пелагии; лишили старую волчицу последнего клыка, как говаривал Секст Петроний Проб. Спустя два года — когда Валентиниан достиг совершеннолетия и женился на дочери Феодосия Второго — Плацидия лишилась даже видимости власти. Не имея никакого влияния на ход дел, она вся ушла в молитвы и ревностные труды по приданию христианского облика своей любимой Равенне: строила новые церкви, разрушала остатки староримского культа, приглашала из Восточной империи строителей и художников и всячески служила святой троице, прославляемая проповедниками и христианскими писателями. Западной же империей правил — как утверждали императорские приговоры и эдикты — самовластно государь император Валентиниан Третий Август; по сути же дела, когда Аэций сражался в Галлии, в Риме правил преданный ему сенат: правил Глабрион Фауст, префект претория после Басса и консул на тринадцатый год правления Валентиниана; правил сам Басс, ближайший единомышленник Аэция; а также Вирий Никомах Флавиан, Секст Петроний Проб и Петроний Максим, снова примирившийся с патрицием и только что назначенный — после Фауста — префектом претория.
Все пятеро отлично сознавали, что неожиданному возвращению сенатом давно утраченного им значения и влияния они обязаны единственно тому, что в заключительном периоде борьбы между Плацидией и Аэцием высказались за бывшего главнокомандующего. Хорошо знали они и то, какие блага приносит сенаторскому сословию союз с патрицием — союз, направленный против императорской власти, любое ослабление которой тут же вызывает усиление мощи сената!.. Так что прибывшего в курию после четырех лет отсутствия Аэция встречали действительно радостно и искренне, чествуя в нем не только могущественного и полезного союзника, но и прежде всего свое великолепное настоящее и свои гордые упования на еще более блистательное будущее…
Остальные отцы города — в основной массе не посвященные своими предводителями во все подробности и нюансы истинного существа союза с патрицием — бурно рукоплескали, видя в шагающем по курии человеке великого и удачливого полководца своего века, могущественного защитника римского мира и целостности империи, грозного покорителя врагов Рима, с деяниями которого даже и сравнивать нельзя то, что свершили Бонифаций, Кастин, Констанций, Стилихон и даже он сам — тот давний Аэций периода битвы под Аримином, о которой, впрочем, никто из сенаторов уже и не вспоминал… «Ну что такое, — думали они лихорадочно, — его старые победы над готами, франками, норами и ютунгами в сравнении с достопамятными деяниями, которые он свершил в последние годы, будучи патрицием империи?! Что, например, можно сравнить с полным уничтожением грозной мощи бургундов?.. Или эта последняя готская война?! Или благоденственный для империи союз с королями гуннов Бледой и Аттилой?! А Гензерих, еще четыре года назад такой опасный, грозный и страшный?! Бесчинствует, конечно, как сущий диавол, в захваченных провинциях; грабит римлян и преследует правоверных, лишил даже жизни — проклятый! — святых епископов Поссидия, Новата и Севериана, изгоняет и забирает имущество у чиновников, которые не хотят признать учение Ария, — и все же не смеет нарушить границ, определенных Тригециевым миром — так боится Аэция!..»
Но не одного патриция империи бурно чествуют славные мужи. Почти с таким же жаром встречают всех, кто его сопровождает, кто сверкает, как звезды при луне, следуют за ним, как волчата за могущественной кормилицей Ромула и Рема, как на старой картине — пантеры за львом… «Как ветры за Эолом» — думают Симмахи и Вирии. «Как Маккавеи за Иудой», — шепчут в восторге Паулины, Гракхи, Аниции. Сенаторы показывают на них пальцами, да, почти все они тут, кто вот уже долгие годы делит славу с непобедимым и слили свою судьбу с его величием. Вот он, по правую руку Аэция, шагает гот Сигизвульт. Нет, не разочаровался он в том, кому столько помог при возвращении из изгнания, не может пожаловаться на неблагодарность, поистине царски награжден. Варвар, арианин — стал консулом!.. И в один год с Аэцием, в торжественный для Западной империи 437 год, когда обрел совершеннолетие император Валентиниан, а император Восточной империи, дабы ознаменовать это событие, уступил в пользу Западной империи честь назначить на этот год и второго консула… Но как будто еще мала показалась Аэцию и эта великолепная награда Сигизвульту — и он поделился с ним своим титулом главнокомандующего!
Указывали сенаторы и на рыжую голову Андевота, и на растрепанную бороду Марцеллина, которому, как собрату по вере, с особенным рвением рукоплескали Вирии, Симмахи и Деции. Правда, не шел подле Аэция преданный и любимый друг — Кассиодор, но все знали, что первый взгляд патриция устремился к третьему ряду курульных кресел, где почетное место занимал давний его соратник, ныне сенатор, — и «Ave, Cassiodor!» загремело с таким жаром, как будто бы тот с утра не сидел в курии. Зато напрасно высматривали глаза славных мужей Астурия: комес Испании вел ожесточенные бои в Бетике, подавляя восстания крестьян — багаудов, поддерживаемые королем свевов. Зато другой испанец следовал сразу же за Аэцием; еще молодой, но уже прославленный оратор и поэт, да к тому же еще комес — Меробауд, панегирики которого на долгие века делали бессмертными деяния Аэция. Не было в курии сенатора, который бы по десять, а то и больше раз не прибегал к кодексу од Меробауда, особенно к тем, которые воспевали свадьбу Валентиниана с Евдоксией и второе консульство Аэция. Ведь нигде — так казалось почти всем сенаторам — не найти столь прекрасного описания войны, как воспеваемые Меробаудом исторические сражения патриция со все более грозными для империи бургундами, дерзкие короли которых то и дело нападали на римские владения из своей мощной крепости Барбетомаг на Рене. Одни галльские легионы вряд ли справились бы с многочисленными и храбрыми бургундами, но разве у Аэция, помимо крепкой руки, нет еще достойной любого мудреца головы?.. Так вот, он склонил к совместному походу младшего из гуннских королей Аттилу и вместе с ним, не ожидая, пока враг сам выйдет из своих владений, с такой яростью обрушился на бургундов, что двадцать тысяч их воинов легли на поле битвы, а среди них и король Гунтер…
И еще одного из прославленных товарищей Аэция не увидят глаза славных отцов Рима: начальника конницы Литория. И все знают: только потому, что они не видят Литория, они могут созерцать вот уже четыре года не виденного сиятельного Аэция. Ведь одному только Литорию доверяет Аэций как самому себе и на него одного может оставить дальнейшее ведение войны с готами. Хотя патриций и находился столь долгое время за пределами Италии: долгое время не совещался с императором и сенатом, не садился за пиршество вместе с италийскими друзьями, не разделял ложе с супругой, — но, несмотря на все, и теперь не покинул бы Галлию, не питай он безграничное доверие к командующему всей конницей Западной империи. Ведь имя Литория вот уже два года громким эхом прокатывалось по всей империи. Когда в год совершеннолетия императора король Теодорих осадил Нарбон, Аэций, измотанный тогда немощью и горячкой, доверил Литорию командование над гуннскими отрядами, которые должны были выйти на помощь осажденному городу. Начальник конницы устремился к Нарбону с быстротой, которой мог бы позавидовать сам Аэций, а когда узнал, что осажденные уже выпускают из немеющей руки оружие, падая без сил, и до такой степени истощены от голода, что город вот-вот без сопротивления откроет ворота Теодориху, то велел каждому из своих всадников взять на коня пехотинца и два вьюка с припасами и обрушился на готов, пробился сквозь их плотные ряды, проник в город и, оставив нарбонцам свежий гарнизон и обильные припасы, повернул конницу против, осаждающих и нанес им страшное поражение! Не удовлетворившись одной этой победой, он двинулся в погоню за быстро отступающим Теодорихом и вторгся в пределы провинций, девять лет назад отданных готам. И вот теперь уже второй год, как Литорий пядь за пядью отнимает у Теодориха все новые земли Аквитании, отданные ему по миру, заключенному после битвы на Колубрарской горе, по тому миру, который король нарушил, осадив Нарбон. Поэтому никого не удивляло, что патриций говаривал: «Когда Литорий бдит, Аэций может спать». «Спать с женой…» — с улыбкой добавляли обычно сенаторы; поэтому сейчас удивлению их не было границ, когда они узнали, что сиятельный Аэций прямо с Фламинской дороги направился в курию, даже не повидавшись с женой. Поэтому с такой радостью, с таким жаром и приветствовали его… Ведь они с самого рассвета ждали его прибытия, заполнив курию так, как этого уже давно не случалось: сто сорок сиятельных, триста достопочтенных и семьсот достосветлых! Даже префект города Флавий Паул, который ежедневно проклинал бессмысленную, по его мнению, традицию, объединяющую в одном лице префектуру с председательством в сенате (потому что он не выносил речей), без сожаления сменил сегодня свой любимый зеленый далматик на освященную обычаем тогу, которую не умел носить, и приготовил приветствие.
А черноволосый юнец в пурпуре и с диадемой на голове до самой последней минуты пребывал в приятном заблуждении, что потому-то в сенате такая давка и такое праздничное настроение, что все illustres, spectabiles и clarissimi как можно скорее стремятся принести ему свои поздравления по случаю того, что Христос вторично изволил благословить священное лоно семнадцатилетней Августы Евдоксии. Поэтому совсем не удивился стоящий по правую руку от императора викарий города Рима Юний Помпоний Публиан, когда, взглянув искоса на императора, без особого труда уловил, с каким именно чувством смотрят на приближающегося Аэция выпуклые глаза — черные, как маслины, и оттененные такими же черными, изогнутыми бровями, на которых, как на архивольте, покоился высокий Констанциев лоб.
С лихорадочной торопливостью направляясь в спальную комнату, Пелагия все еще думала о поучениях Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста, писаниями которого последнее время зачитывалась. Как же она была благодарна святому отцу за его смелое требование равности для мужчин и для женщин там, где дело касалось вопросов тела: поистине только глупцы и безбожные язычники и еретики могли толковать слова Иоанна так, будто он домогался для женщин права изменять мужьям, чтобы сравняться с мужчинами в их неверности своим женам. Нет, Пелагия знает, что мудрейший патриарх, большой знаток людских сердец и человеческой природы, отлично понимал, что они — женщины — отнюдь не хотят изменять своим мужьям и не жаждут свободы распоряжаться своим телом, а взыскуют только того, чтобы, так же как им, всегда достаточно законного мужа, так пусть и мужу этому на всю жизнь довольно будет одной женщины. «Вот истинная христианская супружеская равноправность!» — произнес с амвона сорок лет назад Иоанн Златоуст, и эти самые слова повторяет теперь мысленно Пелагия, переступая порог кубикула. Она и обижена и счастлива: почему это она должна четыре года сохнуть с тоски по мужу, пожираемая жестоким голодом любви, а Аэцию можно спать с готскими, франконскими, бургундскими пленницами и еще похваляться, скольких девственниц они с Либаудом лишили невинности после победы над Гунтером?! Ей всегда хочется смеяться, когда она слышит, что мужчине труднее выдержать без женщины, чем жене без мужа, но она понимала, что не может требовать от Аэция, чтобы он годами жил, как египетский пустынник или евнух. И потому говорила ему: «Возьми меня с собой в Галлию!» Он же на это только смеялся: «С женщинами на воину не хожу. Я не Бонифаций!» И ничуть не помогало тысячекратное: «Где ты, Кай, там и я, Кайя». Но почему же такая несправедливость?.. Больше обиженная, чем счастливая и голодная по любви, она старалась быть в постели равнодушной, холодной и даже делать вид, что у нее нет желания. Но тут же с каким-то беспокойством спохватывалась, не покажется ли ему ее тело увядшим, постаревшим, менее притягательным… Ведь Аэций как будто вовсе не интересовался телом, которое быстро, ловко обнажал.
— Ты должна перебраться в Равенну, — говорил он повелительным тоном, — туда перебирается двор… ты должна всегда быть подле молодой императрицы… должна быть для нее тем, чем я для Валентиниана.
Даже заключив ее в свои объятия, он не переставал ни на минуту говорить, хотя она сразу изошла негой от наслаждения и словно не понимала его и не слышала. Он вновь вернулся к молодой императрице:
— Евдоксии семнадцать лет, она второй раз забеременела, а ты, Пелагия?.. Что же это?.. Бонифацию ты сразу подарила дочь, а мне?.. Неужели ты сделалась бесплодной?.. Не хочу… Не нужна мне такая жена…
Она открыла глаза и, с трудом сдерживая гнев и слезы, воскликнула:
— А кто же это мог сделать меня матерью за эти четыре года?.. Майордом?.. Надзиратель за атрием?! Валентиниан вот уже два года подряд из ночи в ночь спит с Евдоксией… Чего же ты хочешь?..
— Я хочу сына…
— Мало твоих сыновей обременяют теперь готок и бургундок? — крикнула она обиженно. И еще хотела добавить, что бог ее покарал бесплодием за то, что она отреклась от веры отцов, по испугалась кощунства и сказала только: — У тебя есть Карпилий…
— Пойми меня, Пелагия, — голос его звучал глухо — и хотя все еще повелительный, — нежно и дружелюбно, — Карпилий по воспитанию и обычаям чистый гунн — как Аттила, да еще по крови полуварвар, гот… полукровка… А патриций империи хочет иметь сына от римлянки… от знатной римлянки… по крови не хуже Феодосиевой…
Вне себя от гордости и счастья, Пелагия без слов растворилась в сладостном, животворящем любовном объятии.
Над форумом Траяна быстро плывет бледный месяц. То и дело его догоняют и наваливаются на него темные клубы туч, но ненадолго: вот он уже снова вынырнул и с удвоенной скоростью убегает от яростной погони, проливая на белый мрамор тусклый, желтоватый свет. Прежде чем снова его пожрет черное клубящееся чрево осенней ночи, комес Меробауд успеет в десятый, а может, и в двадцатый раз прочесть наполняющую его гордостью и радостью, высеченную на мраморе надпись: «Inter arma litteris militabat et in Alpibus acuebat eloquiam»[72]. Надпись эта, выбитая под его собственным бюстом, на долгие века утвердит непреходящую славу солдата-поэта: когда никто уже не будет читать его стихи и прозу, когда уже имя его будут путать с именами франконских королей, когда почти все, что он написал, погибнет, а уцелевшие три-четыре панегирика и один богослужебный стих будут вгонять в тоску даже знатоков и любителей его эпохи, — этот памятник с полустершейся надписью все еще будет стоять возле колонны наилучшего из императоров, рассказывая прохожим о том, кто подвиги меча сочетал со словом, а речь свою в войне с норами оттачивал в альпийском воздухе…
Изваяние стоит уже четвертый год, но Меробауд, который, как и Аэций, не был в Италии столько же лет, разглядывает его всего лишь третий раз. А поскольку он поэт и, кроме того, совсем еще юноша, то стоящий поодаль патриции империи как будто отнюдь не пеняет ему за то, что, забыв, с кем он здесь находится, Меробауд вот уже долгое время не может оторвать глаз от надписи, а когда наконец делает это, то лишь затем, чтобы перевести взгляд — полный радостного изумления и почти недоверия — на высеченное из мрамора лицо. Неужели он и на самом деле такой красивый мужчина?.. А он и не подозревал об этом. А может быть, ваятель слишком польстил ему?.. Он сам не знает, что об этом подумать… Потому что если он на самом деле такой… если изваяние действительно знает о нем больше, чем все зеркала, то беспокоиться ему, пожалуй, не о чем: дочь Астурия, которую он давно любит, наверняка не будет противиться их браку… Как жаль, что надо еще прождать два года, пока его возлюбленной пойдет семнадцатая весна!..
Неподалеку стоит статуя Петрония Максима. А ведь префект претория, который вместе с Аэцием вышел из библиотеки Ульпиевой базилики, где почти всю ночь длилось заседание императорского совета, даже не бросил взгляда на гордую надпись: «А proavis atavisque nobilitas»[73] — ни на высеченный из мрамора бюст, дающий особенно обильную пищу для размышлений на тему: лесть как один из основных моментов сущности искусства. Но Меробауд, который мог бы найти почти столько же материалов для размышлений на эту тему в своих панегириках, не очень задумывался даже над отношением своего мраморного подобия к действительности, которую оно должно было воссоздать. Провожая глазами Петрония Максима, пристыженный и злой на самого себя, он с раздражением подумал: «Через восемнадцать лет и я даже взгляда не кину», — и быстро отвернулся от изваяния. Аэций с Максимом уже приближались к арке Траяна. Меробауд поспешно двинулся за ними, но, не смея мешать разговору патриция с первым после него сановником Западной империи, отстал шагов на тридцать, идя рядом с Марцеллином, с которым он всю ночь прождал, пока кончится консисторий: Аэций хотел видеть их после совета, и это они сочли для себя величайшей честью и отличием, достойным упоминания в хрониках. Ожидая, пока патриций простится с Максимом, они завязали тихий дружеский разговор — дружны они были уже давно, но никто не видел у них никакого сходства или хотя какой-то общности наклонностей и интересов.
Под аркой Траяна Аэций закончил разговор с Петронием и простился с ним, дружески вскинув руку; когда же лектика префекта претория быстро исчезла в черном мраке последнего ночного часа, Меробауд и Марцеллин увидели, что патриций сделал жест рукой, который не мог означать ничего иного, как повеление приблизиться. Автор знаменитого стиха «Pro Christo» как раз в это время раскрывал перед язычником всю беспредельность чувств, которые он питал к дочери комеса Испании; он уже распалился и слова его дышали пламенем, — но тут же замолк, как только заметил знак Аэция, который, не ожидая, пока молодые друзья приблизятся, двинулся из-под арки к форуму.
Они оба не сомневались, что их ждет честь выслушать какой-то огромной важности приказ. Меробауд, которого Астурий посвятил во все подробности покушения на Феликса, был уверен, что Аэций замышляет нечто подобное. Но напрасно было ломать голову, против кого это покушение могло быть направлено. Ведь не против же императора, который с каждым днем все более сдавал позиции и был послушным орудием Аэциевой воли?
Месяц снова вынырнул из-за облаков, и оба приятеля увидели, что Аэций стоит перед каким-то памятником. Одновременно они услышали его голос:
— Я уверен, что Петроний Максим все еще видит во мне варвара или хотя бы пропитанного варварством выскочку из далекой пограничной провинции. А может быть, и Басс тоже. И Вирий. А мне кажется, что Аэция больше, чем кого-либо, любят и благословляют все эти воплощенные в камень духи…
Меробауд застыл как вкопанный. С невыразимым изумлением взглянул он сперва на Аэция, потом — многозначительно и вопросительно — на Марцеллина. Почитатель старых богов отнюдь не казался удивленным словами начальника, которые слушал с радостным восхищением. А патриций продолжал:
— …духи величия и мощи старого Рима… Право же, Меробауд, ты уже посвятил своему вождю сотни, а может быть, и тысячи стихов, а тебе и в голову не пришло, что если бы не эта твердая, дикая, ненавистная для римлян варварская мощь… именно та мощь, которую я впитал в себя, словно с молоком матери, общаясь и братаясь с готами и гуннами, та, которой гнушаются Максим… и Басс… и Вирий… и наверняка Меробауд, — давно бы уже камня на камне не осталось от всех этих самых дорогих для нас, римлян, реликвий…
И он обвел рукой вокруг себя.
Меробауд отнюдь не был уверен, не снится ли ему все это. Ведь если бы ему еще час назад сама дочь Астурия или сам епископ Гидаций сказали, что он услышит такие слова из уст Аэция, он с гневом назвал бы их лжецами или с сожалением — безумцами… Марцеллина же отнюдь не удивляло то, что говорил друг варваров и воспитанник дикого Ругилы: разве еще семь лет назад — в долгих ночных беседах в тиши далматинского убежища — не распахнулись перед ним настежь все тайники мыслен великого изгнанника?!
Быстрым шагом идет Меробауд к памятнику, под которым стоит Аэций. Он уже наверняка знает, что эта ночь, проведенная на форуме Траяна, не останется не увековеченной в стихах. Он набрасывает в уме отдельные части произведения, в котором, как Минерва из головы Юпитера, предстанет вдруг из хаоса temporis barbarici[74] блистательная romanitas[75] мужа, о котором не только при дворе Августы Плацидии, но и в виллах галльских и испанских посессоров иначе и не говорили, как semibarbarus…[76] Он благожелательно и чуть ли не с ироническим пониманием улыбается: вот и великий Аэций высказывает почти ту же самую слабость, что и молодой солдат-оратор, стоя подле собственного изваяния, — но ведь кто же лучше его… Меробауда… поэта… сумеет понять и оценить значение подходящей для великих слов обстановки?!
Изваяний Аэция на форуме Траяна было несколько (и ни одно из них не окажется удачливее статуи поэта: всех сметет неумолимый вихрь времени). Меробауд подумал, что, пожалуй, лучше было бы, если бы патриций встал у своего изваяния периода второго консульства: торжественное официальное облачение и поза, точно выдержанные в духе республики и первых цезарей, отлично подчеркивали бы неожиданно выявившуюся romanitas Аэциевой души. «А впрочем, хоть так, хоть этак, в панегирике все равно будет говориться, что он стоял именно перед этим изваянием», — решил поэт. Каково же было его удивление, когда при полном свете месяца он разглядел, что изваяние, перед которым они стоят, вовсе не было изваянием Аэция. Сомнений не оставалось никаких: он слишком хорошо знал эту большую голову, этот орлиный нос, несколько округлые, почти совиные глаза… Его охватила великая радость: найдется ли хоть один поэт во всей империи, который не отдал бы всех сокровищ мира за то, чтобы быть в эту минуту на его месте?! Он быстро отвернулся: Аэций не должен видеть, как Меробауд вынимает табличку и резец. У Меробауда отличная память, но сейчас слишком важный момент, чтобы он мог ей доверять: ведь тут же ни одного слова нельзя забыть!
— Взгляни, Марцеллин, — резец поэта еле успевает за голосом Аэция, — взгляни на эту вот надпись: «Reparatori rei publicae et parenti invictissimorum principum»[77]. Неужели должна питать ко мне гнев на том свете благородная душа мужа из Наисса за то, что я — хотя и не надел на себя, как он, диадему и пурпур, — забрал у его непобедимых детей то, что действительно является могуществом и властью? А может быть, питает не только гнев, но и зависть?.. И ему есть чему завидовать — разве же не сказал, умирая, благороднейший из римлян, Бонифаций, что я rei publicae magna salus, а не только ее reparator[78]?! Но я верю, Марцеллин, что мы равны… абсолютно равны, хотя я не император, а он не одержал столько побед… И не только равны, но и похожи…
Меробауд не сомневается, что это двустишие — вступление ко второй части нового панегирика — покроет его новой славой. Он оценивает его в три памятника: один в Кордубе — там, где он впервые вкушал науки, и два в Константинополе: на форуме Аркадия и в Капитолии, в лектории латинских грамматиков. Сам он отнюдь не удивляется, что его Минерва тщетно ломает голову, не в силах понять, в чем сходны Аэций и Констанций Август. «Скорей уж я похож на короля Аттилу», — думает он и вдруг испытывает неудержимую ревность. Он видит, как Аэций дружески берет Марцеллина под руку. Но поэт быстро побеждает ревниво влюбленного в вождя солдата: некогда… ни на что другое нет времени!.. Только писать!.. Все быстрее испещрять табличку сотнями мелких, убористых букв!
— Он презирал варварские способы сражения, а я — староримский строй. — Меробауд сокращает на табличке слова Аэция. — Но я по-своему бил готов, с которыми он не мог справиться, а меня Констанциевым способом побил Бонифаций. И опять мы равны. Но я сказал, что не только равны, но и сходны. Ты знаешь, в чем сходны, Марцеллин?.. Послушай, я правнук крестьянина из Мёзии, а Констанций — дитя предместий иллирийского Наисса… оба мы но крови и по роду далеки от Рима, от Италии… А ведь не найдешь камня на Римском форуме, в котором дух старого Рима отрекся бы от кого-нибудь из нас двоих, заявив: «Вы чужаки…» Ибо мы римляне… как римлянин ты — далматинец — и Меробауд — испанец… Ибо все мы римские граждане… потому что над колыбелью своей слышали только речь римлян… потому что с детских лет нас хранило и правило нами римское право… А теперь взвесь другое, друг мой… Вот Рим — владыка мира… Рим — столица мощи и справедливости… Вот римский мир — владыка, судья, защитник и учитель всех народов… Так кто же на самом-то деле вот уже полвека хранит от гибели Рим, и римский мир, и римский народ?.. Может быть, они защищаются сами?.. Да — когда их защищает Констанций или Аэций… Вот в чем сходны мы, друг! Потому что когда нас нет, что происходит с мощью Рима? От чьей милости он зависит?.. Ты уже краснеешь, Марцеллин?.. Погоди… послушай… пусть же прозвучат над камнями старого Рима имена его защитников… этой истинной мировой империи, но не римской, а только варварской, друг… Ты посчитай. Готы — Гайнас, Сар и Сигизвульт… Вандалы — Стилихон… Франки — Арбогаст и Баутон… Аланы Ардабур, Аспар и…
— И свев Рицимер! — крикнул он, не в силах сдержать разгона предыдущей мысли и на бегу соединяя ее бессмысленно (как он полагал) с тем, что вдруг поразило его взгляд. Но тут же он обуздал разлетевшуюся во весь опор мысль и уже совсем иным голосом обратился к молодому трибуну, который оставался в Галлии:
— Что ты здесь делаешь, Рицимер?!
— Славный муж… Литорий…
Исписанная табличка выскальзывает из рук Меробауда и с треском разбивается о гранитную плиту. Не собрать разлетевшихся обломков, и не собрать поэту излияний патриция… не напишет он панегирика «De romanitate Aetii»[79] надежда на три новых памятника разбивается о твердое, безжалостное слово Рицимера.
В те дни, когда Аэций после четырехлетнего отсутствия решился наконец отправиться в Италию, казалось, что готская война находится накануне самого благоприятного завершения. Императорские войска не только вытеснили Теодориха за границы аквитанской Галлии, и даже из тех ее частей, которые были отведены ему по миру 430 года, но и вторглись с юга в Новомпопуланию, а с северо-востока — в земли пиктавов. Покидая Галлию, Аэций велел Литорию не тянуть с заключением мира, а сразу же, как только Теодорих захочет начать переговоры, согласиться на возобновление перемирия с тем, что готы отдадут галльской префектуре все крупные города, кроме, может быть, одной Толозы[80], а что касается земель, занятых ими, то они откажутся от пограничных окраин аквитанской Галлии, Пиктавы и доступа для плаванья по Лигеру[81]. Но Литорий, взяв на себя командование, отнюдь не стремился к быстрому окончанию войны; он не только привел с Рейна несколько тысяч новых гуннских воинов, но и потребовал от живущих между Лигером и Британским морем армориканов, чтобы они выполнили свой долг федератов, совместно с императорскими войсками обрушившись на готские владения. Потому что он загорелся безумным, ибо абсолютно невыполнимым, как говорил трибун Рицимер, намерением уничтожить не только мощь, но и вообще готское королевство. Он планировал медленное и рассчитанное на длительное время истребление вестготского народа с помощью меча и голода, безжалостное уничтожение грабежом и огнем их имущества и, наконец, полное истребление многочисленной королевской семьи и всех знаменитых и благородных родов. «Остальные превратятся в невольников, — говорил он, — либо вольются в ауксиларии и пограничные войска, сражающиеся как можно дальше от Галлии: где-нибудь на персидской или эфиопской границе». Рицимер, который был сыном сестры короля Вальи, а следовательно, находился в каком-то родстве с Теодорихом, не мог, разумеется, испытывать восторга или хотя бы быть благожелательным к намерениям Литория; и не только он, даже комесы и старые трибуны, исконные римляне, недоверчиво относились к замыслам начальника конницы, считая их невыполнимыми и вредными.
И все же Литорий приступил к осуществлению своего плана. Поскольку он нуждался в огромных людских массах для опустошения готских владений и уничтожения их жителей, он использовал гуннов, вторгшись с ними в земли армориканов, мешкавших с помощью, — а нанеся там большие опустошения, возвращался на юг Галлии через богатую и а плодородную аквитанскую Галлию, которую позволил своим гуннам грабить так, как будто это был вражеский край: кормить-то их ему было нечем. Кроме того, подозревая, что посессоры предпочли бы видеть в своих владениях готов, а не гуннов, он накладывал на аквитанских землевладельцев огромные поборы на армию, чем довел их до отчаяния, ярости и те почти что начали открытую борьбу, выступая во главе своих людей против грабящих край диких варваров; но поскольку варвары эти шли через Аквитанию под императорскими знаками, Литорий с беспощадной жестокостью, так же, как бунт и измену, карал всякие подобные выступления. Как потом Рицимер рассказывал Аэцию, посессоры Аквитанской Галлии с завистью думали о судьбе землевладельцев в Аквитании, оставшейся под властью Теодориха; вестготы, правда, отняли у римлян две трети их владений, но зато оставшаяся треть была избавлена от всяких насилий, смут и даже законодательных тягот, города же управлялись по римскому праву, а назначенный королем comes civitatis[82] заботился только о том, чтобы царил мир, чтобы римляне не действовали во вред королю и готскому народу и не сочетались кровными узами с готами. Так что подозрения Литория были небезосновательны; жестоко подавляя всякое проявление не только сопротивления, но и недовольства поведением союзных империи гуннов, он прошел через всю Аквитанскую Галлию с севера на юг, провожаемый ненавистью и проклятьями, на которые не очень-то обращал внимание, и вновь вторгся в ту часть Нарбонской Галлии, которую Аэций девять лет назад уступил готам. Теодорих дважды пытался ему противодействовать, но не устоял и поспешно отступил к своей столице, Толозе. Литорий двинулся за ним. Хотя бы частично он мог осуществить теперь свое безумное и жестокое намерение: гунны, из которых в это время почти целиком состояли императорские войска в Галлии, так основательно уничтожали все на своем пути, что не только следа готов, малейшего следа какой-либо жизни вообще не осталось на много миль вокруг большой дороги Элузия — Толоза и в верхнем течении Гарумны[83]! Вскоре римско-гуннское войско стало под столицей королей из рода Балтов. Успех начальника конницы был поистине столь ошеломляющим, что даже те комесы и трибуны, которые вначале недоверчиво относились к его дерзким замыслам, не сомневались в последней, превосходящей всякие надежды, победе. Варвары, в особенности готы, опасные и нередко страшные в открытом поле, становились абсолютно беспомощными, когда возникала необходимость запереться в крепости: даже Рицимер был уверен, что они не выдержат и трехдневной осады. А Литорий ожидал, что защищаемый вестготами город не выдержит и первого приступа. Уверенный в триумфе, который ждет его, самое позднее, к исходу следующего дня, он решил провести ночь за шумным пиршеством. О пире этом он велел уведомить осажденного в голодной Толозе Теодориха: «Пусть знает варвар, что римский полководец перед ратным трудом не нуждается ни в сне, ни в отдыхе!..» Когда он уже садился за стол в обществе женщин, комесов, трибунов и гуннских вождей, комес Вит уведомил его о прибытии посольства от короля вестготов.
С издевательской улыбкой на гладко выбритом красивом лице Литорий прошел в погруженную в полумрак комнату, где его ожидали с сильно бьющимися сердцами четыре престарелых длиннобородых епископа. Один из них, у которого борода была сильнее припорошена сединой, стоял несколько в стороне. Когда Литорий стал на пороге, все четверо благословили его, осенив крестом, но он даже головы не преклонил. Какое-то время он пытливо и иронически разглядывал их и наконец разразился громким смехом.
— Неужели у короля готов не хватает отважных воинов и знатных людей, — воскликнул он, — и некому даже поручить посольство?.. Нет никого, кто разбирался бы в воинских делах, а не только умел произносить проповеди да бубнить молитвы?!
— Король готов, — с достоинством ответил один из епископов, — намеренно посылает к тебе, сиятельный, не воинов и не знатных людей, а только слуг Христовых, чтобы там, где окажется бессильной речь мудреца, подействовало бы слово божье…
Еще громче рассмеялся Литорий…
— Это значит, что храбрый король Теодорих прячется за алтарь и молит о милости и пощаде, заклиная меня — вашими устами — словом своего бога… Бога слабых людей — женщин, евнухов и рабов… Теперь я понимаю: ни один отважный воин или знатный человек не захотел взяться за такое посольство… все предпочитают полечь завтра в последней битве готского народа, за что я велю воздать честь их телам!.. Поистине этот Христос превращает в воск сынов мужественного народа! Вместо четырех почтенных, покрытых шрамами полководцев я вижу четырех плаксивых арианских епископов, которые…
— Не четырех — троих, сиятельный, — резко прервал Литория тот епископ, который стоял сбоку. — Я не гот и не арианин… Я Ориенций из Августы Аускорум, правоверный епископ и римлянин…
— Неужели?! — в голосе Литория прозвучала нота неподдельного, хотя и еще более иронического удивления. — И вы стоите рядом?.. Еще не загрызли друг друга насмерть?.. А как же единосущность… и подобосущность?.. Как же ты можешь, святой муж Ориенций, спокойно смотреть на мерзких богохульников, которые отказывают распятому на кресте в единстве с божеством?.. Я бы на твоем месте не потерпел…
Неожиданно все его лицо, искривленное гримасой гнева, преобразилось, с красивых тонких губ исчезла ироническая улыбка.
— Римлянин?! Ты римлянин?! — крикнул он с бешенством. — И приходишь ко мне, к римскому полководцу, с посольством от варвара?.. Вместо того чтобы радоваться близкому избавлению от народа, который вторгся и осквернил владения священного, вечного Рима, ты смеешь…
— Я смею стать перед твоим лицом, жестковыйный солдат, и сказать: я люблю Рим, но, как велел Христос, люблю и ближнего своего. Кто же мой ближний?.. Перс, брит, вандал, гот, так же, как и римлянин. Хватит крови, сиятельный… Хватит убийств, насилий, пожаров… у тебя столько славы и триумфов, ты столького достиг, храбрый Литорий… не бросай вызов богу… послушай его слугу, который приносит тебе мир… И какой мир!..
Условия мира были действительно так выгодны для империи и так унизительны для Теодориха, что Литорий какое-то время даже раздумывал над тем, как ему поступить. Однако когда Ориенций неосторожно упомянул, что не только готы, но и римское население чает мира, так как больше страдает от союзных Риму гуннов, чем от народа Теодориха, Литорий взорвался, подхваченный новой волной яростного гнева.
— Я не безумец, и не женщина, и не священник, — воскликнул он, — чтобы выпускать зверя, когда он попал в сети! Мне некогда вести праздные разговоры… Возвращайтесь к себе… Вы умышленно отнимаете у меня время, когда Теодорих готовится к сражению…
— Ошибаешься, сиятельный, — сказал один из арианских епископов. — Король Теодорих не чинит никаких приготовлений… Не питает никакой надежды на спасение, не уповает ни на кого и ни на что, кроме бога нашего… В рубище, босой, с главой, посыпанной прахом и пеплом, ходит он по улицам города, громко призывая милосердие божье.
— Не бросай вызов богу, храбрый Литорий, — подхватил Ориенций. — Ты силен и близок к победе, но не известно, кому господь дарует завтра день триумфа…
— Не известно? Действительно не известно… Но погодите минутку: сейчас мы узнаем… И я тоже обращусь к богу, как и Теодорих…
Он хлопнул в ладони и не успел еще выпить кубок массикского вина, как погруженная в полумрак комната наполнилась женщинами, римскими комесами, германскими и гуннскими вождями и какими-то странными фигурами в белых, закрывающих все тело и голову покровах, с ножами в руках. Литорий велел подать большую чашу с вином. Мгновенно осушил ее и велел наполнить снова. Лицо его разгорелось, волосы растрепались, глаза сверкали дико и радостно. Странные люди в покровах наклонились на полу над чем-то живым, трепещущим, хрипло кудахчущим… Брызнула кровь… И тут же отхлынула кровь от лица даже самых храбрых солдат. Литорий взглянул на смертельно бледных Рицимера, Вита и других комесов, на искаженные страхом лица женщин, на склоненных, полных опасения и одновременно лихорадочного любопытства гуннских вождей, наконец на епископов… Все четверо стояли, прижавшись друг к другу, закрыв лицо руками, с трясущимися коленями…
— Гляньте, — сказал Литорий, — их уже не разделяют единосущность и подобосущность! По-братски жмутся друг к другу, соединившись в варварской ненависти ко всему римскому.
Люди в белых покрывалах, обильно запятнанных кровью, высоко подняли дымящиеся птичьи внутренности.
— Что скажут гаруспиции? — снова нарушил смертельную тишину голос Литория. — Каково божье вещание прочитали по внутренностям священных жертв?..
— Ты победишь, вождь!
Литорий радостно схватил вновь наполненную чашу. Быстрым движением наклонил ее, вылив на землю почти половину вина.
— Тебе, могущественный бог… тебе, Марс, Квирин, отец и друг храбрых, приношу эту жертву, прежде чем завтра принесу другую, стократ больше и приятнее твоему благородному, не женскому, не назаретянскому сердцу!.. Видели, святые мужи?.. Зачем мне мир с Теодорихом, если боги обещали завтра победу?.. Возвращайтесь и скажите, что за все, что при Аларихе перенес от готов Рим, завтра стократно расплатится Толоза — только церкви не будут ни для кого убежищем… А ты, Ориенций, скажи толозским римлянам: пусть с рассветом ударят на готов или покидают город… Кого я застану в городе бездеятельным и безоружным — всех отдам своим, храбрым гуннам!
А назавтра…
— Назавтра, — усталым голосом продолжает после краткого перерыва свой рассказ свев Рицимер, — в полдень закатилась римская слава… Гунны навалом легли под стенами Толозы, лишь небольшой группе удалось спастись… Раненый Вит и я — истекающий кровью — еле удержали строй… вывели войско на дорогу к Элузии… Треть осталась там…
И через минуту добавил:
— Ессе Deus Victor…[84]
Марцеллин и Меробауд молчали. Аэций, не отрывая глаз от надписи на памятнике Констанция, глухим голосом спросил:
— А Литорий?..
Рицимер пожал плечами…
Молоденький нарбонец Леон долго колебался, прение чем взять в руки большой тяжелый камень. Ведь он же римлянин! Правда, он уже давно убедился, что галльским римлянам гораздо лучше живется под властью короля Теодориха, чем во Второй Аквитании, где все стоном стонут, не в силах больше выдерживать гнет союзных гуннов; да и сам он во время осады Нарбона имел возможность во владениях своего отца сравнить поведение готов с действиями союзников, но ведь все-таки он римлянин и никогда не решится… Беспокойно смотрит он вокруг: в двойном шпалере, тянущемся вдоль всей улицы, римлян немногим меньше, чем варваров. И почти у каждого в руке большой тяжелый камень. Нарбонец Леон начинает успокаиваться. Он еще очень молод, но голова у него — как утверждают учителя — не по годам: он уже изучал логику и умеет ясно, умно рассуждать. Почему он здесь, в Толозе?.. Он укрылся здесь вместе с братом матери от гуннов Литория. Но ведь он римлянин, и Литорий тоже. Все это так, но, во-первых, брата его матери, посессора из-под Элузии, король Теодорих и прославленный полководец Анаолз дарят особливым вниманием, а во-вторых, победа над Литорием — это не столько триумф готов над римлянами, сколько над самыми дикими из варваров — гуннами, а прежде всего триумф христианского бога над мерзостным языческим колдовством! И наконец, разве Литорий не обещал отдать всех римлян Толозы своим гуннам?! Значит, он-то не смотрел на то, что он римлянин и они римляне?.. Вот и они теперь не посмотрят на это: им ближе король Теодорих, чем мерзкий язычник и вождь диких, языческих гуннов Литорий… И поступят с ним так, как учит Ветхий завет… Леон с болезненным напряжением морщит лоб: видимо, он еще молод и мало учен, чтобы разрешить эту задачу: что важнее?.. Общность romanitatis или общность веры? Нет никакой общности веры: ведь готы — это еретики… Мысль юнца работает быстро, лихорадочно… Еретики, но христиане… а Литорий, хотя римлянин, как я, но кощунствовал и святотатствовал, оскорбляя Христа…
— Ведут! Ведут! — послышались громкие крики.
Пальцы всех людей, как по команде, крепче сжали камни. Крики доносились слева — прежде чем взглянуть туда, Леон обратил взгляд вправо, где в конце улицы виднелось большое возвышение, там сидел, окруженный самыми прославленными готскими воинами, король Теодорих со всей своей семьей: жена, шесть сыновей (двое из них еще совсем младенцы) и две дочери.
С той стороны протискивался к Леону друг и благодетель брата его матери, могущественный вождь Анаолз. Он дружелюбно улыбался юнцу, стискивая в руке камень, в три раза больший, чем тот, который держал нарбонец.
— Сейчас начнем, — сказал он почти весело, и Леон почувствовал, как сильная дрожь пробежала по его телу.
Крики «Ведут, ведут!» все приближались. Леон знал, что еще ничто не началось и не начнется, пока приговоренного не подведут близко к возвышению, чтобы королевская семья — включая дочерей и маленьких ребятишек — могла докинуть до него камень, что должно явиться знаком начала казни. А Леон никак не мог побороть все усиливающуюся дрожь и все же упорно смотрел влево. Шум приближался. Наконец он увидел…
Первым шел высокий рыжеволосый гот с очень гневным выражением лица. За ним другой гот, бородатый, седеющий, с бесстрастным лицом — с таким, какие Леон привык видеть в Нарбоне у императорских чиновников, когда они выполняли свои служебные обязанности. У обоих к поясу были привязаны цепи, соединявшие их с приговоренным. Леон застывшим от страха взглядом впился в его лицо: он был готов увидеть человека, обезумевшего от ужасной, звериной тревоги или хотя бы скорчившегося, мрачно сгорбившегося и еле волочащего трясущиеся ноги… Изысканно одетый, умащенный благовониями, завитый, гладко выбритый Литорий шел свободным, бодрым шагом, как будто на пир… радостный, улыбающийся!..
Леон вдруг почувствовал тошноту и резкую, до боли, пронзительную спазму в горле. Он еще раз бросил взгляд на улыбающееся, веселое лицо Литория… быстро выпустил камень и с пронзительным возгласом: «Не могу… не могу!» — разразился громким плачем, закрывая руками глаза и затыкая пальцами уши. «Ничего не видеть… ничего не слышать…»
И в эту минуту первый камень, ловко брошенный рукой третьего королевского сына Фридериха звонко ударился в лоб приговоренного. Два гота быстро отскочили в стороны, натянув концы цепей, которыми были связаны за спиной руки Литория, не давая ему заслоняться от ударов. И тут с обеих сторон шпалера посыпались сотни камней. Громкие крики: «Язычник!.. Святотатец!.. Убийца! Палач готского народа!..» — заглушили стон, сначала тихий, напоминающий смех… потом усиливающийся, но еще глухой, хриплый… Леон не смотрел. Он весь корчился, когда до слуха его доходил глухой, хриплый, животный вопль… Он был счастлив, когда звуки эти заглушил на минуту Анаолз, издевательски крикнув ему:
— Римлянин, ты — баба… даже за оскорбление Христа отомстить не можешь!..
И вновь хриплый, все чаще обрывающийся стон и стук падающих камней.
Около четырехсот камней лежали не на середине улицы, а под ногами дико воющей толпы: ни один римлянин не бросил своего камня в идущего вдоль шпалера святотатца… палача… предводителя диких гуннов!..
Неожиданно хриплый стой перешел в пронзительный дикий крик… и вновь… и вновь… А потом глухое, звериное рычание… И снова крик… И шум тяжело падающего тела…
— Встает… идет… прокусил себе язык… лица уже не видать… О, о… снова падает… Бросайте… бросайте… Пусть встанет… Поднимается, поднимается!..
Нарбонец Леон чувствует, что предпочел бы умереть, только бы не слышать этих криков. Но умереть иначе… Не так… Не так… На миг он отрывает руку от глаз, но смотрит не туда, не на середину улицы, не на мерно — потому что все замедленнее, — поднимающиеся и швыряющие камни сотни рук… Он смотрит на гота Анаолза. Багровое обычно лицо великого воителя — еще минуту назад такое же, как всегда, — теперь белее туники Леона.
Массивная челюсть трясется, громко стучат большие белые зубы… В широко раскрытых глазах стынет ужас.
Губы его шепчут:
— Падает в третий раз.
Марцеллин тактично отворачивается. Меробауд закрывает глаза. Рицимер опускает взор к земле. Пусть знает Аэций, что ничей нескромный, дерзкий взгляд не осмелился следить, как оплакивает друга могущественнейший муж империи. Слезы могут свободно потоками стекать по грубо вытесанным скулам, скапливаться в искусно завитой бороде. Рицимер в душе не одобряет оплакивания заслужившего смерть мерзкого язычника, высокомерного кичливца, почти безумца… Но и он думает то же, что два друга: может ли быть большее счастье, чем гибель, почтенная слезой Аэция?!
На форуме Траяна начинается движение. Уже половину Рима облетела скорбная весть о страшном поражении и ужасной смерти Литория. К памятнику Констанция быстрым шагом устремляются любимец императора Вегеции Ренат, консул Фест и magister officiorum[85]. Подъезжает и Секст Петроний Проб. После ненастной ночи начинается ясный, солнечный день. Следы слез тут же исчезают с лица Аэция. Он приветственно вскидывает ладонь и говорит:
— Пожалуйста, Секст, уведомь в полдень Пелагию, что я уехал.
— Куда?..
— В Галлию.
Приближался префект претория. Сначала торжественно внесли и поставили на мраморную плиту круглого стола огромный стофунтовый чистого золота пенал. Потом вошел в комнату одетый в затканный серебром далматик молодой магистриан с серебряной, искусно отделанной чернильницей, неся ее на далеко вытянутых руках с таким почтением, словно это был священный церковный сосуд. Наконец появился сам Авит. На нем был торжественный официальный наряд mandyes, почти императорский пурпур, но достигающий лишь до колен, а не до пят. При виде его Меробауд, Марцеллин и Рицимер преклонили колени. Аэций подумал с раздражением: «Что за дурацкий обычай, чтобы военные вставали на колени перед гражданским сановником только потому, что некогда префект был военным титулом…»
С раздражением, но и с некоторым удивлением (скорее неприязненным) присматривался он к новому префекту претория Галлии. Мог ли он девять лет назад, когда после Колубрарской битвы провожал иронической усмешкой отправляющегося к готам молодого Авита, предполагать, какие результаты даст эта поездка?! Какое влияние будет она иметь на последующую историю?! Разве мог он предположить, что вот теперь — после поражения Литория — благословлять будет ту минуту, когда изнеженный сенаторский сынок вздумал отправиться к варварскому двору Теодориха с просьбой вернуть матери римского заложника?! Потому что Мецилий Авит не только добился освобождения юного Теодора, но и своим поведением и искусством речи так очаровал короля вестготов, что сразу стал его другом, близким товарищем и советником, а вскоре — когда Теодорих убедился в большой учености юного посессора — учителем старших королевских сыновей, перед которыми раскрыл весь неведомый и манящий мир всеведения, прежде всего пробудив в ребяческих, грубых, жадных к знанию и впечатлительных умах любовь и преклонение перед прекрасной римской речью, перед волшебством поэзии и величественным благородством прозы. Вскоре он уже имел при толозском дворе такой вес, что помощь его стала просто необходима как для Теодориха, так и для префектов претория Галлии, когда заходила речь об улаживании отношений между готами и империей. В Толозе он выступал как рьяный поборник прав империи над отданными готам провинциями: римское население этих земель благословляло его как своего защитника и опекуна; в Арелате же он настойчиво провозглашал лозунг вечного мира между империей и самым сильным из варварских народов, усматривая в узах этих двух сил залог целостности и нерасторжимости империи и обуздания аппетитов других племен, ощипывающих со всех сторон владения Рима, его авторитет и идею римского мира. Он был противником дальнейших захватов со стороны готов: когда Теодорих, обеспокоенный триумфом Аэция над бургундами и его союзом с гуннами, осадил Нарбон, — Авит перестал бывать в Толозе и учить королевских сыновей. Так же искренне он радовался первой победе Литория, но настаивал на немедленном заключении мира на тех же условиях, что и семь лет назад. Когда же Литорий стал затягивать войну, он, оскорбленный, совсем отошел от общественной жизни, отсиживался в тиши своих арвернских владений, которых не покидал до той поры, когда после поражения Литория воля императора и патриция призвала его на должность префекта претория Галлии; и в Риме и в Равенне хорошо знали, что более или менее почетное окончание готской войны — столь недавно еще победоносной и сулящей такие блистательные виды — находится единственно в руках Авита. Правда, Аэций, вернувшись в Галлию, пытался предпринять военные шаги против вестготов, но войско было основательно разбито, рассеяно и настолько утратило боевой дух, что даже прибытие патриция не в состоянии было пробудить воинского рвения. Куда хуже было настроение галльского населения, особенно Нарбонской провинции и аквитанской Галлии: богатые посессоры — так же, как и города — вслух высказывались против дальнейшей войны. Аэций был удивлен и серьезно встревожен той неприязнью, которую Литорий и гунны вызвали во всей западной и южной Галлии. Население бурно требовало вывести гуннские отряды; а без них римское войско неспособно было победно сражаться с готами. Значит, единственным выходом оставался мир. Аэций знал, что и в этом вопросе он может полагаться единственно на префекта претория и заранее должным образом оценивал все значение услуги, которую Авит может оказать империи. И все же, несмотря на это, а может быть, именно поэтому, он не мог сдержать раздражения и неприязни, которые вызывал в нем вид префекта, так что, когда комесы и чиновники покинули комнату, оставив сановников одних, он не мог удержаться, чтобы не подпустить шпильку:
— Говорят, во время последней войны, сиятельный, свойственники и друзья твои Оммаций, Фаустин и Домиций геройские дела творили: где и как могли, трепали крылья императорского войска…
Авит устремил на Аэция спокойный, полный достоинства взгляд.
— Поистине обижаешь ты меня, славный муж, не изволив и меня упомянуть в связи с этими делами… Не раз и не два я во главе своих букцилляриев и колонов должным образом проучил самых лихих грабителей, каких знает мир, — гуннов…
— И ты смеешь об этом говорить, сиятельный префект?! Ты знаешь, что за такое дело, как за обычную измену, надо вешать… рубить… конфисковать имущество?!
— Знаю… Я видел целые поместья, развеянные с пеплом… видел целые леса повешенных… сенаторов и посессоров, закованных в цепи… Сиятельный Литорий отлично преследовал и карал измену. Налетают дикие гунны в городок, в виллу, в деревню… Грабят, бьют… насилуют женщин… режут скот… Когда же чья-то рука поднималась для защиты, вмешивается военный закон в лице начальника конницы и восклицает: «Измена… пособничество готам… насилие над союзниками!» А потом огонь, меч, виселица, цепи… Некоего почтенного сенатора из Битуригии кинули в тюрьму, потому что он действительно не знал, кто же собственно враг, а кто союзник: гот или гунн?!
Аэций не спешил с ответом. Какое-то время молча разглядывал он префекта: его пурпур, маленькие холеные руки, бороду с золотистым отливом, небольшие, очень стройные ноги, гемму на мизинце правой руки. И только когда заметил, что испытующий вопросительный взгляд Авита начинает выражать превосходство и торжество, — он негромко, но отчетливо, твердо и резко сказал:
— Ты хорошо сказал, сиятельный Мецилий: военный закон… Тяжелый это закон, но самый главный… Мне ли тебя учить, потомка стольких поколений сенаторов, что salus rei publicae suprema lex?..[86] Согласен. Гунны были непокорны, обременительны, нередко буйны, жестоки и дики. Но они сражались за римский мир. Что значат десятки сожженных деревень, разрушенных вилл, разграбленных поселений, когда те, кто жег, разрушал и грабил, несли на своих копытах и на остриях своих мечей победу Рима.
Авит весело рассмеялся.
— Несли, да не донесли, Аэций. В том-то все дело. Зачем же были все эти жертвы, которые население Галлии — неважно, добровольно или нет — должно было приносить дикости союзников pro saluta rei publicae, если все это завершилось только поражением и позором?! Я не одобряю того, что сделал Теодорих с захваченным римским полководцем, но воистину, Аэций, никогда ни один враг — внешний или внутренний — не причинил тебе, твоей славе и твоим трудам на благо римскому миру такого ущерба, как глупец, безумец и высокомерный гордец — истый пузырь, надутый пустой гордыней, — мерзкий язычник Литорий.
Аэций побледнел.
— Не смей так говорить о Литории, — еле сдерживая ярость, процедил он сквозь зубы, — это был мой самый дорогой друг… Позор тебе, Мецилий!.. Слышишь?.. Это я говорю тебе не как патриций префекту, а как полководец своему бывшему солдату: позор римлянину, который бесчестит умершего… пусть даже словом..
В свою очередь побледнел Авит.
— Я не хотел обидеть ни тебя, Аэций, ни твоих чувств… и не хотел бесчестить мертвого… Но я галл и христианин и сердце мое не может не кровоточить при виде бед, которые обрушиваются на мой край, и не могу не выказывать отвращение, когда полководец христианской империи, правая рука христианского патриция, отправляет богомерзкие обряды и свершает языческие гадания, бесчестит христовых епископов и само христово учение… Я не скрываю от тебя, Аэций: я радуюсь, вдвойне радуюсь поражению Литория. Во-первых, потому, что проявил свое могущество царь царей, справедливо, по заслугам распределив поражение и победу. А во-вторых, потому, что не удалось безумной голове твоего друга свершить жестокое, бесчеловечное намерение уничтожить народ, стереть с лица земли само имя готов…
Аэций смотрел на него уже без гнева, но с презрением и почти снисходительно.
— И это римлянин?! — воскликнул он голосом, полным издевки и горечи. — Посессор, сенатор и префект претория?! Поистине, как же еще может существовать Рим, и империя, и римский мир, если так разговаривают высшие императорские сановники?! Действительно, трудно поверить, Мецилий: неужели ты искренне хотел бы, чтобы над этим вот Арелатом, над Нарбоном, над Битуригией и твоими родными Арвернами простирал свою власть вестготский король, отторгнув их от единой Римской империи?
— Наоборот, Аэций… я ничего так не хочу, как вернуть империи Толозу, Новампопуланию и Аквитанию…
— Ты говоришь, как ребенок, сиятельный префект… как ребенок, у которого мячик упал в воду и который стоит на берегу, плача и вздыхая. Чтобы вернуть то, что у нас отняли варвары, требуется много жертв, крови, убийств, борьбы, уничтожений. И только действуя так, как Литорий, которого ты называешь жестоким и бесчеловечным, можно осуществить твои чаяния…
— Не только, Аэций… взгляни вот сюда налево…
Западную стену приемной комнаты претория украшала гипсовая группа: римский легионер в полном облачении времен Цезаря дружески пожимал локоть благожелательно улыбающегося галла с длинными, вислыми усами, в колючем шлеме на голове, в широких штанах на больших, толстых ногах, с огромным мечом в одной руке и продолговатым щитом — в другой.
— Вот другой способ, не по Литорию, — воскликнул Авит. — Разве не сражался Рим насмерть с галлами, Аэций?. А теперь разве сражается?.. Нет. Ведь и я галл… и твой комес Вит… и Аполлинарий… и Домиций… Мы живем, и не надо было ни нас, ни отцов, ни дедов наших истреблять огнем и мечом, чтобы навеки неразрывно соединить Галлию с Римом и римским миром. Это же можно сделать и с готами, Аэций… и право же, это единственное, что можно сделать, ведь весь народ все равно не перебьешь. Да, Аэций, вот настоящий римский мир. Какова же его цель?.. Уничтожить насилие, грабительство и дикий обычай, и всюду, где до сих пор господствовала только война, нести власть римского права.
Аэций усмехнулся.
— А когда во всем мире воцарится pax romana, то и войны навсегда кончатся?..
— Навсегда.
— А что будут делать те, которые лишь для того и живут, чтобы воевать?.. Что, например, будут делать гунны?.. Неужели и их дикость и воинственность укротит благословенный римский мир?..
У Авита загорелись глаза.
— А ты можешь приручить пантеру или волка, Аэций! — воскликнул он с величайшим волнением. — Ты спрашиваешь, что будут делать те, кто лишь для того живет, чтобы воевать?.. О, Аэций, им хватит работы: можно обработать любое поле, но сначала надо вырвать сорную траву. Вот они и будут уничтожать сорняк: диких, жестоких, не способных к приручению… бешеных двуногих зверей — гуннов!.. Да, Аэций… двуногие звери — это не люди!.. Взгляни на гота и на гунна… Разве германский варвар не больше похож на римлянина, чем гунн вообще на человека?.. Ты знаешь их нравы, обычаи, хорошо знаешь эти корявые тела… раскосые глаза, ни на чьи больше не похожие… эти обезьяньи лица… Твоя достойнейшая супруга, дочь Карпилия, происходила из готского народа… Разве она была тебе мерзка в постели?.. Разве ты стыдился показаться с нею на форуме?! А вот на гуннской женщине ты никогда бы не женился, Аэций, как лев не женился бы на верблюдице или гиене… Готы и римляне — это далекие родичи, только не поладившие, Исав и Иаков… Исаак и Измаил… Но гунны — это даже не далекие родичи… это лемуры… это демоны в якобы человеческих телах…
«Изрядно, видимо, они у тебя пограбили владения», — раздраженно думает Аэций и говорит:
— Что же касается войны с готами…
— Лучше не надо о войне… не будем терять времени, — все еще взволнованно восклицает Авит. — Я знаю, чего ты хочешь от меня… Сегодня же я отправляюсь в Толозу, но ты вновь признаешь за Теодорихом все то, что было после Колубрарской битвы…
Аэций удивленно смотрит на него.
— Ты думаешь, что он не потребует большего?.
Авит пожимает плечами.
— Из-за клочка Второй Аквитании мы спорить не станем… но больше я не дам ему ничего…
Аэций хочет подать ему руку. Он уже было протянул вперед пальцы. Но раздумал.
Меробауд громко читает новую оду. Марцеллин время от времени сдерживается, чтобы не взорваться: что за варварские обороты!.. Какая небрежная метрика!.. Разве можно таким образом пользоваться зевгмой и анафорой?! Аэций даже не притворяется, что слушает: ода воспевает пятидесятую годовщину его рождения, но до этого дня еще далеко, — Авит же все еще не вернулся и не прислал никакого известия. Загребая большими ступнями разноцветные плиты мозаичного пола, патриций в сотый раз меряет быстрым шагом просторный таблин. Неожиданно он останавливается. За дверью слышны голоса.
— Это что, сиятельный префект вернулся? — спрашивает он торопливо у вбежавших в таблин людей.
— Нет… это гонец прибыл из Италии… Горе империи! Горе правоверным! Дерзкий Гензерих вторгся в Проконсульскую провинцию, четырнадцатого перед октябрьскими календами занял Карфаген… Святого епископа Квотвультдея без весел и пищи вытолкнул в лодке в море, на верную смерть… Но бог опекал апостольского мужа… прибил его к италийскому берегу…
Марцеллин и Меробауд вскакивают.
— Передадите префекту, что я уехал, — спокойно говорит Аэций охваченной страхом толпе, уже заполнившей таблин.
— Куда, сиятельный?..
— В Италию.
В перистиле ожидают посланцы Сигизвульта. Главнокомандующий торопит патриция, чтобы тот как можно скорее ехал в Неаполь. Вот уже тридцать лет, со времен нашествия Алариха, не грозила Италии такая страшная опасность, как ныне. Вся восточная Африка — Проконсульская провинция и Бизацена, не говоря уже об остатках Нумидии — захвачена вандалами. Их корабли не только нападают на плывущие из Испании и из Восточной империи галеры, но и появляются уже у самых италийских берегов. В Сицилии Гензерих осадил Лилибей и перебрасывает из Африки все новые и новые войска. В любую минуту он двинется к Италии. Правда, Аэций тоже перебросил через Альпы почти все галльские легионы, но они еще тянутся под Медиоланом и Равенной; а у Сигизвульта нет даже половины италийских войск: нет ничего, кроме трех палатинских легионов и одиннадцати ауксиларных, а что это по сравнению со страшным Гензерихом?… Сигизвульт вот уже две недели ожидает прибытия патриция в Неаполь: Аэций был в Риме и вот снова вернулся в Равенну! Посланцы имеют приказ на коленях молить патриция, чтобы он не медля — не ожидая завтрака — сел на коня и отправился в Камианью. Но вот они уже час стоят в перистиле, и их все еще не допустили к патрицию… Их охватывает раздражение. Что может делать Аэций?.. Им говорят, что он закрылся в библиотеке с Вегецием Ренатом. В действительности же Ренат с раннего утра не покидал еще ни на минуту священный дворец, где читал императору новые главы своей книги о военном искусстве, а патриций даже не заглядывал сегодня в библиотеку. Только что он вернулся из Классийского порта, где осмотрел с Марпеллином корабли, на которых собирался перевезти из Иллирии вспомогательные войска, направленные на помощь Западной империи Феодосией — императором Восточной империи, и тут же, выскочив из колесницы, быстрым шагом, почти бегом устремился к гинекею. Ему сказали, что Пелагия одна в маленьком садике. Действительно, она была там, прохаживалась по солнечной стороне, глубоко погружая ноги в мягкий, сильно нагретый лучами песок. Это напоминало ей детство… Африку… Думая об Африке, она отнюдь не испытывала радостных чувств: вот она и потеряла все. Вандалы захватили достояние Пелагиев — ничего у ней не осталось. Но, увидев Аэция, она просветлела. Когда он подскочил к ней, весь дрожа от лихорадочного любопытства и тревожного волнения, она не могла не улыбнуться, хотя и опустила стыдливо глаза к земле…
— Это правда?.. — спросил он дрожащим, тихим, пресекшимся голосом.
Она кивнула. Тяжело дыша, сжимая и разжимая кулаки, он долго испытующе смотрел ей в глаза… Потом опустил взгляд ниже. Она почувствовала, что ее заливает волна горячего румянца.
— Еще рано, чтобы что-то сказать… — еле смогла она прошептать и закрыла лицо руками.
Аэний с минуту стоял неподвижно, громко хватая воздух широко раскрытым ртом. И вдруг с преобразившимся до неузнаваемости лицом упал на землю… той самой рукой, которая некогда била Пелагию по лицу, по плечам, но спине, извлек из песка теплую темную ступню и, прильнув трясущимися губами к длинным, узким пальцам, хрипло крикнул: — Счастье! Счастье!
— Примиритесь! — говорит диакон Леон.
Аэций не перестает барабанить пальцами по краю мраморной плиты круглого стола. Альбин Соммер гневно пожимает плечами. К чему это мудрый диакон делает из себя и из них комедиантов?.. Ведь еще до полудня он предложил каждому по отдельности подробные условия примирения и получил согласие обоих: префект претория остается на своем месте, но не будет с этого времени вникать в отношения между патрицием и поселившимися в Галлии федератами. Сформулированное таким образом примирение было, собственно, еще одной победой Аэция: местная гражданская власть, согласно с его желанием, утрачивала всякое влияние на раздел императорских земель среди варваров; но в полнейшем отстранении Соммера Аэций отнюдь не был заинтересован. Ведь еще не заглохли отголоски внезапной отставки предыдущего префекта, Авита, зачем же вызывать новое брожение умов столь быстрым устранением его преемника?! Почетная отставка, влекущая за собою окончательное развеяние всяких надежд на столь желанную италийскую префектуру, так пугала Соммера, что он принял все условия, предложенные Леоном, и даже согласился на встречу с Аэцием. Правда, он так был раздражен и уязвлен, что любой пустяк мог легко вывести его из равновесия, и именно торжественно произнесенные диаконом слова: «Примиритесь» — оказались этим пустяком… «Если уж Леон так этого хочет, будет ему комедия, не хуже, чем в театре Бальба», — подумал с досадой Соммер и, отлично выражая удивление, воскликнул:
— Это кто же правая рука сиятельного патриция?.. Использовать мудрого и ученого слугу Христова для посредничества между мной и патрицием империи?.. Ехать из Италии в Галлию… подвергаться опасностям и тяготам в дороге через Альпы?! Ради кого?.. Я всего лишь скромный приверженец Христов и с радостью склонюсь перед советом и авторитетом слуги божьего… но я не понимаю, как ты мог, набожный и искушенный муж, питать такую надежду, что тебя захочет послушать… кто?.. якобы правоверный христианин, а на самом деле приятель мерзких, безбожных язычников и презренных еретиков!
Он бросил на Аэция дерзкий, вызывающий взгляд. Но патриций даже не взглянул в его сторону, весь поглощенный созерцанием лица и глаз диакона. Альбин Соммер, не получив никакого ответа, повысил голос и продолжал:
— А кто правая рука сиятельного?.. Язычник Марцеллин… Чья смерть исторгла слезы из глаз твердого, как скала, воина?.. Смерть языческого короля Ругилы и Литория… Кому велел он воздвигнуть памятник в сенате? Врагу христовой веры Флавиану… Кого сделал консулом вместе с собой?.. Еретика Сигизвульта… На ком женился?.. На арнанке… еретичке…
Диакон Леон резко прервал его.
— Дивлюсь я, сиятельный префект, что ты не обратишься еще к тем временам, когда твой прадед при Диоклетиане и Максенции бросал христиан на растерзание львам… Пелагия не только почитает Христа сына божия, единосущного отцу, но и ревностно чтит Марию Теотокос и память архиепископа Афанасия…
Аэций с трудом удержал навернувшуюся на губы улыбку. Только теперь он полностью оценил все значение своей победы над Пелагией.
Изумление, которое рисуется на лице Соммера и звучит в его голосе, уже потеряло естественность. Еще больше раздосадованный неожиданным отпором со стороны Леона, он, уже совсем не владея собой… топает ногой… кричит:
— Я не смею судить мужа, который не сегодня-завтра станет высшим священнослужителем. Но взгляни в свое сердце, искушенный, набожный Леон. Может быть, ты скажешь, что защищаешь нашего патриция не как слуга божий, а как римлянин?.. Я уже знаю многих таких диаконов и священников, которые говорят только так. Но кого же вы на самом деле защищаете?.. Человека, который шел к власти через убийства, а к могуществу — через дружбу с гуннами. Разве не он убил Феликса? Не угрожал Плацидии двукратным нашествием? Не поднял бунт против законного патриция?.. А его победы?.. Смейся, искушенный Леон!.. Он умел бить варваров, но, как видим, не очень… Со свевами не управился… Гензериха боится… Под Голозон тоже дал себя позорно побить: ведь это же его план… его волю в лице Литория разгромил король Теодорих! А если бил других, то не один, а лишь с помощью гуннов… Кто покорил бургундов?.. Уж никак не Аэций, а Аттила… Кто побеждал готов?.. Кто пришел на помощь осажденному Нарбону?.. Гунны… А Аэций?.. Раз только стал лицом к лицу с достойным противником… с римским полководцем… под Аримипом… и ты знаешь, чем это кончилось, благочестивый Леон! — заключил он, разразившись громким смехом.
Только теперь перестали барабанить по столу пальцы Аэция. Леон кинул на патриция умоляющий взгляд. Однако тот, не обращая на него внимания, подошел к Соммеру и, коснувшись грудью его груди, спокойно сказал:
— Хорошо, что ты напомнил о Феликсе… надо будет повторить…
Мгновенно смех замер на устах Альбина. Он весь съежился, но не побледнел, наоборот, лицо его было красное, пылающее…
— Он болен! — крикнул Леон. — У него горячка…
И он встал между Аэцием и Соммером. Префекта трясло; Леон не знал, от страха (может быть, только сейчас осознал, что говорил!) или от болезни?.. Он прикоснулся к его горящей ладони… Потом заглянул в лицо: взгляд Альбина был совершенно спокоен… мысль, которая в нем отражалась, была мыслью здравого человека… Леон на лету сообразил, что надо делать: с одной стороны, убедить Соммера, что в том, что он говорил, не было правды… (Диакон был крепко убежден, что префект действительно неправ!) С другой стороны, следует сразу, с корнем вырвать из Аэциевой души грозящую страшными последствиями, отлично маскируемую, но поистине смертельную уязвленность! Поэтому он схватил обоих за руки и с жаром воскликнул:
— Болезнь снедает тебя, и ты сам не знаешь, что говоришь, сиятельный префект. Право же, восхищения достойны спокойствие, невозмутимость и многотерпимость, которыми одарена душа патриция империи… ты и сам видишь — поистине, душа настоящего мудреца и христианина не способна ко гневу и мщению за безумные, неосмысленные, в тяжелой горячке брошенные слова… Каюсь, будь я на его месте, не знаю, смог ли бы я так быстро понять, что это обида и оскорбление, за которые мстить мог бы только безумец… И все же это обида и оскорбление, и притом тяжелое и горькое!.. Подумай сам, что ты говорил, Альбин Соммер? Кого ты оскорбил, ты, императорский сановник?.. И не в том дело, что ты обидел несправедливым словом своего начальника… патриция империи… могущественного полководца… мужа, который мог бы тебя, как беззащитную букашку, расплющить одним движением ладони… Нет, не в этом дело, а в том, кого ты обидел и оскорбил на самом деле… Мужа, который один грудью своей прикрывает Рим, империю и римский мир… Что бы мы теперь были без него? Без нашего щита?.. Последнего щита?..
Он повел взглядом вокруг. На минуту устремил его на группу, изображающую братание римского легионера с галлом.
— Да, Альбин… действительно, Аэций — это наш щит… наш последний римский щит…
— Последний римский щит? — удивленно воскликнул патриций, как будто что-то припоминая.
Леон улыбнулся.
— Ты вспоминаешь эти слова, славный муж, так ведь?.. Когда-то, много лет назад — ты наверняка не помнишь об этом, — отец твой жил в Тусции и дружил с моим отцом, Квинцианом. Оттуда мне и памятны эти слова. Но сиятельный Гауденций, пожалуй, несколько щедро сыпал ими направо и налево. А по-настоящему один только имеется последний римский щит — это Аэций! И не потому, сиятельные мужи, что он римлянин… Нет… Взгляните только на это вот изваяние… на щит этого легионера… Он не такой, как галльский, готский, франконский. Округлый и выпуклый, равномерно выпуклый, все точки одинаково отстоят от центра… Так что любой удар — с какой бы стороны ни пришелся — отражается с одинаковой силой. И разве не так вот уже пятнадцать лет действует Аэций, о Альбин Соммер?.. Со всех сторон сыплются на империю удары: с севера — франки… с запада — свевы и готы… с юга — вандалы и восстания багаудов… с востока — бургунды, ютунги, норы… Кто же все эти удары отражает с одинаковой силой?.. Аэций. Только Аэций! Всегда Аэций!!
С удивлением смотрит патриций в лицо диакона. Без труда прочитал он в мудрых, глубоких глазах озабоченный вопрос: «Простишь ему?..» И так же, глазами, отвечает Аэций. А потом протягивает руку Соммеру.
Префекта претория Галлии действительно треплет лихорадка. Но мысль его все еще ясна и быстра. Удивленно смотрит он на протянутую руку, которая могла бы одним движением расплющить его, как беззащитную букашку… как Феликса… А может быть, диакон прав?.. Может быть, действительно это горячка вырвала из груди несправедливые, оскорбительные слова?.. Горячими пальцами сжимает он протянутую руку.
— Прости, Аэций, — говорит он тихо и, качаясь на ходу, покидает таблин.
Как только он исчез за порогом, патриций протянул руку Леону:
— По правде достоин ты того, чего удостоился, святой муж апостольский…
Диакон смотрит на него удивленным, вопрошающим взглядом.
— Клянусь святыми Юстом и Пастором, что не шучу… ты меня нарекаешь…
Аэций улыбается.
— У меня есть для тебя новость, Леон… Я получил ее час назад… из Рима прибыла галера…
— Давно не был я в Риме… Но из Равенны и я кое-что привез для тебя, господин…
— Что же это такое, муж апостольский? — с сильно бьющимся сердцем спрашивает патриций.
Леон хмурит брови.
— Ты шутишь надо мной или над священным саном, сиятельный, — говорит он с горечью.
— Клянусь святыми Юстом и Пастором, что не шучу… Посланцы из Рима привезли весть, что навеки закрыл глаза епископ Ксист…
Диакон прячет лицо в ладони.
— Действительно, моя новость не такая, Аэций, — говорит он глухим голосом и опускается на колени.
Рука патриция опускается на плечо диакона.
— И еще сказали посланцы, что народ Рима в третий день перед октябрьскими календами выбрал себе нового пастыря… Леона, сына Квинциана…
Он был уверен, что диакон, охваченный радостным изумлением, тут же поднимется на ноги. Но Леон не шелохнулся. Только губы его шептали что-то… быстро… долго… Наконец он поднял к Аэцию полное сосредоточенности, залитое слезами лицо.
— Я же только диакон, — сказал он. — Даже еще не помазан в священники… Не знаю… можно ли мне… Столько есть выше меня священнослужителей… более достойных…
— И ты еще колеблешься, Леон?! — воскликнул удивленно Аэций. — Ведь только от тебя зависит, чтобы завтра же тебя помазал Хиларий Арелатский… И не будь ты таким скромным, как отшельник… Патриций империи говорит тебе: нет более достойного, чем ты! Право, Леон, скажи сам, разве не лучше для римской церкви, когда пастырем ее будет муж, которого патриций империи хотел бы назвать своим другом?.. Насколько бы легче тогда было править…
Молниеносно поднялся с колен Леон.
— Леон, сын Квинциана, с радостью назовет сына Гауденция, последний римский щит, своим другом, — сказал он гордо, — но Papa Romanus[87] слуга слуг божьих, не нуждается в дружбе земных владык, чтобы достойно свершать свое правление…
Изумлению Аэция, казалось, не было границ.
— Это что же, апостольский муж?.. Уж не думаешь ли ты, что дружба патриция защитит Рим от страшного соперничества любимцев двора, архиепископов Равенны?..
— Столица святого Петра не боится никакого соперничества!..
— Но, Леон, столица святого Петра — это Антиохия… — начал было Аэций, смущенный улыбкой высокомерного превосходства, которая заиграла в уголках рта нового епископа Рима, и вместо того, чтобы рассердиться, подумал: «Может, я и впрямь что-то напутал», — и вдруг, припомнив что-то, спросил несколько дрожащим голосом: — А какая у тебя для меня новость, епископ?..
Леон улыбнулся.
— Я знаю, что Пелагия, несмотря на всю свою набожность, питала грешные опасения, что это в наказание за то, что она отвергла учение Ария, бог отказывает вам в ребенке, а может быть, и навсегда сделал лоно ее бесплодным… Теперь уже кончились эти опасения… Ты отец, Аэций…
Большие сильные пальцы судорожно впились в край одежды Леона. Но полуоткрытые губы не смели задать вопрос. Только расширенные глаза молили о милости… о милосердии… о чуде…
— У тебя сын, Аэций, — сказал епископ Рима.
И протянул спешащие помочь руки.
Вершина величия
Послы чувствуют, что Аэций уловил замешательство, которое после его приветственных слов тут же отразилось на их лицах, а у трех-четырех даже перешло в смятение, почти тревогу — они делают героические усилия, чтобы придать своим лицам выражение торжественной сосредоточенности и величественного спокойствия. Только напрасно… Ибо хоть их нынешний государь и повелитель, наследник и сокровище бога света Ахурамазды, лучистоликий царь царей Ездегерд не такой грозный и не так скор рубить головы и распинать, как покойный его родитель Варан Гор, Дикая Душа, но ведь наверняка и он не пощадит послов, которые навлекли позор на своего государя и на свою страну, сразу же проявив в приветственной речи полное незнание отношений, которые царят в империи ромаев. Правда, еще наварх галеры, которой они плыли, пытался им объяснить, что они заблуждаются, но они думали, что он либо пьян, либо издевается над ними… И хотя в Классииском порту приветствующий их magister officiorum подтвердил всем своим авторитетом правоту слов моряка, было уже поздно… уже некогда было менять торжественный церемониал… Что же теперь будет с ними, когда они вернутся в Персию?.. При одной мысли об этом они млеют от страха… Но ведь они же не виноваты, виноват глава царского совета, который отправлял посольство и давал им наказы и предписания. Это его долг знать, как, собственно, делится правление в государстве ромаев и кому принадлежит власть на Западе!.. И его они сразу же обвинят перед лучистоликим царем царей: ведь тот, кто отправляет в чужие страны посольства, должен знать об этих странах все в точности. А значит, и о том, что у западной половины империи ромаев есть свой государь из той же династии, что и император Востока… Ему нельзя об этом не знать или забывать, несмотря на то, что вся Персия, не исключая царя царей, убеждена, что владыкой ромайского Запада, соправителем Феодосия является не кто иной, как только самодержавный, хотя и не носящий диадемы или пурпура, император Аэций…
Правда, о Валентиниане, внуке Феодосия Первого, в царстве Сассанидов также что-то слышали, но ведь послы были уверены, что этот незадачливый царевич — как дошло до них — давно уже вместе со своей матерью лишен трона Аэцием, и даже с согласия Феодосия Второго!.. Поэтому как гром ударила весть, что государем и правителем Запада и вторым цезарем Феодосия является Валентиниан, третий император этого же имени, и ему прежде всего должны они принести дары и привет от шаха Ездегерда. Они не знали, что и делать… В одной приветственной речи, которую они приготовили на основе рукописи, набросанной самым прославленным писателем Персии, не только через каждые пять слов повторялось имя Аэция, тонущее в обилии цветистых эпитетов, которые могли относиться только к нему, но и особенно подчеркивались все его величайшие победы и стихами прославляемые добродетели его родителей… Выхода не было, оставалось только делать вид, что они по-прежнему ничего не знают о Валентиниане… Оставалось рассчитывать на то, что, может быть, окружающие патриция сановники не вникнут по-настоящему в приветственную речь, тем более что в переводе на язык римлян решено было опустить все монаршьи титулы и упоминание о власти, о кесаре без короны, о родстве с Феодосием… Одновременно, по совету начальника канцелярии, поспешно готовили перевод якобы имевшейся у них речи в честь императора Валентиниана. Так что, решили послы, все как-нибудь образуется… Тем большее охватило их замешательство, когда сирийский переводчик, с трудом сдерживая улыбку, перевел им слова Аэция:
— Приветствую вас, послы могущественного и великого короля, единственного, кого бессмертные кесари Рима могут назвать своим братом. Приветствую и благодарю за столь прекрасное и столь для меня лестное приветствие… Воистину, не ожидал я, что царь царей столько знает о скромном императорском слуге и так о нем помнит…
Окружение патриция с трудом сдерживало веселье, а одновременно всех этих товарищей и соратников Аэция распирала радость и гордость при мысли, какой славой пользуется в далеких странах их военачальник и благодетель. Один только префект претория Патерий гневно стиснул зубы: оскорбление величия налицо, и если Аэций не согласится в ближайшие дни отправить в Персию официально — подписанное им самим — письмо с жалобой и возмущением, то будет еще одно доказательство того, что он сознательно стремится принизить достоинство священной особы императора…
Думая так, Патерий не ожидал, что через минуту получит еще одно подтверждение этому: Аэций какое-то время с улыбкой смотрел на послов, на их встревоженные лица, необычные одеяния, причудливые, дугой загнутые мечи и наконец сказал:
— Еще раз благодарю царя царей и вас, достойные мужи… Поистине редкое проявление добродетели: воздавание почестей в порядке заслуг… А теперь благоволите отправиться в Лавровый дворец и преклониться перед тем, кто носит пурпур и диадему римских кесарей…
И тут же добавил озабоченно:
— Буду счастлив, если узнаю, что в дороге с вами не случилась никакая беда…
Нет, почему же, беда у них была. Уже в западной части Ионийского моря на галеру, на которую они сели в Александрии, напали три пиратских корабля, как потом оказалось — вандальских. Так что послам грозила неминуемая гибель — вандалы уже взбирались на палубу, когда вдруг с юга, как будто из-под воды, вынырнули, налетели четыре быстрые галеры… наскочили на пиратов… два их корабля потопили вместе со всей командой, третий захватили в рукопашном бою, после чего спасители исчезли так же быстро, как и появились… Послы успели только заметить золотые римские орлы на палубах и перекинуться несколькими словами с молодым предводителем. Он расспросил, кто они такие, куда едут, а на прощанье, когда спросили его имя («чтобы знать, за кого молиться перед Ахурамаздой»), ответил с улыбкой:
— Я — Аэций морей…
Слушая рассказ персов, Аэций с трудом сдерживал распирающую его гордость и радостное волнение: большего триумфа трудно дождаться… больше человека почтить уже нельзя… Побежденный, изгнанный, явно обиженный враг, чтобы отметить свою мощь на море, называет себя Аэцием водных пространств!.. Ведь это же Себастьян, зять Бонифация, последний меч в руках Плацидии, стал грозой вандалов и настоящим владыкой морей… Спасаясь бегством от победоносного Аэция, он направился в новый Рим и предложил свои услуги императору Феодосию в качестве пирата на императорской службе… И действительно, вскоре прославился быстротой, смелостью и жестокостью — настоящий пират, страшный только для вандальских кораблей, которыми последнее время кишело Средиземное море… Гензерих, говорят, боится его больше всех остальных войск Италии. Настоящие морские разбойники, еще до недавнего ужас всех римских кораблей, гурьбой шли под знаки Себастьяна, привлеченные его славой… И Аэций морей имел своих астуриев, андевотов, марцеллинов, а может быть, и меробаудов, верных, преданных, готовых на все…
Радость и гордость Аэция разделяют все присутствующие, только префект Патерий еще крепче стискивает губы, исподлобья глядит на патриция и думает:
«Пират земных просторов но милости гуннов…»
Дружелюбно простившись с послами, Аэций переходит в комнату, где стоит белое изваяние Бонифация, там его ждет молодой princeps magistriaiius из школы agentium in rebus[88] — глаз и ухо патриция.
— Есть новости?.. — весело спрашивает он у почтительно склонившегося юноши.
— Новостей много…
— Хорошие?
— Очень плохие.
Аэций спокойно садится к заваленному свитками и кодексами столу.
— Говори.
— Первое известие, — несколько дрожащим голосом читает по табличке магистриан, — женитьба молодого Гунериха на дочери короля вестготов уже окончательно решена… Назначен день свадьбы…
Аэций с интересом смотрит на сосредоточенное лицо юноши.
— Ты понимаешь, что это означает, мальчик?
— Да, сиятельный… Тесный союз двух варварских и арианских сил против империи… Потеря всей Африки. Испания окружена. Галлия и Италия в постоянной опасности. Защищая одну, мы отдаем на разграбление другую. Для защиты сразу обеих у нас нет сил.
В глазах патриция уже не только любопытство, но и благожелательная улыбка. Магистриан румянится от радости и гордости.
— Пиши, — говорит Аэций, — император повелевает Тригецию отправиться в Африку и заключить новый мир с Гензерихом еще до свадьбы его сына… Мы предложим замену: король вандалов — как он того хочет — получит Бизацену, проконсульскую провинцию и восточную Нумидию с Константной и Гиппоном. К империи отойдет западная Нумидия и обе Мавритании. Пусть сейчас немного потерпят правоверные из восточной Африки — тем, что в западной, тоже надо дать отдохнуть!.. — смеется патриций. — Император освобождает короля Гензериха от присяги на феод и признает его независимым монархом…
Магистриан легко вздыхает, сочувственно и понимающе.
— Так ведь? — ловит этот вздох Аэций. — Любой ценой надо как-то на время утихомирить Гензериха… Я всегда считал Африку потерянной… Но Тригеций должен добиться, чтобы Тамугади остался нашим…
Молодой человек понимающе улыбается.
— Ты не только величайший деятель империи, но и заботливый супруг, о сиятельный… Как же обрадуется Пелагия…
— Пиши дальше, молодой друг… Префектом претория Галлии император назначает Мецилия Авита…
Магистриан с трудом удерживается, чтобы в изумлении не всплеснуть руками.
— Чудесно, великолепно! — восклицает он, но через минуту, испуганный собственной смелостью, опускается на колени. — Удали свой гнев от меня, господин!
— Нет, нет… ты будешь наказан… да, ты понесешь наказание за свою дерзость… ты покинешь Равенну…
Молодой человек дрожит всем телом. В глазах появляются слезы. Аэций смеется.
— Но перед этим ответь мне еще на один вопрос, — говорит он. — Что ты думаешь сейчас… не о себе… а об Авите?..
— Боюсь, господин, — с трудом сдерживает рыдание юноша, — что после того, что произошло два года назад, он не захочет стать префектом…
Аэций задумчиво кивает головой.
— Да… да… ты прав… Но ему придется им стать… Именно поэтому я и отправляю тебя из Равенны… Поедешь в Арверны, к Авиту… Никто лучше тебя это не сделает.
Горячий поцелуй и две большие слезы одновременно падают на широкую, унизанную кольцами руку.
— Еще новости?..
— Сыновья павшего короля Гунтера — Гундиох и Хильперих — просят выделить им плодородные земли для бургундов… Они не только возобновят феод, но и в доказательство своей верности дадут пожизненных заложников: по одному воину и по одной девице от каждого сильного рода…
— Хорошо. На будущий год император определит им Сабаудию и побережья Лемана[89]. Пригодятся. Мне нужно на востоке Галлии заграждение от гуннов, — говорит Аэций, заранее наслаждаясь впечатлением, которое произведут на юношу последние слова.
И испытывает полное разочарование. Вместо ожидаемого безграничного удивления на лице магистриана виднеется спокойное одобрение.
— Мудрость твоя и проницательность поистине не имеют пределов! Дар провидения — вот величайшее достоинство владык… Слепо доверять дружбе гуннов — это самоубийство… Все сильнее, все опаснее становится король Аттила…
Аэций даже не старается скрыть удивление, которое вызывает молодой магистриан. Он смотрит на него с удовольствием, но как будто и с сочувствием. «Вот кто должен быть начальником канцелярии, — думает он. — Второй такой головы для этих дел я во всей Западной империи не найду… Как жаль, что отец его всего лишь зерноторговец… Ничего не поделаешь, не могу же я из-за него начинать войну с сенатом, и именно сейчас… Может, как-нибудь потом…»
— А новости из Равенны? — спрашивает он ласково, почти дружески.
— Императрица Евдоксия очень женственна, — стыдливо улыбается магистриан, — и после недавнего разрешения от бремени как будто очень жаждет супружеских ласк, но император Валентиниан предпочитает чужих жен, равно как и девственных дочерей дворцовых служителей..
— Что еще?
— Ежедневно три часа он упражняет свои священный взор и мышцы… Вегеций Ренат того мнения, что наш государь мог бы быть лучшим бегуном империи, как и бойцом на мечах…
Аэций иронически улыбается.
— Это все?..
— Еще нет, сиятельный… Святой епископ Герман Антиссиорорский прибыл из далекой Арморики с жалобой на патриция империи..
— Что ты сказал?!
— Прости слуге своему, господин, но это правда: Герман хочет пожаловаться императору на притеснения, которые испытывают правоверные армориканы от короля еретических аланов Гоара, который по приказу Аэция…
Огромный кулак ударяет по столу с такой силой, что даже подскакивают кодексы, а несколько свитков скатывается на пол.
— Сегодня же доставить ко мне Германа. Гоар — это самый верный из федератов, а с армориканами у меня счеты еще за Литория… Я побеседую со святым епископом. Что еще?
— Петроний Максим как будто добивается вторичного консульства. Всем говорит: «Я знаю, что Аэций никогда на это не согласится, но через три-четыре года я получу консульство прямо из рук императора».
Патриций досадливо кривится.
— Получит его от меня, и на будущий же год. Что там у тебя еще?..
— Флавий Меробауд прибыл из Испании и жаждет предстать перед обличием патриция империи…
— Пусть сейчас же войдет… а ты ступай, мой мальчик, и готовься к отъезду в Галлию…
Быстрым, упругим шагом в комнату вошел Меробауд.
— Слава тебе, сиятельный, — воскликнул он. — Радуйся. В южной Бетике багауды подавлены. Тибатгон, вождь восставших, схвачен. Наконец-то вздохнули Кордуба, Иллиберис, Гиспалис…
Аэций хватает его за руку.
— Наконец-то! — радостно кричит он. — Самое время!. Еще месяц — и крестьяне в Галлии тоже зашевелились бы… Ну и как, вешаете?..
Поэт улыбается.
— Деревьев не хватает…
— Тогда жгите… Жгите живьем… Целые деревни… Сгоняйте в одно место три-четыре сотни… с женщинами, детьми, скарбом… и сразу поджигайте с четырех сторон… Как гунны… И быстрее и сильнее устрашает…
Меробауд побледнел.
— И без того ужасные творятся дела, — сказал он. — Я сам вырезал под Иллиберисом две тысячи человек. У солдат оружие вываливалось из рук от усталости. И ко всему не было никакого удовольствия. Мужички, зная, какая их потом ждет смерть, назло не давались солдатам в руки — сразу бросались на меч… Ужасные дела!.. Одно хорошо, что наконец-то будет мир, — посессоры могут не дрожать за жизнь и имущество, а римский мир — за утрату Беттики..
Аэций засмеялся.
— И почему это каждый поэт всегда как баба?! — воскликнул он. — А раз уже зашел разговор о женщинах, как поживает твоя достойная супруга?..
Меробауд слегка покраснел.
— Ожидает разрешения…
— Значит, сиятельный Астурий. Значит, время получить консульство, еще в молодости. Почтенный муж, с внуками… Самое время!.. Надо будет об этом подумать. Но ты не сказал мне, как же он там поживает, победоносный полководец?.. Здоров? Не ранен?.. Наверное, гордится своими триумфами?..
— Я как раз хотел об этом сказать. Вот ты изволил смеяться, что я слаб, как женщина, а сиятельного Астурия так измотали битвы, что он желает сложить с себя звание главнокомандующего. Говорит, что нервы совсем истрепались. Как-то под Кордубой сомлел, проезжая через бывшую Аполлонову рощу. Но такого леса висельников и ты, пожалуй, никогда не видал, сиятельный…
— Не может быть!.. — в голосе Аэция было беспредельное удивление и недоверие. — Что-то у тебя в голове помешалось, прославленный поэт. Астурий?! Тот Астурий, который так спокойно и хладнокровно уладил дело с Феликсом?!
— Клянусь тебе, что говорю правду. Несколько раз Астурий говорил мне: «Больше не выдержу… Как только выйду в сад, на каждом дереве вижу повешенного и все в глазах красно…»
— Слабые же у вас, у испанцев, сердца и головы!.. Но коли Астурий этого хочет, я освобожу его, консулом же сделаю… Кому я что обещал…
— А кого ты назначишь главнокомандующим вместо него, сиятельный!.. Опять кого-нибудь, кто будет сражаться в Испании?.. Защищать страну от свевов… задушит багаудов… не пустит вестготов за Пиренеи… Того, кто знает страну и условия…
Аэций устремил на поэта проницательный, испытующий взгляд. Долго смотрел он ему в глаза. Наконец сказал без улыбки:
— Так вот зачем ты приехал, Меробауд?.. Понимаю, тобой это заслужено… Но, право же, ни один поэт еще так высоко не продвигался!.. Ты прав: главнокомандующего я хочу иметь в Испании. Да, ты знаешь страну… условия… отличился… Но ведь будет трудно. Ты же знаешь, сколько и каких у тебя врагов. Сигизвульт не из твоих друзей. И Петроний Максим. И Фауст… Даже мои друзья — Басс и Кассиодор — завидуют твоей славе… Один Марцеллин будет за тебя, но он сам язычник и по происхождению не римлянин, с трудом держится на ногах: я еле его прикрываю. Друзей куда труднее защищать, чем провинции… Так вот, говорю тебе, трудно… очень трудно.
Меробауд молчал, уставившись в пол, а лицо его пылало жарким румянцем.
— Но раз уж ты приехал, — продолжал Аэций, — посмотрю, может, удастся что-нибудь сделать…
Меробауд вскочил.
— Я не только за этим приехал! — воскликнул он уязвленно. — Поверь мне, сиятельный, что я никогда бы не хотел поссорить тебя с Фаустом, Бассом или Кассиодором…
Аэций расхохотался.
— Поссорить?! Ты забываешь, с кем говоришь, Меробауд… Поссориться можно только с равным себе… С ними же ты можешь только причинить мне немного неприятностей. Но я уже сказал тебе: раз уж ты приехал…
— И я тебе сказал, что не только ради этого, мой вождь и благодетель!.. — Меробауд сунул руку за одежду и извлек большой свиток пергамента. — Ведь сегодня ровно два года, как родился Гауденций… Разве Меробауд мог об этом забыть?!
Аэций простер объятия.
— Милую тебя, Меробауд, — произнес он приглушенным, растроганным голосом. — И действительно, ты только поэтому приехал?..
— Чтобы самому прочесть…
— Идем к Гауденцию, друг… сиятельный главнокомандующий. Как-нибудь управимся с людской завистью… с Максимом, Глабрионом, Геркуланом, Кассиодором… Идем…
Меробауд говаривал обычно, что его дружба с Марцеллином лишь с большим трудом дает сдержать себя на пороге языческого ларариума[90]; Марцеллин же, хотя никому это не говорил, думал: «А моя легко останавливается и обрывается там, где начинаются его стихи». Потому что он искренне считал своего друга очень опасным, хотя и абсолютно не подозревающим об этом, вредителем в чудесном саду римской поэзии: он не выносил его стиля и слога, ненавидел его риторические фигуры, а в особенности сравнения, морщился от его вульгарного провинциального словаря… Первую весть о вознесении памятника Меробауду на форуме Траяна он воспринял как оскорбление, смертельное оскорбление всех тех великих творцов прошлого, которых он любил и чтил и изваяния которых также украшали форум Траяна. Только необычайная нежность, которую он искренне питал к испанцу, была причиной того, что он не огласил своего исследования: «О прегрешениях в поэзии и варваризмах в прозе некоего знаменитого поэта, известность которого является прискорбным доказательством всеобщего падения вкуса и требований». Как-то Аэций спросил Марцеллина, кто, на его взгляд, наиболее достоин заменить его на посту патриция в случае его смерти. «Меробауд», — без колебаний сказал он. «Ты действительно его большой друг», — рассмеялся патриций, который, задавая этот вопрос, имел в виду самого Марцеллина. «Больший, чем ты думаешь, сиятельный, — сказал Марцеллин. — Именно из соображений дружбы, я полагаю, что уж тогда-то у него не останется времени на стихи…»
Не вынося стихи и прозу Меробауда, Марцеллин почитал его как чтеца: достаточно, чтобы испанец прочитал пять-шесть дистихов из своего самого скверного панегирика либо исторг из себя два-три кишащих варваризмами периода, как Марцеллин уже испытывал невыразимое наслаждение. Самое заурядное сравнение, самая корявая строфа, самое дикое буйство языкового варварства — все это переставало поражать… все приобретало глубину, возвышенность и очарование с первыми звуками голоса Меробауда… когда в победоносную борьбу с врагами его поэзии вступал несравненный дар и искусство речи… Вот и теперь, стоя возле креслица, на которое торжественно посадили двухлетнего Гауденция, Марцеллин с наслаждением вслушивался в каждое слово громко читаемого панегирика:
Меробауд на миг прервался… прикрыл глаза… глубоко передохнул и вдруг, вскинув вверх руки, загремел, как будто возглашая гимн:
Аэций вскочил с места.
— воскликнул он радостно, повторяя последний дистих. Казалось, он совершенно не мог сдержать свое счастье и отцовскую гордость — сияющее лицо его, буквально помолодело на двадцать лет и выглядело почти прекрасным. Он схватил мальчика на руки и, прижав к мощной груди, то и дело повторял:
Стоящая поодаль Пелагия почувствовала слезы в глазах, волнение охватило почти всех присутствующих. Они не узнавали сурового, волевого, часто жестокого диктатора Западной империи в этом счастливом, влюбленном отце. И с удовольствием смотрели на маленького Гауденция: мальчик был здоровый, красивый, умный и веселый. Видимо, все, что было лучшего в каждой части римского мира, слилось в одно в этом наследнике самой реальной мощи империи. Италия, Африка и северо-восток как будто нарочно постарались блистательно сочетаться в этом тельце и в этом личике. Лицо у Гауденция было смуглое, но очень тонкое, а на щеках красиво проступал здоровый, сильный румянец — наследие мёзийской мужицкой крови… Глаза очень темные; африканские и по-африкански мясистые, хотя и не толстые губы; телосложение крепкое, Аэциево, а все остальное — аристократическое, сенаторское, римское — от его бабки… Марцеллин был уверен, что никогда в жизни не видел и никогда уже не увидит такого красивого ребенка. Он смотрел на Гауденция со все нараставшим волнением: интересно, какую судьбу уготовили боги этому счастливейшему из детей, унаследовавшему красоту, богатство, знатное имя и величайшее могущество?!
Но наследник всех этих нагроможденных в одно блистательнейших даров Фортуны, казалось, не проявлял ни малейшего интереса к своему будущему, весь поглощенный переживаниями, которыми потрясало его настоящее: сначала эта красиво играющая серебряная труба, потом гремящий и одновременно поющий голос стоящего посреди комнаты неизвестного человека… прелесть раскачивания в воздухе, высоко над полом, в руках отца… наконец, великолепные, самые настоящие золотые дома, окруженные деревьями, колоннами и неподвижными фигурками, большинство из которых — как Гауденций без труда узнавал — имело отцовское лицо.
Не только мальчик, все присутствующие с удивлением смотрели на занимающий три четверти комнаты, искусно сделанный весь из золота форум Траяна с Ульпиевой базиликой, библиотекой, конной статуей, колонной, аркой и изваяниями, из которых большинство — не так, как на самом деле — действительно изображали Аэция. Над базиликой возносился шестикрылый ангел, в руках которого развевался также золотой пергамент с надписью: «Гауденцию от дружественной ему Евдокии».
Подарок этот с трудом внесли в комнату двенадцать рабов под началом евнуха Гераклия. К нему обратился Аэций, все еще держа сына в руках:
— Гауденций горячо благодарит благороднейшую Евдокию за этот драгоценный и чудесный дар. Патриций империи также благодарит императора за это блистательное доказательство своего милостивейшего отношения к дружбе, которую питают друг к другу старшая дочь великого и мой сын. Поистине великолепный дар, поистине свадебный…
Все, не исключая Пелагии, посмотрели на него с удивлением. Один только Марцеллин давно уже обо всем догадался…
Когда спустились сумерки, в комнате не было уже никого, кроме отца и сына. Из углов начали выползать серые тени. Гауденций раскинулся в высоком креслице, ни на минуту не отрывая глаз от медленно тонущего в сумерках шестикрылого ангела. Взгляд Аэция последовал за взглядом сына. На миг он впился в надпись: «Гауденцию от дружественной ему Евдокии»… И вдруг патриций империи, всемогущий диктатор, гроза королей и народов, опустился на колени и, с жаром целуя маленькие ручки и ножки, дрожащим, взволнованным голосом, почти шепотом, стал говорить:
— Здравствуй и славься — ты, великий — государь наш, благороднейший цезарь император Флавий Гауденций Благочестивый, счастливый, прославленный, непобедимый, возвеличенный Август…
Все ближе и ближе стучат широко распахиваемые двухстворчатые двери. Все ближе отдается эхом приветственный лязг оружия расставленной по всем комнатам стражи. Все отчетливее звучит из комнаты в комнату, из уст в уста передаваемое: «Ave, vir gloriosissime!..» Комес священной опочивальни, бледный, испуганный, бежит к двери: его бдительное ухо уже различило быстрый, упругий шаг… приближающийся, нарастающий…
— Славный муж, в это время?! — восклицает он трясущимися губами, героически распростерши руки. — Прости… не казни… отдали свой гнев… но я, право, не могу тебя впустить…
Без единого слова, резким, грубым рывком отдергивает Аэций от двери комеса, как будто это раб или последний из евнухов… И, не взглянув на него, тем же быстрым, упругим, решительным шагом направляется к большой, затканной золотом пурпурной завесе. Комес бежит за ним, заклинает, молит, падает на колени. Аэций, не говоря ни слова, идет дальше… откидывает завесу… Как из-под земли вырастает маленькая круглая фигура комеса священного одеяния… Маленькие, заплывшие жиром глазки полны слез…
— Не совершай, господин, кощунства… Император изволил снять с себя одежды… Никому не дано увидеть священную наготу…
Аэций, хотя весь кипит гневом, не может сдержать улыбку.
— Никому?.. Ты же вот каждый день видишь священную наготу, благородный муж.
На налитых, надутых, как будто вспухших щеках все еще сверкают слезы, но тонкие губы уже складываются в двусмысленную улыбку.
— Я другое дело… я кастрат… Мне и священную наготу императрицы можно зреть… и обоих вместе…
Но Аэций уже не слушает его.
— Пусти, — говорит он грубо и отталкивает евнуха от завесы.
Comes sacrae vestis снова улыбается.
— Государя императора нет в опочивальне.
— Лжешь.
Евнух понижает голос.
— Клянусь святыми бедрами императрицы, самыми красивыми, какие я видел…
Аэций смотрит на него с удивлением.
— Ты не боишься, что я пойду и скажу?.. Такое святотатство!..
— Не скажешь… Ведь это же от меня ежедневно узнает обо всем твой магистриан…
Широкая ладонь падает на заплывшее жиром плечо.
— Если с завтрашнего дня ты удвоишь свое старание, может быть, через год будешь препозитом священной опочивальни… вместо того… — говорит он шепотом, указывая головой на стоящего в соседней комнате комеса священной опочивальни… Ты его очень любишь? А? — смеется он и тут же добавляет совсем иным голосом: — Где Плацид?..
— В гимнасии…
Стоя на пороге гимнасия, Аэций с удивлением следит за тем, как Валентиниан сражается с высоким плечистым невольником-готом. Впервые он видит императора почти голым: Валентиниан от натуры щупл и плоховато сложен, но опытный глаз Аэция сразу видит, что у императора отлично натренированные мышцы рук и ног. Он очень ловок и хорошо владеет мечом. «Гот, конечно, слабовато наступает, — думает Аэций, — но и того, что есть, я никак от Валентиниана не ожидал…»
Наконец император увидел патриция. Беспредельное удивление и гнев появились в круглых, несколько выпуклых глазах, глубокие борозды мгновенно прорезали сводчатый Констанциев лоб. Он быстро закутывается в белую ткань и восклицает:
— Как ты посмел войти, святотатец?!
Аэций на языке готов говорит невольнику:
— Ступай и забудь то, что ты слышал, если хочешь жить, — а оставшись наедине с императором, быстро подходит к нему и, почти касаясь грудью его груди, цедит: — Тебе не придется упражняться с этим готом… Он или умрет, или станет моим преданным псом… Он слышал, как ты оскорбил Аэция…
— А ты не оскорбил императора?.. Не нарушил церемониала?.. Как ты мог войти сюда незваным, в такое время?.. Если умрет гот, я велю казнить всех моих прислужников с обоими комесами… Они видели, как ты оскорбил императора!
«Очень похож на мать», — думает Аэций.
— Казни, если хочешь… — говорит он. — Я-то знаю, что не сможешь… А ты знай, что мне ни к чему публично оскорблять величие, и я бы наверняка не пришел сегодня, если бы не узнал, что… — Лицо его вдруг побагровело от несдерживаемого гнева, искривилось злой гримасой, голос стал тихим и свистящим, — …что ты принял представителей торговцев и заверил их, что новый воинский налог не коснется торгового сословия…
С трудом исторгал он из себя каждое слово. Валентиниан же, хотя и побледнел, разглядывал его спокойно и холодно, а когда Аэций наконец замолк, ответил:
— Да, я так сказал… С нашествия Алариха торговцы все еще так разорены, что грешно было бы отнимать у них хоть один нумм…
— Насчет греха толкуй с Леоном или со своей матерью, — гневно фыркнул патриций, — а со мной говори о войске и деньгах. Ты император, значит, надо бы хоть время от времени интересоваться своей империей. Так вот, говорю тебе: если к зиме у меня не будет денег на формирование шестнадцати новых легионов и на выплату вот уже полгода задерживаемого жалованья галльским ауксилариям, — к весне ты не будешь государем Галлии, а может, и Испании, так же, как ты уже не хозяин Африки… Для войны не только с Теодорихом, но даже с франками или свевами у нас нет сил… И их не будет, пока мы не достанем денег…
— Мы достанем денег, Аэций…
— Откуда?.. Феодосии Великий закопал где-нибудь в подземельях Палатина Соломоновы сокровища?..
— Вот ты смеешься, Аэций, а Соломоновы сокровища действительно существуют. Только не в подземелье, а в лесах, полях, виноградниках, прекрасных виллах, инсулах, памятниках, картинах и квадригах, выигрывающих на гипподроме состязания… Мы введем налог на все сенаторские роды, на каждый югер пахотной земли, луга, леса…
Аэций нахмурил брови.
— Я не сделаю этого.
— Почему же, Аэций?.. Да выставь ты восемьдесят легионов, и то не уменьшишь богатства италийских посессоров даже на треть…
— Нет, этого делать нельзя. Я не могу обременять одно сословие такой податью.
— Не можешь? — Валентиниан рассмеялся. Смеясь, он еще больше походил на мать. — Почему бы это, сиятельный?.. Ведь ни одно же сословие не кричит столько о своей преданности Риму и готовности к любым жертвам ради него… Разве не справедливо было бы — как это бывало в древности, — чтобы те, кто имеет больше всех привилегий, брали бы на себя и большие тяготы?..
— Так и будет… Сенаторское сословие заплатит куда больше, чем торговцы, но торговцы тоже заплатят…
— Нет, Аэций… Если император заверил их, что…
Аэций топнул ногой.
— Молчи, Плацид! — крикнул он, смертельно побледнев от гнева. — На будущее императору это будет урок… чтобы никого ни в чем не заверял, не посоветовавшись перед этим с Аэцием…
Валентиниан также побледнел, но через минуту уже улыбнулся.
— Неужели Аэций думает, что я не знаю, в чем тут дело?! — воскликнул он. — Он сделает все: десятки тысяч крестьян утопит в потоках крови, торговцев обдерет до последнего нумма, церкви сожжет, императорский трон оскорбит и оплюет… только одного не тронет: прославленного сенаторского сословия… Никого он не боится, ни перед кем не дрогнет — одного только страшится: недовольства на лицах Вириев, Симмахов, Гракхов, Бассов, Крассов, Анициев… Понятное дело!.. Аэций и сенат вдвоем против величества и остального римского народа!..
«А ты не так глуп, как я полагал», — с искренним удивлением подумал Аэций.
— Послушай, Плацид, — сказал он, — если ты через неделю не появишься в сенате и не прочитаешь налоговый декрет в таком виде, в каком его доставит тебе от меня comes rerum privatarum, то тогда…
— Что будет тогда, Аэций?..
Патриций пожал плечами.
— Твоя мать была умнее… Тебе никогда, так как ей, не придет в голову спросить: «Если ты так силен, Аэций, то почему ты не убьешь меня и сам не станешь императором?»
Валентиниан вздрогнул, Аэций же продолжал:
— Я поклялся служить тебе, как отец мой служил твоему деду… И разве не служу?.. Ты будешь до конца дней своих носить пурпур и диадему, а когда умрешь своей смертью — да, своей, потому что я охраню тебя от всех!.. — тогда наденет на себя пурпур твоя дочь, если, разумеется, выйдет замуж за соответствующего мужа…
— За твоего сына…
— Да, за Гауденция… Но вернемся к тебе… Чего же тебе еще нужно, кроме пурпура и почти божеских почестей?! Но за это ты должен делать все, что твой нижайший слуга осмелится покорно посоветовать великому Плациду… А о моем союзе с сенатом лучше не упоминай. Ты думаешь, я не знаю, что ты сколачиваешь свою партию из адвокатов?! Ты даже был недавно на одном таком торжественном собрании этих голодных крысят… они с ума сходили при виде тебя… а ты именовал их: школа сановников. Так вот, клянусь тебе, что ни один из них никогда не станет даже викарием или хотя бы корректором провинции…
— Все должности для сенаторских сынков?..
— Все для тех, кто будет слушаться воли Аэция… И пурпур тоже только для тех…
Валентиниан скрестил руки на груди.
— А что ты сделаешь, если я, например, предложу сенату собственный декрет о налогах?.. Убьешь меня?..
Аэций презрительно усмехнулся.
— Зачем?.. Мужчины из нашего рода никогда не поднимают руку на величие… Но ты знаешь, что будет?.. Или сенат, который вот уже десять лет как очень окреп, отвергнет твой декрет и начнет борьбу с императором и его крысятами, или…
— Или что, Аэций?..
— Или на другой день после этого заседания Аэций сложит с себя сан патриция и командование над войском. За ним последуют Сигизвульт, Астурий, Меробауд, Марцеллин, Вит, Рицимер и тысячи других… Через полгода император Западной империи будет только владыкой Италии, а через год Аттила и его род сравняют с землей Равенну, Рим и кости императорской семьи…
Установилось долгое молчание. Валентиниан принялся расхаживать по комнате. Через минуту он остановился, взял в руки большой лук, две стрелы и повернулся к Аэцию.
— Ты видишь красный кружок на той стене, славный муж? Прошу тебя, попробуй попасть…
Аэций улыбнулся.
— С удовольствием… Когда-то я хорошо стрелял… Еще в сражении с Гунтером собственной рукой выпустил не одну стрелу…
Он с легкостью натянул очень крепкий лук. Прицелился. Выпустил стрелу. Она попала в стену на каких-нибудь полпальца выше кружка.
— Великолепно! — в искреннем восторге воскликнул Валентиниан. — Дай, теперь попробую я.
Он натягивал тетиву куда дольше и с большим усилием, чем Аэций. И целился долго. Наконец выстрелил. Стрела вонзилась в самый центр красного кружка.
Аэций взглянул на императора с неподдельным удивлением.
— Этого тебе должно быть достаточно, Плацид, — сказал он с улыбкой. — Есть области, в которых ты имеешь явное превосходство над Аэцием… Если бы умение стрелять из лука могло решать битвы, я завтра же стал бы твоим оруженосцем и сопровождал бы тебя в поход против Аттилы… А теперь изволь послушать, как должен звучать декрет о налогах. Каждый, кто принадлежит к сенаторскому сословию, берет на себя бремя содержания трех солдат, если носит титул сиятельного, и одного — если он только достославный. Достосветлые же будут складываться втроем на одного солдата… Поэтому, так как годовое содержание солдата составляет тридцать солидов, каждый illustris будет давать ежегодно девяносто солидов, spectabilis — тридцать, a clarissimus — десять… Торговцы же будут давать по одной силикве ежегодно, и как ты видишь, я их совсем не обижаю, потому что самый богатый торговец даст в двести сорок раз меньше самого бедного сенатора… Я пойду даже дальше, Плацид: торговец даст из собственной мошны только полсиликвы, а другую половину взыщет с покупающих, повысив предварительно цены…
Валентиниан улыбнулся.
— Право же, лучше было бы пощадить и торговцев, и покупателей, и бедных сенаторов, а все нужные деньги собрать с самых богатых посессоров… Басс или Петроний Максим вовсе не заметили бы уменьшения доходов, даже если бы каждый выставил по легиону…
— Будет так, как я сказал, император…
— Я знаю, что будет так… По крайней мере еще какое-то время… Но что же станет с авторитетом императора, если я поклялся торговцам, что пощажу их, а на самом деле будет иначе?..
— Предоставь это мне, Плацид!.. Я беру на себя заботу о том, чтобы ни тени, ни пятнышка не упало в этой связи на императора… Но что это за люди?..
На пороге гимнасия, согнувшись в низком поклоне, стояли три седобородых старца в высоких остроконечных колпаках и одеждах, усеянных золотыми звездами. При виде их лицо Валентиниана мгновенно оживилось. Он быстро направился к ним, нетерпеливо восклицая:
— Говорите!.. Ну, говорите же!
— Юпитер показался, государь, — сказал один из старцев.
— И звезда вечного счастья также, — добавил другой.
— Иду, иду…
— Куда, Плацид?.. — неимоверно удивленный спросил Аэций. — Кто эти люди?..
— Халдейские астрологи… они прорицают мне будущее по расположению звезд и планет… Я как раз иду с ними, — и он дерзко улыбнулся, глядя патрицию в лицо, — чтобы прочитать по звездам год, месяц и день, когда я, как в центр красного кружка, пущу стрелу в сердце Аэция…
Патриций пожал плечами.
— Право, не пойму, почему лучше и благочестивее гадать по звездам, чем по дымящимся птичьим внутренностям?.. И какая, собственно, разница между святотатцем Литорием и набожным Валентинианом Августом?!
Silentium et conventus — совместное заседание императорского консистория и сената в присутствии императора — уже началось. Префект города Ауксенций приступил к чтению императорского налогового декрета, начинающегося словами: «В год четыреста сорок четвертый от рождества Христова, царя нашего небесного, сына божия, и девятнадцатый год нашего счастливого правления угодно было нам…» Сенаторы то и дело прерывали чтение громкими рукоплесканиями и радостными возгласами в честь императора. II все то и дело поглядывали на дверь, в которую должен был войти в курию патриций. Все знали, что он уже в преддверии и беседует с представителями торговцев, которые заступили ему дорогу и обратились со своими жалобами и пожеланиями, отнюдь не скрывая горящего в душе негодования.
— Право же, славный муж, — повышенным тоном говорил один из них, — ты много сделал для императорского трона, для римского мира, для войска, для сената… Отовсюду сыплются на тебя благословения… Но за что же должны тебя благословлять римские торговцы?.. За то разве, что облагаешь нас новым налогом… Отпугиваешь от нас покупателей… Одним словом, разоряешь сословие, и без того больше всех разоренное со времен пребывания в городе варварского короля… Сам скажи, за что нам тебя благословлять и выражать благодарность?..
Аэцию страшно хотелось сказать: «Да пусть ад подавится вашими благословениями и благодарностями — плевал я на них!» — но удержался и после краткого размышления сказал:
— За что?.. А хотя бы за то, что с тех пор, как я патриций, ни один варварский король не грозит ни вам, ни вашему имуществу, ни лавкам…
Торговец — тот, что говорил перед этим — усмехнулся.
— Действительно, славный муж, — сказал он, — пока что еще не грозил нам варвар… Но не погрозит ли через год?.. Не разграбит ли Италию, не войдет ли в Рим?.. Как вошел в Карфаген, Эмериту, Толозу, Бургундию?! Это богу одному ведомо…
Аэций нахмурил брови.
— Пока я жив, ни один король, ни варварский народ не войдет в Рим, клянусь вам…
— Чем клянешься, славный муж?..
— Честью и добрым именем Аэция в потомках, — сказал он и вошел в курию, встреченный оглушительным гулом приветствий и бурей рукоплесканий.
Подходит к концу ежегодный день дружбы. Не прерывая своего рассказа о чудесах двора Аттилы, Кассиодор дает знак слугам — пусть наполнят пенистым цекубским вином до краев прощальные чаши. Как только блеснет на небе первая звезда, Аэций и Марцеллин обнимут хозяина и по большой Кротонской дороге отправятся, следуя всю ночь, в Регий, откуда под утро переправятся на сицилийский берег, в Мессану, где патриций вот уже три месяца собирает италийские легионы, ожидая скорого вторжения Гензериха. Один только Басс останется на ночлег в старинном брутийском гнезде рода Кассиодоров, но с рассветом и он покинет гостеприимный дом друга, отправясь в Рим на торжественное заседание сената, посвященное пятьдесят пятой годовщине Аэция. Быстро проходит в этом году день дружбы — действительно только день, а не два, не три, не неделя, как бывало в давние годы…
Седьмой по счету, этот самый короткий день дружбы. Семь лет назад впервые разлетелась по Риму и Равенне вызывающая всеобщую тревогу весть, что патриций империи уехал вдруг, неизвестно куда, неизвестно насколько, оставив нерешенными — как шептались магистры и магистрианы — самые важные дела империи… Все ломали голову, что бы это значило, куда бы он мог поехать, но никто не заметил исчезновения из Клаосийского порта легкой быстрой галеры, на которой ночью незаметно переправился Аэций через Адриатику на далматинский берег, чтобы во владениях Марцеллина — в той самой вилле, где он некогда укрывался от мести Плацидии, — провести короткую и милую ему минуту отдыха в кругу тех, кого он считал своими ближайшими друзьями и дарил особым расположением. Происходило это спустя несколько дней после возвращения из Галлии, где он находился четыре года, и за неделю до получения скорбного известия о поражении и смерти Литория, имя которого не раз вспоминал Аэций в течение первого дня дружбы, поднимая чашу в его честь и выражая несокрушимую надежду, что на следующий год в их кругу не будет пустовать место победоносного начальника конницы…
Второй день дружбы, совпавший с крещением сына Гауденция новым епископом Рима, отмечался во владениях самого Аэция; третий — в укрепленном замке главнокомандующего Сигизвульта под Каралисом на Сардинии; четвертый, на котором недоставало уже Сигизвульта, посвятили памяти благороднейшего из римлян, собравшись в день смерти Бонифация, в десятую ее годовщину; пятый праздновали в вилле Меробауда под Фиденами, на другой день после назначения поэта главнокомандующим. Это был единственный раз, когда круг друзей патриция вместо того, чтобы уменьшаться, пополнился прибывшим из Испании Астурием. И единственный раз, когда Флавий Меробауд вместо того, чтобы читать свои, слушал чужие панегирики, которыми осыпали его поэты со всех концов империи, славя день его возвышения как величайший праздник муз!
А когда в шестой раз — как раз в десятилетие возвращения Аэция из изгнания и назначения его патрицием — собрались в пиценском имении Басса, то, кроме хозяина, там были Кассиодор, восседавший за праздничным столом по правую руку Аэция, Меробауд и Марцеллин — по левую… А теперь — когда к концу приближается седьмой день дружбы и первая звезда должна возвестить минуту расставания — Марцеллин вместо того, чтобы радоваться, что занимает, место рядом с Аэцием, со скорбью думает, что вот уже и нет между ними того, чье место еще год назад отделяло его от патриция. Скорбь эта виднеется и в грустно-улыбчивом взгляде, который Марцеллин время от времени бросает на любимого вождя. Аэций читает его без труда… читает и еще что-то: немой упрек и обиду… И он не рассердится, только надует пренебрежительно губы и неприязненно пожмет плечами…
Да, взгляд Марцеллина говорит правду: одним другом у Аэция меньше, но что делать… Поэтическая слава и высшее воинское звание — не многовато ли для одного человека?.. Марцеллин должен знать и верить, что патрицию действительно было не очень приятно назначать Меробауда, но что он мог сделать?.. Для защиты панегириста рвать союз с сенатом?.. Начинать борьбу с могущественными родами тогда, когда Валентиниан все энергичней и с каждым днем успешнее сколачивает правоведов и чиновников в свою новую сильную партию?! Он был бы безумцем, если бы так поступил, — а без новых панегириков как-нибудь обойдется…
Молодой язычник отлично понимает немой ответ патриция, но Аэций не поймет того, что Марцеллин не только со скорбью, но и с некоторого рода удивлением думает об обиде, нанесенной его другу: разгневанный и оскорбленный Меробауд бросил прежний образ жизни и укрылся в какой-то сельской местности в Бетике…
«Клянусь священными геликонскими музами! — с искренней боязнью восклицает в душе Марцеллин. — Сколько свободного времени будет теперь у него для писания плохих стихов и варварской прозы?!»
Басс поглядывает на небо. Первую звезду еще, к счастью, приходится подождать, но на западе более багровое, чем обычно, солнце уже давно зажгло бледно-синие вершины брутийских взгорий, и вот — огромное, огненногривое, великолепное — скатывается оно все быстрее и быстрее за их живописные нагромождения, заставляя розоветь от последнего снопа лучей чудесным цветом девичьего тела стены города Стиллеция. Еще минута — и оно совсем исчезнет, растопившись в прекрасном сказочном Океане тысячами красок и тысячами оттенков…
Кассиодор тем же движением, каким его праотцы поднимали чашу, прощаясь с Гелиосом, сходящим в объятия Фетиды[92] поднимает свой кубок в честь отправляющегося на отдых «Ока господнего провидения». После чего снова возвращается к своему рассказу о посольстве к Аттиле.
— Я спрашиваю его, действительно ли он желает гибели империи… неужели, несмотря на всю свою дружбу к Аэцию, он действительно — как это говорят — готовит нашествие на западные области?.. Он усмехается и через грека Онегеза отвечает: «Моя слава и могущество совсем не нуждаются в том, чтобы лишить Валентиниана пурпура и империи… Я даже люблю его, как брата…» Я уже не со страхом, а с удивлением смотрю в это уродливое — ты же сам знаешь, Аэций, какое оно уродливое — лицо… в эти хитро и умно улыбающиеся глазки… на эти бесформенные губы и на редкие волоски бороды… Он же смеется: «Дружба моя к Валентиниану столь велика и так ревнива, что не успокоится до тех пор, пока не получит какого-нибудь доказательства взаимности… какого-нибудь действительно дружеского дара…» Я даже отпрянул. «Ты требуешь от Западной империи дани?!» А тот уже не смеется — гогочет!.. «Нет, не дани, всего лишь подарка, — переводит Онегез. — Разве я смею?.. Я покорно прошу…»
Басс с трудом сдерживает рвущийся смех. Двадцать лет назад так же разговаривал с Плацидией Аэций!
— Через десять дней, Геркулан, — обращается патриций к Бассу, — сенат должен одобрить постоянный ежегодный дружеский подарок для короля гуннов — истинно дружественного империи Аттилы…
Лицо Марцеллина заливается легким румянцем. Кассиодор опускает глаза. Басс вздыхает.
— А если император наложит вето? — спросил он с колебанием в голосе.
Аэций засмеялся.
— Плацид? Пусть попробует…
Наступила минута гнетущего молчания. Прервал ее снова Басс.
— Значит, император западных областей будет платить дань самому дикому из варваров?! — произнес он тихо и с нескрываемой горечью.
— Самому сильному из варваров, — воскликнул Аэций. — Что я говорю, друг мой?! Самому сильному из владык света!.. А впрочем, — добавил он тихо, — разве император Восточной империи вот уже два года не платит ему такую дань?..
— Это верно, платит, — ответил Басс, — но знаешь, Аэций, что бы я ответил, будь я на месте Валентиниана, на то, о чем ты сказал только что?
— Право не знаю, Геркулан.
Голос Аэция звучал сухо и почти неприязненно. Но Басс не смутился. Наоборот, еще большая горечь и даже легкая издевка послышались в его голосе, когда он произнес:
— На месте императора я бы так сказал: «Действительно, Восток платит гуннам, но ведь у Феодосия нет непобедимого Аэция…»
— И потому он платит семьсот фунтов золота в год! — воскликнул патриций, живо, но совершенно спокойно, почти дружески, сразу рассеяв тревогу, которая после слов Басса появилась на лицах Марцеллина и Кассиодора. — Запад же, у которого есть Аэций, будет платить только половину этой суммы… Так ведь, Кассиодор?.. Разве не сказал тебе король Аттила, что он не хочет с нас больше двадцати пяти тысяч двухсот солидов ежегодно?..
— Было так, как ты говоришь, славный муж, — подтвердил Кассиодор и тут же обратился к Бассу. — Скажи сам, Геркулан, разве это не настоящий триумф?.. За цену, в два раза меньшую, мы добиваемся мира, который нужен нам по крайней мере в два раза больше, чем Востоку…
— Поскольку у Востока, — подхватил Марцеллин, — кроме Аттилы, есть только один враг: персы… А у нас?.. Посчитай на пальцах, сиятельный… Гензерих, вестготы, Ругила со своими свевами, вечно беспокойные франки, беспрестанно бунтующие багауды в Испании… А бургунды, аланы, армориканы… Правда, сейчас они сидят тихо, но разве завтра можно будет полагаться на их верность?.. Право, сиятельный Басс, не в два и не в четыре, а во сто раз дешевле, чем Восточная империя, получили мы мир с Аттилой!..
Басс грустно покачал головой.
— Значит, отныне, — сказал он с горькой и страдальческой улыбкой, — великий и прекрасный римский мир будет миром лишь но милости гунна…
— Не только мир, — грубо возразил Аэций. — И император Западной империи будет владыкой лишь милостью гунна… Как приедешь в Равенну, Геркулан, спроси, прошу тебя, Плацида: не считает ли он, что за пурпур стоит дать триста пятьдесят фунтов ежегодно?!
— Сам посуди, Басс, — заговорил после краткого молчания Кассиодор, — сможем ли мы оказать сопротивление гунну, который втрое сильнее, чем объединенные силы вандалов и Теодориха, и именно тогда, когда мы накануне новой войны с этими объединенными силами арианских королей?! В любой месяц — да что в месяц! — в любую неделю они ударят на нас с двух сторон: один — на Италию, другой — на Арелат и Арверны… Неужели ты бы хотел, Басс, чтобы на нас ударили еще и из-за Рейна?!
Наступило угрюмое молчание. Все четверо перевели взгляд на простирающееся у их ног особенно прекрасное в этот предвечерний час море. Начинался прилив. В какой-то момент Аэций обратил внимание своих друзей на видневшийся в нескольких стадиях от берега маленький островок, на котором сидел, согнувшись, голый, темный, почти бронзовый подросток. Поднимающаяся вода медленно, но неумолимо с каждой минутой отнимала у него все новый и новый кусок земли вокруг ног. С берега плыл к островку небольшой челнок, в котором, быстро гребя, сидел какой-то бородач, вероятно, отец отрезанного приливом паренька. Успеет ли он вовремя?.. Спасет ли сына, который, вероятно, не умеет плавать?.. Не перевернет ли неосторожным движением челнок и не зачерпнет ли в него воды?.. Не сломается ли у него весло и не налетит ли неожиданно с востока вихрь, грозящий застопорить бег лодки?.. Вот что важнее всего было в эту минуту для патриция находящейся в смертельной опасности Римской империи и его ближайших соратников! Все сильнее бились у них сердца, а у Кассиодора выступили на лбу бисеринки холодного пота. Особенно тяжело было всем видеть, что мальчик не двигался, не размахивал руками, не кричал, не плакал, а неподвижно сидел, будто прикованный к своему месту, все в той же позе: скорчившись, поджав колени к самому подбородку, спрятав лицо в ладони…
— Я знаю, что он чувствует, — глухо произнес наконец Аэций. — Действительно, нет ничего страшнее, чем жестокая необходимость бездеятельно ждать спасения, которое должно прийти извне… Сколько раз вот так же… совсем так вот, как этот мальчик на островке, я сидел, уткнувшись лицом в ладони у гуннского костра, ожидая, когда вернется из мёзийского похода мой друг король Ругила. Я знал: пусть он только вернется — и триумфатором войдет в Италию находящийся вне закона, преследуемый и гонимый Плацидией изгнанник!.. Ждал… недели, месяцы, целый год, почти два года… Ничего не делал — как вот этот мальчик… Только думал… И он, наверное, думает… думает о том, что спасение может прийти слишком поздно… что он не дождется… Как же легко и быстро снует тогда мысль!.. И как страшно человек страдает… потому что знает, что ничто не поможет… что вот он сидит и ждет, а тем временем Ругила может вообще не вернуться… может пасть в битве, смертельно заболеть, попасть в плен либо броситься на собственный меч… Или вернется другим… Или вернется таким, как всегда, но уже поздно… Сколько же раз за эти долгие месяцы ожидания в меня могла ударить молния, или укусить змея, или отравить, а то и задушить во сне какая-нибудь мстительная, ревнивая или просто кем-то подосланная и делящая со мной ложе женщина… Такое ожидание — величайшая мука… Но ведь я дождался и добился того, чего хотел!..
Он торжествующе ударил рукой по столу, перевернул полную чашу с вином и, уже совсем не глядя на море, сказал другим голосом:
— Зажглась первая звезда. Нам пора, Марцеллин. Благодарю тебя, Кассиодор. Извольте только с Бассом внимательно выслушать, что я вам сейчас скажу: я слышал, что Петроний Максим, Фауст и Квадрациан требуют ввести у нас патрициат, как в Восточной империи… Они хотят, чтобы вместо одного было несколько патрициев и чтобы не был это титул, связанный с личностью того, кто осуществляет при императоре высшую власть, а только наиболее почетное отличие. Еще они хотят, чтобы вторым таким патрицием при мне стал Максим… Так вот, слушайте хорошенько, что я вам скажу: этого не будет. Пока я жив, я буду единым патрицием Западной империи. Максим же, если хочет, пусть перебирается в восточные области и принимает восточный патрициат из рук Феодосия… Я уже добиваюсь такого патрициата для Меробауда (Марцеллин взглянул на Аэция с глубокой благодарностью). И заметьте, что когда я говорю: «Этого не будет», — то не значит, что я имею в виду, будто вы должны в курии провалить предложение относительно перемены значения и правомочий патрициата… Нет, предложение это вообще не должно быть оглашено… А если кому-нибудь придет охота это сделать, предупреди, Басс, в сенате, что на другой же день после этого отделение дворцовой канцелярии для хранения писем и книг и все другие учреждения, не исключая префектуры города, изгонят со всех должностей всех сенаторских сынков и поищут новых, получше, из числа крысят, которые до сих пор только льнули к Плациду, а с этого дня начнут обожать Аэция… Будьте здоровы…
Челнок с бородачом и спасенным сыном пристает к берегу. Кассиодор, который проводил до самой дороги Аэция и Марцеллина, возвращается на террасу, где проходил пир друзей, и, потянувшись к чаше с вином, говорит с улыбкой Бассу:
— Аэций — это истинное благословение неба и настоящее спасение Западной империи, но трудно восхищаться, когда он смотрит на империю и на все, что в ней есть, так, как будто это деревня, взятая им в аренду у императора.
— У нас взятая, Кассиодор… у сенаторских родов… — подчеркнуто поправляет Басс, не отрывая глаз от серебристой глади моря. — И знаешь, что я тебе скажу?.. Ты совершенно прав, но разве пожизненный арендатор не приносит всегда владельцу больше пользы, чем раб или наемник?..
Кассиодор отнимает от губ чашу, к которой только что прикоснулся.
— Я думаю, Геркулан, что пожизненная аренда очень быстро превратится в наследственное владение. И ждать уже недолго, так ведь?
Басс молчит.
Чрезвычайное заседание императорского совета, неожиданно созванное патрицием во время состязаний на гипподроме и назначенное на шесть часов, не началось и в восемь, хотя сразу же после семи в комнату заседаний явился Валентиниан. Ждали Аэция.
— Вот уже три часа беседует он с послами короля Гензериха, — дрожащим голосом объяснил императору comes sacrarum largitionum[93] Исидор.
Валентиниан не слышал ни о каком посольстве. Он выиграл на гипподроме большой заклад у Секста Петрония и чувствовал себя в отличном настроении.
— Чего хотят послы Гензериха? — спросил он, полный быстро нарастающей тревоги, и вдруг почувствовал, что бледнеет, а упругие, натренированные ноги начинают трястись, как в лихорадке. Сановники окружили его тесным кольцом, доверительно, святотатственно… («Святотатственно, сказала бы мать», — подумал император.)
Собственно, никто из них не знает, что нужно послам вандалов, но все предполагают, что посольство не что иное, как знак о начале войны.
— Богомерзкий еретик Гензерих, — шепчет еще более бледный, чем император, квестор священного дворца, — впал в такую сатанинскую гордыню, что либо считает, что с той поры, как он не является федератом, он должен во всем подражать обычаям империи, а стало быть, и начинать войну с торжественного ее объявления, либо хочет показать, что настолько презирает римлян как противника, что вместо того, чтобы обрушиться неожиданно, как раньше, еще дает им время приготовиться к защите…
Но сильнее всех испуган Альбин Соммер, вот уже два года исполняющий долгожданную должность префекта претория Италии: вытянутая его рука отчаянно потрясает высоко над головами всех присутствующих пергаментным свитком. Не далее как пять дней тому назад получил он от префекта претория Галлии, что письмо, доносящее о неслыханных военных приготовлениях короля Теодориха и выражающее твердую уверенность, что в тот же самый день, когда Гензерих начнет военные действия против Италии, вестготы ударят одновременно в трех местах — на Арверны, Нарбон и Габалу; помощь же осевших на правом берегу Родана, под Валеннией, аланских федератов если и не окажется сомнительной, то, во всяком случае, не будет существенной как из-за малого числа аланских воинов, так и из-за расстояния, отделяющего Родан от границы вестготских владении… Слушая слова Альбина Соммера, все сиятельные мужи как один устремили на императора умоляющий взгляд: нельзя допустить войны!.. Неужели Гензерих повторит то, что тридцать пять лет назад учинил Аларих?.. Самое главное — отстоять Рим… отстоять Италию! Любой ценой!.. Галлию пусть хранит бог, если ее не может сохранить римский мир… Пусть Теодорих берет, что хочет и сколько хочет: остаток Аквитании, Нарбон, северный берег Лигера, — только бы оттянуть для защиты Италии все галльские легионы…
— Видите! — кричит в отчаянии квестор священного дворца. — Вот уже год прошел, как утвержден новый воинский налог, торговцы еще как-то дают свои силиквы, а посессоры?! Пусть их ад поглотит!.. Если бы не их медлительность, у нас было бы десять новых легионов, а так… даже Италии не отстоим…
В комнате совещаний поднимается смятение.
— Мы не отстоим, а Аэций отстоит! — с глубоким убеждением кричит секретарь кабинета императора.
— Чем? — горько усмехается квестор. — Своими десятью пальцами?! Мы должны любой ценой уговорить его, чтобы, бросаясь в гущу неравной борьбы, он не подвергал опасности свою особу, свою славу и покой Италии.
— Для него нет неравной борьбы, — настаивает императорский казначей.
Но Альбин Соммер уже шепчет императору на ухо:
— Поднесли дар гуннам, можем поднести и Гензериху.
Лицо Валентиниана делается багровым, он уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут неожиданно вытягиваются несущие стражу у дверей силенциарии, мечи их громко ударяют о щиты.
— Ave, vir gloriosissime! — исторгают с готовностью и радостью их мощные глотки.
Аэций быстрым, упругим шагом входит в комнату совещаний. Его встречают вопросительные, молящие, жадные, снедаемые лихорадкой взгляды, полные тревоги и беспредельного отчаяния, но одновременно и не угасшего еще доверия… уже — за столько лет — глубоко укоренившейся веры…
— Чего требует король Гензерих? — с трудом сдерживая трясущиеся губы, спрашивает тихим, очень тихим голосом Валентиниан Август.
— Ничего не требует… он не смеет требовать… только просит… покорно просит милости и чести породниться с императорской фамилией… Он просит императора, чтобы тот дал согласие выдать свою старшую дочь за королевского сына Хунерика.
Если бы стоящий на пороге Аэций вдруг сорвал свою бороду, широкие скулы, жесткие щеки и явил императорскому консисторию худое, вечно желтое, вечно искривленное гримасой страдания и ненависти лицо Гензериха; если бы силенциарии оказались вандальскими солдатами, а вся Равенна уже одним только морем огня — пожалуй, меньшее бы изумление охватило императора и сиятельных сановников… Патриций же, довольный впечатлением, которое произвели его слова, с улыбкой продолжал:
— Добившись этой высочайшей милости и чести, король Гензерих тут же заключит вечный мир с отцом своей невестки и на другой же день после оповещения о свадьбе уведет из Сицилии все вандальские отряды, отдав римлянам Лилибей вместе со всеми захваченными кораблями. Вандальские же корабли не будут после этого нападать на римские галеры, и сам король позаботится, чтобы не чинили никаких препятствий и трудностей в доставке мавританского хлеба в Италию.
— А присягу на феод примет?! — ворвался вдруг в тишину, которая наступила после слов Аэция, лихорадочно-радостный крик Альбина Соммера.
— Король вандалов не является и не будет федератом, он самовластный и ни от кого не зависимый монарх, так же как персидский царь царей, — ответил Аэций, — но в арианской церкви именем божьим, Христовым распятьем и своим мечом поклянется хранить мир с императором Рима как с равным…
Альбин Соммер хотел сказать что-то еще, но смешался, испепеленный гордым, гневным, презрительным взглядом императора, который, величественно скрестив руки на груди, процедил сквозь зубы:
— Кощунствуешь, Аэций… Не смей больше ничего говорить… Каждое твое слово — пусть оно даже только повторяет чужое желание — это оскорбление для величия Рима и его государя…
— Кощунство… величие… святотатство… все эти слова, которые ты всосал с молоком матери, Валентиниан Август, к сожалению, нынче имеют другую ценность, чем во времена твоего детства… Разве посмел бы, например, я посоветовать великой Плацидии платить постоянную дань гуннам?.. Даже подумать не решаюсь, что бы ответила она на это, наш государь… Времена меняются и мы вместе с ними, как говорил, цитируя какого-то старого поэта, Меробауд… А впрочем, государь, разве брат твой император Феодосий не сын франконки?.. А дядя твой по отцу Гонорий Август не был женат поочередно на двух дочерях Стилихона — такого же вандала, как и Хунерик?.. Но зачем же далеко ходить, государь наш?! Как это я сразу не припомнил: ведь и твоя мать Плацидия добровольно вышла за варвара, да еще короля федератов, а не наследника независимой короны!
Валентиниан прикусил губу. Как он ненавидел сейчас всех этих сановников!.. Даже устремив глаза в пол, он чувствовал на себе их взгляды, покорные, умоляющие, но уже полные надежды, радостные, счастливые. И вдруг он весело и издевательски засмеялся… И как это он мог забыть…
— Но ведь Хунерик женат! — воскликнул он. — На дочери Теодориха!..
Мгновенно на лицах присутствующих угас лучик надежды и радости. Охваченные сначала отчаянием, а потом неожиданной надеждой, они забыли обо всем.
— Нет у него жены, — спокойно ответил Аэций.
— Умерла? — в упоении воскликнуло сразу несколько голосов.
— Жива, но для света как бы умерла… Никому уже не покажется… Гензерих отрезал ей уши и нос и отослал в Толозу…
— Почему? За что?.. Как так?.. — засыпали его градом вопросов, в которых обычное людское любопытство уже брало верх над заботой о благе империи, даже над отчаяньем и надеждой.
— В наказанье за то, что хотела его отравить… Он обнаружил, что она покушалась на его жизнь…
Но в голосе Аэция, когда он произносил эти слова, звучали такие многозначительные и иронические нотки, а в глазах пряталась такая ядовитая и веселая усмешка, что Альбин Соммер, так же ядовито и многозначительно улыбаясь, воскликнул:
— Нет, скажи всю правду, Аэций… Он действительно обнаружил, что она хотела его отравить?…
— Действительно обнаружил — он только не говорит, как… Я думаю, что или во сне ему явился какой-нибудь арианский ангел, или — что более вероятно — нашло наитие после бессонной ночи, проведенной в размышлениях над письмом, в котором я доказывал ему, что самовластного владыку только позорит родство с королем федератов…
— Так это ты сам, Аэций… — начал гневно Валентиниан, но его тут же заглушил звучащий невыразимым удивлением и счастьем — точно он совершил величайшее открытие — голос квестора священного дворца:
— Ох и возненавидит теперь Теодорих Гензериха!..
Аэций одобрительно взглянул на него и, улыбаясь, сказал:
— В том-то все и дело.
И тут все, не исключая Валентиниана, поняли: в том-то все и дело. С этой минуты страшная ненависть и жажда мести, которых до конца дней своих не перестанет питать король готов к Гензериху, — наилучший залог раздробленности единой, направленной против Рима арианской мощи. А если император согласится выдать свою дочь за Хунерика, то Теодорих не только окажется изолированным в своей ненависти к римлянам и в борьбе за Галлию, но еще и будет иметь против себя соединенные союзом и узами крови империю и мощное королевство вандалов.
Уже не покорно и моляще, а дерзко, настойчиво, вызывающе смотрят сиятельные сановники в побелевшее от гнева лицо государя императора; когда же переводят взгляд на патриция, тут же восхищением, почтением и благодарностью вспыхивают холодные и безжалостные еще недавно лица. Начальник главной канцелярии быстро составляет в уме речь, долженствующую строгими словами на примерах прошлого призвать императора к незамедлительному принесению жертвы на алтарь отечества. Один только comes sacrarum largitiorum Исидор держит еще сторону императора.
— Король Гензерих известен не только жестокостью, — говорит он, — но и коварством и склонностью к измене… Почему же это тебе не приходит в голову, Аэций, что и Евдокию может — да хранят ее от этого Христос и дева Мария! — постичь подобная же беда от руки тестя, какая постигла первую его невестку? И откуда ты можешь быть уверен, что через пять или десять лет, усыпив нашу бдительность мнимой дружбой и уважением к узам крови, не нападет он неожиданно на римские владения, как это обычно и делал?!
Валентиниан смотрит на Исидора с приятным удивлением и благодарностью; все остальные — на Аэция и беспокойно и вопросительно.
— Мудро говоришь, сиятельный Исидор, — спокойно, даже дружелюбно отвечает патриций. — Только вот в одном ошибаешься… Я лучше, чем кто-либо из вас, знаю варваров, знаю, что будь кто-нибудь из них сильнее всех, равный самому Траяну, покори он всю империю, а кроме того, Персию, Эфиопию, Индию и страну синов — все равно он бы еще трепетал, боясь поднять святотатственную руку на римскую императорскую кровь и величие… Зато я совершенно согласен с тобой, что не через десять лет, а уже через два года Гензерих захочет нарушить мир и вторгнуться в Италию… Пусть вторгается… не справиться ему с Римом и его новым могущественным союзником, несокрушимо верным, когда дело дойдет до борьбы с вандалами — Теодорихом!..
Теперь даже Исидор смотрит на Аэция с беспредельным восхищением. Какая голова! Она стоит куда больше, чем его непобедимая рука! Но Валентиниан не уступает.
— Благороднейшей Евдокии исполнилась только еще восьмая весна, — восклицает он. — Как же она может взойти на Хунериково ложе?..
— Об этом я тоже подумал… По моему требованию послы от имени короля и Хунерика согласились на то, что до окончания пятнадцатой весны Евдокия останется у своих великих родителей, а супруг — который может навещать императорский двор, когда захочет, — до того времени не будет ее принуждать, чтобы она шла с ним на ложе…
Невыразимая ревность и ненависть, как прожорливое пламя, охватывают душу и рассудок Валентиниана при виде набожно почтительных и восхищенных взглядов, которые весь состав консистория стелет под ноги победоносному Аэцию. Победоносному?.. Нет, он еще не победил!.. Высоко поднимаются черные, остро выгнутые своды бровей над округлыми, несколько выпуклыми глазами… Высокомерно и вместе с тем издевательски и гневно сжались Феодосиевы губы… Валентиниан чувствует, что в него вселяется неуступчивый, неутомимый в яростной борьбе с этим смертельным врагом, всегда пылающий одинаковой к нему ненавистью дух матери его, Плацидии… От нее он усвоил: «Будешь бороться с Аэцием, помни, где недостает силы, действуй коварством…» Спасибо тебе, мать!.. Спасибо за вдохновение!.. Вот он уже готов, удар: он поразит наверняка, хотя не известно еще, во что угодит — в славу и могущество защитника империи или в его отцовские чувства?!
— Ты убедил нас, Аэций. — Патриций вздрогнул: так похож голос императора на голос его матери… и не только голос, но и манера говорить. — Для блага империи и римского мира мы пожертвовали бы нашей отцовской и императорской гордостью, но мы вспомнили, что патриций империи, непобедимый Аэций, хотел увидеть в благородной Евдокии супругу своего сына… Так как же я могу отказать столь заслуженному, величайшему мужу, столь почитаемому римлянами?!
Беспредельное изумление появилось на лицах всех сановников. Аэций же отнюдь не скрывал своей радости. Как только Валентиниан упомянул о его сыне, он сразу сообразил, куда направлены императорские слова, и уже заранее наслаждался ударом, который он нанесет через минуту, без труда и с большой выгодой для себя, отразив идущий мимо и даже самоубийственный для сына Плацидии выпад. Ему смеяться хотелось при мысли, что вот сам Валентиниан облегчает ненавистному диктатору новое торжество над императорским троном. Так что прямо из глаз его били счастье и гордость, когда он заговорил, спокойно и как будто даже небрежно:
— Поистине велика для меня милость и высшая почесть, когда сам император так заботится о сочетании Аэциевой крови с императорской… Благодарю тебя за это, государь. Клянусь, что я бы никогда не осмелился мечтать о такой твоей заботе… Я рад, что и для тебя, о великий, это дело так же важно, как и для меня, но я просто не верю, чтобы кто-нибудь из нас хоть на миг заколебался, возложить ли ему жертву на алтарь отечества… К счастью для нас обоих, бог не требует такой жертвы!.. Ведь он уже дважды благословил лоно Евдоксии Августы, так что когда благороднейшая Евдокия для блага Рима сочетается с Хунериком, моему сыну останется благороднейшая Плацидия, может быть больше для него подходящая, потому что ровесница…
Владелец виллы склонил голову.
— Благодарю тебя, Аэций, и хвала твоей несравненной быстроте. Еще три-четыре дня — и не было бы ни меня, ни этого, — сказал он, положив руку на высокую груду пергаментных свитков.
— Что это? — заинтересовался патриций.
Молодой посессор отдернул руку. Аэций увидел бесчисленные вереницы гекзаметров.
— Что это? — повторил он, еще более заинтересованный.
— Мой перевод «Илиады»… полный, эквилинеарный… Лучшего уже никто никогда не сделает… А если бы ты знал, с какого греческого издания я перевожу!.. Изволь пройти в библиотеку, я покажу тебе эту рукопись… Ей уже триста с лишним лет, и это точное повторение первого списка с кодекса самого Пизистрата…
— «Илиада»… «Илиада»… — тщетно пытался вспомнить Аэций. А ведь когда-то он слышал это название. Ах, святые Юст и Пастор, как стареет его отличная некогда память!..
— «Илиада» — это великолепнейшее повествование, которое когда-либо вышло из уст человеческих… повествование о Троянской войне…
— Помню, помню! — радостно воскликнул патриций империи. — Троянская война из-за царицы Елены! Были там еще некий Ахилл, Гектор и Улисс… Как же, читал когда-то… мальчиком еще, в учебнике Марциана Капеллы, а потом второй раз… более обширный рассказ об этих же делах, написанный Дарием… Но ведь это была проза, а не стихи…
Каризий презрительно улыбнулся.
— Марциан Капелла — невежда и сущий варвар, учебник его надо изодрать и сжечь… А Дарий?.. Дарий — это жалкое переложение дурной прозой, настоящее же повествование о Троянской войне написал чудесным стихом греческий слепой поэт Гомер…
— Слепой?.. Как же он мог писать?!
— Справедливо твое удивление, сиятельный патриций. Я ошибся… Гомер не написал, он первый пропел «Илиаду», а другие записали…
— Пропел?! Гомер?.. Никогда не слышал этого имени…
— Не может этого быть, Аэций!.. Ведь это же величайший поэт всех времен…
Патриций нахмурил брови.
— Ты смеешься надо мной, достойный муж… Самый великий поэт всех времен?! Знаменитее Меробауда?..
С трудом сдерживая судорожный смех, не в силах выдавить ни слова, Каризий только отрицательно покачал головой.
«Может, и не лжет, — подумал Аэций. — Ведь Марцеллин тоже не любит стихов Меробауда… Но уж Клавдиана-то, наверное, похуже этот Гомер…»
Он высказал эту мысль вслух. Посессор подавил душивший его смех, и только глаза у него улыбались, когда он произнес:
— И Клавдиана лучше…
— Но уж не Венанция?..
— И Венанция…
Это начало веселить Аэция. Владелец Каризиума наверняка лжет — от незнания, конечно, а не по злой воле, но патрицию доставляло удовольствие рыться в своей памяти и выкапывать все новые и новые имена. Раз уж дошло до поэтов… вот целая пригоршня: Палладас Александрийский, Эваргий, Марий Виктор, Паулин Нолийский, Пруденций. Одно за другим бросал он в молодого посессора эти славные, почитаемые грамматиками имена, и каждый раз слышал одно и то же:
— Хуже Гомера…
Наконец он решил кончить забаву, добив противника именем, которое грамматик, учитель Аэция, сорок лет назад произносил с благоговением. «А неплохая все же еще у меня память, — обрадовался патриций, — и на что-то да пригодились мне уроки грамматика…»
— Марон! — воскликнул он, торжествующе глядя на владельца виллы.
Тот серьезно кивнул головой.
— Наконец-то ты назвал достойного, Аэций, но это тоже только способный ученик Гомера, который не может равняться с учителем…
Но, видя, что Аэций снова начинает строго морщить брови, поспешно переменил тему разговора.
— Когда я кончу весь перевод, то первый кодекс поднесу тебе, Аэций… Ведь только тебе мы обязаны, я и мой труд.
— Мне?.. Ты очень любезен, Каризий… ты должен стать панегиристом, вместо того чтобы переводить этого своего Гомера, которого никто не знает и не читает… А впрочем, зачем это читать, когда все, что там есть, все знают по книгам Дария и Капеллы?.. Благодарю тебя за желание подарить мне кодекс, но ведь я его, пожалуй, тоже не прочитаю, друг мой… В молодости я очень любил поэзию, но теперь она меня вгоняет в скуку… Не скрою от тебя: я любил слушать Меробауда — то, что он писал обо мне, а особенно о моем маленьком Гауденции…
— В шестой песне «Илиады» ты найдешь нечто более достойное твоей любви к Гауденцию, чем стихи Меробауда… А в других песнях…
Но Аэций уже не слушал его. С любопытством и удовольствием осматривал он атрий Каризиевой виллы. Он очень ему понравился, впрочем, как и весь дом, да и сам хозяин понравился, хотя и тратит время на никому не нужное дело, а по сути, даже не разбирается в поэзии. Патриций империи с удивлением обнаружил, что никогда ничье жилище и ничья вилла не производили на него столь приятного впечатления… Он не понимал, почему это так; но уже в первый же миг, когда во главе войск с сопровождавшими его Марцеллином и Майорианом вынырнул из леса и увидел за поворотом серебряную ленту Изара и на ее фоне бледно-розовый мрамор Каризиума, он испытал такое же чувство, как в ту брачную ночь, когда восхищался прелестью лица и тела Пелагии. Здесь он и решил остановиться на краткий отдых, выслав одну турму под командой самого Майориана чуть ли не за Аксону, чтобы получить последние сведения о месте стоянки и продвижении короля Клодиона.
Со времени свадьбы Евдокии и Хунерика неожиданная вылазка франков из Токсандрии к Аксоне была первым серьезным нарушением римского мира федератами и легко могла явиться примером для спокойных какое-то время аланов и бургундов. Чтобы заранее пресечь все возможные попытки нарушить спокойствие в северной и восточной Галлии, Аэций лично отправился против франков, которых он решил разгромить и устрашить на будущее так, чтобы уже надолго обеспечить безопасность бельгийской Галлии и одновременно дать суровый урок другим федератам. Дело в том, что он собирался на некоторое время покинуть Галлию и отправиться в Испанию, где новый главнокомандующий, преемник Меробауда, Вит с трудом удерживал за собой Тарраконскую провинцию, отражая короля свевов, которому помогали ширящиеся крестьянские восстания. А на дальнейшее Аэций планировал новую войну с Теодорихом, дабы жестоко отомстить вестготскому народу за гибель Литория…
Каризий снова завел разговор об «Илиаде» и о своем труде.
— Зачем ты это делаешь? — спросил Аэций. — Кому он понадобится, этот твой перевод?
— Затем, чтобы через двести-триста лет, а может быть, и больше люди будущих поколений, которые не будут уметь читать по-гречески, изведали всю мощь и очарование поэзии Гомера и узнали о великих деяниях Пелеева сына Одиссея, и Диомеда, и других — не из ужасных выжимок, что сделали Капелла и Дарий, а наслаждаясь всем великолепием картин, созданных самим Гомером…
Аэций рассмеялся.
— О Гомере ни я, ни мой учитель-грамматик из Нового Рима никогда ничего не слышали… а те великие деяния Одиссея, Диомеда и прочих, которые ты упоминаешь, через двести лет наверняка еще меньше будут интересовать людей, чем теперь, а ведь и сейчас даже в далекой Персии знающие наш язык мудрецы предпочитают читать то, что писал о моих деяниях Меробауд… Я уже не говорю о тех, кто у нас читает поэзию в Галлии или в Италии…
— Нет, неправ ты, славный патриций, — горячо возразил Каризий. — Твой учитель-грамматик наверняка знал о Гомере и читал «Илиаду»… И ты тоже знал о нем, только забыл… Клянусь тебе, что через двести, а может быть, и тысячу лет люди, любящие поэзию, если они будут что-то знать о наших и греческих поэтах, то прежде всего о Гомере, а из тех, кого ты назвал, никого, кроме Марона… Потому что любитель поэзии даже через тысячу лет сразу узнает, что хорошо, а что плохо, и то, что плохо, выкинет из своей библиотеки и из памяти… И еще скажу тебе, Аэций, что если хоть один кодекс Гомера уцелеет и спустя века попадет в руки переписчиков — и через тысячу, и через две тысячи лет будет множество таких, что будут помнить подвиги Ахилла, Одиссея, Диомеда, Аяксов и Гектора, но никто почти не будет знать о твоих подвигах, так как мы ныне почти ничего не знаем о галлах, как они жили пятьсот лет назад, или об этрусках…
Аэций вскочил с мраморной скамьи. Он был не на шутку разгневан: что себе думает этот молокосос?! Но Каризий даже не дал ему произнести слова.
— Нет, нет, — воскликнул он, — не двигайся… выслушай меня до конца, Аэций. Наконец-то… наконец-то я могу высказать все, о чем думал столько лет… И кому?.. Именно тебе… Тебе самому, кто так часто был предметом моих размышлений. Ты не должен питать гнев на меня за те слова, славный муж… Я говорил то, во что верю, и совсем не хотел тебя уязвлять… Да и как бы я мог желать уязвить тебя?! Я — тебя?! Я, который тебя так любит и почитает… который так много и так долго пользуется твоей помощью… я, который лучше, чем кто-либо, лучше, чем ты сам, знает, кто ты есть и в чем заключается твоя наибольшая заслуга…
Аэций действительно не шелохнулся и до конца выслушал Каризия. Он стоял неподвижно возле мраморной скамьи, с которой вскочил, напоминая собственное изваяние. В беспредельном удивлении смотрел он на живо, страстно сыплющего необычные слова красивого, статного посессора… Наконец он решился перебить его, скорее встревоженно, чем насмешливо:
— Ты, Каризий?.. Ты знаешь меня лучше, чем я сам себя?..
— Да, Аэций, — с жаром подтвердил Каризий. — Изволь только выслушать… Так кто же ты?.. Патриций империи, диктатор, ужас врагов Рима, защитник римского мира, вскоре, может быть, ты поднимешься еще выше, может быть, будешь отцом императора… Но задумывался ли ты, кто ты на самом деле?.. Вот напирают на империю со всех сторон варвары, грабят, разрушают, захватывают — и ты нас защищаешь от них, так?.. Но только ли нас?.. Нет, Аэций, ты защищаешь все то, что создали века и десятки веков… Защищаешь не только римский мир, могущество и славу римского имени, но защищаешь и Гомера, о котором не подозреваешь, и эти этрусские памятники, на которые никогда не взглянешь, но за которые сотнями фунтов золота платит константинопольский евнух — богач Лауз… Вот ты явился за какую-то неделю до нападения франков и уберег… разве только меня?.. Только ли эту виллу, которая тебе так понравилась?.. Нет, Аэций, ты спас озаряющую лучами весь мир красоту поэзии, заключенную в гекзаметрах Гомера… Понимаешь теперь, за что я должен тебя благодарить?.. Пока ты жив, пока правишь и борешься, я могу спокойно здесь, на окраине римского мира, на земле своих отцов, закончить свой перевод «Илиады», уверенный, что ничего плохого не случится ни со мной, ни с моим трудом, пока ты нас защищаешь… Но как только не станет тебя, Аэций, обратится в развалины все… империя, и мощь Рима, и римский мир, а вместе с ними и я, и мой Гомер, и все, что создали прекрасного, мудрого и доброго под защитой Рима века… Понимаешь теперь, Аэций, кто ты такой?.. Последний римлянин — вот имя твое!.. Чем дольше ты будешь жить, защищать и управлять, тем громче будут тебя прославлять тысячи уст и сотни книг… Ведь ты же и так на тридцать лет продлил жизнь — нашу и всего нашего мира… ты задержал на какое-то время пришествие страшной ночи… Слава тебе, последний римлянин!..
И прежде чем изумленный Аэций смог понять, что Каризий собирается сделать, тот уже покорно простерся у его ног, целуя край аметистовой одежды.
Но через минуту он уже стоял на ногах и, скрестив руки на груди, продолжал:
— Да, Аэций… Наивысшая тебе честь, ибо наибольшая твоя заслуга…
Аэций вздрогнул. Сначала он не очень-то придавал значение не совсем, как ему казалось, осмысленным словам Каризия, но вот он слышит из его уст те же самые слова, которые в январские календы в базилике святого Павла произнес о нем епископ Рима Леон. Но ведь в те январские календы ему была действительно воздана наивысшая честь — такая, о которой он еще недавно мечтать не мог. И вот всюду, куда только проникает римское слово, поспешно склоняются к табличкам и пергаментам хронисты… Удивленные, восхищенные, ослепленные — большими красными буквами записывают они выдающиеся, заслоняющие все остальное события. В Испании напишут, что в год четыреста восемьдесят четвертый местной эры… в Элладе, что в тысяча двести двадцать четвертом после первой Олимпиады… в Риме, что в тысяча сто восемьдесят четвертом ab urbe condita…[94] в Константинополе, что в пять тысяч девятьсот пятьдесят четвертом от сотворения мира, в Александрии же — в пять тысяч девятьсот тридцать восьмом году от того же первого дня творения — и повсюду, что в четыреста сорок шестом году от рождества Христова, — впервые за триста с лишним лет, со времен императора Адриана, случилось такое, что третий раз избирался консулом простой смертный… подданный… не принадлежащий к императорской фамилии!.. Даже Констанций, только став императором, был допущен до третьего консульства!..
Необычное чувство счастья распирает Аэция: трикратное консульство… Торжественное оглашение Гауденция женихом благородной Плацидии… И вот последний римлянин!.. Красиво сказал и, может быть, даже неглупо вывел этот Каризий, но сможет ли это название пережить того, кто его придумал… удаленного за тысячи миль от италийских столиц отшельника?.. Под влиянием панегириков Меробауда у Аэция развилась необычайно сильная забота о бессмертии своей славы… Поэтому он спрашивает Каризия, намерен ли тот огласить свое определение: «последний римлянин»?..
— Ты, может быть, только мне одному хотел это сказать и так, чтобы никто об этом не узнал? — добавляет он, дабы смазать впечатление слишком большого радения о славе.
— Разумеется, оглашу, но только тогда, когда ты совершишь свое величайшее деяние…
— Когда уничтожу вестготов?..
— Когда проживешь долго и долго будешь щитом империи, и я спокойно окончу перевод последней песни… И тогда я в посвящении подробно напишу, чем наследие прошлых веков обязано последнему римлянину…
В атрий быстро входит молодой Майориан.
— Сиятельный, — восклицает он, — король Клодион с тысячами невольников и бесчисленными сокровищами, которые он награбил в городах и виллах над Аксоном, поспешно отступает к Токсандрии… Если мы не догоним его до Камарака, то он будет почти в безопасности на своей земле…
Мгновенно забывает Аэций о Гомере, о том, что он «последний римлянин», обо всем, что говорил Каризий.
— Едем! Ударить в буцины!..
— А ужин? — удивленно спрашивает Каризий.
Аэций улыбается.
— Сегодня мы не будем ужинать… разве что в седле… Майориан, вели забрать всех коней из здешних конюшен! — Молодой посессор смотрит на патриция непонимающим взглядом, как будто ослышался. — Я заплачу тебе, Каризий — поступлю иначе, нежели с другими, — а на обратном пути заеду к тебе с подарком… Но теперь не оставлю ни одного коня… Зато оставлю всех пехотинцев. Да, да, Майориан… Мы берем одну конницу, завтра нам надо догнать Клодиона!.. Будь здоров, Гомер!
— Да хранит тебя Христос, последний римлянин!.. Побеждай!
Аэций с минуту задумчиво смотрит на статную, красивую фигуру Каризия и неожиданно приглушенным голосом (чтобы не услышал стоящий в противоположном углу атрия Майориан) бросает вопрос, которого не задавал себе уже много-много лет:
— А если погибну?..
На губах Каризия появляется улыбка снисходительного превосходства.
— Не погибнешь… Не можешь погибнуть… Ведь я еще не окончил даже четырнадцатой песни…
Уже второй день бешено мчат они по просторам бельгийской Галлии — к северу от Виромандов, почти начисто опустошенных огнем, мечом и алчностью варваров. Со времени отъезда от Каризия Аэций ни на минуту не сомкнул глаз и почти не сходил с седла, и вот уже почти десять часов не брал в рот ни пищи, ни вина. В разоренном краю было очень трудно добыть продовольствие, войско начинало испытывать голод и усталость, но это только удваивало скорость и энергию патриция. Прежде чем люди и кони начнут действительно изнемогать, он должен любой ценой настичь франков, и непременно на земле империи, застать врасплох, обрушиться и учинить такой разгром, чтобы они уже были неспособны к дальнейшей борьбе и тут же начали молить о возобновлении мира. Все нужно разрешить в одном сражении: о том, чтобы вести войну хотя бы две недели, не могло быть и речи… Нечем кормить войско, а кроме того, слишком малы при нем силы, чтобы сражаться с целым народом, да еще на его собственной земле… Поэтому он собирался после победы и присяги Клодиона на феод тут же вернуться в плодородные окрестности Лютеции[95] правда, в случае разгрома франков войско вместе с пленными и награбленными богатствами захватило бы и продовольствие, но очень мало — ровно столько, чтобы поддержать силы, необходимые для быстрого возвращения… Варвары и сами голодали, Аэций знал об этом и только этим объяснял вылазку Клодиона на Аксону; он не скрывал всей серьезности положения и от своего войска, но вместе с тем дразнил солдат надеждой на сражение, добычу («половину захваченных богатств возьмете себе… только половину я должен вернуть законным владельцам!..»), женщин и однодневное, но зато обильное пиршество. Римских пленных он намеревался отбить, а франков брать в плен запретил: нечем будет кормить!..
На рассвете третьего дня солдатам раздали последние запасы продовольствия.
— Ужин мы должны добыть у франков! — восклицал Аэций, объезжая ряды. — Ужин, а после него приятную ночь с красивыми франконками!
Слегка отдохнув и подкрепившись, начали продираться через чащу Угольного леса. Аэций, с трудом сдерживая волнение, узнал место одной из своих первых побед. Вот тут восемнадцать лет назад начальник дворцовой гвардии разбил юного короля Клодиона!.. И теперь снова обрушится на него… почти в том же самом месте… «Оба мы постарели с тех времен», — подумал патриций.
Сколько же это весен уплыло… Какие перемены произошли… Сколько великих деяний свершено!.. А король франков все тот же, что и тогда… Почему же это так?.. Неужели все дело в Клодионовой малости или, скорей уж, в его, Аэциевом величии, на фоне которого — как говорит в одном панегирике Меробауд, — точно звезды на фоне ночного неба, двигаются маленькие люди и маленькие их делишки… А ведь даже большие, величественные планеты в этой небесной беспредельности кажутся не больше малых звездочек…
Действительно, были и великие планеты… иногда могущественные… Всходили вдруг на небосводе его жизни и потом исчезали навсегда, а он оставался… Отец, Констанций, Ругила, Иоанн, Кастин, Плацидия, Феликс, Бонифаций, Литорий, Сигизвульт, Меробауд… Появляются, исчезают, а он остается… Похоже, что правду говорят бедный, обиженный Меробауд, епископ Леон и тот чудак из Каризиума: он, Аэций, самый великий! И вдруг неизвестно откуда появилась незваная, непрошеная дерзкая мысль, а следом за нею неприятное, почти болезненное чувство: ведь и король Клодион сам себе кажется недвижным, неизменным небосводом, а Аэций на фоне его всходит, будто крошечная звезда… Так всегда и везде: разве не написал какой-то африканский священник историю славного и чистого жития истинно христианского военачальника Бонифация, на фоне жизни которого Аэций, так же как Плацидия и Феликс, — всего лишь звезды на неизменном небосводе?!
Разгоряченная мысль возвращается опять к Клодиону… А может быть, нынче же вечером закатится навсегда планета-Аэций с неизменного небосвода жизни короля франков?..
Он гневно морщит брови. Уже второй раз за последние три дня возникает мысль о смерти. Не сдерживая коня, он поворачивает голову: в каких-нибудь пятидесяти шагах едут за ним Рицимер, Марцеллин и молодой Майориан, сын старого друга Валерия, всего лишь два года служивший трибуном, а потом комесом ауксилариев (перед этим он был в школе телохранителей), а уже покрыт заметной славой. Аэций его очень ценит, но не очень любит. «Лжет ведь Максим, — думает он, глядя на красивого юношу, — будто я завидую его еще быстрейшему продвижению, чем мое, и боюсь, что он затмит мою славу… Пусть только попробует затмить! Хотел бы я посмотреть, как он это сделает… И надо будет спросить Марцеллина, что значат те слова Петрония: «Майориан при Аэции — это молодой Сулла при Марии»… Марий?.. Сулла?.. Это что-то еще до Цезаря…»
Цезарь… Он любит сравнивать себя с ним… И снова неожиданная мысль, а не погибнет ли он, как Цезарь?.. Может, иначе? Резко рванув поводья, он задержал бег коня… Кивнул Марцеллину.
— Послушай, друг, — сказал он тихо, когда тот поровнялся с ним. — Если я сегодня погибну…
В красивых умных глазах Марцеллина отразилось беспредельное изумление.
— Такие, как Аэций, не погибают в сражениях! — ответил он только после долгого молчания тоном глубокой убежденности. — А что случилось, сиятельный?.. Никогда не слышал я таких слов из твоих уст. Ты чувствуешь себя несчастливым, господин?..
— Ничуть… Наоборот… Впервые я подумал, что могу погибнуть, как раз и ту минуту, когда чувствовал себя счастливым, полным радости и гордости…
Какое-то время они ехали молча, глубоко задумавшись.
— Слушай, Марцеллин, — продолжил наконец Аэций. — Знаешь ли ты о том, что после смерти Литория ты мой самый большой, самый дорогой и близкий друг?..
Молодой комес низко склонил голову, почти коснувшись лбом выкрашенной в красный цвет конской гривы.
— Вдвойне счастлив и горд, господин, — сказал он растроганно, — и как Марцеллин и как почитатель старых богов. Чем же мы заслужили такую милость, что патриций христианской империи выбирает себе друзей не из единоверцев?.. Мы уже, право, отвыкли от такой чести…
— Сам не знаю, почему, Марцеллин… Наверное, просто совпадение… А может быть?.. Может быть, вы мне ближе, потому что в вас меньше мягкодушия, чем в христианах… Ты понимаешь меня, друг? Я говорю о мягкости духа, а не сердца. А может, еще и потому, что как-то больше чувствую живущее в вас величие и мощь старого Рима. Разве это не странно, Марцеллин?.. Помнишь памятник Констанция на форуме Траяна?.. Кто его поставил, кто лучше всех осознал и оценил заслуги самого ревностного из христиан? Язычник Симмах! Почему?.. Потому что мысли и заслуги Констанция были обращены на спасение наследия старого Рима… И кто же самые близкие приятели христианского, как бы там ни было, — он улыбнулся, — патриция Аэция?.. Язычники… Почему?.. Может быть, потому, что я — как сказал тут один чудак — последний римлянин…
— Я трижды счастлив, славный муж…
— Гордое и полное хвалы это название: ultimus Romanorum, но ведь я же не последний, — продолжал свою мысль Аэций и вдруг устремил на язычника быстрый проницательный взгляд. — Ты любишь Феодосиев дом, Марцеллин? — спросил он, отчетливо выговаривая каждое слово.
— Я люблю величие Рима и Аэция, — на лету поняв все, так же отчетливо ответил Марцеллин.
Аэций наклонился в седле и положил руку на плечо комеса.
— Поклянись мне, — сказал он тихо, почти шепотом, но ясно и отчетливо, — что, если я нынче погибну, ты проследишь, чтобы Феодосиева кровь сочеталась с Аэциевой, и что после долгой и спокойной жизни Валентиниана Третьего на трон взойдут Плацидия-младшая и государь император Гауденций, бессмертный Август?..
Марцеллин побледнел.
— Да, клянусь, — ответил он несколько дрожащим голосом.
— Гауденций Август… единый император Востока и Запада… Dominus Coniuctissimi Imperi, как говаривала старая Плацидия, — прошептал Аэций. — Ты же, Марцеллин, станешь патрицием объединенной империи… Можешь быть при Гауденции тем, чем я при Валентиниане… и женишь своего племянника на его дочери… Но помни, я никогда не был другом Констанция так, как ты моим…
Марцеллин улыбнулся.
— Аэциева кровь не нуждается в приставленном к трону таком, как ты, патриции… Да если бы мы и хотели, нам не удастся повторить то, что было… В истории — хоть есть в ней и много вещей сходных — в действительности никогда ничто не повторяется… Бег времени нельзя ни удержать, ни обратить вспять…
А через минуту добавил, больше, чем Аэций, понизив голос:
— А при императоре Гауденции Августе вернутся в храмы и сердца старые боги?..
Патриций вздернул коня и быстро рванулся вперед.
— Ты же сам сказал, что бег времени ни удержать, ни обратить вспять, Марцеллин! — воскликнул он, уже не глядя на оставшегося позади друга.
И только когда уже удалился от него на каких-нибудь полстадии, вдруг припомнил что-то, снова придержал коня и, повернувшись в седле, воскликнул:
— Ты знаешь что-нибудь о поэте Гомере, Марцеллин?..
— Это величайший поэт всех времен!..
На вспененном коне подлетел к Аэцию его любимец, трибун ауксилариев Оптила.
— Ave, vir gloriosissime! — воскликнул он срывающимся голосом. — Франки стоят лагерем между рекой Самарой и Деревней Елены… Они не ожидают нас сегодня… Думают, что мы только еще под Бибраксом… Король Клодион справляет свадьбу не то своей племянницы, не то падчерицы… Все пируют, над Самарой никакой стражи…
Аэций выпустил поводья и хлопнул в ладони.
— Так поспешим же на свадьбу! — радостно воскликнул он. — С пожеланиями!.. С подарками!.. С приятными неожиданностями для подружек невесты!.. Быстрей!.. Быстрей!.. Опоздаем на пир и, чего доброго, придется голодными спать с сытыми франконками… Вперед! Вперед!
— Вперед! — повторили комесы, трибуны, препозиты.
— Вперед! — мощно загремел старый Угольный лес.
Аэций оглядывает ряды. Немного войска ведет он за собой, но зато это самые отборные отряды его конницы. Победители готов, норов, бургундов, арморикан, аланов. И никто сейчас не сможет в случае победы сказать, что это Аттила победил, а не Аэций. Даже сотни гуннов нет в этих турмах лучшей Аэциевой конницы. Вперед! Вперед!..
Они мчатся как вихрь. Вот уже сверкает сквозь лесную чащу серебристая лента Самары. Возвращается высланный на разведку вексиларий: действительно, на берегу никакой стражи!
Аэций первым бросается в быстрый поток Самары. Сразу же за ним Майориан. Потом Рицимер, Марцеллин, Оптила.
Ни на минуту не задерживаясь на том берегу, они мчатся дальше…
Вперед выдвигаются отряды букцеллариев, собственных, содержимых на собственные деньги патриция воинов. У всех на панцирях золотые, серебряные или бронзовые кружки с его изображением. Аэциево же лицо смотрит со всех значков, развевающихся перед их рядами. Вот уже слышен нарастающий шум стойбища… появляется франконская стража… Сильно, больно бьют пятками о бока своих коней Аэциевы воины и с обнаженным оружием, с наклоненными копьями, как буря, налетают на стражу, громким тройным возгласом разнося по пирующему стойбищу страшную весть:
— Аэций! Аэций! Аэций!
Сам патриций империи мчится в первой шеренге. Каждый с легкостью различит его… Кто же в Галлии не слышал о высоком шлеме без всяких украшений и коротком аметистовом плаще?.. Вот уже просвистели возле уха первые стрелы… Франки в ста шагах… в пятидесяти… в тридцати… Отчетливо видит он дикие, жестокие, гневные лица… Заплетенные в косички волосы… длинные, свисающие усы… насупленные брови… В него уже швыряют страшными францисками — короткими двойными топорами… ощерились тройной щетиной длинных, тяжелых копий — фрамей… уже сверкают огромные обоюдоострые скрамасаксы… Круглый щит Майориана с торжествующим звоном отбивает метко брошенную франциску… другую — предназначенную Аэцию — принимает в свою грудь высокий старый гот, отдавая за вождя, за империю и римский мир — что?.. всего лишь собственную жизнь!.. Умирающему кричит патриций:
— Аэций благодарит тебя, друг. — И бросает своего коня в самый центр сверкающей расселины.
— Что, не ожидали, наверное, что вместе с невестой и вы познаете радости супружеского ложа?! — со смехом спрашивает Аэций, разглядывая восемь подружек невесты — все дочери графов, — ожидающих с застывшим на лице страхом, когда их поделят между собой победители-военачальники.
Судьба двух наименее красивых, хотя и отнюдь не уродливых, уже решена: одну получает трибун ауксилариев Оптила, вторую — сын гота, который пал в начале битвы, заслонив своим телом Аэция.
— Это ему за отца, — объясняет патриций.
Молодой гот, простой солдат, даже не декан, долго не может поверить своему счастью. Неужели это на самом деле?.. Он получит в собственное владение молодую красивую девицу, да еще из знатного, чуть ли не королевского рода?! Гордость и радость без границ распирают его. Как же ему будут завидовать товарищи из его друнгуса! Чудо! Истое чудо!.. Как комес или как женатый воин, он не должен никому отдавать свою добычу…
С недоверием и беспокойством смотрит он на врученную ему женщину.
— А может, она не девица? — дрожащим голосом осмеливается обратиться он с этим самым важным для себя делом к самому патрицию.
— Ты еще никогда не спала с мужчиной? — довольно гладко спрашивает Аэций на наречии салических франков.
— Никогда…
Патриций снова переходит на язык римлян.
— Если она солгала, можешь ее убить, — говорит он готу.
«Вероятно, он все равно ее убьет, — думает Аэций, когда солдат, упав к его ногам, встает и уходит со своей пленницей. — Столько женщин захватили… Кормить нечем… Каждый кусок хлеба сейчас стоит больше, чем захваченное золотое кольцо… Половину женщин придется перебить…»
И он отдает приказания комесам. Победа действительно блистательная, пожалуй, третья часть франков полегла. Клодион, дважды раненный, еле спасся бегством… Добычи уйма, но продовольствия мало… Завтра надо возвращаться…
Что делать с женщинами?.. На конский круп их не возьмешь, да и зачем они нам нужны, когда мы вернемся в Лютецию?..
Марцеллин советует отдать всех женщин франкам. Этой милостью легко будет покорить их сердца. Аэций и Рицимер разражаются хохотом. Милость?! Уже двенадцать лет сражается подле Аэция Марцеллин, а все еще не знает, как надо поступать с варварами. Милость их только подстрекает!.. А вот изнасиловать и перебить с полтысячи женщин — это их смягчит… Пусть только воины узнают через неделю, что их жен и дочерей убили, а те, что уцелели, прошли самое малое через тридцать-сорок рук и вернутся в свои селения с римским плодом, — и они тут же заставят Клодиона заключить мир и присягнуть на феод, чтобы спасти от подобной же судьбы остальных женщин…
— Я даже не знаю, — заключает Аэций, — стоит ли щадить этих знатных дочерей графов… Мы забрали у франков все… выкупа они никакого не дадут… и они так суровы, когда дело касается девичьей добродетели, что часто своей рукой убивают обесчещенных женщин…
Решено было, что те, кому достанутся знатные подружки невесты, сами будут решать судьбу каждой из них, после того как проведут с ними ночь… Остальных же захваченных женщин, которые вот уже час переходят из рук в руки победителей, — почти в ста шагах от трупов своих мужей и отцов, — завтра разделят на две части: сто или двести из них направят в Камерак, остальных же — около четырехсот — придется убить…
Военачальники принимаются делить женщин. Один за другим покидают они шатер патриция, каждый ведя свою добычу… Только Майориан не приблизился ни к одной.
— Ты дал обет целомудрия, Юлий? — спрашивает его с улыбкой Аэций, когда они одни остаются в шатре.
Но Майориан вместо этого отвечает вопросом на вопрос.
— Кто в сегодняшней битве отличился больше всех, сиятельный?
Аэций не хочет быть несправедливым.
— Ты, молодой друг, — говорит он, кладя руку на плечо.
— Значит, я заслужил награду?
— Заслужил, Юлий.
— Высшую награду?.. Награду для храбрейшего?..
Аэций с трудом сдерживает нарастающее раздражение.
— Да, наивысшую… Говори же, чего ты хочешь…
Майориан скрещивает руки на груди. На губах его играет гордая спокойная улыбка.
— Я хочу франконскую королевну.
Аэций вскакивает. Широкие скулы напряженно двигаются под густой бородой.
— Ты еще молодой воин, Юлий, — начинает он свистящим голосом, — так что можешь и не знать, что высшую награду после победного сражения берет обычно не самый храбрый солдат, а высший военачальник.
— А разве ты ее хочешь, сиятельный?..
Майориан уже не улыбается, но удивление, которое отражается в его взгляде и голосе, так выразительно и вызывающе, что Аэций вынужден сделать нечеловеческое усилие, чтобы не размозжить наглецу голову или не вышвырнуть его из шатра… Но сделать это нельзя: в Риме и Равенне будут говорить, что он ревнует к щенку… Боится, что тот затмит Аэциеву славу, угрожает его власти… Майориан же, чувствуя, что именно удерживает Аэция, становится все более дерзким.
— Я молод и, кажется, красив, сиятельный, и кровь во мне играет… Ты же, непобедимый, уже достиг счастливого равновесия и поры охлаждения крови… Ты ведь можешь быть отцом королевны…
Аэций, хотя в нем бушует страшная буря чувств, внешне уже совершенно владеет собой. Неужели дать повод для насмешек?.. Пойти на то, чтобы в Риме и в Равенне кружили злые шутки о том, как пятидесятипятилетний диктатор, охваченный неожиданным вожделением, схватился из-за пленницы с красивым двадцатилетним воином?.. Никогда! Но как найти выход, чтобы не оказаться в смешном положении?
— Понимаю, Майориан, — говорит он через минуту, — ты молод и можешь заболеть, если не получишь женщину… Но это королевна — давай уж посчитаемся с ее достоинством… и без того ее постигло большое несчастье!.. Должна была пойти на ложе с любимым супругом, а супруг вот лежит с рассеченной головой в двух стадиях отсюда, королевна должна отдать свое девичество победителю, так пусть она сама выберет, кого из нас двоих предпочитает…
Майориан даже не улыбнулся. До чего же легко сдался твердый, непобедимый Аэций… Юношу распирает все большая гордость, а кроме того, он чувствует, что вот уже горячей волной приливает к голове бурлящая кровь… Он видел королевну… Поистине прекрасна… Он видел только ее светловолосую головку, а теперь увидит всю… и такую красавицу заключит в объятия… первый!.. первую самую знатную деву храброго народа!..
«Только бы вызвать улыбку на этом застывшем от гордого страдания лице… Она, должно быть, в сто раз прекраснее, когда улыбается… Верно, все еще убивается по своему жениху, но не должен же я нравиться ей меньше, чем самый красивый франк…»
Когда через минуту они оба стали перед знатной пленницей, Аэций на салическом наречии объяснил ей, чего они от нее добиваются. Говоря, он с трудом сдерживал тоску, горечь и ревность: до чего же она красива и молода… И до чего красив и молод Майориан… Несомненно, самый красивый молодой человек, которого он когда-либо видал… Великолепная пара…
Повторив еще раз с грозным нажимом, что она обязана сделать выбор, Аэций цеплялся за надежду, что суровая франконская добродетель окажется сильнее страха, и она скорее бросится на меч, чем согласится отдаться победителю… Ах, как бы торжествовал тогда Аэций над щенком!
Но королевна, как будто и не была франконкой, а тем более девицей, с любопытством долгое время вглядывается в одного, потом в другого и, не опуская глаз, уверенно прикасается к плечу Аэция.
— Я пойду с тобой…
— Сколько тебе лет? — спрашивает Аэций, уверившись, что все это не сон.
— Зимой начну семнадцатую весну…
— Ты могла бы быть моей внучкой…
Королевна не отвечает. Она стоит подле ложа и — как ей велели — снимает с себя одежды. Она уже сняла с ног башмаки, скинула с плеч пурпурное, златотканое, захваченное в какой-то римской вилле платье. Но когда коснулась ладонями длинного, касающегося самых кончиков ног пеплума («Тоже похищенный, — думает Аэций. — Может, снятый с изнасилованной и убитой римлянки?»), вся задрожала и закрыла лицо руками.
— Не могу, — прошептала она, опустившись к подножию ложа.
Патриций смотрит на нее с удивлением.
— Почему ты выбрала меня, а не другого? — спрашивает он.
Франконка не отвечает.
Аэций пресыщен, горд и счастлив. С восхищением, благодарностью и почти растроганно смотрит он в прелестные глаза франконской королевны, то и дело меняющие цвет. Вот они голубые, прозрачные, глубокие… вот уже зеленые, затуманенные, с золотистыми огоньками… а потом серые, стальные, холодные… «Таким должно быть Северное море, родной saal ее отважного народа…» — думает патриций Римской империи и говорит тихим голосом, в котором звучат мягкие, ласковые, заботливые тона:
— Ты дала мне много радости и наслаждения… Я благодарен тебе и не хочу, чтобы ты пострадала, оказалась несчастливой и опозоренной. Я бы с радостью взял тебя с собой в имперские земли, но не могу… Отослал бы тебя в твой край с богатыми дарами, окруженную сотнями пленниц, которые были бы только тебе обязаны жизнью и свободой… Но я знаю суровые обычаи вашего народа и боюсь, как бы ты еще больше не пострадала от своих: чтобы не прокляла тебя твоя мать, а отец не поднял бы на тебя беспощадную руку и чтобы молодые подруги, чистые девственницы, не поворачивались спиной к той, с кем я был минуту назад счастлив…
— Поистине, не только у франков, — отвечает королевна, — но и у саксов, тюрингов, бургундов и ютунгов не найдется такой чистой, самой непорочной девственницы, которая с завтрашнего дня будет смотреть на меня, думать обо мне, говорить со мной не иначе, нежели с завистью, восхищением и почитанием. Разве может быть большая слава и большее счастье для дочери народа воинов, чем сочетаться с мощью и кровью величайшего из мужей, какого когда-либо создали боги — сына Тора и Валкирии, Аэция?!
Теодор Парницкий и его роман о «последнем римлянине»
Жанр исторического романа в польской литературе, всегда проявлявшей интерес и к прошлому своего народа и к закономерностям исторического процесса вообще, был неизменно одним из самых популярных. В подтверждение достаточно назвать такие имена, как Крашевский, Сенкевич, Прус, Жеромский, Тетмайер, Кручковский — писатели, чья историческая проза нашему читателю в переводах очень хорошо известна. Популярен исторический жанр и в литературе современной Польши. В последние годы одним из виднейших его мастеров польской критикой признан Теодор Парницкий, для которого история, ее противоречия и сложности стали главным источником творческого вдохновения, художественных поисков, тем и сюжетов.
Парницкий принадлежит к числу польских писателей довоенного поколения. Но жизненный и творческий путь его сложился таким образом, что в литературу народной Польши он вошел сравнительно недавно, немногим более десяти лет назад. Судьба писателя была такова, что ему приходилось бывать и жить в нескольких странах, на разных континентах. Может быть, с этим связана и бросающаяся в глаза географическая обширность изображаемого в его романистике.
Теодор Парницкий родился 5 марта 1908 года в Берлине в семье польского инженера. С 1911 по 1917 год он жил вместе с родителями в России, а затем оказался в Маньчжурии, где окончил польскую гимназию в Харбине и в местном польском журнале напечатал первую работу, посвященную историческому роману («Генрих Сенкевич и Александр Дюма-отец»).
В 1928 году Парницкий приезжает в Польшу, во Львовском университете изучает польскую, английскую и восточную филологии, там же в 1933 году начинает читать лекции о русской литературе. Об интересе Парницкого к русской литературе свидетельствуют и многие его статьи, среди которых эссе о поэтах-акмеистах, разбор «Вора» Леонида Леонова, статья «Новые пути русского исторического романа» (1915) и т. д. В эти же годы он становится профессиональным писателем, опубликовав ряд литературно-критических статен, а затем первые рассказы и повести, сперва приключенческого, а затем исторического содержания. Известность Парницкому приносит увидевший свет в 1937 году роман «Аэций, последний римлянин». Война, начавшаяся в 1939 году, застает Парницкого (только что вернувшегося из поездки в Болгарию, Грецию, Италию) во Львове, освобожденном вскоре советскими войсками. В 1941–1942 годах он сотрудник польского посольства в Куйбышеве. Последующие события забросили писателя на Ближний Восток, где был написан и издан его роман «Серебряные орлы». Обратившись к событиям начала IX в., временам польского короля Болеслава Храброго, Парницкий в многоплановом по структуре повествовании, составившем широкую панораму средневековья, изобразил не только утверждение польского государства в формирующейся политической системе Европы, но и борьбу разных политических сил (папство, Германская империя, Византия), взаимодействие различных культурных начал (античного и средневекового, западно-латинского и греческо-восточного). В 1944 году лондонское Эмигрантское правительство назначает писателя культурным атташе при своем посольстве в Мексике. Эту должность Парницкий занимает до июля 1945 года, после чего всецело отдается литературной деятельности. Новые его романы выходят в свет начиная с 1955 года. Первым из них стал роман «Гибель «Согласия народов», где действие происходит уже в среднеазиатской древней Бактрии во II веке до н. э. (когда существовало еще Греко-Бактрийское царство, возникшее после распада державы Александра Македонского) и — с помощью сюжета острого и сложного, насыщения текста философско-литературным материалом — опять затрагивается вопрос об отношениях между разными этническими элементами, синтезе культур.
Начиная с 1956 года все более тесными становятся связи Парницкого с народной Польшей. На родине переиздаются его старые книги и выходят в свет новые романы. В 1967 году писатель (и ранее приезжавший в Польшу) возвращается на родину окончательно. Вторая половина 50-х и 60-е годы отмечены в творческой биографии Парницкого наибольшей активностью. Определяется его оригинальная писательская манера, круг интересующих его проблем, приобретают редкий размах и масштабность его творческие замыслы, еще более расширяется тематика его произведений.
В «Слове и плоти» (1958) подхвачена была (и обогащена новыми морально-философскими аспектами) проблематика предыдущего романа, вновь столкнулись (начало III в. н. э.) представители Европы (Рим, Греция) и Востока (Парфянское царство и т. д.). Трехтомный роман «Лунный лик» (1961–1967) берет исходным пунктом для споров и размышлений о истории, культуре, религии события III–V вв. н. э., происходящие сперва в древнем Хорезме, а затем в Византии (опять-таки с широким выходом в жизнь других стран).
С 1962 года Парницкий начинает публиковать свой обширный цикл «Новое предание» (т. I — «Работники призваны в одиннадцать», 1962; т. II — «Пора сева и пора жатвы», 1963; т. III — «Лабиринт», 1964; т. IV — «Глиняные кувшины», 1966). Начав с эпохи, когда Польша на переломе XI–XII вв. включается в европейскую культурную общность, он доводит повествование до времен, когда Европа, выйдя из средневековья, вступает в полосу великих идеологических и культурных движений нового времени, и создает опять-таки грандиозную историко-культурную панораму, вплоть до рассказа о только что открытых землях Нового Света (не теряя на протяжении цикла и польской сюжетной линии). История здесь дается лишь в том ее аспекте, который связан с развитием интеллектуально-культурного общения и традиций, с расширением человеческого представления о мире, она неизменно выступает преломленной в сознании героев, пропущенной сквозь их восприятие, преобразованной логически или художественно (в «легенду», «предание»). Пожалуй, мы имеем здесь дело с наиболее развернутым примером восприятия Парницким истории и художественной ее интерпретации.
Одновременно выходят в свет и романы, не связанные с названным циклом: «Только Беатриче» (1962), «И у сильных славный» (1965), «Следы на песке» (1966), «Смерть Аэция» (1960), «Смерть Клеопатры» (1968).
Критика единодушна, отмечая необычность романов Парницкого, непохожесть писателя на соратников по избранному им жанру. Но целостной и исчерпывающей интерпретации его творчества мы пока не имеем, хотя о Парницком написан ряд статей, есть и обобщенный очерк его писательского пути (монография Т. Цесликовской). Можно отметить, однако, некоторые особенности художественной манеры, наиболее волнующие его проблемы. Кое-что на этот счет было сказано выше, при перечислении главнейших произведений Парницкого.
Даже при беглом ознакомлении с исторической прозой Парницкого бросается в глаза поистине редкостная эрудиция писателя, бесстрашно углубляющегося в давно принадлежащие прошлому миры, домысливающего облик культур, которые дошли до нас лишь в разрозненных свидетельствах, разбирающего тонкости древних религиозных и философских учений. Эрудиция эта — результат многолетнего изучения огромной по объему научной исторической литературы, ставшей для художника ориентиром, но отнюдь не сделавшей его своим рабом.
Между свидетельствами источников, точно установленными фактами прошлого, и авторским вымыслом Парницкий выдерживает постоянное и строгое соотношение. Вот одно из его высказываний по этому поводу: «В целом я придерживаюсь принципа, что меня обязывает историческая правда, то есть подтверждаемое источниками. Но, как известно, в источниках есть пробелы и недоговоренность, ситуации, относительно которых между историками нет согласия. И тут вступает в дело право на творческое воображение».
Известное историкам в повествовании Парницкого, как правило, представляется или сигнализируется читателю. Реже это бывает подано непосредственно от автора, чаще — в сказанном или написанном героями (таким же образом вводится в ткань романа идеологический и литературный материал прошлого). Подчас выступают на сцену и сами авторы исторических свидетельств.
Но Парницкий вовсе не стремится преподнести читателю и прокомментировать как можно больше фактов твердо установленных. Популяризацию исторических знаний он не считает своей задачей. Он рассчитывает в ряде случаев на собственные познания читателя, на его культурно-интеллектуальную подготовленность, полагая, что писатель, вложивший «неслыханно много подготовительного труда в создание произведения», может «ожидать, что и читатель пожелает взяться за такой же труд, хотя бы в степени десятикратно меньшей». Бесспорно, это придает романам Парницкого своеобразный блеск, но и сужает круг тех, кому они адресованы. (Впрочем, к предложенной читателю книге это менее всего относится.)
Художественный же вымысел в писательской концепции Парницкого устремлен не на дополнение известных фактов, связывание их в общую картину, а на проникновение в области, исследователю принципиально не подвластные. А к таковым Парницкий относит все, что связано с мотивами (вплоть до самых сокровенных) действий исторических лиц, с сознанием отдаленных эпох, поскольку оно не дошло до нас в достаточно подлинном выражении. Реконструкция человеческих портретов, ушедших в прошлое мышления и психологии — вот что становится целью художественной фантазии. Последняя получает очень большие права. Поэтому-то Парницкий неизменно обращается к тем эпохам, которые изучены менее, как бы остались в теин, в литературных и иных памятниках отразились весьма неполно. Источникам вымысел не должен противоречить, но за пределы их он обязательно выходит. Открывается поле для собственных интеллектуальных построений писателя, для его концепций (почти никогда не выражаемых прямо, от себя). Духовный мир героев максимально усложняется. Парницкий заявлял, что воспроизведение этого духовного мира историческими романистами прошлого представляется ему плоским или излишне модернизированным. Герои выступают как идеологи, литераторы, как концентрация достигнутого их обществом в умственном развитии. Предел здесь кладется лишь один: уровень тогдашнего знания. Психологию же действующих лиц Парницкий конструирует при помощи разнообразных приемов, свидетельствующих о знакомстве с теориями психологов XX века и о связях с теми тенденциями в литературе нового времени, которые сделали психологический анализ главной и подчас самодовлеющей задачей.
Не случайно, по-видимому, содержание романов Парницкого преподносится им, как правило, в литературно-композиционных структурах до чрезвычайности сложных. Часты переносы действия, выступает несколько повествовательных пластов, информация о событиях и их толкование даются в комплексе диалогов, внутренних монологов, приводимых документов. Персонажи выступают не как иллюстрация к эпохе, не как актеры занимательного представления, а как олицетворение определенной точки зрения, идеологического аспекта. На них возлагаются и добавочные функции: объяснение событий, указание на их связь, прием потока информации. От читателя требует автор не только известной эрудиции, но и напряженного усилия в самом процессе чтения: умения запоминать детали, сопоставлять, делать выводы из разрозненных намеков. При всем этом конструкция лучших вещей Парницкого по-своему крепко слажена и логична. Продумана писателем и преобладающая в его прозе стилистическая концепция: лексической архаизацией он в погоне за историческим колоритом никогда не злоупотребляет, атмосферу эпохи дает почувствовать главным образом в складе речи героев, в течении, строении фразы, нисколько не затруднял читательского восприятия.
Установить источники и дать целостный анализ всей совокупности взглядов Парницкого на историю — задача сложная и требующая серьезного исследования (не только литературоведческого). Несомненно, что изученная писателем обширная литература (преимущественно немарксистская) нашла в его романах известное отражение, но никак не сделала последователем какой-нибудь одной узкой доктрины, не склонила к предвзятости в истолковании прошлого.
Можно отметить, что Парницкий избегает, как правило, изображения общества, эпохи в разнообразии социальных типов, в «вертикальном разрезе». История интересует его не столько в своем социальном выражении, сколь в интеллектуально-культурном отражении. Социальных полотен, целостно-научного толкования процесса читатель в его книгах искать не должен. Но зато они побуждают к размышлению, подчас к историко-философскому спору, и доносят до читателя последовательно проводимые автором убеждения, относящиеся прежде всего к развитию человеческой культуры.
Накопление человечеством интеллектуального опыта, расширение его горизонтов рассматривается писателем как неотъемлемый спутник развития, как не прерываемый в конечном счете процесс. Ничто пенное и значительное в этой области жизни общества бесследно пропасть не может, ибо существует культурное общение, соприкосновение племен и народов между собой.
В общении этом заключен, но Нарницкому, важнейший стимул обогащения культуры, ибо в процессе накопления общих культурных ценностей народы и расы творчески равноправны, имея возможность внесения своего вклада, ибо между разными культурами не может существовать и не существовало в прошлом непреодолимых барьеров.
Поэтому именно «стыки культуры» так привлекают внимание Парницкого. Поэтому часты в его романах герои, своим происхождением и воспитанием (это обычно дети разноплеменных родителей и люди высокой образованности, подчас трагической судьбы) предназначенные содействовать взаимопроникновению различных начал, не страдающие заносчивой и односторонней приверженностью к чему-то одному.
Преподнесение читателю этих концепций у Парницкого своеобразно. Он пишет об отдаленных временах, когда умственное развитие общества совершалось в формах, далеких от нынешних. Но именно тем и объясняется напряженный интерес писателя к различным мифам, верованиям, культам, что его увлекает стремление утвердить идею единства общечеловеческого культурного развития, обратившись к его истокам.
На протяжении своего творческого пути Теодор Парницкий проявил себя художником, непрерывно и своеобразно развивающимся, и нынешний этап его деятельности принесет в польскую историческую прозу, несомненно, еще много нового, интересного, может быть неожиданного.
Роман «Аэций, последний римлянин» стоит в начале творческого пути Парницкого, и основные черты исторической прозы писателя со всей полнотой в нем еще не проявились. Нет здесь ни усложненной структуры повествования, ни максимальной нагруженности персонажей интеллектуальным содержанием, ни широкой многоплановости действия, рассчитанной на читателя-эрудита. Можно сказать, что роман этот весьма подходит для того, чтобы именно с него советский читатель начал свое знакомство с произведениями польского автора. Вместе с тем и в «Аэции» налицо типичное для Парницкого соотношение между историческими фактами и авторским вымыслом, между ролью писателя как исследователя эпохи и как художника. (Хотя эрудиция романиста не предстает здесь в такой широте, как позднее, может быть потому, что еще нет слишком большого размаха исторической панорамы.) И характерен выбор описываемой эпохи: переломный период в истории Европы, гибель одного общества и становление другого, столкновения народов и цивилизаций.
Аэций, выдающийся полководец Западно-Римской империи, много лет фактически правивший государством, поставлен автором в центр повествования и выделяется среди героев романа, превосходя их проницательностью и силой характера. Биография этого исторического лица, мужественно и умело собиравшего силы ослабевшего Рима для отпора множеству угроз извне, успешно воевавшего с бургундами, франками и другими племенами, в 451 году на Каталаунских полях одержавшего победу над гуннами, предводительствуемыми Аттилой, изобиловала яркими страницами. Парницкий не пошел, однако, по пути создания героического образа. Политическая карьера Аэция базируется в романе на целом комплексе качеств героя, никак не сводящихся к доблестям. Он показан как человек, способный в решающий для себя момент руководствоваться голым политическим и личным расчетом (либо интуицией). Когда нужно, он может поступиться моральными или религиозными соображениями, человечностью и семейными связями, может сломить чужое сопротивление, перешагнуть через чужую правоту. При способности к цельным чувствам, уважении к уму и храбрости, предпочтении борьбы вульгарному злодейству и интриганству Аэций склоняется к принципу, стоящему на грани хищничества («жизнь — это охота»), и смысл существования видит в том, чтобы от жизни брать все возможное.
Выделение на первый план такого героя (а он трактуется автором, как мы видим, не в разоблачительном плане) критика объясняла временем создания романа, временем, когда многие из европейских интеллигентов, свидетелей кризиса буржуазной демократии, наступления фашизма (не забудем и о годах, когда в Польше популярна была «легенда Пилсудского»), проявляли интерес к проблеме так называемой «сильной личности», влияющей на ход истории, и отдавали дань воззрениям «цезаристского» толка.
Хоть и понятен поиск в литературном произведении отзвуков тех или иных политических тенденций времени его создания, к данным соображениям относительно романа Парницкого следует подходить с осторожностью.
Конечно, Аэций Парницкого, помимо примет, порожденных изображаемой эпохой, имеет и черты, в какой-то мере складывающиеся в портрет политического деятеля эксплуататорского государства вообще, точнее, государства, идущего к упадку (причем это деятель, сформированный практикой «верхов», ничей ни трибун, не заступник, не печальник. Но верность писатели фактам и духу оживляемого периода истории ставит предел каким либо аналогиям — ничего из присущего цезаризму новейшего времени (скажем, демагогическая практика, оглядка на силу денежного мешка и т. д.) Парницкий в созданный им образ не привносит. В романе не просматриваются черты памфлета на историческом материале, и, конечно, еще менее оснований подозревать автора в какой-либо склонности апологетизировать «сильную личность».
Заметим прежде всего, что возвышение Аэция, человека незнатного и имевшего многих врагов, превосходство его характера не объясняются автором исключительно через качества его личности, так сказать, «изнутри» (а тем более в плане иррациональном). Особая роль героя имеет причины совершенно реальные, объективные. По обстоятельствам своей жизни он оказался человеком, который проник в жизнь племен, окружавших Рим, прекрасно их зная, умел находить с ними общий язык, понимать их, использовать как для личных целей, так и для успеха римской политики. И когда Аэций, человек нового покроя, полуримлянин, полуварвар (добавим к этому, что он еще и выступает как защитник христианства), оказывается в романе сильнее противников, это выглядит не просто торжеством незаурядной личности, а в какой-то степени и знамением превосходства той молодой, варварской стихии, которая наложила на него свой отпечаток, за которой в конечном счете будущее, которой суждено низвергнуть Рим.
Отношение писателя к герою становится более ясным, если окинуть взглядом творчество Парницкого в целом. Тогда легко заметить, что доминирует в его романах герой иного типа, нежели Аэций, носитель знания (конечно, применительно к далеким временам), причастный к созданию и хранению интеллектуально-культурной традиции. Как раз от такого типа исторического лица «последний римлянин» Парницкого, в сущности, бесконечно далек.
Тут и уместно задаться вопросом: как же оценивает автор в конечном счете бурную жизнедеятельность героя? И тут опять-таки небесполезен будет выход за пределы романа. Парницкий покидает своего Аэция в момент, когда он стоит на высшей ступени успеха и популярности, когда воинские его победы отвели от Рима смертельную опасность. Читатель, однако, знает из истории, что карьера полководца внезапно и бесславно оборвалась: через три года после победы на Каталаунских полях (и через год после внезапной смерти Аттилы) он был в 454 году убит по приказанию императора Валентиниана III, опасавшегося усиления власти и авторитета Аэция. И военные успехи его не воспрепятствовали неотвратимому: в 455 году Рим был взят и разграблен вандалами, вскоре пришел конец римскому господству в империи, окончательно павшей, когда Одоакр низложил в 476 году последнего императора Ромула Августула… Помня об этом, мы и успехи Аэция вряд ли сможем воспринять иначе, как вехи на пути к гибели, как только отсрочку в свершении приговора истории над его государством. Такой взгляд не будет, пожалуй, искажением авторской мысли: в атмосфере романа достаточно ощутимы предчувствия надвигающейся катастрофы, мотивы обреченности героя и его дела. И вряд ли может быть иначе: в положении, связующем разные миры, и сила и слабость Аэция, который по-настоящему не принадлежит ни к одному из них и до конца остается, в сущности, одиноким. Он служит взаимопроникновению различных начал (а это важно, ибо варварам суждено унаследовать культуру Рима), но это служение бессознательное. Прочным, вековым оказывается, по Парницкому, не то, что кажется важным герою, а совсем иное.
Понятно теперь, почему Парницкий, считавший, что многое в его произведении не было в свое время правильно понято, подчеркивал спустя годы: «…Апофеоз аэциевского типа дышит (по крайней мере это предполагал замысел автора) горьким, прямо болезненным — хотя старательно маскируемым — сарказмом». Можно видеть в этом сарказме своеобразное подчеркивание того обстоятельства, что деятельность исторического лица, обусловленная множеством факторов, подчас причинами частными, имеет зачастую направленность, результат, последствия, от него самого скрытые, не предвиденные им, смысл ему не доступный, но в исторической перспективе весьма значительный.
Трактовка центрального героя бросает, таким образом, свет и на проблемы более широкого плана. Если то, что лежит как бы «на поверхности» истории (борьба за власть, смена правителей, военные столкновения и т. д.), романист признает не выражающим суть и смысл процесса, но только этим и ограничивается, возможной становится пессимистическая трактовка истории. В романе Парницкого, написанном за три года до начала второй мировой воины, трудность, запутанность исторического развития, неизбежность катастрофических переломов выдвигаются, пожалуй, на первым план (как бы концентрацией суровости истории и являются заглавный герой и его судьба). Исторический оптимизм возможен был при обращении к глубинным процессам истории. В том направлении исторической романистики XX века, которое наш читатель лучше всего знает, обращение это означало воспроизведение жизни народных масс, интерес к деятелям, так или иначе интересы масс выражавшим. У Парницкого, не обращающего в романе сколько-нибудь сосредоточенного внимания на массы и их влияние на ход событий, не вводящего в книгу ни представителей римских низов, ни развернутого изображения их положения, оптимистическое начало (прямо, в образно-доходчивой, а тем более в публицистической форме не выраженное) следует искать в другом: в подчеркивании неотвратимости развития и непрерывности (несмотря ни на что) сохранения завоевании человеческого опыта и познания — всего, что составляет содержание понятии «культура» и «цивилизация».
Надо полагать, что читателя привлечет в книге не только образ Аэция и заинтересуют не только проблемы, о которых мы пытались сказать выше (многое по необходимости опустив и, конечно, упростив). Роман — при ведущей роли главного героя — нельзя считать биографичным. Весьма густо населенный, он дает целую галерею персонажей, представляющих различные племена и состояния, различные политические ориентации и позиции, типы человеческого поведения, складывается в чрезвычайно выразительную картину Рима эпохи «великого переселения народов» и шире — околоримской Европы (ряд важных эпизодов захватывает и Северную Африку). Встретит здесь читатель целый ряд известных ему исторических лиц. Среди них — вожди племен, государственные и церковные деятели (Аттила, блаженный Августин и т. д.). Очерчены они, конечно, с меньшей выразительностью чем Аэций, но достаточно четко, с попыткой воссоздании психологии интимно личной стороны жизни, мотивов действии и решений сплошь и рядом в столкновениях, речах и спорах (воспроизведение которых для автора гораздо важнее бытописательских подробностей и фабульной занимательности). В итоге выпукло обрисованы многообразие и сложность причин и факторов, так или иначе в равной степени влияющих на историческое развитие (тут чувствуется неприятие автором вульгарно-волюнтаристского толкования истории), воссоздан целый механизм выступающих в конкретный исторический момент различных сил и стремлений, внутренних и межплеменных столкновений, интриг, личного соперничества.
В картине этой не могло не занять видного места изображение тогдашнего христианства, чья доктрина в этот момент устанавливалась и разрабатывалась, чья церковная организация развивалась. Стоит, однако, обратить внимание на то, как рельефно изображены раздиравшие тогдашний христианский мир религиозные распри, как подчеркивается романистом переплетение религиозных моментов с политическими, с конкретными земными интересами, как часто из-под религиозной мотивировки проступают стремления совершенно иного порядка, от христианской официальной морали весьма далёкие. Несомненна трезвость и объективность писателя в разработке и этой линии повествования.
Первое знакомство с творчеством видного мастера исторического романа, художника оригинального и заслужившего прочное признание у себя на родине, окажется небезынтересным и для советского читателя.
Большое познавательное содержание, заключенное в книгах Парницкого, его бесспорное и выдающееся писательское мастерство давно являются достаточным основанием для того, чтобы это знакомство наконец состоялось.
Б. Стахеев