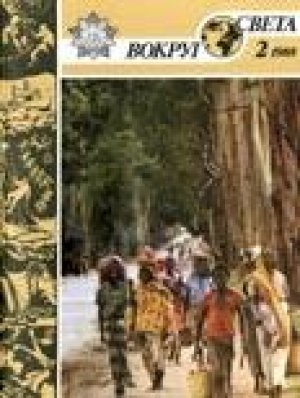
Квидили спускается с гор
Февраль — месяц вьюг и метелей, но природа и люди уже живут в ожидании весны. Этим ожиданием наполнен и древний праздник-маскарад в высокогорном дагестанском ауле Шаитли. Когда солнце после долгой зимы приходит на горный склон Хора, люди, как и в давние времена, встречают его веселым красочным представлением.
Протоптанная в глубоком снегу тропинка была очень узкой, и ступать приходилось шаг в шаг, поэтому двенадцать километров по ущелью мы шли уже более трех часов. Ориентиром служил белевший вдали Бочохский хребет.
— Теперь недалеко,— подбадривали братья Алимагомед и Гусен Султановы, вызвавшиеся проводить меня в Шаитли, на народный праздник игби. Тропка петляла по берегу звонкой горной речки, пересекая ее порой по обледенелым мосткам. Схваченные морозом мельчайшие брызги сверкающим инеем разукрасили выступавшие из воды камни и нависшие над ней ветви деревьев. Иногда поток скрывался под острым краем перекрывавшей его льдины, чтобы с шипением и пузырями вынырнуть несколькими метрами ниже. Такие места очень опасны, случись оступиться и упасть в воду — из-под льдины, если затянет, уже не выбраться.
— Вчера из-под такой наледи я вытащил полуживую косулю, теперь отогревается у меня дома,— сообщает младший из братьев, Гусен, вернувшийся недавно после армии в родные места.— Сам по грудь вымок, пока с ней возился. Видно, волки гнали ее по ущелью, и косуля, чтобы спастись, кинулась в реку.
Крупные следы, которые сопровождают нас на всем пути в Шаитли, не оставляют сомнения: волки здесь водятся. А вот и место удачи хищников: у самой тропы на примятом снегу — большие кровавые пятна и несколько дочиста обглоданных костей. Драма, очевидно, разыгралась минувшей ночью. По тому, с каким безразличием относятся к увиденному мои спутники, понимаю, что в здешних местах такая картина — дело обычное, а волки, как, впрочем, медведи, кабаны и туры,— столь же неотделимы от жизни этой природы, как и бурная речка Илан-Хеви или белеющие вдали кавказские вершины. И все же в сгущающихся сумерках невольно прибавляю шаг: мне гораздо больше хочется встретиться с «волками» — персонажами завтрашнего праздника, которых называют боци, чем с их реальными сородичами.
Только теперь, оказавшись в этом запрятанном за четырьмя перевалами снежном ущелье, я понимаю, как мне повезло, что добрался зимой сюда, в самый отдаленный аул самого труднодоступного района Дагестана — Цунти некого. Трехсоткилометровый автомобильный путь был перерезан лавинами, и, просидев три дня в безнадежном ожидании вертолета, я, уже почти отчаявшись, неожиданно попал в санитарный Ми-8, летевший, по счастью, в нужном мне направлении — в райцентр Бежта и далее в Шаури, где и помогли мне мои новые друзья — братья Султановы.
Миновав расположенные по ущелью аулы Цихок, Гениятли и Китури (в каждом по десять-пятнадцать домов), мы почти уже в полной тьме добрались наконец до Шаитли. Большой — свыше ста дворов — аул еще не спал. Накануне праздника носились по улицам возбужденные мальчишки, с достоинством попыхивали трубками старики, собравшиеся на годекане — центральной площади, где проходит вся общественная жизнь селения.
После приветствий и недолгого совещания братья привели меня к своему другу, лесничему Абулмуслиму Магомедову, в дом которого, едва мы переступили порог, стал стекаться народ, чтобы выразить уважение гостю и обсудить детали предстоящего праздника. К счастью, даже в самых отдаленных дагестанских селах языкового барьера не возникает: все неплохо говорят по-русски; без общего языка горцы не смогли бы объясниться иногда даже с жителями соседнего аула — столь пестры этническая и языковая карты республики. По берегам Илан-Хеви живут цезы — одна из групп аварцев, и праздник игби чисто цезский, более того, это праздник одного аула. Правда, в последние годы у шаитлинцев его переняли и соседи из Гениятли и Китури.
Что же представляет собой этот праздник? Его название — игби — происходит от слова «иг», обозначающего у цезов кольцеобразный ритуальный хлебец диаметром сантиметров тридцать, похожий на большой плоский бублик. По-видимому, этот золотистый обрядовый хлеб, как и русский масленичный блин, символизирует Солнце — ведь торжество посвящено светилу, точнее, его первому приходу на горный склон напротив аула. Шаитлинцы считают этот февральский день серединой зимы, за которой следует поворот к долгожданной весне. Так что игби подобен масленице: это проводы зимы и встреча весны, первый крестьянский народный праздник весеннего календарного цикла. Позже, когда наступит весна, иги выпекут снова — уже ко Дню первой борозды и наденут на рога волам. Но это будет еще не скоро, а пока над притихшим аулом стоит морозная звездная ночь...
Впрочем, теперь аул лишь кажется спящим: в домах идет деятельная подготовка к празднику. Хотя его участники — а это юноши и молодые мужчины — приготовили маски и костюмы загодя, точнее, подновили, поскольку реквизит народного представления служит по нескольку лет, накануне игби нужно еще раз все перепроверить. В железных печурках пекутся у каждой хозяйки иги — попробуй не приготовь: нерадивых завтра ждут большие неприятности! Во многих домах нужно расположить на ночлег гостей, пришедших на праздник из других селений.
Ясное звездное небо обещало хорошую погоду, и вот косой солнечный луч впервые после долгих зимних месяцев скользнул по склону напротив, по вершинам заснеженных деревьев — пришел час игби! С раннего утра на годекане уже весь аул. Пришли даже с малыми детьми на руках. На длинной лавке в овчинных шубах и папахах сидят, как и положено, несколько особняком, старейшины. Народ толпится вокруг выложенной из льда и снега трибуны, на которой углем начертано «Игби». Здесь вскоре развернутся главные события.
— Боци, или «волки», должны спуститься с гор,— поясняет мне Абулмуслим. От него я уже знаю, что еще неделю назад в ауле появились их посланцы и возвестили о скором празднике, приказав печь иги, а в субботу, незадолго до моего прихода, они повторили свой призыв, и теперь каждый с нетерпением оглядывает лесистые склоны, надеясь первым увидеть боци — основных действующих лиц готовящегося празднества. Я тоже вместе со всеми всматриваюсь в круто уходящий вверх кустарник, но скоро по радостным возгласам и оживленным жестам догадываюсь, что меня опередили мальчишки с более острым зрением. Теперь уже и я замечаю две странные то ли борющиеся, то ли пританцовывающие фигуры.
А вот еще два боци появились в верхней части аула. Эти поближе, и их можно разглядеть получше:
на них длинные, мехом наружу, овчинные тулупы, перехваченные ремнем, на головах высоченные островерхие конусы меховых шапок-масок с цветными лентами, а на ногах традиционная обувь — шерстяные вязаные гедоби и глубокие галоши. А вон и еще двое, и еще... С разных сторон к годекану не торопясь стекаются эти диковатого вида распорядители праздника. Ведут они себя очень самоуверенно и даже дерзко: размахивают длинными раскрашенными деревянными мечами, поддразнивают женщин, кого-то хватают и валяют в снегу. Глухие маски с узкими прорезями для глаз, носа и рта делают их совершенно неузнаваемыми, и боци, не желая выдать себя голосом, куролесят в полном молчании.
Собравшись вместе, повалявшись в снегу и натешившись вволю, дюжина боци назначила себе двух помощников из мужчин покрепче (отказаться никто не имеет права), чтобы те несли «гири» — длинный деревянный шест для сбора игов. И вскоре в окружении ребятни отправляются по аулу собирать хлебную дань. Мальчуганы, которым по возрасту рано быть заводилами праздника, еще с пяти утра обежали дома и получили свои маленькие хлебцы, некоторым достались сладкие, засахаренные. Теперь они изо всех сил помогают боци, которым нельзя подавать голос, и нараспев выкрикивают:
Приготовьте иги, приготовьте,
Мы зайдем к вам, приготовьте!
Если же вы ленивы,
Намочим и оледеним вам гедоби!
У каждого дома решительно настроенную компанию уже ждут хозяева с испеченным «бубликом», который они с готовностью нанизывают на протянутый одним из «волков» меч. Боци уже сами надевают его на шест. Если же ряженых никто не встречает или не приготовлено угощение, они проникают в дом и «расправляются» с хозяевами деревянным мечом, а детвора насыпает им в обувь снег.
А на годекане тем временем появляется новая живописная группа ряженых. Кого тут только нет! Это и довольно безобидные «лесные люди» в костюмах из мха и еловых шишек, и пугающий всех шайтан, обвешанный пестрым тряпьем и пустыми консервными банками, и «скелет», пародирующий тех, кто соблюдает уразу — мусульманский пост во время рамазана, и кривляющиеся «алкоголики», и увешанные добычей «браконьеры», и «спекулянтки» на навьюченных товаром ишаках — словом, все, кого хотят предать осмеянию и избавить от дурных привычек. «Скелет» и «алкоголики» попадают в руки «доктора», который быстро излечивает их с помощью шприца. Ну а всех нарушителей общественного порядка, мешающих появлению главного героя праздника — квидили, изгоняет из аула под одобрительные возгласы шаитлинцев «милиционер». Как и во всяком народном представлении, порок наказан, справедливость торжествует. Все роли, даже женские, в этом забавном спектакле играют мужчины, и опять-таки никто из них не узнаваем в маскараде. С боковой улочки движется процессия сборщиков игов. Пятиметровый шест густо унизан румяными «бубликами», и задача боци теперь — охранять их от нападения женщин и девушек. Однако самым проворным все же удается пробиться к гири и сорвать несколько иг. Вдогонку за ними бросаются «волки», и вот уже с реки слышится визг: одну из беглянок настигли, и теперь ей не миновать наказания снегом или ледяной водой.
Наконец порядок восстановлен. Собранные иги складывают на крыше одного из домов: в конце праздника все участники представления получат по «бублику», а, кроме того, почетным хлебом наградят сегодня .тех жителей Шаитли, которые в течение года добросовестным трудом заслужили всеобщее уважение и благодарность.
Наступило время появиться главному персонажу — квидили. Он должен спуститься со склона, который впервые в этом году осветило солнце и который называется Хора. К нему прикованы сейчас взоры и взрослых, и детей. И вот вдалеке вырастает высоченное мохнатое существо. Оно приближается, и я уже могу разглядеть большую, вытянутую, как у лошади, черную голову, выразительные и, как мне показалось, печальные глаза. У квидили огромная розовая пасть с блестящими медными зубами, которую он широко раскрывает и захлопывает с громким клацаньем. Есть в этой фигуре что-то грозное и в то же время беззащитное.
Роль квидили на празднике очень своеобразна. Бесспорно, он здесь главный и все происходящее на годекане делается с его молчаливого согласия и от его имени. Он как бы знамение этого переломного дня в природе, за которым начнется отсчет весне. Все, даже боци, относятся к загадочному пришельцу с нескрываемой почтительностью, пропуская его к трибуне, но при этом позволяют себе подтрунивать над ним, толкать, дергать, совать в пасть медлительному великану деревянную палку. С появлением квидили боци становятся и его почетным эскортом, и одновременно его мучителями, как бы предвкушающими скорую развязку.
Но пока квидили — вершитель праздника. Боци вводят его на ледяную трибуну, вслед за ними туда же поднимается учитель местной школы Али Курама-гомедов — доверенное лицо шаитлинцев, который от имени квидили будет вести, так сказать, торжественную часть игби. Учитель поздравляет односельчан с Днем середины зимы. В этот день, говорит он, к нам спустился справедливый квидили, который приветствует всех честных тружеников, пришедших на праздник, и порицает лентяев, дармоедов, пьяниц, жуликов.
Возвышаясь над оратором, квидили одобрительно кивает. Али Алиевич поздравляет участника Великой Отечественной войны Амина Магомедова, ветеранов труда Арсанали Шамсудинова, Пиримагомеда Дулаева, Джалила Алидибирова, Зулыгукара Гаджимурадова и других. Боци ведут их к трибуне, где ветеранам под аплодисменты вручают иги. Затем награждают лучших доярок, чабанов, учителей, школьников, участников художественной самодеятельности. Целый год наблюдали боци, кто как работает, учится, участвует в общественной жизни села, и теперь всем воздают по заслугам. Но вот звучат имена тех, кто позорит аул. Боци мигом выхватывают их из толпы и тащат к реке.
Все иги розданы, и квидили желает людям мира на земле, счастья каждому очагу, хорошего урожая в новом году. Праздник подходит к кульминации. Окружив квидили плотным кольцом, боци ведут его к мосту через реку, где их уже ждет аксакал с мечом в руке. Квидили кладут на снег и «отрубают» ему голову, окропляя снег бутафорской красно-сиреневой кровью. Боци укладывают недавнего владыку на носилки и несут в дальний конец аула, чтобы запереть в сарае до будущего года, когда тот, целый и невредимый, вновь спустится с освещенного солнцем склона Хора. «Бедный квидили!» — сочувствующими вздохами провожает траурную церемонию аул.
Вот и свершился оборот магического круга. Казнен главный герой, вернулось из зимнего плена Солнце, волки-оборотни и квидили, переодевшись украдкой (никто не должен знать тайну маскарада!), слились с толпой зрителей. А у меня перед глазами невольно возникли вчерашние кровавые разводы на настоящей волчьей тропе: как близко все тут во времени и пространстве и как бесконечно далеко...
Из каких глубин времени пришел на сегодняшний шаитлинский карнавал таинственный квидили? Что это за существо, не похожее ни на одного реального или мифического персонажа? Если со всеми остальными действующими лицами, включая боци и шайтана, как будто все ясно — они взяты из реальной жизни или старых верований, то с главным героем обстоит иначе. Начать с того, что ни с цезского, ни с других языков имя его непереводимо. Никакой ясности не могут внести в этот вопрос и сами шаитлинцы: старики лишь уверяют, что игби праздновали всегда — и отцы их, и деды; и квидили всегда был таким. Никто не ведает, кто он и откуда приходит, зато знают, что в этот день его нужно убить — тогда после холодов и вьюг наступит тепло.
Похоже, что дагестанские горы сохранили до наших дней древнейшее зрелище: волки-боци удивительно похожи на характерных персонажей молдавских народных новогодних представлений — мошей и знаменитых болгарских кукеров. И те, и другие дошли до нас еще от фракийцев... Так или иначе, но история игби, несомненно, тесно связана с древним культом ежегодного умирания и весеннего воскрешения природы. Как не вспомнить русскую масленицу, когда сжигают на костре соломенное чучело зимы — родную сестрицу шаитлинского квидили...
Побывавший в Шаитли ленинградский этнограф Юрий Карпов считает, что праздник игби близок грузинской масленице, а квидили — ее главному персонажу Берику. Что ж, это предположение не лишено оснований: горные грузинские селения лежат за соседним перевалом на расстоянии нескольких часов верховой езды, и торговые связи существуют с ними издавна.
И все же, может быть, разгадку квидили стоит искать в самом Шаитли? Ведь хорошо известно, что древние обряды и праздники, даже давно утратив магический смысл, веками упрямо хранят свою атрибутику и характерные черты, которые просто не могут не содержать в себе хоть какого-то намека на генеалогию главного персонажа. Здесь каждая деталь, любая, казалось бы, ничего не значащая мелочь, может дать ключ к разгадке.
Почему, например, квидили казнят не на годекане, где происходят все главные события праздника, а ведут для этого на мост? Мост через реку, между прочим,— место не простое, в нем заключена эпическая топонимика: в сказках и былинах многих народов, в том числе и кавказских, это непременная арена змееборства. Вспомним русских богатырей, побеждающих Идолище поганое на Калиновом мосту! Конечно, мохнатый квидили с его лошадиной мордой не вяжется с привычным обликом змея, но иконография этого образа знает сопоставление символов змея и коня в верхнем палеолите, что привело позднее к возникновению мифологического образа дракона с конской головой. А огромная розово-алая пасть квидили, полная крупных блестящих зубов, которой пугают детей,— не отзвук ли это огнедышащей пасти дракона? К тому же символика змея, связываемая в первую очередь с плодородием, вполне укладывается в природу игби.
Кем бы ни был квидили, шаитлинцы верно хранят древние традиции своего аула, смело вводя в старинные обряды современные персонажи и сюжеты, что делает праздник, посвященный когда-то силам природы, живым и злободневным.
...Грусть, навеянная казнью квидили, длилась недолго. Как и на всяком народном празднике, ее быстро сменило веселье. Бывшие боци, а вместе с ними и весь аул, пустились на годекане в пляс. Почти по-весеннему пригревало солнце.
Александр Миловский
Аул Шаитли, Дагестанская АССР
Портеньос против миликос
Аргентинцы шутят: мексиканцы произошли от ацтеков и майя, перуанцы — от инков, парагвайцы — от индейцев гуарани, а нас занес в Южную Америку попутный ветер.
Пожалуй, в этой шутке есть доля правды. Во всяком случае, если иметь в виду Буэнос-Айрес. Огромный город с прямыми и широкими проспектами-авенидами, с узкими улочками, вливающимися в эти авениды, со множеством памятников пешим и конным генералам — этот город мало походит на латиноамериканскую столицу.
«Портеньос», как называют себя жители, утверждают, что Буэнос-Айрес — совсем не аргентинский, а европейский город, который перевезли на кораблях многие поколения эмигрантов. Перевезли, поставили на берегу Ла-Платы, руководствуясь собственными — порой весьма противоречивыми — вкусами.
Есть здесь районы, где живут по преимуществу итальянцы, французы, англичане, испанцы или славяне — поляки, украинцы, югославы... Нет, по паспорту все они — аргентинцы, но обычаи, традиции таковы, что каждая «колония» существует отдельно, стараясь не смешиваться с соседями. Жители разных районов проводят время в национальных ресторанчиках и клубах, издают газеты или журналы на родном языке, отмечают праздники далекой родины, поют свои народные песни и очень любят традиционные детали в одежде.
Однако первое впечатление мозаичности Байреса — это уменьшительное имя аргентинской столицы — проходит быстро. Во-первых, потому, что, кроме «колоний», существуют и другие кварталы — бедняцкие, как две капли воды похожие на бедняцкие районы Мехико или Рио-де-Жанейро. Там в хижинах и полуразрушенных домах обитают крестьяне, пришедшие из провинций на поиски денег и судьбы, безработные, уже отчаявшиеся найти и то и другое, парагвайские эмигранты, спасающиеся от террора диктатуры Стресснера, городские мусорщики, нищие, воры, контрабандисты... Во-вторых, потому, что в ритме повседневной жизни столицы четко и безошибочно угадывается биение пульса всей страны.
Вечное танго и художник-клерк
Ночь в Байресе — понятие относительное. Аргентинская столица не засыпает, кажется, ни на минуту. До четырех-пяти утра открыты кафе, рестораны, бары, дансинги. Наиболее интересные программы идут с часу до трех. И после полуночи на улицах так же многолюдно, как в полдень.
— Когда же вы спите? — поинтересовался я у аргентинского журналиста Эрнандо Клейманса, заинтригованный столь напряженным жизненным ритмом столичных жителей.
— Пока ты молод, можно и вовсе не спать,— отвечал он.— А с возрастом приходится рассчитывать силы: ложиться после работы, часов в семь вечера, спать до часу ночи, а уж потом отправляться в свой бар или кафе для общения с друзьями...
Эрнандо и объяснил мне, где лучше всего познакомиться с танго.
— Поезжай в Сантельмо, там сможешь увидеть иное танго,— сказал он тоном, не допускающим возражений.
Что ж, поедем в Сантельмо.
Дитя и божество портовых кабачков, танец моряков, грузчиков, фабричных работниц, завоевавший в начале века парижские салоны и петербургские дворцы, прекрасное и нестареющее танго — настоящее танго! — сейчас можно увидеть, пожалуй, только в этом квартале. Здесь, в Сантельмо, в двух-трех ресторанах танго — единственная тема представления. Танго танцуют, танго поют... Танго двадцатых годов, тридцатых, пятидесятых... Но поют и танцуют его на сцене профессиональные артисты — и только для тех, кто сможет заплатить полсотни долларов.
Бедность и богатство встречаются в Сантельмо. Бедность селилась здесь всегда, богатство наезжает вечерами — посмотреть танго. Сантельмо — единственный район столицы, сохранивший старинную колониальную застройку — беленные известью дома с арками, витыми решетками крошечных балконов, мощенные булыжником улицы, черепичные крыши, квадратные площади с неизменными соборами и сквериками в центре...
Времена меняются. Дома-развалюхи Сантельмо ныне испытывают натиск тугих кошельков. В зажиточных домах Буэнос-Айреса стало модным хвастаться покупкой особняка или квартиры в Сантельмо. Благодаря уцелевшей экзотике квартал превратился в туристическую Мекку. Поэтому бедность оттесняется еще дальше к окраинам, поэтому появляются в Сантельмо дорогие рестораны, сувенирные лавки «под старину», реставрируются особняки. На одной из площадей разместился рынок. Прежде всего в глаза бросается множество лотков с грудами металлических изделий — подсвечники, каминные щипцы, ажурные вазочки, шпаги, кинжалы — все «бронза» или «серебро», и все «прошлый век». Сюда же выносят свою продукцию художники. Именно продукцию, ибо в большинстве это копии «под» — под французских импрессионистов, под голландских мастеров, под Пикассо, под Малевича, под Дали...
— Не стоит осуждать нас за слабость,— говорит Хуан Тетсель.— Не всем дано находить счастье в борьбе.
Хуан Тетсель — довольно известный в столице художник, мастер света и цвета, его палитра необычайно богата оттенками и полутонами. Полотна, развешанные по стенам мастерской, прозрачны, воздух наполняет их, в картинах ощущаются порывы ветра, прокатывающиеся волнами по высокой траве пампы. Степной простор, крестьянские сады с яркими пятнами спелых фруктов, красные осенние виноградники...
— Каждый выживает как может,— вздыхает Тетсель.— Я, например, работаю счетоводом в конторе и тем обеспечиваю свою независимость в творчестве. Пишу вечерами, по выходным... А многим коллегам не удается найти работу, вот и торгуют поделками, выполненными с учетом вкусов туристов. Наш Байрес — важнейший культурный центр Южной Америки. Однако живописью у нас не проживешь, не прокормишься. Много тому причин... Вместе с иностранными судами, иностранными туристами, иностранными фильмами, телепрограммами и товарами Байрес впитывает и привычку к чужой культуре. Пройдись по улице Лавалье в центре, где расположены кинотеатры,— много идет там аргентинских фильмов? Ни одного. В основном американская, итальянская, бразильская эротика.
— Но главное,— продолжает Тетсель,— мне кажется, не в этом. Индустрия развлечений, существующая в Буэнос-Айресе, порнография в фильмах и газетных киосках, какофония дискотек — все это только затем и создано, чтобы отвлекать людей от действительности. А настоящее искусство возвращает к ней. Поэтому и неугодно оно заправилам нашего общества. Не случайно, наверное, среди жертв террора военных во времена правления последней хунты было столько писателей, журналистов, художников, кинематографистов, архитекторов...
Разговор наш обрывается — Хуан должен бежать в контору. В считанные минуты на моих глазах талантливый художник превращается в клерка, который, кажется, больше всего на свете боится опоздать на работу...
Каждый день на перекрестке двух пешеходных улиц — Флориды и Лавалье — появляются пять-шесть парней в застиранных джинсах и не первой свежести майках. Они становятся у ярко освещенной витрины магазина мехов, вынимают из потрепанных футляров гитары и флейты. Один из них бросает на тротуар шляпу... Парни поют песни аргентинской пампы, песни провинций, исполняют чилийские, колумбийские, боливийские мелодии. Люди задерживаются послушать песни своей родины лишь на мгновенье. Презрительно поморщившись, кто-то бросает монету, и толпа движется дальше.
Но парни продолжают играть...
Где делают диктаторов
Газетные киоски, увешанные, словно бельем на прищепках, журналами с разноцветными глянцевыми обложками, просыпаются, пожалуй, раньше всех. Когда портеньо бежит на работу, он неизменно обменивается приветливыми улыбками с киоскерами, которые уже успели разложить свой товар. Киоскеры прекрасно знают вкусы своих клиентов и безошибочно вытягивают из толстых пачек нужный набор газет: «Кларин», «Расой», «Насьон»...
За те несколько секунд, пока продавец отсчитывает сдачу, портеньо перекидывается с ним двумя-тремя фразами о погоде, футболе, экономике. О политике аргентинцы с киоскерами не говорят — срабатывает привычка, приобретенная в годы правления военных, когда подобные разговоры могли плохо кончиться и для клиента, и для продавца.
Познакомимся с газетными новостями и мы. Вот уютное кафе на углу улиц Эсмеральда и Марсело-де-Альвеар (все самые уютные кафе Буэнос-Айреса расположены почему-то на углах). Здесь я устраивался каждое утро завтракать и поглощать свежую информацию.
«В ходе футбольного матча, состоявшегося в городе Мокочин, провинция Ла-Пампа, между двумя местными командами, страсти достигли такого накала, что судье пришлось удалить с поля 20 игроков из обеих команд. Таким образом, в каждой из них осталось лишь по одному футболисту, и игра была приостановлена...»
Да, страсти в Аргентине бушуют, и не только на футбольных полях.
«Командир 24-го пехотного полка подполковник Фортунато Рассет и командир роты того же полка старший лейтенант Хосе Доброевич были подвергнуты аресту по приказу генерального штаба,— пишет «Кларин».— Инспектируя казармы полка, министр обороны страны обнаружил в расположении роты, которой командует X. Доброевич, лозунги и символы нацистского содержания. Рисунки и надписи, призывающие к запрещению деятельности политических партий, расправам над «красными», символика гитлеровских СС были намалеваны на стенах и дверях казармы роты...»
В тот день, когда я просматривал эти газеты, в стране было спокойно. Солдаты сидели в казармах, офицеры завтракали в клубах. Внешний порядок казался незыблемым и прочным. Но все же в воздухе витало беспокойство. В Аргентине проходили процессы по делам военных, замешанных в репрессиях против мирного населения в годы правления хунты. Обвиняемых было много — генералы, старшие офицеры, младшие офицеры, даже сержанты организовывали тайные тюрьмы, похищали, пытали, убивали людей по простому подозрению в «нелояльности». Поэтому армия глухо ворчала, подстрекаемая теми, кто стремился избежать ответственности. Тема возможного мятежа «миликос», как называют в Аргентине военных, когда говорят о них без почтения, не сходила с уст.
До апреля 1987 года, до реальной попытки переворота, предпринятой группой офицеров в военном училище Кампо-де-Майо, оставалось еще несколько недель. Однако атмосфера уже накалялась.
Военные всегда играли заметную роль в политической жизни Аргентины. Столь заметную, что часто она принимала формы национальной трагедии. Только за последние два десятилетия военные диктатуры правили Аргентиной в общей сложности 14 лет.
Диктатуры и диктаторов в Аргентине делают на улице Флорида, что пересекает центр Буэнос-Айреса. Нет, на этой пешеходной улице не видно ни одного военного ведомства или казармы, но дрожжи для выпечки диктаторских режимов бродят именно здесь.
Флорида — один из полюсов классового расслоения. С роскошных витрин презрительно и равнодушно взирают манекены, разодетые в туалеты, цена которых в десять-пятнадцать раз превышает средний месячный заработок рабочего. На Флориде — самые шикарные конторы, самые дорогие квартиры, самые богатые магазины, самые лучшие рестораны. Здесь все — самое-самое...
Держать вывеску на Флориде — символ успеха и преуспеяния. Путь по Флориде — это не просто два с половиной километра асфальта, ампирных зданий, неоновой рекламы и зеркальных витрин. Это дорога избранных, карьера, путь к богатству — в район, где солнце закрывают громады небоскребов — транснациональные банки, конторы, штаб-квартиры монополий... Сити Буэнос-Айреса.
Как только Флорида начинает пугаться перемен, испытывать ужас перед забастовками и реформами,— на сцену выступают военные. Как только Флориду охватывает страх перед «красной опасностью» или революцией — на сцену выступают военные. И всякий раз Флорида облегченно вздыхает, уповая на «твердую руку».
Если Флорида — дрожжи, то печь, в которой доходит пирожок, находится на улице, где расположено посольство США.
Это сравнение я услышал от полковника парашютно-десантных войск Хуана Хайме Сесио.
Полковник Сесио получил отставку во время англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Он был уволен, как ни странно, именно тогда, когда, казалось бы, стране, ее армии нужны были опытные и преданные офицеры. Но ничего странного в этом нет. Впрочем, послушаем самого полковника:
— Я состою в организации «Центр военных за демократию», которая была создана в 1984 году и объединяет офицеров, придерживающихся прогрессивных взглядов,— говорит полковник.— Мне и многим моим коллегам не нравится, что с 1930 года военные в Аргентине занимаются не свойственным им делом — управляют государством. Ведь роль военных в государстве определяется просто: армия существует для того, чтобы защищать национальный суверенитет. Вместо этого аргентинские военные, как и во многих других странах Латинской Америки, периодически начинают кровопролитные войны против собственных сограждан, узурпируют власть, развязывают террор.
Эта трагедия Латинской Америки коренится в доктрине «национальной безопасности», изобретенной Соединенными Штатами, — продолжает Сесио. — Вкратце смысл ее заключается в следующем: янки защищают нас от «угрозы с Востока», а нам рекомендуют сражаться с внутренним врагом — «международным марксизмом-ленинизмом». На доктрине «национальной безопасности» выросли целые поколения латиноамериканских офицеров. Нас обучают в военных и полицейских академиях США, нас вооружают, финансируют и натаскивают только для борьбы с «внутренним врагом», то есть с народом.
Исход войны за Мальвинские острова — печальный для Аргентины урок. Выяснилось, во-первых, что наша армия была совсем не готова к серьезной войне с внешним противником. Во-вторых, угроза пришла не с Востока, не от социалистических стран, а от союзника США по НАТО. В-третьих, Соединенные Штаты и не подумали защищать Аргентину, они даже не оказывали ей элементарной помощи, зато активно поддерживали Британию...
— Скажите, полковник, пришлось ли вам участвовать в войне за Мальвины?
— Нет. Я выступал против этой авантюры, заранее обреченной на провал. Был арестован и брошен в тюрьму.
— И это несмотря на то, что вы занимали видные посты в вооруженных силах, были военным атташе Аргентины во Франции, первым помощником главнокомандующего?
— Да, несмотря на все это. Откровенно говоря, хунте было плевать на мое отношение к войне за Мальвины. Их не устраивали мои политические взгляды, которых я не скрывал. Видите ли, если вы назовете меня «товарищ полковник», я серьезно обижусь, ибо никогда не был коммунистом, более того, был и остаюсь идейным противником коммунизма. Однако убежден, что быть марксистом — точно так же, как быть католиком или радикалом,— неотъемлемое право каждого человека. Подобные убеждения не по нраву многим нашим генералам. Им всегда было проще и выгоднее поставить у власти очередного диктатора, чем участвовать в парламентских дискуссиях и делить власть. Военная диктатура больше устраивала и устраивает Соединенные Штаты. Когда в президентском дворце сидит генерал, вскормленный и воспитанный в Уэст-Пойнте, США чувствуют себя спокойнее. Это общее зло для всей Латинской Америки.
— Как вы считаете, полковник, существует ли сегодня опасность военного переворота?
— В значительно меньшей степени, чем при всех прежних гражданских правительствах, но все же существует. Невозможно за три-четыре года изменить психологию и образ мышления всего офицерского корпуса Аргентины. Разумеется, судебные процессы, приговоры главарям хунты и офицерам, виновным в массовых репрессиях, произвели глубокое впечатление. Правые экстремисты в армии поутихли, но они не уничтожены, не раздавлены. Они просто затаились...
Что же, прав был полковник Сесио. В апреле 1987 года миликос вышли из казарм, подняли мятеж в военном училище, добиваясь отставки правительства президента Альфонсина. Тогда их удалось образумить и даже обойтись без кровопролития. Тогда... А в будущем?
На «Антилопе-гну»
Часа в три пополудни в дверь моего гостиничного номера постучали.
Вошли высоченный худой парень с крупным лицом и небольшого роста подвижная и смешливая девушка.
— Гильермо... Нора...— представились они.
— Чем обязан? — поинтересовался я.
— Видите ли, сеньор, нам сказали, что вы — советский журналист,— промолвил парень.— Вот мы и решили пригласить вас в наш университет, на факультет журналистики. Хотим попросить вас рассказать нам о Советском Союзе, о ваших газетах, ну и вообще...
— Посмотреть на живого советского,— добавила девушка и засмеялась.
— Хорошо,— согласился я.— Когда?
— Да прямо сейчас...
— А где он, ваш университет?
— Честно говоря, далековато,— смутился парень.— Километров двадцать от столицы, в другом городе. Ломас-де-Самора называется. Это как бы город-спутник... Но вы не волнуйтесь, у меня автомобиль...
Если то, что стояло у подъезда гостиницы, называлось автомобилем, то керосиновую лампу в деревне у моей бабушки можно смело считать люстрой Большого театра. Особенно умилили меня двери этого рыдвана — они не захлопывались, а прикручивались. К ручке была привязана проволока, а в подлокотник сиденья вбит мощный гвоздь, к которому приматывалась дверь. К моему изумлению, эта «антилопа-гну» не только сдвинулась с места, но весьма быстро заскакала по мостовой. При этом что-то постоянно звенело и стучало в ее металлическом чреве. Ехали мы долго и в пути успели наговориться.
Университет Ломас-де-Самора считается столичным и достаточно престижным, но все же он более демократичный, чем Национальный университет в Буэнос-Айресе. Плата за обучение гораздо ниже, поэтому многие юноши и девушки из бедных или малообеспеченных семей стремятся поступить именно туда.
— И все же, почему вам пришло в голову пригласить советского журналиста?
— Да ведь мы о вас ничего не знаем,— говорит Гильермо, не отрываясь от руля.— Совсем ничего. Во время хунты книги о вашей стране запрещались, кинофильмов тоже не было. Вот только при демократическом правительстве приподнялся занавес...
Мы миновали центр Ломас-де-Самора, как две капли воды похожий на какой-нибудь из кварталов Буэнос-Айреса. Выехали в поле. Там, на ровной, как стол, равнине, уходящей к горизонту, и раскинулся университетский городок — приземистые, словно фабричные, учебные и административные корпуса, общежитие, спортивные площадки.
В аудитории собралось человек сто — сто пятьдесят. Впрочем, сосчитать было трудно, потому что они свободно входили и выходили, пересаживались с места на место, расхаживали по проходам между столами.
Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Серьезные и не вполне, умные и не очень... Но главное было заметно — ребята хотят знать о нас как можно больше. Сколько платят рабочему, как мы живем, где, в каких домах, как учатся студенты, как молодежь женится и как разводится, что такое перестройка и как мы понимаем гласность... Беседа затянулась. В половине первого ночи я возопил о милосердии, и меня неохотно, с сожалением отпустили.
Когда мы ехали обратно, я спросил Гильермо о том же, о чем спрашивал полковника Сесио: возможен ли новый переворот?
— Нет,— сказал юноша твердо.— Не допустим. Народ не допустит. Ничего у этих миликос не выйдет. Хватит!
Потом, когда в Москву пришли сообщения о мятеже военных в Кампо-де-Майо и о многотысячных манифестациях в поддержку демократии, я подумал, что Гильермо, да и все ребята из той аудитории, обязательно должны были быть среди демонстрантов на площади перед президентским дворцом.
Михаил Белят
Буэнос-Айрес — Москва
В ладье вокруг света
Теплым весенним утром 17 мая 1983 года, миновав рейд норвежского порта Олесунн, ладья «Сага Сиглар», ведомая Рагнаром Турсетом, вышла в открытое море. «Сага Сиглар» — копия старинного судна, на которых ходили в море-океан викинги. Это была не первая попытка норвежцев проплыть путями предков. В начале века один житель Норвегии, построив подобную ладью, достиг Американского континента и тем самым подтвердил предположение о том, что викинги на своих примитивных судах действительно могли пересекать Атлантику.
Позже еще одна деревянная ладья (длина — 23 метра, вооружение — один прямой парус) проделала путешествие в обратном направлении: от Великих озер к берегам Северной Европы. Экипаж из 18 человек, возглавляемый шестидесятилетним норвежцем Эриком Рудстремом, прошел семь тысяч километров по водам Атлантики до норвежского города Берген. Его ладья носила символическое название «Хеймкомст», что означает «Возвращение домой».
Затем 37-летний житель Фарерских островов Уве Йонсен пустился в плавание на ладье «Диана Виктория», тоже выстроенной по образцам судов викингов. Целый месяц он шел на веслах от Фарерских островов до Копенгагена; чтобы не столкнуться с океанскими лайнерами и танкерами, греб по ночам и только днем, когда лодка хорошо различима на волнах, позволял себе отсыпаться.
И вот — Рагнар Турсет. Он поставил перед собой задачу еще более дерзкую, чем его соотечественники: замыслил кругосветное плавание под парусом викингов.
Все больше современных исследователей обращаются к моделированию исторического опыта древних. Они стремятся углубить и расширить существующие представления о жизни предков, их быте, внутреннем мире и стремлениях. События далекого прошлого оживают перед нашими глазами, если безукоризненно следовать исторической правде. Именно поэтому многие современные археологи, историки, этнографы стремятся со всей точностью и со всеми подробностями воспроизвести условия существования предков и даже примерить их на себя. Так, например, умозрительно довольно трудно представить себе все тяготы морского путешествия, совершенного за шесть веков до Колумба. И едва ли не единственный способ — совершить такое плавание в наши дни, используя морскую технику древних.
Примером подобных путешествий могут служить плавания всемирно известного ирландского исследователя Тима Северина или путешествия Тура Хейердала, который, кстати, совсем недавно опроверг широко распространенное мнение, будто открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 году было совершено лишь благодаря счастливой случайности. Как считает Хейердал, Колумб, отправляясь пять веков назад на поиски нового торгового пути в Индию, прекрасно знал, что ждет его экспедицию впереди, и использовал данные, содержавшиеся в посланиях ранних скандинавских мореплавателей.
Как известно, викинги сыграли определенную роль в европейской истории. Им посвящено множество научных и художественных книг, немало видных ученых занималось изучением этногенеза северных народов, придавая этой работе огромное значение.
Скандинавия... Средние века... Гористый, покрытый лесами полуостров с его суровым климатом не мог обеспечить средствами к существованию довольно быстро растущее местное население, поэтому норманны — «северные люди» — совершали набеги в разных направлениях: организовывали походы на восток, в Шотландию и Ирландию, плавали к дальним островам — Гренландии, Фарерским, Шетландским, Оркнейским, Гебридам...
Изучение наскальных рисунков, сохранившихся в Швеции и Норвегии, а также останки ладей, раскопанные в захоронениях в Исландии и Гренландии, позволили современным ученым точно представить конструкцию судов древних скандинавов и даже сделать их классификацию. По данным археологических исследований, размеры первых судов викингов не превышали 20 метров в длину и пяти в ширину. Посредине корабля ставили мачту высотой до тридцати метров и более, оснащенную одним большим парусом. Когда ветра не было, ходили на веслах — число их доходило до тридцати. Руль крепился по правую сторону кормы. Корпус ладьи обшивали дубовыми досками. Сидящих вдоль борта гребцов защищали круглые щиты с гербами. Изогнутые и устремленные вверх нос и корму украшали изображения драконьих голов — они служили опознавательными знаками, а заодно и призваны были устрашать врага. Ладьи, в зависимости от размеров, вмещали по 40—50 человек вместе с припасами, необходимыми для длительного морского плавания. Суда подобного типа служили и для торговых, и для разбойничьих целей. Вот такую ладью и построил всего за одну зиму Рагнар Турсет.
Мало известно пока, какими навигационными сведениями и инструментами располагали викинги. Древние исландские саги рассказывают о так называемом «солнечном камне» (он представлял собой дощечку с закрепленным на ней куском магнитного железняка) и о полукруглой «солнечной доске» — с ее помощью можно было измерить высоту солнца, а значит, и определить географическую широту. Долготу же викинги могли определять только по пройденному расстоянию.
Туман, облачность затрудняли их навигационные вычисления, но, поскольку маршруты были хорошо изучены и почти всегда пролегали в знакомом направлении, ошибки при ориентировании возникали редко. Но все же главные вопросы остаются: каким образом древние скандинавские мореходы в любой данный момент определяли местоположение своих кораблей, как они прокладывали курс? Во всех этих проблемах можно было разобраться только с помощью практики, и Рагнар Турсет разработал научную программу своего путешествия.
Ни одно плавание под парусом не бывает безопасным. В штормовую ночь судно получило пробоину, и лишь мужество членов команды, сумевших сохранить присутствие духа в критической ситуации, не позволило ладье пойти ко дну вместе с надеждами завершить кругосветное путешествие.
Были и финансовые трудности: денежный штиль вынудил «Сагу Сиглар» прервать свой путь и бросить якорь у берегов Шри Ланки в Коломбо.
«Я оказался на мели,— заявил журналистам Рагнар Турсет,— и направился в Норвегию в надежде собрать недостающую сумму, чтобы продолжить путешествие». Чтобы продолжить путешествие, ему не хватало... одного миллиона крон.
Непредвиденная стоянка «Саги Сиглар» в Коломбо изрядно нарушила планы отважных мореплавателей. Ведь они собирались бросить якорь в родном порту Осло еще весной 1985 года. Путешествие удалось возобновить, но завершилось оно лишь год спустя — летом восемьдесят шестого.
П. Петров
«Сага сиглар» — песня викинга
Для чего живет человек? Как прожить жизнь? Каждый человек рано или поздно задает себе эти вопросы. Но далеко не всякий может на них ответить.
Рагнар Турсет знал ответ уже в 1955 году. Человек готовился выйти за пределы планеты, Хейердал уже пересек на плоту Тихий океан. А семилетний Рагнар решил тогда стать викингом. Дядя подарил ему книгу старинных саг — сказаний о древней славе Норвегии, о подвигах знаменитых мореходов. «У меня, как у каждого мальчишки, были свои герои,— вспоминает ныне норвежский путешественник.— Я бредил викингами».
Первым европейцем, который увидел Америку, в Норвегии считают Бьярни Херлофссона. Первым европейцем, высадившимся в Америке,— Лейфа Эрикссона. Первым европейцем, родившимся в Америке,— Снорри Торфинссона.
Конечно, история путешествий и блистательных побед викингов, которые воспевают древние саги,— только предание. Поэтому-то в Скандинавии спокойно относятся к тому факту, что День Колумба в Америке празднуют, а день Бьярни Херлофссона в Норвегии — нет. Однако, документальные свидетельства того, что торговые корабли викингов побывали в Америке, уже существуют. С фактами не поспоришь — на фотографиях, сделанных профессионалами, силуэт кнорра «Сага Сиглар» четко прорисовывается на ярко-красном фоне заката в Мексиканском заливе. Это корабль Рагнара Турсета — викинга, газетчика, сына и внука фермеров. Турсет — опытный мореход. В крошечной лодчонке он прошел Северо-Западным проходом по «верхушке» Канады, а потом на шлюпке пересек Северное море.
Когда Рагнар пристал к берегам Шотландии, принц Филипп, узнавший о новом предприятии норвежца, сказал просто: «Этот парень, наверное, сумасшедший».
Почему Турсет, у которого в Норвегии, дома, есть своя маленькая, уютная ферма, дающая возможность спокойной, размеренной жизни, ищет приключений в холодном штормовом море? И дед и отец Рагнара жили сельским хозяйством, продавали аппетитный козий сыр с тонкой янтарной корочкой...
Турсет говорит: «Я делаю то, к чему пригоден, а живу для того, чтобы найти себя».
Друзья рассказывают, что одна из самых ценных реликвий отважного путешественника — рогатый шлем викинга. Древний, как старинные саги, и крепкий, как старонорвежский характер.
Вот Турсет стоит на корме «Саги Сиглар»: в шлеме своих воинственных предков, твердая рука лежит на рулевом весле, голубые глаза широко открыты, жесткая рыжеватая борода. В экипаже «Саги» — сыновья Турсета: Эрик, одиннадцати лет, и Нигел, девяти. Оба получили свои имена в честь героев древних саг.
«Сага Сиглар» — точная копия шестнадцатиметрового кнорра, корабля, на котором древние скандинавские мореходы захватывали новые земли, торговали, но вместе с тем и грабили, бросали вызов ветру, океану, судьбе. Прототипом корабля Турсета стал кнорр, который извлекли при раскопках в Роскиллефьорде в Дании в 1962 году,— грозная ладья викингов, одно из самых грациозных судов, бороздивших холодные воды Северной Атлантики.
Турсет хотел увидеть море с борта кнорра таким, каким видел его сотни лет назад знаменитый вождь северных пиратов Эрик Рыжий. Он хотел воскресить для себя и своих сыновей былое величие викингов. Турсет хотел показать, что под парусом кнорр может обогнуть весь земной шар, даже если викинги и не совершали кругосветные путешествия.
Турсет и его сыновья вышли победителями из сражения с океанскими штормами.
Легче было выдержать другие бури — шквалы оваций, которые устраивали экипажу Турсета члены клубов «Сыны Норвегии», встречавшие «Сагу Сиглар» у причалов Бостона, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго. Для того чтобы совершить свое путешествие, Турсет был вынужден совмещать боевую натуру отважного викинга со скрупулезной расчетливостью, порой даже мелочностью каких-нибудь венецианских купцов.
Иначе рогатый шлем Рагнара попросту может оказаться на пыльной полке старьевщика.
«Сага Сиглар» — песня викинга! В общей сложности она обошлась Турсету в двести тысяч долларов. Рагнар Турсет — не миллионер, правда, бедным его тоже не назовешь. Огромную сумму удалось собрать благодаря целому ряду сложных и не всегда приятных операций. Финансовая необходимость очень часто заставляет его снимать рогатый шлем предков и смотреть на мир через призму обычного торговца сувенирами. Каждый раз, когда «Сага Сиглар» приставала к берегу, Турсет с сыновьями продавали любителям экзотики рубашки с эмблемой экспедиции, норвежские ножи, плакаты.
Турсет вовсе не намеревался воссоздать «исторически достоверную картину прошлого», как это делал Тур Хейердал на своих бальсовых плотах или Тим Северин, одержимый идеями реконструкции истории. Турсет оснастил «Сагу Сиглар» мотором в 22 лощадиные силы (на всякий случай), было у него и современное навигационное оборудование.
Для чего, спросите вы? Турсет построил свою «Сагу» и вышел на ней в море потому, что шел к этому всю жизнь. «Сага Сиглар» стала для него осуществлением мечты.
«Слишком многие люди отказываются от своей мечты, от того, что бы они хотели по-настоящему сделать в жизни. Я не из их числа»,— говорит современный викинг.
Все ждут от Турсета очередной книги, новых путешествий, новых поисков. И задают вопросы.
«Как вы себя чувствуете?» — «Отлично!»
«Как велики были волны во время шторма?» — «30 футов!»
«Чем думаете заняться теперь?» — «Гольфом».
Рагнар Турсет шутит. Древние норвежские саги, как известно, не изобилуют юмором. Наверное, Турсет и в этом похож на викингов.
А. Федорченко
На размышления — пять секунд
Вертолет терял высоту. Он еще не падал, но, казалось, что сил удерживаться в воздухе у него остается все меньше и меньше. Специальный прибор просигналил: внимание, обледенение! Фюзеляж и несущий винт быстро покрывались льдом, толщина его росла на глазах: минута — миллиметр. Началась вибрация, машину мелко и противно трясло.
Однако летчики не проявляли беспокойства, словно опасность угрожала не им самим. Изредка обмениваясь короткими фразами, они не торопились включать противообледенительную систему. Наконец, ситуация достигла критической точки: началась сильнейшая болтанка, ручка управления заходила ходуном, машина теряла контроль.
Летчики переглянулись. Именно этого момента они и ждали. Полет проходил по сценарию, все это было запланировано. В кабине сидели испытатели.
Познакомились мы с ними случайно. Наша воркутинская командировка подходила к концу. Почти каждое утро в гостиничном коридоре мы встречали двух молодых людей в спортивных костюмах. Судя по их скучающим лицам, по неторопливым движениям, можно было подумать, что приехали они сюда отдыхать и это им изрядно надоело. Номера наши были рядом, и мы уже привычно раскланивались при встречах.
Наконец любопытство одолело нас, мы не вытерпели и спросили, что же это за такие неинтересные дела привели их в тихий заполярный город, название которого в переводе с языка коми означает Медвежий угол. Познакомились. Наши скучающие соседи — Георгий Агапов и Валерий Бондаренко — оказались летчиками-испытателями.
Георгий Агапов — спокойный, медлительный, худощавый, с доброй интеллигентной улыбкой. Валерий Бондаренко — мускулистый, по-военному подтянутый, очень подвижный и веселый. В Воркуте они прожили два месяца. «Совместимость хорошая,— заметил Агапов.— Хотя за такое время можно было бы и до рукопашной дойти, если иметь неуживчивый характер...»
В Воркуту они пришли «своим бортом» — прилетели на новом, крупнейшем в мире вертолете Ми-26. Машина создана в КБ имени М. Л. Миля, одной из ведущих конструкторских фирм в мировом вертолетостроении. Максимальный взлетный вес машины — 56 тонн, грузоподъемность — 20 тонн (для сравнения: в среднем вертолет поднимает 5—10 тонн), максимальная скорость — 295 километров в час.
Сейчас Ми-26, зачехленный, посеребренный инеем, стоял в специально отведенном месте на городском аэродроме. «Восьмерки» — Ми-8 казались рядом с ним игрушечными. Местные летчики с уважением оглядывали громадную машину, расспрашивали о ее летных качествах, характере. Испытатели отвечали охотно, но многое в характере нового вертолета им самим было еще не ясно. Предстояла серия испытаний. А погода, как на зло, держалась хорошая, и испытателям ничего не оставалось, как отсиживаться в гостинице. Для них идеально подходила такая погода, при которой никто уже не летает...
Но в один из дней они все-таки сумели совершить полет с отключенной противообледенительной системой. Какая степень обледенения представляет реальную опасность, как будет вести себя машина? На эти вопросы нужно было найти ответы. А что делают в такой обстановке испытатели? Работают. Приборы-самописцы пишут, испытатели же, подобно врачам, ставящим на себе эксперимент, наблюдают за течением «болезни». Ну а если кризис? На то они и пилоты высочайшего класса, чтобы найти выход из любого положения. Зато потом другие летчики, оказавшись в аналогичной ситуации, будут уже четко знать, что делать.
Обледенелую машину они сажали в непроглядный туман. С земли им предложили лететь на другой аэродром, где видимость была получше, но кончалось топливо, и они решили садиться «на ощупь».
Вертолет рубил лопастями белое месиво тумана, но самих лопастей не было видно. Приходилось рассчитывать только на показания приборов, на интуицию, опыт и везение. А везение у испытателей прямо пропорционально мастерству. От гражданских и военных летчиков они отличаются прежде всего более высоким мастерством. И отношение к профессионализму у них особое. Если Бондаренко раньше имел первый класс, то в КБ получил всего третий (сейчас — второй), у Агапова на гражданке был четвертый, в КБ дали пятый (сейчас у него тоже второй).
Медленно-медленно снижались. Бондаренко пристально смотрел вниз, стараясь разглядеть землю. Нет, хоть выколи глаз!.. И все же сели с первого захода. Покрытие аэродрома разглядели лишь после того, как коснулись его колесами.
Как они стали вертолетчиками и почему именно испытателями? Нельзя сказать, что в испытатели судьба вела их за руку; напротив, она постоянно ставила подножки. Георгий Агапов вспоминал:
— После восьмого класса пошел работать. Уроки учить больше не требовалось, значит, появился избыток энергии. Либо стекла бить, либо использовать энергию в мирных целях. Увидел объявление — набор в планерную школу. Почему бы не полетать? Полетал. Понравилось. Закончил вечернюю школу и подал заявление в Харьковское высшее военное авиационное училище. Хотелось, конечно, в истребители. Однако приехал поздновато, набор заканчивался, конкурс — огромный... Начали нас «резать» на медкомиссии и на экзаменах. Короче, не прошел. Вернулся домой расстроенный: жизнь поломана. Но надо возрождаться. Пришел в аэроклуб. И опять не повезло: на самолет Л-29 набор был закончен. «Хочешь на Ми-1?» — спросили. «А что это такое?» — «Зайди в класс, посмотри». В классе стоял разобранный по частям вертолет...
После аэроклуба поступил в Кременчугское вертолетное училище. Освоил Ми-4. Перед распределением решил: чтобы больше налетать, надо ехать на Север. Год летал в Нижневартовске, потом — в Тюмени. Исполнилось двадцать два года. Ну, думаю, пора! А у каждого летчика есть тайное или явное желание добиться высшей квалификации — стать испытателем. Начал и я пробиваться: то в одном городе попытаю счастья, то в другом. Встречали меня без особой радости: «Молодой еще, неопытный, мало налетал...» Вернулся на Север. Стал летать командиром Ми-2. А годы-то идут...
Приехал в Москву, пришел в КБ имени Миля: «Люди нужны?» — «Пока нет». А документы мои уже лежали в Министерстве гражданской авиации, я только время от времени посылал туда справку по налету. И тут в очередной раз подтвердилась пословица: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Летели мы как-то над тайгой, и вдруг загорелся один из двигателей. В кабине — дым, грохот. Вертолет бросило вниз. Из двигателя в разные стороны со свистом и скрежетом полетели шестеренки. Выровнял я машину и об одном молю, чтобы шестеренки не попали в кабину: угодит какая-нибудь железка в тебя или во второй двигатель — пиши пропало! Включил противопожарную систему — пожар удалось ликвидировать. Ну, думаю, ничего, еще полетаем!
До аэродрома не дотянул километров сто, выбрал мало-мальски подходящую площадку, сел. Вздохнул, пот со лба вытер, повернулся к пассажирам — их было трое, подбодрил актерской улыбкой: пора на свежий воздух. Люди выбрались из машины с нескрываемой радостью, не было у них, похоже, большего счастья в жизни. Оловянными глазами смотрели они то на небо, то на закопченный вертолет и повторяли одно только слово: «Да-а!..»
Пугаюсь я обычно после того, как что-то произойдет. И вот тут-то, уже на твердой земле, оглядел машину, и волосы у меня встали дыбом... Наградили меня за тот случай именными часами. Вот они, до сих пор тикают...
Вскоре я вновь приехал в министерство. «Ну что ж,— говорят,— теперь ты опытный, горел как следует...» И записали в очередь. Через год вызвали на медкомиссию. Не прошел я ее. «У вас,— говорят,— здоровья нет, а вы — в испытатели!..» Огорошили, но и успокоили: «Это вы для нас не вполне годны, а в своей Тюмени работайте на здоровье!»
Ну что ж, подумал я, еще не все потеряно.
Наступил 1975 год. В очередной раз поехал в Москву. Прошел дополнительное медицинское обследование. Волновался, но, как ни странно, на этот раз оказался здоровым. «Раз уж ты так домогаешься, что от тебя отбиться невозможно,— сказали в министерстве,— возьмем». И взяли. Год — школа испытателей, потом началась работа.
Путь к испытательскому вертолетному креслу, рассказывал Бондаренко, тоже начинался у него с аэроклуба и парашютных прыжков, планеров и «воздушных страхов».
— Помню, с инструктором разучивали пилотаж на планере. Зависли вниз головой в «петле», на нас пыль откуда-то сыплется, хоть чихай. Не хватило скорости, сорвались в штопор, крутимся. Ощущение — будь здоров. Один виток, второй, третий. Свист стоит жуткий. Короче, сижу, прощаюсь с жизнью. После шестого витка из штопора вышли. Смотрю — вроде приземляемся. Сели. Отдышался я, отряхнулся, ну, думаю, полетал — хватит, не выйдет из меня летчика: храбрости маловато.
А потом все-таки решил: нет, буду летать! Храбрость — дело наживное. Поехали мы с другом поступать в училище, но не знали, что оно — вертолетное. Что делать? Не возвращаться же. Остались...
Немало внеплановых экзаменов устраивала жизнь военному летчику Бондаренко, словно проверяла на прочность будущего испытателя.
...В отдаленном поселке заболел человек, ему требовалась срочная операция. Быстро добраться до больницы можно было только на вертолете.
Бондаренко начал медленно поднимать машину. Площадка была настолько мала, что взлетать пришлось практически вертикально. Вокруг глухой стеной стоял лес. Вертолет, натужно гудя, добрался до вершин деревьев, но, как ни силился, выше подняться не мог. Бондаренко решил посадить машину и, чтобы облегчить вес, слить лишнее топливо, оставив минимум.
Снова стал поднимать вертолет. Медленно, буквально по сантиметрам, машина карабкалась вверх. Уже видны верхушки деревьев, вот они уже на уровне кабины... Вертолет, дрожа, завис, не в состоянии одолеть этот предел высоты. Бондаренко физически ощущал напряжение двигателей. Плавно он подал машину немного назад, чтобы хоть чуть-чуть увеличить дистанцию взлета. Словно нехотя, медленно разгоняясь, вертолет шел по горизонтали, но не поднимался.
Бондаренко изо всех сил сжимал ручку управления, мысленно то ли приказывая машине, то ли моля ее: «Ну, давай же, давай!..» В трех метрах за спиной без сознания лежал больной, над ним тревожно склонился врач. Что же делать? Разогнаться снова? Да уж какой тут разгон — развернуться-то негде!.. Приземлиться и еще раз обдумать? А время? Сжал зубы. Вот уже пройден рубеж скорости, при которой еще можно пойти на посадку. Теперь оставалось только одно — перепрыгнуть кольцо деревьев...
Задень он лопастями дерево — аварии не миновать. Секунды бесконечно растягивались. Сколько их прошло — пять, десять, двадцать? Сосны надвигались прямо на кабину. Сантиметр за сантиметром росла высота. Лопасти резали воздух, едва не касаясь верхушек. Но вот вертолет вздрогнул и словно чуть-чуть подскочил. Так прыгун берет рекордную высоту, на невидимую долю проходя над планкой.
Корпус машины пропахал по верхушкам, как по волнам. Вырвались! Бондаренко проглотил комок, застрявший в горле, глубоко вздохнул и только теперь почувствовал, как по спине наперегонки бегут холодные струйки пота...
Восемь лет он стоял «в очереди», чтобы попасть в испытатели. Ничего, успокаивал себя, испытатель должен быть терпелив.
В школе испытателей их учили быть готовыми к любым неожиданностям, и в частности, умению преодолевать один из самых опасных режимов полета — вихревое кольцо. Возникает оно при малой горизонтальной и большой вертикальной скоростях снижения. Снижение безопасно на малой вертикальной скорости, то есть тогда, когда поток воздуха, отбрасываемого лопастями, движется быстрее снижающейся машины.
— Набираем безопасную высоту,— рассказывал Агапов,— гасим скорость до критической и переходим на вертикальное снижение. Снижаемся сначала медленно, и вдруг — у-ух! — проваливаемся! Надо суметь вовремя распознать вихревое кольцо. В него можно попасть из-за какой-то ошибки, при полете с большим грузом, при посадке на очень маленькую площадку. Наиболее опасно, когда оказываешься в вихревом кольце на высоте сто — сто пятьдесят метров. Рефлекторно хочется потянуть «шаг» на себя и увеличить режим работы двигателей. Но это не избавит от падения. Нужно быть психологически готовым обмануть рефлекс — отдать ручку от себя и сбросить «шаг».
Когда до земли около ста метров, на всю операцию дается пять-семь секунд. Две — на то, чтобы распознать беду, две — на уменьшение режима работы двигателей; по прошествии пяти-шести секунд нужно успеть увеличить поступательную скорость, иначе...
В особом разделе инструкции для летчиков-испытателей первым пунктом идет — отказ двух двигателей. В жизни такое случается редко. Конструкторы новых машин стараются предусмотреть все. Точнейшие расчеты, многократные проверки программируют надежность. Но кто может дать стопроцентную гарантию?
Задача испытателей — не просто проверить, как чувствует себя машина в воздухе, а исследовать, как ведет она себя в экстремальных ситуациях, установить все ее пределы. Поэтому рабочее время испытателей — жизнь в экстремальных условиях. Тут нужен особый склад ума, особая реакция — опережающая рефлекс, а нередко — и умение действовать вопреки рефлексу. Возможно ли такое? Оказывается, возможно.
У испытателя должно быть развито особое чувство — способность ощутить границу дозволенного, ту черту, за которой риск ведет к катастрофе. Бондаренко пояснил: «Идешь на пределе, но интуитивно чувствуешь, что это еще не самый предел, он — чуть-чуть дальше. Если не дано ощущать эти «микроны», испытатель из тебя не получится».
Я видел, как меняются лица у Агапова и Бондаренко, стоит им только сесть в кабину вертолета. Улыбки остаются за бортом. Наверное, самое главное для испытателей — внимание. Не пропустить, не проглядеть опасного момента...
От испытателей невольно ждешь рассказа о внезапно остановившихся двигателях, вынужденных посадках, падениях... К счастью, в жизни таких ситуаций не так уж много. В жизни — просто работа. Взлет, набор максимально возможной высоты и скорости, посадка. Взлет, полет на одном двигателе, посадка. Взлет, максимально продолжительный полет — наблюдение за работой топливной системы, посадка. Взлет при сильном ветре, плохой видимости, посадка. Отчет, еще отчет. Новая модель, отработка конструкции винта. Взлет...
Почему же все-таки Агапова и Бондаренко тянуло в испытатели? Я задал, им этот вопрос и в ответ услышал про небо, которое как слоеный пирог: и белое, и синее, и красное от солнца. И про чувство власти над машиной, и про стремление быть первым. Но я ждал не этих «хрестоматийных» слов. И, наконец, Агапов сказал: «Наверное, мы так устроены, не можем без этого...»
Он вопросительно посмотрел на Бондаренко, тот согласно закивал, сразу повеселев: ответ был найден. Все предыдущие слова были и верны, и искренни, но настоящий ответ один — не можем без этого! Потому-то они так упорно шли к своей цели, как альпинисты — к вершине.
Часами Агапов и Бондаренко просиживали в гостиничном номере — ждали плохой погоды. Переговаривались с диспетчерами, синоптиками, вздыхали и виновато улыбались, показывая на яркое солнце. Им нужны были ветер, снег, туман. Чем хуже — тем лучше.
Наконец пошел снег...
Юрий Рагозин
г. Воркута
Семь банов на берегу реки Кронг
Бан Дон возник на пути внезапно. Нет, не открылся за поворотом серпантина горной дороги, как красавец Далат, не взгромоздился кварталами домов у кромки рисовых полей, как возрожденный Винь. Пейзаж не изменился. Сначала над двухметровой травой я увидел с высоты небольшого холма темную движущуюся глыбу. Это была спина слона. На ней — коричневый человек с обнаженным торсом. Потом еще такая же черная плывущая по морю прошлогодней травы махина. Слоны попадались по пути все чаще, и это значило, что мы ехали по земле знаменитого селения ловцов слонов.
Увидев машину, слоны шарахались подальше в заросли с такой неподходящей для их величавого вида резвостью, что было страшно за седоков. Эти исполины больше, чем домашние животные, боятся машин. Просто панически.
Как и другие селения на Центральном плато, Дон — это несколько деревенек (банов или буонов), каждая из которых может со временем менять место, название. И все же Дон имеет большую определенность, чем остальные горские деревни. Впрочем, история Дона насчитывает не одно столетие. Скрещение торговых путей между государствами Индокитая, богатая рыбой и судоходная для туземных лодок река — приток Меконга... Но более всего Дон известен своими традициями отлова и приручения диких слонов. Благодаря этому промыслу население района меньше зависело от земледелия. Ведь непостоянство горских селений, из-за которого крупномасштабная карта двадцатилетней давности почти бесполезна для ориентировки на местности,— не прихоть, а дань примитивному кочевому подсечно-огневому рисоводству.
Переезжаем мелкие речки по мостам из стальной арматуры и деревянных настилов. Потускневшие желтые буквы на стальных фермах свидетельствуют о происхождении мостов: остатки стараний американской армии. На протяжении всей войны здесь были спорные районы, и бои почти не прекращались. Сам Дон, как и большая часть провинции Дарлак, находился в руках американо-сайгонских властей, а силы Освобождения были хозяевами джунглей к северу и западу от него. Там проходила легендарная «тропа Хо Ши Мина».
Надпись крупными буквами на красном щите, установленном над аркой ворот перед большим деревянным домом, гласит: «Народный комитет общины Кронг Ана уезда Яшуп провинции Дарлак».
Гонг над рисовой долиной
Сегодня община Кронг Ана — это семь банов на берегу реки Кронг, которая ниже по течению, в Кампучии, называется Сраэпок и впадает в Меконг у Стынгтрэнга. Здесь живут пятьсот семей, или более трех тысяч человек,— мнонги, эде, немного лаосцев, кхмеров, вьетнамцев.
По крайней мере, половина из этих трех тысяч столпилась у ворот встречать нас. Присущее народностям Вьетнама, особенно малым, гостеприимство соединилось с естественным любопытством.
Советские люди до нас здесь вообще не бывали, хотя, пожалуй, ни о какой другой зарубежной стране в последние годы местные жители не слышали больше, чем об СССР. Так считает секретарь общинной партячейки Чыонг Минь Кон, который рассказывал мне историю селения.
Я много ездил по вьетнамской глубинке и успел познать гостеприимство ее людей. Самая примечательная черта его в том, что оно коллективное. Никто из соседей и знакомых хозяина не остается безучастным.
Позднее Чыонг Минь Кон в красках и деталях обрисовал мне обычаи приема гостей у эде и мнонгов. Не всякого встречного-поперечного примут с душой нараспашку.
Если гость пришел в деревню эде, то перво-наперво должен обязательно предстать перед ее главным человеком. Раньше это был вождь племени или деревенский старейшина, сейчас — председатель народного комитета. Не сделать этого — все равно, что прийти в чужую квартиру и не поздороваться с хозяином. Только после этого вступает в силу неписаный закон гостеприимства.
Есть и другие условности. Например, в доме все можно разглядывать: кувшины для тростникового вина и другую посуду (а она бывает оригинальная, старинная), висящие на стенах бронзовые гонги — тиенги, бамбуковые и роговые духовые инструменты. Но нет ничего более оскорбительного для хозяев, чем бесцеремонное прикосновение чужих рук к этим самым дорогим предметам,— их и члены семьи касаются только по особым случаям. Звук гонга слишком значителен для эде, чтобы раздаваться попусту. Его удар извещает о смерти и рождении. Он звучит на встрече дорогих гостей и в веселые праздники, его посредством общаются с духами.
Уважающего эти несложные правила гостя, а попросту говоря — не нахала, усаживают на самую новую и красивую циновку, угощают традиционным напитком «кэн», затяжкой крепкого табака из трубки, обязательно расспрашивают о семье, о родных местах.
Мнонги же, которые составляют большую часть населения Дона, слывут не столь гостеприимными. Рассказывают, что еще лет сорок назад любого незнакомца, оказавшегося случайно во владениях племени, попросту убивали на месте. Правда, никто из тех, кто это передает, не считает нужным упомянуть, как тогда относились к этим «самым диким из дикарей» Центрального плато. Ведь и в современной международной жизни часто путают причину со следствием: сначала человека доводят до отчаяния, а потом называют его «варваром» или «дикарем».
С улучшением жизни, уходят в прошлое прежде всего самые жестокие обычаи предков. И раньше, и теперь мнонги встречали и встречают давшего о себе знать гостя лишь чуть скромнее, чем эде.
Встреча с нами готовилась заранее и была обставлена как деревенский праздник. Прямо у дома Народного совета в тени старых кокосовых пальм, баньянов и тамариндов толпа плотно обступила прямоугольную площадку величиной с теннисный корт. По кругу вереницей пошли музыканты с гонгами и рожками. Музыканты — только мужчины. Музыка похожа на перезвон церковных колоколов. Она сопровождает пение хора, исключительно женского. Мелодия состоит из коротких повторяющихся фраз и исполняется на самых высоких нотах, какие только позволяют голосовые связки. Женщины пританцовывают, и при этом серебряные и бронзовые браслеты конгтуа у щиколоток их ног ударяются друг о друга в ритме мелодии.
В центре площадки — длинная деревянная лавка и несколько вполне современных стульев, большие кувшины и... микрофон, провода от которого тянулись к усилителю и дальше в дом Народного совета.
Любой сколько-нибудь торжественный случай на Востоке имеет склонность перерастать в церемонию. А церемония — значит, речи. И мне пришлось произнести речь, которую сразу же переводили на язык эде и транслировали по всей общине: в каждом бане прибит к столбу или стволу дерева динамик. Радио прочно вошло в быт эде и мнонгов. Его слушают и неграмотные. Книги и газеты на языке эде — большая редкость, а письменность, изобретенная для мнонгов в конце 50-х, пока вообще существует только в теории.
Я оглядел собравшихся. Лишь тридцать-сорок человек в первых рядах — видимо, те, кто непосредственно связан с организацией встречи гостей — одеты в праздничные национальные наряды эде. Эти наряды, как и костюмы джараев, банаров, седангов, не столь сложны и вычурны в сравнении с парадным платьем некоторых национальных меньшинств севера Вьетнама и Лаоса. Но достаточно многоцветны. А женские — черные, с поперечными полосами яркого, но лаконичного орнамента, даже на современный вкус не лишены элегантности. Плотно облегая фигуру, они подчеркивают природную стройность и грациозность.
Мужской наряд еще более ярок: светло-голубой тюрбан на голове, вышитый во всю грудь красный прямоугольник на черной домотканой рубахе, а самое главное — многоцветная набедренная повязка клин мланг. Как и повседневная кхо, эта нарядная повязка свисает длинным узким фартуком впереди, а сзади полоской проходит меж ягодиц, оставляя их открытыми солнцу и ветру. Кпин мланг — это шедевр рукоделия: тонкий узор, бахрома. Но только три-четыре старика красовались в таких повязках. У других до классического выходного костюма предков чего-нибудь да не хватало. Кто в сайгонской каскетке с козырьком, кто в шортах или брюках.
Остальная толпа была одета буднично и вовсе не так экзотично. Повседневно. Толстогубая красавица с тугой обнаженной грудью и с большой корзиной за плечами, пикантно зовущая в эти края с фотографий в книгах и журналах прошлых лет, осталась скорее символом плато, чем его обыденностью. Сегодня к традиционной одежде добавился самый разнообразный ширпотреб, который доходит и сюда из городов, а то и из-за моря. Никакой поэзии, зато торс прикрыт. Представления о красоте и приличии меняются.
Но есть традиции, которые гораздо более живучи, чем почтение к древней моде. Во всем горном Индокитае это питие кэна. Не обошлось без него и торжество в Доне. У лавки в центре площади стояли три почти ведерных глиняных кувшина, привязанных для верности к деревянным кольям: мы только открывали ритуал, а потом, когда к каждому кувшину подойдет не один десяток сельчан, могут и свалить нечаянно в суматохе.
Кисло-сладкий ритуальный напиток кэн — это слегка перебродившая смесь сахарного тростника, риса, кукурузы, настоянная для терпкости на листьях бетеля и поэтому зеленого цвета. Тянут его прямо из кувшинов через длинные полые бамбуковые прутики, как коктейль через соломинку. Притвориться, что пьешь, невозможно. Напротив сидит человек и на глазах у всей публики равномерно доливает кувшины сырой водой из большого пластмассового ведра. Это в тропиках-то, где я и зубы чистить старался только кипяченой!
Наш приезд совпал с местным Новым годом. Примерно в январе на суходольных полях заканчивается жатва риса. По этому случаю и устраивают Новый год. Именно устраивают. У эде этот праздник не привязан жестко ни к какому календарю. Он зависит от выполненной работы: собрали рис — значит, и Новый год наступил. У мнонгов и такого понятия о смене года не было. Слишком уж голодно жили. Большие гуляния устраивали один раз в два-три года, когда новое поле давало первый урожай.
Несладкая участь — растить рис на суходольных полях. За пятьдесят с лишним лет жизни земледелец мнонг Иа Томлеа испытал ее сполна. Председатель созданной в семьдесят восьмом году полеводческой производственной бригады показывал мне владения коллектива. Производственная бригада во Вьетнаме — это начальная форма кооператива. Таких бригад в Доне было четыре. В них работают и эде, и мнонги.
В других местах на плато и вообще в горном Индокитае почти не встретишь разноплеменных деревень. В Доне судьбы, заботы и уклад жизни разных этнических групп так тесно переплелись, что уже трудно на глаз определить — кто романтичный, медлительный земледелец эде, а кто порывистый, воинственный охотник мнонг. Влияние, наверное, взаимное. Но чаще мнонги становятся похожими на эде. Это и естественно. Эде с давних времен умели ткать, обрабатывать бронзу и железо. Мнонги этого не умели. Принадлежат они и к разным языковым группам: эде — к индонезийской, мнонги — к мон-кхмерской. У эде есть свой национальный эпос, который записан и издан. У мнонгов — ничего, кроме суеверий. Даже жгут леса и сеют рис они по-разному: эде урожаи получают выше.
В Доне благодаря влиянию соседей мнонги вовсе не такие, как в горах Дакнонга, который считают сердцем мнонгского края. Это в полусотне километров южнее. Там, на узких горных дорогах, в стороне от больших магистралей, я встречал этих пленников первобытной свободы. Грациозные фигуры будто скользят по узкой тропе над обрывом. Ничто не стесняет движений высушенного тела, сплетенного из тугих мышц, которые, кажется, вот-вот вырвутся из-под темной кожи. Вся одежда у мужчин — набедренная повязка из куска ткани в полторы ладони шириной, у женщин — полотнище пошире, именуемое юбкой «йенг». Почти все тело одинаково обветрено до сизоватого налета. Вся поклажа — плетеная соломенная сумка через плечо да арбалет со стрелами. Рядом шумит, катясь к закату, двадцатый век, но как трудно дойти до него этими разбитыми о камни, никогда не знавшими обуви ногами!
Председатель Иа Томлеа не похож на тех своих соплеменников. Свободно и быстро говорит по-вьетнамски. Даже синяя мнонгская рубаха без ворота в сочетании с такими же синими шортами выглядит совсем современно. Только слишком темная кожа да чуть заметная волнистость высокого, до белизны седого ежика волос выдают его происхождение.
Вообще-то мнонги неважные земледельцы, признает он. Еще в сороковые смутные годы — тогда его еще не нарекли мужчиной — их деревня иногда устраивала походы за трофеями к соседним племенам. К тому же набеги были освящены традицией мнонгов как один из источников существования. Тем они и снискали себе славу самого воинственного народа на юге плато. Отец Иа Томлеа рассказывал, как в молодости ходил за добычей в селения кхо и банаров. Из таких набегов приносили рис, посуду, бронзовые гонги — все, что олицетворяло богатство горского дома. Пригоняли скот, а также рабов, часть которых оставляли себе, а остальных уводили на запад, где на Меконге находились известные в Индокитае невольничьи рынки Кратье и Самбор.
Иа Томлеа провел меня за деревню на пологие холмы, где его односельчане собирались посеять суходольный рис. Крестьяне валили лес. На них были пропитанные потом, залатанные рубахи и обрезанные выше колен брюки армейского образца. На женщинах — изношенные когда-то белые кофты, какие носят вьетнамские крестьянки на равнине.
— Память о первых месяцах после освобождения,— пояснил Иа Томлеа.
Когда новая власть пришла в Дон, население было на грани вымирания от голода и разрухи. Провинциальные власти попросили помощи у Ханоя. Вместе с продовольствием из центра прислали комплекты армейской одежды, майки, одеяла и вот такие кофты. Спасли от голода, приодели, а значит, и укрепили позиции новой власти в этом приграничном национальном районе. Горцы не привыкли к абстрактным рассуждениям. А такая помощь в трудную минуту — вполне конкретное добро. Его здесь умеют помнить.
Деревья, как им и положено в сухую и жаркую январскую пору, стояли без листьев. Там, где дровосеки прошли вчера или два-три дня назад, оставался хаос поваленных стволов, сучьев, прутьев. Это и есть будущий рэй — подсечно-огневая делянка.
Изнурительна подготовка рэя, но не менее тяжел сев на склоне, очищенном с помощью огня. Самый большой сбор с гектара суходольного поля — восемь центнеров риса. И за год получают только один урожай.
— Люди эде, а мнонги тем более, потому так отстали, что верят в духов,— считает Иа Томлеа.— Злых духов боятся обидеть, добрых — тоже. Плугом землю уродовать нельзя: дух земли разгневается. Железной мотыгой ковырять тоже нежелательно — духи железа не любят. Удобрять поле навозом — это уже просто надругательство над духом. Единственное удобрение — зола от сгоревшего леса. Поэтому урожаи низки, а плодородия рэя хватает на два-три года. Даже жать серпом нельзя: рису больно. Осторожно обдирают зерна с колоса рукой в корзину. Вот выучим людей грамоте, дадим образование, перестанут они бояться духов — тогда дела пойдут быстро.
Так-то оно так. Но не только страх перед духами держит на первобытном уровне хозяйство горцев, а первобытные условия труда сохраняют до сих пор бессильную веру во всяких леших, водяных, рисовых, земляных и других им подобных.
Изменения в жизни горцев уже начались. Лучшее тому подтверждение — сотня гектаров орошаемого поля, с которой земледельцы общины собирают два урожая в год. И каких урожая! По восемнадцать-двадцать центнеров с гектара. Земля рядом с деревней, а не разбросана на десятки километров маленькими лоскутками рэев. А всего-то надо взяться как следует за работу, построить плотину на речке и прокопать три километра канав. Нашлось место для арахиса и сои. За арахис получают из города ткани, посуду, спички, соль, рыболовные снасти. Научились и пересаживать рисовые ростки из питомников на поле, как это делают вьетнамцы, и даже удобрять землю навозом, хотя чисто психологически больше по душе пока химические удобрения, которые изредка попадают в этот «слоновий угол».
Не сразу воспитывается вкус к труду по-новому. Еще тянут назад привычки и обычаи, суеверия, медлительность. Но плотины, каналы, дороги, товары, электричество, радио, а главное, новые люди, упорно меняют облик плато.
Мужской матриархат
Обед проходил в длинном свайном доме шан, который, как и другие дома деревни, был построен из досок хорошего дерева, только крыша из пальмовых листьев. Леса в окрестностях Дона пока достаточно. Особенно на западе: безлюдье почти до самого Меконга.
Дом поднят над землей метра на два, и на площадку перед входом ведет лестница — положенное под углом в сорок пять градусов бревно с зарубками. Пол внутри дома тоже деревянный и похож на решетку, сквозь которую в полумрак помещения проходит свет. Странно, когда свет в помещении растекается не сверху и даже не сбоку, а снизу. Какая-то совершенно нереальная обстановка. Пол-решетка отполирован до блеска. Он приятно прогибается под босой ногой, чуть-чуть поскрипывая. За чистотой пола тщательно следят. По нему не ходят грязными ногами, тем более в сандалиях. Воспитанный человек при трапезе сбрасывает объедки точно между половицами. Там, под домом, их подберут свиньи и куры. Гостям подают циновки, и каждый устраивается на них, сложив ноги калачиком. Из циновок сделана и «скатерть-самобранка», протянувшаяся через всю главную комнату — гостиную. По мере того, как гости собираются, циновки постепенно покрывают почти весь пол, становится совсем сумрачно, и приходится открыть задвинутые досками отверстия в стенах.
Стометровые свайные бараки, в которых ютится большая семья из нескольких десятков человек, стали у эде редкостью. Обычно в доме живет одна семья: старики родители, дочери с мужьями, младшие дети и внуки. Старшие дочери с семьями уже успели отделиться.
Именно дочери, а не сыновья. Пожалуй, наше понятие «выходить замуж» здесь не очень подходит. В семейной и общественной жизни эде, мнонгов и некоторых других народов Центрального плато много черт матриархата. В выборе спутника жизни инициатива принадлежит девушке. Это она подсылает сватов к родителям приглянувшегося парня. После свадьбы в ее дом переезжает муж, становясь членом ее рода. Родившиеся дети продолжат материнский род. Только на плато я видел мужчин, которые трогательно возятся с малыми детьми, таскают на перевязи через плечо самых крохотных, пока женщины заняты рукоделием или на кухне.
Какое-то удивительное стечение обстоятельств сохранило в горных центральных районах Индокитая до наших дней эти обычаи первобытной старины. У мнонгов на этот счет есть легенда.
Когда Небо создавало землю и природу, оно поселило мужчину на вершине горы, а женщину на берегу моря. Мужчина чувствовал себя одиноким и спустился с гор в поисках женщины. Увидев их вместе, Небо наказало мужчину за неповиновение тем, что заставило его вечно жить при женщине и под ее властью.
Мнонги и берег моря... Сейчас такое сочетание звучит нелепо. Видимо, легенда пришла из глубины веков, когда предки горцев еще не были оттеснены более сильными пришельцами с прибрежных равнин за каменистые перевалы. А потом, в глуши гор и джунглей, мнонги как бы оказались за пределами мощного водоворота истории.
Но я не случайно подчеркиваю «черты матриархата». Хотя горянка еще гордо шествует на базар впереди плетущегося за ней мужа с корзинами и детьми, хотя верховодит она у домашнего очага, никто уже не помнит, чтобы на месте деревенского старейшины кхуа луона или, тем паче, вождя племени, была женщина. В последние годы все чаще случаи, когда невеста переезжает в дом жениха, особенно если горская девушка выходит за вьетнамца, кхмера, лаосца. И уж совсем вопиющий пример: в полусотне приглашенных на торжественный обед не было ни одной женщины. Вот вам и матриархат.
Каждое место за «столом» предопределено. Мне полагалось почетное — у окна. По левую руку — старейший слонолов, которого привели под руки. Напротив — другие, в национальных одеждах. У них — данный обычаем авторитет, связанный с почитанием умудренных жизненным опытом людей. По правую руку расположились руководители уезда, общины, бана — в целом довольно молодые люди в цивильных или военных рубахах, в брюках хаки. У них — реальная власть. Мой добровольный переводчик И Тан, примкнувший к группе старейшин, имел некий промежуточный статус в этой двуединой системе власти. Он — председатель общинного комитета Отечественного фронта Вьетнама. Задача этой организации состоит в укреплении национального единства всех слоев общества, в том числе и отношений между разными народностями страны.
И Тан как нельзя более подходит к этой должности. Родился в 1930 году в мнонгской семье, до двадцати лет жил по обычаям своих предков, а потом судьба сделала крутой поворот, направила его дальнейшую жизнь в русло революционной борьбы.
Освобожденные районы Южного Вьетнама, опорные базы революции располагались вдоль «тропы Хо Ши Мина» — в горных областях и на плато. Отношения горцев с вьетнамцами исторически складывались неплохо, хотя, конечно, не без сложностей, как любые отношения малых народов с большими соседними. На сложностях играли французы, а вслед за ними американцы.
Нетрудно догадаться, сколь ценна была роль в этой обстановке И Тана. Немного имелось у революции грамотных товарищей из национальных меньшинств.
— Даже некоторым вьетнамским политработникам приходилось для конспирации и установления контактов играть роль местных жителей. Не только язык учить и кхо на бедра повязывать. Полностью принимали облик «дикарей: рот щербатый, уши дырявые». Мне же никаких превращений не надо было,— весело вспоминает И Тан, простодушно иронизируя над своим внешним видом.
«Дикарь, рот щербатый, уши дырявые» — презрительное прозвище горцев Центрального плато. Одно из проявлений тех самых сложных межнациональных отношений. Но и сам И Тан, и старейшины произносят эту дразнилку без обиды. «Что ж делать — действительно щербатый, действительно в дырах». И Тан, старик слонолов и все старейшины смеются, обнажая покрытые черным лаком зубы. Верхние передние наполовину короче остальных. А в растянутых мочках ушей зияют огромные дыры.
Отверстия в ушах прокалывали всем горцам еще во младенчестве. Потом расширяли, вставляли все более толстые деревяшки или кусочки слоновой кости.
Спиленные зубы — след старинного очень мучительного обряда инициации, который был раньше обязателен у всех народностей, населяющих плато. Мнонги спиливали только четыре передних зуба, а эде весь верхний ряд, кроме коренных.
Никто, однако, и не думал как-то отвертеться от неимоверно болезненной процедуры, и никому из юных не приходило в голову, зачем она нужна! Как никто из нас в детстве не спрашивал, зачем одеваться в теплую летнюю пору, а не ходить голыми. Во-первых, так делали все, в их представлении, нормальные люди. Во-вторых, только спилив зубы, юноша или девушка могли стать мужчиной или женщиной. Даже самая последняя дурнушка не послала бы сватов к дому парня с «лошадиными зубами». Вступая во взрослую жизнь, дети доказывали свое право на это жестоким экзаменом на выносливость.
Оглядев собравшихся в доме, я пришел к выводу, что обычаи пилить зубы и дырявить уши ушли в прошлое, по крайней мере, здесь в Доне. Среди тех, кому на вид около сорока, уже немного носителей этих признаков зрелости и красоты.
После освобождения Центрального плато, естественно, возникла проблема новых руководящих кадров на местах. Решить ее в таком особенном районе было непросто. Уровень образования населения крайне низок. Сильны родоплеменные пережитки, суеверия. Приходилось выдвигать на партийные и административные должности людей из числа военных и политических работников, чаще не местных, в основном вьетнамцев по национальности. Кронг Ана — одна из немногих среди ста общин Дарлака, в которой руководство сформировано полностью местное.
Перед каждым гостем поставили фарфоровые пиалы и положили палочки для еды. Эде в последнее время все больше перенимают привычку есть палочками. Привыкают к этому и мнонги, если они живут рядом, как в Доне. Но большинство горцев предпочитают изобретению мандаринов свои собственные пять пальцев.
С кухни принесли и расставили алюминиевые тазы с горячим, только что сваренным рассыпчатым рисом. К нему — множество блюд с приправами, в основном рыбных: парное филе с лимонным соком и солью (есть надо сразу, иначе будет просто сырая рыба), куски крупной вареной и жареной рыбы с душистыми травами, наваристая уха.
Кроме рыбных блюд — много зелени, какая-то неаппетитно черная смесь в тарелке (оказалось кхмерское лакомство из сои и фасоли). На десерт — кисло-сладкие, мылящиеся во рту, вяленые плоды тамаринда. Как я понял, в Доне это «фирменное» угощение.
А вот мясного ничего не оказалось. Вся живность, которую разводят в своем хозяйстве народности плато, предназначена исключительно для жертвоприношений. Мясо жертвы потом все равно съедают все чада и домочадцы, ближайшие соседи и друзья. Но его относят больше к пище духовной, нежели простому насыщению.
Случаев, по которым приносится жертва тем или иным добрым или злым духам, несть числа. Самый распространенный — для избавления от хвори. Местный колдун или просто человек знающий осматривает больного, ставит диагноз и определяет, какая животина нужна для выздоровления: курица, свинья, бык или буйвол. Приносят жертву и по случаю строительства нового дома (иначе развалится или будет несчастливым), при ритуалах в память об умершем. Но это, так сказать, индивидуальные жертвоприношения. А есть и общие. Новый год, он же праздник урожая, например. Или постройка общинного дома — ронг. В Доне издавна бытовала традиция устраивать самые большие жертвоприношения на торжественных проводах слоноловов в поход за добычей.
Почти во всех книгах о Центральном плато описан ритуал принесения в жертву быка или буйвола. Это и понятно. На любого путешественника такая картина производила самое глубокое впечатление. Но в реальной жизни такого разнузданного расточительства горцы давно себе не позволяют.
В данном случае, наверное, нет худа без добра: ведь прежде всего нужда заставила горцев отвыкнуть от варварского обычая. Долгие годы войн, потрясений, переселений привнесли постоянное ощущение зыбкости окружающей жизни. Выкормить быка или буйвола — это не год и не два. Сами-то люди кореньями питались. За рис продавали скот на мясо.
Но ритуальные флагштоки неу, обозначающие место жертвоприношений, я все же увидел — почти у каждого дома. Правда, не сразу узнал: до того хилыми они были по сравнению с теми, что изображены в старых книжках. Назначение у них осталось чисто символистическое, декоративное. По праздникам семья режет около неу свинью или курицу. Крупного рогатого скота в Доне пока немного, и его впредь предполагается использовать как тягловый. А вот поголовье свиней почти восстановилось против довоенного. Под любым домом увидишь между сваями полдюжины этих диковинных черных созданий с прогнутой спиной и волочащимся по земле животом.
Окончание следует
Александр Минеев, корр. ТАСС — специально для «Вокруг света»
Потерянная башня
Солнце накалило добела песчаную кайму Каролино-Бугаза. На косе между морем и лиманом на многие километры тянутся кемпинги, дома отдыха, пионерские лагеря, мелькают пестрые скопления палаток, автомобилей. На Каролино-Бугазе пляжный сезон. Но мои помощники, студенты Одесского университета, казалось, забыли об этом. Наша экспедиция начала поиск башни Неоптолема, о которой историки спорили не одно столетие.
...Была башня. Ее видели еще на рубеже нашей эры. Потом она исчезла. Некоторые историки античности считали башню оборонительным сооружением и полагали, что воздвиг её в начале I века до нашей эры понтийский полководец Неоптолем, который со своим войском мог дойти до реки Тиры, современного Днестра. Другие утверждали, что башня была названа в честь сына легендарного Ахилла, владыки Черного моря — Понта Эвксинского; его тоже звали Неоптолемом.
О загадочном сооружении известно из двух античных источников. В «Географии» древнегреческого ученого Страбона есть краткое сообщение: «При устье Тиры находится башня, называемая Неоптолемовой, и деревня, известная под названием Гермонактовой. Если подняться по реке на 140 стадиев, то на обеих сторонах встретятся города: один Никонии, а другой, слева, Офиусса». Еще одно упоминание о башне содержится в так называемом «Перипле Понта Эвксинского», древней лоции Черного моря. Составил ее неизвестный античный мореплаватель, в науке его принято называть Анонимным автором. Запись в лоции еще лаконичней: «От реки Тиры до Неоптолемовых 120 стадиев, 16 миль».
Казалось бы, нетрудно было отыскать башню, проведя расчет, но мешали противоречия древних авторов. Страбон указывал, что башня Неоптолема стоит при устье Тиры, а анонимный автор — в 120 стадиях от него. Греческий стадий равен примерно 157 метрам, значит, по данным «Перипла», башня находилась примерно в двадцати километрах западнее днестровского устья. Так в каком же источнике приводились правильные сведения? Где искать следы башни?
С самого начала изысканий я был убежден, что это сооружение служило маяком. Для чего другого могла быть предназначена башня на берегу моря? Кстати, Страбон называл маяки именно башнями: и знаменитый Александрийский, одно из семи чудес света, и Фаросский, и Цепионов... Оборонительные же сооружения он обычно называл «скопе» — сторожевая башня.
Впрочем, маяк Неоптолема мог использоваться и для обороны.
Столкнулся я и с другой географической загадкой. Река Днестр, впадая в море, образует широкий Днестровский лиман, вытянувшийся почти на сорок километров. Но античные авторы говорили только о реке Тире и ничего не сообщали о лимане. Попробуй догадайся, какую же местность они считали «устьем Тиры» — устье Днестра или устье Днестровского лимана?
Многие исследователи начиная с прошлого века пытались искать башню по всему Нижнему Поднестровью, но так и не нашли. Некоторые перестали даже верить, что башня Неоптолема когда-либо существовала.
В своих поисках я бы неизбежно зашел в тупик, если бы не обратился к геологии. Сомнения привели меня в проблемную лабораторию инженерной геологии и гидрологии Одесского университета. Загадкой башни заинтересовался палеогеограф Георгий Иванович Иванов. Мы надолго засели за пухлые отчеты об изысканиях в районе Днестровского лимана.
Результаты работы геологов заставили по-новому взглянуть на античную географию. Оказывается, уровень Черного моря две — две с половиной тысячи лет назад был ниже современного минимум на пять метров. Следовательно, мелководного Днестровского лимана в ту пору вообще не существовало!
Но и устье лимана близ современного села Затока тоже нельзя было считать устьем Тиры. Как показывали геологические наблюдения, эта река когда-то впадала в море несколькими устьями, и основное из них находилось в районе современного села Приморского, что примерно в двадцати километрах западнее Затоки...
После сложных теоретических расчетов нам с Георгием Ивановичем не терпелось взглянуть на сегодняшний берег. И вот мы стоим у моря и пытаемся представить происходившие в прошлом геологические процессы.
— Отсюда,— Георгий Иванович показал на крыши села Приморского,— основное русло Тиры 2300—2400 лет назад уже переместилось к Затоке. Образовалась широкая речная дельта, она тоже постепенно затоплялась. Появился залив с островом...
— Постойте, постойте,— не удержался я.— Кажется, мы решили попутно еще одну загадку.
Я вспомнил об одном не поддававшемся расшифровке месте в описании Тиры у Плиния. «На этой же реке,— писал римский историк,— обширный остров населяют тирагеты». Не об этом ли куске суши в затопленном устье говорил он? Видимо, это так. Позднее нам удалось обнаружить остров в устье Тиры и на средневековых картах генуэзских мореплавателей.
— Наконец и остров скрылся под водой, волны в заливе нанесли песок, возникла песчаная коса, которая и отгородила лиман от моря,— закончил свою мысль палеогеограф.
После того, как мы составили палеогеографическую реконструкцию района, стало ясно, почему Страбон и Анонимный автор античной лоции по-разному определяли местоположение башни Неоптолема. Никто из древних географов не ошибся, как полагали наиболее нетерпеливые современные исследователи. Противоречие возникло оттого, что известные нам сведения разделяло несколько столетий, в течение которых русло реки успело значительно переместиться к востоку.
Оба древних автора помещали башню Неоптолема в одном и том же месте — возле современного села Приморского. Здесь мы и выбрали место для лагеря полевой археологической экспедиции. Окрыленный первым успехом, я не сомневался, что теперь быстро найдем следы древнего сооружения.
Меня более всего заинтересовала южная оконечность Будакского мыса. Далее, в сторону Дуная, тянется высокий обрывистый берег. А мыс и сейчас служит ориентиром для судов. Маяк, если он стоял здесь, мог быть виден в море примерно за двенадцать миль.
Тщательно, метр за метром мы обследовали мыс, обошли окрестности Приморского. Несколько раз прочесали берег, как говорится, вдоль и поперек. Ни остатков башни, ни обломков амфор, которые могли бы подсказать след. Вообще ничего... Неужели мы ошиблись? А ведь наши рассуждения казались такими убедительными!
Перед отъездом мои помощники решили искупаться. Я тоже зашел в воду. Отплыв от берега, перевернулся на спину и стал смотреть на высокий обрывистый берег мыса. То тут, то там были видны недавние обвалы, кое-где в воду оползли крупные участки суши. Абразия...
Перед глазами встали сухие строчки геологических отчетов, цифры, диаграммы. Специалисты установили, что в окрестностях Приморского волны разрушают берег в среднем около одного метра в год, а в отдельные годы абразия еще интенсивнее. Только на памяти старожилов берег отступил на несколько сот метров. Выходит, даже по самым скромным расчетам, за прошедшие две тысячи лет море уничтожило полосу берега шириной до одного километра.
Когда я возвращался к берегу, сверкнула догадка: древнегреческий маяк стоял, конечно, на самой оконечности мыса. Стало быть, искать руины надо на дне моря!
Организовать подводную экспедицию было куда труднее. Понадобилось время, чтобы найти помощников, обеспечить поисковую группу снаряжением. И вот мы снова на Каролино-Бугазе.
Море ласково шуршит, накатываясь на берег. Редкие в этот утренний час купающиеся недовольно оглядывают заехавший на самый пляж крытый вездеход. Несколько загорелых парней выгружают на песок яркие акваланги, ласты и маски. И только надпись на кабине «Археологическая экспедиция Академии наук» избавляла от необходимости объяснять что-либо...
Весь первый день устанавливали сигнальные буйки, разбивали акваторию на квадраты, готовили акваланги, лодки.
Перед первыми погружениями не спеша проверяем компрессор, воздушную помпу, кислородные аппараты, опробуем лодки. Со снаряжением помогла Одесская морская школа ДОСААФ. Там, на тренировочных погружениях, я и приглядел помощников — Сергея Грабовецкого и Алексея Гришаева, студентов инженерно-строительного института. Вскоре в клубе подводного плавания «Шельф» я окончательно укомплектовал команду для подводной археологической экспедиции.
...С утра подул легкий ветерок, но вскоре волна улеглась. На лодках мы выплываем в отмеченные буйками квадраты. Первая пара ныряльщиков уходит под воду. Затаив дыхание, смотрю, как тают в голубой воде их силуэты. Сначала за ними можно было следить по ярко-желтым баллонам аквалангов, затем я потерял их из виду. Томительные минуты ожидания... Но вот пловцы поднимаются на поверхность, снимают маски, жмурясь от яркого солнца. Первые наблюдения таковы: дно песчаное, довольно ровное, водорослей почти нет, но видимость плохая. Чтобы хоть что-то увидеть, надо плыть почти над самым дном.
Этот квадрат оказался пустым. Перешли на соседний. К вечеру убедились: и там пусто... Второй день погружений тоже не принес ничего нового. Энтузиазм многих членов экспедиции заметно поостыл. Если сперва то и дело шли разговоры от подводных башнях и замках, мраморных статуях, стоящих на морском дне, то теперь ребята больше молчали. Некоторые искоса поглядывали на меня. И я сам, признаться, понемногу стал терять уверенность, что башня когда-то находилась в избранном мной квадрате, площадью километр на километр.
Луч надежды блеснул лишь на четвертый день погружений. Сергей Грабовецкий поднял со дна обломок древнегреческой амфоры. Как все радовались первой находке, как бережно передавали из рук в руки этот невзрачный, сильно окатанный, зеленоватый от воды красноглиняный черепок!
Было чему радоваться. Если это следы античного поселения, значит, мы на правильном пути, и можно не сомневаться, что маяк находился где-то поблизости. Но ликовать по поводу найденного черепка я не спешил. Что, если это случайная находка? Затонул, предположим, застигнутый штормом древнегреческий корабль, море разбросало груз, разбило часть амфор...
В этот же день нашли второй черепок, третий... десятый. В быстро растущей на расстеленном брезенте горке глиняных обломков я увидел темные куски скифских лепных сосудов. На древнегреческом корабле не могло быть местной посуды! Греки были искусными гончарами, и их керамика превосходила скифскую красотой и практичностью.
Я определил, что осколки поднятых нами античных предметов были изготовлены в различных греческих центрах и, самое главное, датировались разным временем. Торговый корабль — не музей, и маловероятно, что вместе с ним затонула столь разнообразная коллекция посуды. Находок набралось столько, что вскоре пришла уверенность: под водой — следы поселения, существовавшего на древнем мысу в античное время.
Все оставшиеся дни водолазы искали остатки исчезнувшего под водой маяка. Увидев гору поднятых со дна черепков, мои коллеги-археологи, ведущие много лет раскопки больших античных поселений Северного Причерноморья, пришли к выводу, что башня Неоптолема была довольно крупным пунктом, история которого была тесно связана с судьбой античных центров Нижнего Поднестровья — города Никония (руины его лежат на левом берегу лимана возле современного села Роксоланы), и города Тиры, стоявшего на месте современного Белгород-Днестровского. Скорее всего башня была сооружена в конце V века до нашей эры, когда окрепли торговые связи этих центров с Грецией и Малой Азией. Она указывала вход в сложный фарватер Тиры-Днестра.
Маяк из белого известняка был хорошо виден морякам в открытом море. Многим мореплавателям приносил он спасение, возвращал уверенность, вселял надежду и веру, придавал силы для дальнейшего плавания. Иначе не назвали бы его именем Неоптолема, сына владыки Понта Эвксинского, не был бы он так широко известен в античном мире и не удостоился бы упоминания в произведениях античных историков и географов.
Когда в Причерноморье вел военные действия понтийский военачальник Неоптолем, река Тира впадала в море уже в другом месте. Страбон и Анонимный автор в своих трудах использовали более ранние сведения, которые, как показала уточненная палеогеографическая реконструкция района поисков, предшествовали появлению на свет понтийского полководца на два-три столетия, а значит, к этому маяку он не имел никакого отношения.
Настало время прекратить поиски. Руины маяка, очевидно, затянуло песком... Мои помощники были разочарованы. Конечно, им хотелось увидеть хотя бы остатки величественного когда-то сооружения. Но что делать, если морская стихия распорядилась по-своему, и башню поглотили волны Понта Эвксинского. Такова судьба многих маяков. И в наше время некоторые маяки уже не раз приходилось переставлять подальше от разрушающегося берега.
Однако я не теряю надежды еще раз попытаться с помощью гидролокатора обнаружить под водой древние руины. Без этого загадку потерянной башни нельзя считать окончательно раскрытой.
Михаил Агбунов, кандидат исторических наук
с. Приморское, Одесская область
Нетерпенье достичь Харэр.
По маршруту путешествия в Эфиопию поэта Николая Гумилева
Описывая свои африканские странствия, Николай Степанович Гумилев особенно подчеркивал, что третье, и последнее, путешествие в Абиссинию (так тогда называли Эфиопию.— В. Л.) в 1913 году он совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Академией наук. Помощником Гумилев выбрал своего племянника Н. Л. Сверчкова — любителя охоты и естествоиспытателя — покладистого человека, не боящегося лишений и опасностей. После обсуждения в Музее антропологии и этнографии был принят маршрут из порта Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе в Харэр, один из самых древних городов Эфиопии, а оттуда с караваном по юго-западу страны. Уже в пути, делая ежевечерние записи в тетради, Николай Степанович никак не мог забыть многомесячных хождений по академическим коридорам, оформлений разных удостоверений и рекомендательных писем, изматывающих закупок палаток, ружей, седел, вьюков, продуктов. «Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия»,— восклицает Гумилев-поэт. Но, как исследователь, он скрупулезно изучает район будущего путешествия, готовясь делать снимки, записывать легенды и песни, собирать этнографические и зоологические коллекции. Благодаря трудам Николая Степановича в Эфиопии удалось собрать и доставить в Петербург богатую коллекцию. В его сборнике «Шатер», посвященном африканским странствиям, встречаются такие строки: Есть музей этнографии в городе этом,
Над широкой, как Нил, многоводной Невой.
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Слышать запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.
Как только пароход «Тамбов» бросил якорь в Джибути, к борту подошла моторная лодка. Для Гумилева это было нечто новое, ибо ранее он переправлялся на берег на яликах, где на веслах сидели мускулистые сомалийцы. К тому же теперь порт был связан с глубинными районами Эфиопии железной дорогой и поезд ходил в Дыре-Дауа два раза в неделю.
Дыре-Дауа возник как транспортный центр во время строительства дороги, примерно на полпути между Джибути и Аддис-Абебой, столицей Эфиопии, и благодаря ремонтным мастерским стал главной станцией на этой линии.
Представленный в свое время императорскому двору в эфиопской столице, Гумилев не мог не знать о появлении почты, телефонной связи. Реформы и преобразования Менелика II направлены были на развитие торговли. Но торговым связям препятствовало отсутствие удобных дорог между центральной провинцией Шоа и побережьем.
По горным тропам через Харэр караваны неделями пробирались к морю: вначале поклажу везли ослы, и лишь позднее можно было пересесть на верблюдов. Купеческие караваны часто подвергались нападению разбойничьих шаек.
Известный исследователь Эфиопии, русский офицер Александр Ксаверьевич Булатович, впервые сев на верблюда, решил преодолеть свыше 350 верст от Джибути до Харэра. Местные жители не верили в эту затею. Но одолев гористое, часто пустынное и безводное пространство гораздо быстрее, чем профессиональные гонцы, он стал легендарной личностью в стране, удостоился за свои курьерские подвиги прозвища Птица от самого императора Менелика.
Но даже храбрый кавалерист Булатович считал этот путь далеко не безопасным и писал в своих донесениях в Русскую миссию в Аддис-Абебе о волнениях в «сомалийской степи» по дороге из Джибути в Харэр. Как раз в то же время, в самом конце прошлого века, Франция, получив от Менелика II право на монопольное строительство железнодорожных линий, начинает прокладывать дорогу от Джибути и уже в 1902 году доводит ее до Дыре-Дауа.
Когда едешь сейчас в маленьком вагончике по этой узкоколейке, легко представить, как долго и трудно вели ее через Данакильскую пустыню, пробивали многие туннели. Шпалы — чтобы их не съели термиты — укладывали железные. Потому лишь в 1917 году Аддис-Абеба увидела первый поезд.
Гумилев оставил точное замечание по поводу этой иностранной концессии: «Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям (правда, Эфиопия ничьей колонией никогда не была.— В. Л.) и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее». Гумилев выразился бы резче, если бы знал, что, хотя император концессию на строительство железной дороги формально и передал эфиопской компании, на деле же участие эфиопов в ней было фиктивным — все предприятие находилось в руках французских акционеров...
Итак — в путь. Небольшая экспедиция усаживается в вагоны второго класса в предвкушении, что часов через десять будет уже в Дыре-Дауа. Да, путешествие в вагоне гораздо удобнее, чем многодневная качка на спине «корабля пустыни» по безводной растрескавшейся равнине. Мелькают коричневые контуры гор в отдалении, даже из окна вагона видно, как проносятся крошечные антилопы дикдик или газели Томсона. На обочине — опирающиеся на копья данакили с всклокоченными шапками волос. Хотя паровозы носили громкие названия, вроде «Слон» или «Буйвол», но, к сожалению, далеко их не оправдывали. На подъеме поезд полз как черепаха, а перед могучим паровозом два гордых кочевника посыпали песком мокрые от дождя рельсы.
А приключения еще только начинались. Примерно на полдороге поезд и вовсе встал — впереди на десятки километров путь был размыт, и рельсы буквально повисли в воздухе. Здесь путники убедились, что окрестности по-прежнему, как во время Булатовича, небезопасны. Стоило им отойти от поезда километра три, перевалив за каменистый холм, как вслед бросились ашкеры — солдаты охраны, размахивая руками и что-то выкрикивая. Оказалось, что кочевники устраивают засады и могут напасть, а то просто метнуть копье — особенно в безоружного. Солдаты отвели путников к поезду, тщательно осматривая заросли кустов и груды камней.
Позднее путешественники могли убедиться, какой они подвергались опасности, наблюдая, как ловко и метко бросают копья кочевники, пронзая ими на лету даже самые мелкие предметы.
По рассказам верного Н. Л. Сверчкова, его спутник не всегда соблюдал осторожность, обращаясь с местным населением. Эмоциональный Гумилев мог нарушить правила восточной дипломатии. Однажды он даже выхватил у местного судьи трость, полагающуюся тому по должности. Правда, вежливый судья не преминул подарить злополучную трость, чем конфликт и исчерпался...
Несомненно, Николай Степанович Гумилев был человеком мужественным — во время первой мировой войны он стал кавалером двух солдатских «Георгиев». Да иначе и не отправился бы он в африканское путешествие, полное лишений и опасностей. Но все же его поступки иногда выходили за рамки благоразумия. Так, переправляясь через реку в подвешенной на канате корзине, он, забавы ради, начал раскачивать корзину над кишащей крокодилами водой. Едва путешественники успели ступить на противоположный берег, как подмытое водой дерево, к которому был привязан канат, упало в реку...
Долгое ожидание было несвойственно характеру Гумилева: он сгорал от нетерпения побыстрее попасть в глубь страны. Когда для починки пути прибыл рабочий поезд, Гумилев, не дожидаясь окончания ремонтных работ, отправился по неисправному пути вместе с почтовым курьером на дрезине для перевозки камней. Сзади для охраны поместились ашкеры, а рослые сомалийцы дружно взялись за ручки дрезины, выкрикивая в такт «ейде-хе, ейдехе» (местный вариант «Дубинушки») . И экипаж взял курс на Дыре-Дауа.
В наши дни в этом сильно выросшем городе, пожалуй, неизменным остается одно: станция и ожидание «бабура» — так по-амхарски называют поезд из Джибути. Как и много лет назад, начинают гудеть рельсы, и шумная разноязыкая толпа заполняет перрон в предвкушении встречи. Не успевает поезд остановиться, как из переполненных вагончиков высыпаются вперемежку с тюками и разной поклажей люди самых разных оттенков кожи и растекаются цветным потоком по пыльным улочкам с беленькими домиками.
В Дыре-Дауа не особенно ждали экспедицию Гумилева, которая к тому времени пересела с дрезины в специальный вагон. Все выглядели достаточно плачевно: с волдырями на покрасневшей от беспощадного солнца коже, в пыльной мятой одежде и порванных острыми камнями башмаках. Но настоящее путешествие только начиналось: железнодорожной линии на Харэр не было — надобно было «составлять караван».
Мне довелось поездить по древней земле провинции Харэрге на машинах советской нефтепоисковой экспедиции. Если Гумилев добирался до Харэра с ночевкой, то на «Волге» можно домчаться до столицы этого края в считанные часы. Но и машинам доступны не все дороги в саванне и в горах. По-прежнему непросты эти дороги для пешеходов и вьючных животных, ибо и жаркое солнце, и безводье, и красная пыль, несомая горячими ветрами, все те же, что и раньше...
Так же, как и прежде, к Харэру упорно идут путники с тяжелой ношей, несут детей полуобнаженные сомалийки, матери и жены кочевников. Верблюды, словно «нанизанные на нитку забавные четки»,— каждый привязан веревочкой к хвосту впереди идущего — везут вязанки хвороста, укрепленные на деревянных козлах-седлах. У проводников караванов Гумилев учился выбирать сытых верблюдов, чтобы горб — хранилище запасов жира, не свисал набок, а стоял прямо. Я видел, как перед долгой дорогой верблюд проглатывает десятки литров воды, разбухая прямо на глазах. И такой караван идет с тяжелым грузом многие десятки километров, от восхода до захода солнца. Верблюды упрямо шагают по бездорожью, только вода колышется в их брюхе, словно в полупустых бочках. Идет караван, минуя застрявшие в песках грузовики.
По дороге в Харэр вспоминается деловая запись Гумилева о значении для развития эфиопской торговли железнодорожной линии на Джибути, куда будут вывозиться «шкуры, кофе, золото и слоновая кость». Золото намывали в горных речках в юго-западных районах страны и вывозили его немного. Иначе обстояло дело со шкурами и слоновой костью. Шкурами и мехами, изделиями из них Эфиопия успешно торгует до сих пор. Также высоко ценилась местная слоновая кость, продававшаяся даже самим императором, который бивнями оплачивал долги. Но в основном слоновую кость перепродавали в другие страны, в том числе и в Россию, в начале века французские компании, причем по очень высокой цене. Изделия из слоновой кости и сейчас можно купить в Харэре, но слонов из-за хищнического истребления стало куда меньше.
Гумилев, увидев перед домом местного купца хвосты слонов, убитых на охоте, не случайно обронил такое замечание: «Прежде висели и клыки, но с тех пор, как абиссинцы завоевали страну, приходится довольствоваться одними хвостами». Теперь лишь к юго-востоку от Харэра, в узких долинах рек, можно встретить отдельные группы слонов.
Напротив, плантации кофе, ставшего в наше время основным продуктом эфиопского экспорта, намного увеличились со времен путешествия Гумилева, который любил «бродить по белым тропинкам между кофейных полей». Сейчас по обеим сторонам дороги зеленеют кустарники кофе. По-прежнему собирают и дикорастущие красные ягоды, особенно в провинции Кэфа — кофейном центре страны — откуда, как считается, и пошло само слово «кофе».
Не раз я слышал легенду о том, как в очень давние времена обитавшие здесь монахи стали замечать, что их козы посреди белого дня начинают проявлять неумеренную резвость. Понаблюдав за ними во время пастьбы, монахи увидели, что козы жуют красноватые ягоды на невзрачном кустарнике. Приготовили из этих ягод напиток и установили причину козьей бодрости.
Как-то Булатович еще заметил, что дикий кофе, собираемый после падения с дерева, чернеет на земле и теряет часть своего аромата, а «больше ценится харэрский кофе, так как его вовремя собирают». В Петербург попадал именно этот «абиссинский кофе, называемый мокко».
В провинции Харэрге в большом госхозе «Эрер» меня угостили крепчайшим и в то же время мягким на вкус харэрским кофе из глиняного кофейника.
Я приехал как раз во время сбора кофе. Как и в давние времена, его сушат на солнце, а затем очищают от шелухи. Более качественный продукт получают после промывания и ферментации ягод в воде. Мокрый способ очистки получает сейчас все большее распространение, создаются десятки промывочно-очистительных станций в крестьянских кооперативах.
На плантациях здесь появились саженцы нового высокопродуктивного сорта, полученного на станции по селекции кофейных сортов.
— Даже английские эксперты из Лондонского института исследования генетики растений оценили результаты, достигнутые у нас, как самые значительные за всю историю развития производства кофе,— с гордостью рассказывал местный агроном.
Из любопытства я попросил показать кустарник кат, листьями которого Гумилев целый день угощал одного старого шейха, чтобы заполучить его чалму для этнографической коллекции. Население здешних мест жует листья этого растения до сих пор. Кустарник выглядел очень обычно, хотя листья ката содержат наркотические вещества. Их вывозят на экспорт.
...Все выше серпантином поднимается на плоскогорье дорога на Харэр, выбрасывая из-за крутых поворотов навстречу нашей машине то семенящих осликов, еле видных под охапками хвороста, то переполненный автобус с торчащими из окон любопытными лицами. На обочине мелькают деревни. Если бы не бывшие итальянские казармы с зубчатыми стенами да подбитые танки под зонтичными акациями, ржавеющие здесь со времени военного конфликта с Сомали, то можно бы предположить, что все тот же идиллический пейзаж в своей застывшей яркости — синее без облачка небо, коричневые горы, густая зелень долин — разворачивался перед нами, как когда-то и перед путниками экспедиции Гумилева. Правда, тогда, оставив внизу мулов, они взбирались по тропинке «полузадохшиеся и изнеможденные» и наконец взошли на последний кряж. Вид на затуманенную долину поразил поэта:
«Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю...»
Все достоверно в картине Гумилева, но яркие фигуры, встречающиеся нам, все же хорошо вписываются в пейзаж. Мы остановились отдохнуть у одной деревни, примерно такой же, как увиденная в пути Гумилевым, где «перед хижинами галласов слышишь запах ладана, их любимого куренья». В ней тоже жили галла, или оромо, как называет себя этот воинственный народ, переселившийся сюда с юга несколько веков назад. Кочевые галласские племена, жизнью которых интересовался Гумилев-этнограф, смешались с местным населением, стали оседлыми и занялись земледелием.
...По пустой улице деревни прогуливались куры, да девочка тащила за руку голопузого братишку. В разгар трудового дня тукули, похожие на амхарские — те же остроконечные соломенные крыши над круглыми хижинами,— пустовали. За деревьями, прикрывавшими от зноя хижины, начинался желтый склон, где мужчины, высокие и крепкие, складывали связанные в снопики стебли кукурузы и проса. Выше по склону полуголые курчавые мальчишки выгоняли из кустов тощеньких коров, коз и черноголовых овец. Несколько детских фигур, согнувшись, шли по полю: резали серпами высокую стерню. Наверное, на топливо, которого здесь не хватает.
Гумилев отмечал, что вдоль дороги часто попадаются базарчики, где торгуют вязанками хвороста. Лес вырублен настолько, что пришлось сюда завести в конце прошлого века быстрорастущий эвкалипт. Мы не раз видели, как вдоль дорог вытягиваются все новые ряды саженцев эвкалипта. Кампания лесопосадок под руководством Управления развития лесоводства и охраны живой природы стала особенно шириться в последние годы борьбы против засухи. Крестьяне по всей стране учатся на курсах лесоводства.
Теперь выходцы из Австралии очень естественно смотрятся среди местной флоры. Те молоденькие эвкалипты, мимо которых проезжал Гумилев у Харэра, превратились в аллеи деревьев — колонн, подпирающих зелеными кронами высокое небо.
...На окраине деревни на берегу озерца шла всеобщая стирка: десятки смуглых женщин полоскали белье в каменных впадинах-корытах, заполненных водой; выжав, разбрасывали яркие пятна тканей на горячих камнях — все высыхало мгновенно под испепеляющими лучами. Побросав белье в корзины и поставив на головы ноши, женщины, стройные и сильные, шли чередой. Плавно покачиваясь, почти не придерживая корзины рукой, выступали они будто в танце. Словно и не было тяжкого знойного дня, заполненного трудом, словно не давил нелегкий груз. Достойно несли свою ношу женщины-галла, приветливо одаривая нас белозубыми улыбками.
За деревней навстречу попались всадники на разукрашенных лошадках. Похожих приметил и Гумилев за Дыре-Дауа. Издавна конь был верным спутником воинов амхара и галла — двух основных народов Эфиопии. Быть пахарем или воином — есть ли для мужчин занятие достойнее? Эфиопы всегда старались богато отделывать сбрую и седла. О величайшем уважении к лошади говорит такая примечательная деталь. Боевым кличем верных воинов Менелика II служило не имя императора, а кличка его лошади — Аба Данья, что означает «Отец-судья».
К сожалению, мы опоздали на сентябрьские конские игры-гукс, напоминающие кавалерийский бой. Вначале отдельные смельчаки вырываются вперед и бросают дротики в противника, а те отражают их щитом. Но вот бой делается общим: всадники скачут навстречу друг другу, в воздухе свистят дротики, иногда они щелкают о шиты, иногда сбивают всадников на землю. Дротики без наконечников, но могут пробить щит, нанести увечье.
Знаменитый военачальник Менелика II, рас (дословно это означает «голова», но значит и «князь».— В. Л. ). Гобана, галла по происхождению, присоединивший к Эфиопии галласские земли Харэра в конце прошлого века, замечательный кавалерист и храбрец, погиб, сбитый с лошади, во время игры в гукс.
Лучшая конница у Менелика была галласской — ею любовался поэт Гумилев:
Как саженного роста галласы, скача
В леопардовых шкурах и львиных,
Убегающих страусов рубят с плеча
На горячих конях исполинах.
В записях Гумилева вместо даты потери независимости Харэра поставлено многоточие. Этот год, который не успел проверить исследователь,— 1887. И дальше идет фраза: «В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил харарского негуса Абдуллаха...» Все написания названий, естественно, авторские, следует лишь оговорить, что Абдуллах был не негусом, а эмиром. Так пал Харэрский султанат, в истории которого много примечательных страниц.
Поэт Гумилев восхищался «величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских» и, без сомнения, много их записал, так как ссылается в своем дневнике на приложение (оно пока не найдено.— В. Л.), в котором текст дается в русской транскрипции, и приводит для примера галласскую песню, где воспевается «Харар, который выше земли данакилей...».
В галласских военных песнях, народных преданиях запечатлена одна удивительно колоритная фигура, пожалуй, самого знаменитого правителя в истории независимости Харэра. Человека, который вел в середине XVI века опустошительную «священную войну» с Эфиопией. Это Ахмед аль-Гази, прозванный Грань-Левша, объявивший себя имамом и бросивший в глубинные районы христианской Эфиопии армии мусульман. Могучая фигура Граня с саблей в левой руке сеяла ужас в стане эфиопских войск, и народная фантазия приписывала ему сверхъестественные качества.
Еще во время экспедиции Гумилева жители могли показать следы его сабли на камнях или источник в скалах, появившийся после удара копья Граня.
От огня и меча — а есть сведения, что войска Граня имели еще и пушки,— гибли церкви и монастыри, замечательные рукописи и иконы. К Харэру потянулись колонны невольников, стада скота, караваны с награбленными тканями, золотом, слоновой костью, драгоценными камнями. Обозы с трофеями подчас мешали движению армий. В узком проходе между скалами, который и сейчас показывают в Эфиопии, Грань-Левша однажды остановил войска и приказал рубить головы всем, чьи мулы, обремененные добычей, не смогут пройти через скальный проход.
Только португальская пуля из мушкета одного из стрелков отряда Криставана да Гама (сына известного мореплавателя Васко да Гамы), сражавшегося на стороне эфиопского императора, оказалась смертельной для имама Ахмеда-ибн-Ибрахима аль-Гази. Место, где погиб Грань, до сих пор зовется Грань Бэр — «Ущелье Граня». Тридцатилетняя война продолжала опустошать земли Эфиопии и Харэрского султаната, начались эпидемии холеры и оспы.
По длинной и светлой эвкалиптовой аллее мы приближаемся к воротам тысячелетнего Харэра. «Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей,— писал Гумилев.— Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца».
На эти приземистые ворота в невысокой стене можно и не обратить внимания, если не знать, сколько они помнят и что они видели. Много богатых караванов прошло через них. Мулы воинов Грань-Левши везли награбленные сокровища из далеких эфиопских земель, брели измученные рабы, захваченные неистовым имамом. В последний год тридцатилетней войны, не принесший Харэрскому султанату ни славы, ни процветания, молодой Hyp, возглавивший войска после гибели Граня, бросил к ногам его красавицы вдовы, в которую был страстно влюблен, голову павшего на поле боя эфиопского императора. В те дни, проходя через ворота, жители Харэра отворачивались от высокого столба с обезображенной головой юного императора Гэлаудеуоса, горестно шепча: «Жестокая казнь навлекла на всех нас небесную кару: засуху, голод, болезни...»
Через крепостные ворота Гумилева беспрепятственно впустили в город, показавшийся ему Багдадом из сказок Шахерезады. Накопилось много неотложных экспедиционных дел (подготовка каравана, хлопоты с пропуском оружия через таможню, оформление разных нужных бумаг), и пришлось задержаться. Гумилев с удовольствием ходил по извилистым ступенчатым улочкам, присматриваясь к быту и нравам жителей разноязычного города.
...Оставив машину на площади у древних ворот — в старом городе и сейчас не везде проедешь,— я решил побродить по узким улочкам, сжатым домами и высокими стенами, сложенными из крупного камня. За ними слышались голоса, женский смех и плеск воды. В спрятанных от праздного взора жилищах была замкнута иная, непонятная постороннему взору жизнь. Сквозь приоткрытые узкие калитки мелькали в крохотных двориках обрывки житейских сценок: девушка набрасывала на веревки цветные полотна и ковры; на очаге дымился котел с пряным варевом; дети тянули ослика с огромной поклажей. Тяжелые деревянные двери вели в таинственное нутро молчаливых домов. Свернув за угол приметного дома с башенкой, я оказался в крохотном проулке: на белизне стен легкие тени резных листьев, солнце слепит глаза, сухой запах пыли, безмолвие... Вечный город — Гумилев любил толкаться среди люда на площадях, поторговаться из-за приглянувшейся старой вещи на базарчиках. Пока его спутник Сверчков гонялся за насекомыми, крошечными красными, синими, золотыми красавцами в окрестностях города, Гумилев собирал этнографическую коллекцию. «Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно,— помечал он в дневнике,— перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа, и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше». Гумилев копался в темных улочных закоулках в поисках старья, не дожидаясь приглашения, заходил в дома осмотреть утварь, старался понять назначение какого-либо предмета. Как-то купил прядильную машину. Чтобы понять ее устройство, пришлось заодно разобраться и в ткацком станке.
В записках Гумилева есть сценка с юмористическими, психологически точными деталями, которую можно было бы назвать так: «Как меня пытались обмануть при покупке мула». Сейчас, как и тогда, специальных «мулиных ярмарок» нет, но на базарах продают все — от коров и лошадей до ынджера — блинов из муки тэфа, которыми угощали Гумилева гостеприимные галласы. Правда, поэт пробовал толстые черные блины, а нас усадили перед плетеным столиком, на котором высокой стопкой лежали такие же блины, но белейшие и тонко раскатанные. Такие раскрашенные столики, корзинки, шкатулки, подносы весьма искусной работы нам предлагали на харэрских базарах мастера. Их изделия из соломы, тростника, лозы известны по всей стране.
Узнав, что католическая миссия готовит переводчиков из местных жителей, Гумилев знакомится с ее воспитанниками, чтобы выбрать помощника для экспедиции. Правда, при этом не удерживается от ироничного замечания: «Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств». Раскланиваясь на чистеньком дворе, напоминавшем уголок французского городка, с тихими капуцинами в коричневых рясах, беседуя с монсеньером, епископом галласским, предполагал ли Николай Гумилев, что ранее тут уже бывал другой поэт? Вряд ли. В «харэрской тетради» упоминается имя лишь Бодлера. Как жаль, что Николай Гумилев не мог знать о поэте, прожившем в Харэре долгих и мучительных десять лет. В трудные минуты поэт советовался с епископом Жеромом, чуть ли не единственным близким здесь ему человеком. Поэта звали Артюр Рембо. Да был ли хоть с кем дружен неистовый скиталец Артюр Рембо, по выражению Гюго, «Шекспир-дитя»?
Есть некая предопределенность судеб двух поэтов: оба стремились в Африку; у обоих пересеклись пути в крошечной точке великого континента, в Харэре, хотя с разницей в двадцать лет; оба увлекаются судьбой одного и того же народа галла, причем Рембо даже пишет исследование о жизни галла и представляет его в Парижское географическое общество.
Но какие разные цели преследовали они! Гумилев едет в Африку как ученый-исследователь, а двадцатичетырехлетний Рембо, начитавшись книг о конкистадорах и африканских сокровищах, покидает Францию, чтобы нажить «свой миллион».
Истинный поэт, стихи которого увидели свет лишь после его смерти, бросает поэзию и превращается в авантюриста, торговца слоновой костью и кофе. В погоне за призрачным «золотым миллионом» он пересекает на верблюде пустыню, живет в палатке. У него уже десятки слуг-эфиопов, свой торговый дом, бойко меняющий дешевые бусы и материи на золото. Но сказываются тяжесть африканской жизни, тропические болезни. Начинает болеть нога, из-за опухоли Рембо не может ходить, и рабы уносят его на носилках из Харэра. Изнурительная под тропическим солнцем дорога к побережью, дорога, оказавшаяся последней для Рембо.
Но выхода не было. В Харэре того времени, имевшем столько же населения, что и в наши дни, отсутствовала всякая врачебная помощь. Лишь спустя несколько лет после отъезда Рембо туда прибывает вслед за упомянутым выше Булатовичем первый санитарный отряд русского Красного Креста. И поныне стекаются сюда, в старейший госпиталь в стране, страждущие со всей округи.
...Рембо, с трудом добравшийся до Марселя, перенеся тяжелейшую ампутацию ноги, пишет из больницы родным: «Какая тоска, какая усталость, какое отчаяние... Куда девались горные перевалы, кавалькады, прогулки, реки и моря!..»
В последние дни жизни тридцатисемилетний Артюр Рембо ни разу не вспомнил, что был когда-то поэтом. В своем юношеском произведении «Лето в аду», единственной книге, изданной при жизни, он, прощаясь с поэзией, писал: «Я покидаю Европу. Морской ветер сожжет мои легкие; климат далекой страны выдубит мне кожу... Я вернусь с железными руками, смуглой кожей, бешеным взглядом... У меня будет золото».
Обманутый в своих мечтаниях, Рембо умирал калекой на жалкой больничной койке, и в горячечном бреду перед ним проносились африканские видения его юношеской несбывшейся «золотой» мечты.
В марсельском госпитале, в больничной книге, записали, что скончался негоциант Рембо. Никто из окружающих не подозревал, что не стало большого поэта Артюра Рембо.
Но поэт Николай Гумилев не знал о харэрской трагедии поэта Артюра Рембо. Наблюдая за размеренной жизнью католической миссии, Гумилев даже не мог предположить, что сюда нетерпеливо вбегал Рембо, чтобы поделиться сомнениями и надеждами со своим единственным другом монсеньером Жеромом, будущим епископом Харэра и единственным учителем сына раса Мэконнына. Это известное по всей Эфиопии имя Гумилев сразу же по прибытии в Харэр заносит в дневник: «После победы Мене-лик поручил управление Харэром своему двоюродному брату расу Маконнену (тогдашнее написание имени.— В. Л.), одному из величайших государственных людей Абиссинии».
Лишь один Мэконнын из всего императорского окружения согласился стать правителем столь отдаленной окраины, населенной непокорными мусульманами. И успешно справился с этой задачей, завоевав у населения огромной провинции авторитет не меньший, чем императорский.
Заинтересовавшись такой выдающейся личностью, Гумилев не мог не знать мнения о нем при императорском дворе, отношения к нему в Русской миссии. Все европейские путешественники и дипломаты, побывавшие в Харэре, центре пересечения караванных путей, отмечали дипломатические способности Мэконнына, его умение управлять провинцией, где жило столько племен, мусульмане и христиане. От искры национального, религиозного столкновения огонь войны мог вспыхнуть в один момент. Однажды это чуть не произошло...
Мне вспомнилась та давняя история, когда по извилистым улочкам старого Харэра я выбрался на круглую площадь и сразу заметил старую церковь. Она просто резала глаза своей чужеродностью в глухо замкнутом белыми стенами мусульманском городе. До захвата Харэра войсками Менелика там высились только минареты мечетей. Но теперь, когда в городе появились амхарцы из центральной провинции Шоа, Мэконныну пришлось задуматься о строительстве христианских храмов. Но смирятся ли с этим мусульмане? Рас не хотел применять силу, чтобы не раздувать религиозный конфликт.
Искушенный дипломат, он разрешил эту отнюдь немаловажную проблему удивительно простым, не лишенным остроумия способом.
Мэконнын пригласил на совет мусульманских старейшин и заявил, что отказывается от строительства церкви, идя им навстречу. Но так как христиане должны где-то общаться с богом, то он предлагает разделить мечеть на две части: одну оставить мусульманам, другую отдать христианам из Шоа. Старейшинам ничего не осталось, как согласиться со строительством церкви.
Может быть, эта древняя церковь на площади и была тем первым храмом, возведенным хитроумным расом?
Гумилев отмечает и «удачные войны» Мэконнына. Тот расширил пределы своей провинции, возглавил авангард стотысячной императорской армии и разгромил крупный отряд итальянского экспедиционного корпуса. Этим начался разгром итальянских захватчиков, разгром, которого не знала история колониального порабощения Африки. Историческая победа под Адуа до сих пор отмечается в Эфиопии как национальный праздник.
Возможно, из уважения к Мэконныну-старшему не уклонился независимый Гумилев от встречи с его сыном Тэфэри, воспитанником монсеньера Жерома, друга Рембо. Кроме того, от Тэфэри Мэконнына, правителя Харэра, зависела выдача пропуска для дальнейшего путешествия по стране.
Встреча во дворце правителя Харэра и сцена фотографирования его с женой ярко запечатлены в дневнике Гумилева.
Он достаточно ироничен в описании дома губернатора и самого Тэфэри Мэконнына, который «мягок, нерешителен и непредприимчив». Можно бы на этом и не останавливаться, если бы не одно обстоятельство, до сих пор никем не отмеченное. Гумилев встретился в Харэре не просто с сыном Мэконнына, а с будущим регентом Заудиты, дочери Менелика II, не без помощи Тэфэри Мэконнына посаженной на трон. Может быть, осторожность правителя Харэра, остерегшегося выдать разрешение на проезд русскому путешественнику, позволила ему выждать свой час и стать императором Хайле Селассие I.
Вряд ли мог предвидеть такой поворот в судьбе правителя Харэра Гумилев, преподнося ему в дар — по совету знающих людей — ящик вермута.
Много неожиданных встреч, полезных и приятных, подчас забавных или огорчительных, было у Гумилева во дворцах и на улицах старого Харэра. Внимательный и доброжелательный к незнакомым нравам и обычаям, он всегда возмущался, видя несправедливый суд и узаконенное рабство.
Хотя, как отмечал А. К. Булатович, абиссинцы легко могли бы обойтись без рабов, но «на галласских окраинах рабами пользуются как земледельческой рабочей силой. Рабство очень распространено. Работорговля не прекратилась еще до сих пор, несмотря на грозный указ императора Менелика...».
К унижению человеческого достоинства Гумилев не мог оставаться равнодушным. Об этом есть пометки в его дневнике, но самое удивительное, что до сих пор жива в Эфиопии память о «гуманисте Гумилеве». В ответ на публикации об этом путешествии Гумилева в периодической печати в последнее время из далекой Африки пришло и было напечатано письмо О. Ф. Е. Абди. Вот что он пишет: «В день отъезда поэта из нашего дома (Гумилев останавливался на ночлег в доме своего проводника.— В. Л.) в Харэр местный землевладелец привязал своего работника за ногу к дереву. Гумилев отвязал его и привел в Дыре-Дауа...»
Старый Харэр невелик: поплутав в переплетении его улочек, я выхожу на окраину города. Слепящая глаза белая площадь с амфитеатром каменных скамей по склону холма, увенчанного мечетью. Снизу тянутся сиреневые ветви джакаранды, прикрывающие деревенскую улочку: крошечные тукули под желтыми шапками соломенных крыш. Остатки древних окраин Харэра, по которым бродил Гумилев...
Кончается тетрадка обнаруженного «харэрского дневника» Николая Степановича Гумилева, (Гумилев Н. Африканский дневник.— «Огонек», 1987, № 14, 15.) но мы знаем, что его путешествие не окончилось:
Восемь дней из Xapapa я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы.
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.
О продолжении путешествия по Эфиопии могли бы рассказать другие, не найденные пока тетради с записями поэта, ученого-исследователя Н. С. Гумилева. Кто знает, возможно, они лежат в чьих-либо архивах?
Африка — неизведанная земля, где в глубине джунглей обитают таинственные племена,— издавна притягивала к себе взоры и помыслы путешественников и поэтов. Но почему целью всех поездок Н. С. Гумилева была именно Абиссиния? Вряд ли это случайный выбор. После прочтения сборников стихов, отражающих африканские впечатления, можно сказать, чти круг интересов Гумилева выходил далеко за сферу быта местных племен, за сферу интересов этнографа.
Еще в XII веке интересовались в России далекой африканской страной, а с середины XVIII века ее древний язык геэз стали изучать. В XIX веке эфиопский язык изучают в Петербургском университете, начинаются поездки в Эфиопию многих русских ученых и путешественников, отчеты об экспедициях которых, о жизни и культуре народов Эфиопии широко публиковались. Россия была заинтересована в существовании независимой Эфиопии, и в разгар итало-эфиопской войны Менелик II направляет в Петербург чрезвычайное посольство.
Естественно, что передовая общественность целиком поддерживала борьбу эфиопского народа с захватчиками, и поэтому широкий отклик вызвала статья Льва Толстого «К итальянцам» — обличение преступлений итальянского правительства, пытающегося поработить Эфиопию. По всей России собирали средства, и на них был отправлен в Африку медицинский отряд.
О сражающейся Эфиопии знали, говорили все мыслящие люди, и она не могла не попасть в поле внимания Гумилева.
И еще: не связана ли тяга поэта-Гумилева к Эфиопии с именем Пушкина? Как известно, прадед великого поэта, сын одного из правителей северных районов Эфиопии, был пленен турками, попал в Стамбул, а оттуда русским посланником был вывезен в Россию, где Петр I нарек его Абрамом Петровичем Ганнибалом.
Разве не тяготеет гумилевский стих к пушкинскому? Возможно, ему хотелось ступить на землю предков Александра Сергеевича?
Но, пожалуй, и сам «Африканский дневник» Гумилева открывает побудительную причину предпринятого путешествия. В начале тетради он пишет о «мечте, живучей при всей трудности ее выполнения». Гумилев намеревался отыскать в Данакильской пустыне «неизвестные загадочные племена». Он был уверен, что они свободны, и жаждал «их объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать». «В семье народов прибавится еще один сочлен», — так мечталось Гумилеву. Возможно, и это влекло его в Эфиопию?
До сих пор в ленинградском Музее антропологии и этнографии сохраняются эфиопские коллекции поэта-путешественника. И вместе с его звучными строками о «колдовской стране» они создают для нас пленительный образ далекой Эфиопии.
В. Лебедев, наш спец. корр. Фото А. Сербина и В. Михайлова
Аддис-Абеба —Дыре-Дауа — Харэр — Москва
Воспоминание о мостах
Получив разовый билет до станции Тула и обратно, 1 января 1942 года я выехал в города Алексин и Белев на разрушенные мосты через Оку. Так начинались мои многочисленные поездки, связанные с военно-восстановительными работами. Не считая других станций на Юго-Западном фронте, за первые три месяца сорок второго года только в Туле я бывал одиннадцать раз. Билет мой пестрел штампиками начальников станций: «отсрочен до...», «действителен до станции... дороги...»
Приходилось ездить в любых составах и с разными удобствами: на тормозных площадках запломбированных вагонов с боеприпасами, на открытых платформах, в случае удачи — в теплушках с печкой. В тот раз я ехал в жестком пассажирском вагоне с бойцами, направлявшимися на фронт. Они обедали, и мне тоже принесли порцию каши.
Из Тулы в Алексин для обследования повреждений мостовых ферм поехали втроем: Павел Павлович Лукин, Лев Дмитриевич Курдюмов и я. Поехали ночью на дрезине вдоль линии фронта, двигались ощупью, без сигнализации. Временами по небу метался луч немецкого прожектора, принимая звук мотора дрезины за самолет. Сколько раз потом, вот так, ночью, мы возвращались в Тулу...
Время пребывания в Алексине определяло наличие еды. Работали, пока хватало хлеба. В эти дни Павел Павлович жил отдельно, а Лев Дмитриевич и я — в сторожке стрелочника. Спали без матраца, постелей и подушек, но спали крепко: все светлое время проводили на мосту. Мороз был очень сильный.
В Алексинском мосту опоры были разрушены через одну: три пролетных строения упали одним концом, четвертое — целиком. При восстановлении поднимали их на временные опоры гидравлическими домкратами, постепенно наращивая под ними шпальные клетки. На мостовых фермах висели пачки невзорвавшегося тола, желтые куски его в изобилии были разбросаны на снегу. С помощью тола Павел Павлович поддерживал на льду костер из мостовых брусьев, а мы со Львом Дмитриевичем лазили на фермы, замеряя поврежденные элементы и основные расстояния. Масштабную линейку и карандаш я на нитках повесил на шею. В какие-то секунды измерив и записав цифру, бросал эти инструменты и под полушубком между коленями согревал руки: на фермах, на высоте десяти-пятнадцати метров, к морозу прибавлялся еще и ветер. Поработав двадцать-тридцать минут, слезали и грелись у костра.
Как-то невдалеке на льду сел самолет У-2. Из него вылез полковник и пошел по делам, а пилот подошел к нашему костру.
— Погоди,— говорит он,— на самолете есть термометр, сбегаю, посмотрю на него.— Возвращается и сообщает: — Минус 47 градусов.
Мы работали на фермах на большой высоте, и мне было непонятно, отчего это Лев Дмитриевич держится свободнее, чем я. Потом выяснилось: из-за близорукости он не чувствовал высоты, не видел, что там на льду, а видел только планки раскоса, по которым мы лазили.
По пути в Белев паровозик наш задержали для маневров на станции Ясная Поляна. В оголенном лесу виднелись руины имения Льва Николаевича Толстого...
В октябре 1943 года — мы на левом берегу Днепра в Игрени. Внизу у холма — речка Самарка, приток Днепра. По маленькому мостику переходит воинская часть; лентой растянулись по дороге грузовые автомашины, орудия, телеги с лошадьми. Около переправы возникают белые дымные клочки, взрывы снарядов; одна лошадь испугалась, опрокинула груз. По ту сторону речки — Днепродзержинск и разрушенный мост, который мы будем восстанавливать. Слева из-за холма виднеется окраина Днепропетровска. В бинокль стараюсь рассмотреть немцев, но улицы пустынны, только блестят окна. Город, подожженный отступающими гитлеровцами, в огне...
Днепропетровский мост был разрушен настолько сильно, что возобновлять прежние конструкции оказалось бессмысленно. Поэтому рядом начали строить временный мост на свайных опорах с деревянными рамными надстройками и металлическими пакетами пролетных строений.
Для того, чтобы ходить с одного берега на другой, в хаосе разрушенных конструкций прежнего моста плотники соорудили из досок примитивный тротуар.
Мне часто приходилось ходить с берега на берег, я знал все «изгибы» этого тротуара: где провалилась доска, где торчит конец винтообразно изогнутого рельса... Запомнился мне искореженный мост ночью. Внизу, сквозь завал мостового металла, виднелась днепровская вода. Луна и отблески ее колеблющегося отражения освещали чудовищные нагромождения. Силуэты погнутых, исковерканных переплетений ферм, глубокие черные провалы неосвещенных мест. Ни с чем не сравнимое грандиозное и мрачное зрелище. Путь через Днепр был более километра: спуски и подъемы по трапам с поперечными планками, которые заменяли тротуар, следовали один за другим. Приходилось идти с вытянутой рукой, чтобы не наткнуться на свисающий или торчащий сбоку раскос из тавра или швеллера.
Когда мы заканчивали проекты опор, командованием военно-восстановительных работ мне было предложено оторваться от конструирования и написать большую картину — общий вид восстановления с разрушенным старым мостом и деревянными опорами нового. Сделав несколько натурных рисунков карандашом и акварелью с обычных точек, я стал искать, откуда бы мне написать вид сверху. На правом берегу виднелся пятиэтажный дом. Над крутым берегом он торчал как башня. Поднимаюсь по лестнице мимо запертых дверей (эвакуированные жители еще не вернулись) все выше и выше. На самом верху, на уровне чердака, маленькая дверь. Открываю. В комнате несколько солдат: зенитный расчет.
— Хочу порисовать из вашего окна!
Мне подставили табуретку. Устроился. Мост виден хорошо, в таком ракурсе, как хотелось. Пока я работал,— это была небольшая акварель, минут на сорок,— зенитчики трижды выбегали на крышу, и над головой начинался грохот стрельбы: налеты вражеской авиации повторялись часто.
...В тот день, когда я возвращался к Днепру, чтобы перейти мост в обратном направлении, в небе возникли немецкие бомбардировщики, и, отделяясь от самолетов подобно каплям, вниз полетели бомбы. Ни в новый мост, ни в хаос старого бомбы не попали. Но взрывная волна срывала людей с рельсового полотна и бросала на исковерканный металл старого моста. Я вступил на мост, а навстречу мне — люди с носилками: несут убитых и раненых, еще и еще...
Должно быть, под впечатлением увиденного, утратив осторожность, я задел ухом рваный металл фермы. Правой рукой (под левой нес папки) старался на плече пристроить кусок газеты, чтобы кровь не текла на белый полушубок, как вдруг сзади услышал:
— Скажите, вы художник? Я хочу с вами познакомиться!
Оглядываюсь: в ушанке, солдатской шинели очень молоденькая девушка. Вопрос слишком не вязался с обстановкой. «Неужели так привыкла к бомбам и смертям?» — подумал я.
Керченский пролив поезда обычно пересекают на железнодорожном пароме. И мало кто знает, что одно время над проливом был мост... Его построили в 1944 году железнодорожные войска и мостоотряды военных восстановителей НКПС; потом, когда мост утратил свое стратегическое значение, он был разобран и заменен паромной переправой.
Об этом строительстве, самом большом, в каком мне довелось участвовать, расскажу подробнее, потому что это самый протяженный в нашей стране и единственный в истории России мост на морском проливе, да и строился он тогда, когда в Крыму еще хозяйничали гитлеровцы. Воины ночных десантов не успевали увидеть ни пролива, ни Керчи, высаживались и сразу вступали в бой, погибали или проходили дальше в войсках наступления. Даже керчане не знают ту Керчь. Они приехали позже. На полуострове Чушка теперь дома, построен поселок у паромной переправы, железнодорожная станция, выросли сады. В то военное время здесь были пустынные берега, песок и приливные волны на плоской отмели. Мы же тогда прожили и проработали на проливе почти год: в землянках и палатках на косе Чушка, на Еникальском полуострове, в Жуковке, Опасном, Капканах. Все в те дни было необычно и достойно памяти.
...В феврале 1944 года наша небольшая проектная группа в Ростове заканчивала подготовку к паводку временного моста через Дон. Тает снег, по улицам между развалинами зданий бегут весенние ручьи. Все чертежи переданы строителям, завтра отъезд в Москву, где, может быть, нас ожидает некоторая передышка. Но неожиданно пришло распоряжение: выехать в Краснодар. Мы узнали, что предстоит строительство моста через Керченский пролив. Что-то новое, необычное, непохожее на работу прошедших трех лет войны... Когда-то в юности я мечтал, как люди построят мост над скалами и льдами Берингова пролива. Что это, сбываются давние фантазии? Правда не Берингов, но все-таки морской пролив! И в такое время?
В Краснодаре из проектировщиков и строителей разных подразделений был уже собран большой коллектив мостовиков. Встречи с давно не виденными друзьями, новые знакомства, начало увлекательного проектирования.
Из Краснодара наш путь лежал по Кубани к этому неведомому для многих из нас Керченскому проливу. Уже позади более двухсот километров тяжелейшей дороги: в колдобинах, ямах, со следами боев...
Безликая, по-весеннему голая глинистая земля. Слева тянется унылый серый лиман, подъем дороги, спуск, снова подъем. Холмы впереди ограничивают горизонт. Наконец пространство расступилось. С вершины холма мы увидели ослепительный простор моря под низким вечерним солнцем. Это было то самое зрительное впечатление, когда все, до яркости цвета, остается в памяти, может быть, навсегда.
Начался постепенный спуск дороги.
— Чушка,— сказал кто-то.
Ничего я не знал о ней прежде и совсем не таким представлял морской полуостров. Коса Чушка — узкая полоска земли вдоль пролива длиной в шестнадцать километров, а шириной в начале, у Кордона, всего шестьдесят метров. Дальше она расширяется, достигая полутора километров. Потом мы узнали, что в сильные штормы волны перекатываются через перешеек у начала косы, превращая ее в остров. Тогда прекращается сухопутная связь с материком. В такие дни наш повар не только суп, но и чай готовил из соленой морской воды (обычно пресную воду привозили на грузовике с берега).
От Крыма Чушка отделена проливом шириной от четырех с половиной до шести километров. А от Тамани на кавказском берегу — огромным Таманским заливом. На севере, за высоким мысом крымского берега,— Азовское море, на юго-западе за узкой косой острова Тузла — Черное. В хорошую погоду над морем на горизонте были видны белые рыбацкие домики, чудом сохранившиеся на Тузле. В десяти километрах на западе — бухта, отделяющая Еникальский полуостров от Керченского, в глубине ее подковы — сама Керчь у подножия горы Митридат.
Совсем стемнело, когда доехали. Наскоро, при колеблющемся пламени светильника, устраиваемся на ночлег, очень хочется спать. Рядом, в нескольких шагах, шумит прибой. Мы на десятом километре Чушки. От двенадцатого будет начинаться строительство моста на крымский берег, где укрепились десанты советских войск, заняв плацдарм на Еникальском полуострове, в поселках Глейки, Жуковка, Маяк.
22 апреля, переправившись через пролив, я пошел в Керчь, до которой от причала Опасное по дороге было семнадцать километров. Увидел город на одиннадцатый день после изгнания гитлеровцев. Изуродованные артиллерией, разбитые бомбами городские здания и улицы: изрытый снарядами с моря склон горы Митридат усеян терракотовыми, черными, белыми черепками тонких греческих керамических изделий. На вершине горы часовня-памятник археологу Ивану Алексеевичу Стемпковскому, пробитый снарядом. На склоне, обращенном к морю, развалины музея античных древностей. За время войны я видел много руин. По степени разрушений Керчь была сравнима, пожалуй, только со Сталинградом...
Изыскания, связанные со строительством моста, велись с середины зимы. А в апреле над проливом уже поднялись треугольные и портальные копры и слышался отдаленный стук паровых молотов. Началом возведения русловой части моста стало строительство свайных фундаментов опор. И для свайных опор, и для пролетных строений мы использовали трофейный металл, оставленный гитлеровцами в спешке отступления (они собирались строить здесь автомобильный мост). Этот склад металла мы обнаружили на площадке еникальского берега вблизи остатков старинной турецкой крепости. Переправились туда на другой день по приезде и тут же принялись считать, мерить, записывать. Штабеля из двутавровых балок метровой высоты, поставленных друг на друга перекрестными рядами, тридцатиметровые сваи различных сечений... Склад бомбили, видны следы фугасных взрывов, но они не причинили серьезных разрушений тысячетонным громадам. Что говорить, трофейный металл пришелся кстати.
Еще в начале года определились и были одобрены в Москве основные параметры моста и система конструкций. По проекту мост начинался от Чушки километровой каменной дамбой, тянулся через пролив и выходил на низкий участок еникальского берега между мысом Опасное и Жуковкой. Сто пятнадцать однотипных пролетов по двадцать семь метров, поворачивающееся на средней опоре стодесятиметровое пролетное строение двойного отверстия над фарватером крупных судов, эстакада и дамба у берегов образовывали полную длину мостового перехода.
Строительство было огромно: над водой и на берегах. Сборочно-монтажные полигоны, пирсы, причалы. По утрам целый флот мелких судов доставлял строителей к месту работы на опорах, которых, считая основные и дополнительные, было 238. Одновременно сооружались железнодорожные линии подходов: от станции Сенной на кавказском берегу и завода Войкова на крымском. На монтажно-строительном полигоне в Капканах собирали пролетные строения, конструируемые инженерами Владимиром Григорьевичем Андреевым и Ариадной Георгиевной Прокопович. Проектированием всех типов опор руководил инженер Константин Сергеевич Силин. Он же придумал и разработал гигантские портальные копры для забивки свай. Высоко поднятые над морем, они виднелись издалека.
Разделенные расстояниями в несколько километров, строители не всегда могли четко представить работу соседних участков и отдельные конструкции сооружения; общие чертежи были сосредоточены только в командном штабе Управления военно-восстановительных работ и в нашей проектной группе. Можно было слышать вопросы:
— Зачем тридцатиметровые сваи разрезаем пополам? Почему, кроме постоянных опор, строятся еще временные на деревянных сваях?
А дело было в том, что металлических свай не хватало, под железнодорожную нагрузку их требовалось вдвое больше, и потому каждый 15-метровый отрезок удлиняли деревянным — толщиной в три-четыре бруса, сплоченных вместе. Деревянный конец сваи погружали в грунт дна, металлический заполняли внутри бетоном. Конечно же, конструкция моста была непростая, многое диктовалось и необычными условиями строительства. Приходилось на ходу и быстро решать фантастические задачи, на которые в мирное время потребовались бы месяцы, а то и год-два.
Руководил проектированием моста инженер Михаил Сергеевич Руденко. В затруднительных, сложных и технически спорных случаях помогал уполномоченный НКПС Николай Михайлович Колоколов, постоянно находившийся на строительстве. Я, как архитектор, участвуя в проектировании всех частей моста — от общей композиции до деталей опор, ограждений и въездов,— одновременно по поручению Управления военно-восстановительных работ выполнял натурные рисунки строительства.
Как-то утром стою на причале Опасного и смотрю, как уходят суда с рабочими, одно за другим: катера, мотоботы, понтоны, моторные лодки. Мне нужно нарисовать участок строительства с портальными копрами, и я должен правильно выбрать судно, чтобы попасть именно к барже, что виднеется в проливе вблизи линии строительства.
Начальником Управления военно-восстановительных работ был генерал Петр Михайлович Зернов. Он руководил всем многогранным комплексом небывалого строительства. Без внешних эмоций, спокойный и рассудительный человек. Я подошел к нему.
— Нужен рисунок с моря? — переспросил Петр Михайлович.— Меня можно отвезти на гидрометрическую дощатую площадку в середине пролива. С матрацем и сухим пайком на три дня...
В то время я уже работал и над эскизами памятника морякам-десантникам, обдумывал его композицию. У всех было естественное желание — немедленно, не ожидая конца войны, увековечить их подвиг. Мне предстояло «вжиться» в тему.
...За проливом виднеются легкие очертания освещенных солнцем холмов еникальского берега. Башмаки утопают в глубоком песке, я иду вдоль пустынных километров Чушки к ее началу, чтобы снова увидеть место, где происходила посадка воинов на десантные суда. Вот оно: мыс Кордон выступает в море невысоким желто-серым обрывистым берегом. Протяженный, ограниченный поверху почти горизонтальной линией, ровной полосой поднимается он над гребнем прибоя. На Кордоне почти нет растительности. Глина, камни, дует обычный здесь резкий ветер. Суровый берег, суровые волны под ним, и само название суровое: Кордон — передний край, рубеж. Отсюда, от береговой кромки Азовского моря, в темную ноябрьскую ночь уходили десантники Отдельной Приморской армии, 11-го и 16 корпусов, уходили в море к небольшим бухтам Еникальского полуострова у поселков Глейки и Жуковка.
Постепенно образ памятника принял реальные очертания: высокий тридцатишестиметровый шпиль, уступами суживающийся кверху, будет гармонировать (своим контрастом!) с обширным пространством пролива и моря, невысокими берегами. Тонкая вертикаль — форма корабельных мачт. Она издавна привычна морякам и жителям морских побережий. Вертикальный шпиль должен символизировать устремленность, непреклонность морского десанта. Внизу — двухъярусный постамент и просторная видовая площадка. В ее ограждении — морские якоря и цепи, тяжелые артснаряды, железнодорожные колеса. Эти детали означают соединение родов войск и транспорта в десантных операциях, район которых тянулся на десятки километров...
Мост и памятник закончили перед праздником 27 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Я уезжал в Москву через Краснодар и с понятным нетерпением ждал переправы через пролив. Не на катере или мотоботе, а на поезде — по железнодорожному мосту! Хотя тогда еще не знал, что это единственный исключительный случай, повторить его будет невозможно.
Состав формировали из трех вагонов, один стоял в Капканах. Уже за день до отъезда я переселился в вагон. Ночью с 15 на 16 ноября вагон стали катать. Я лег на верхнюю полку, чтобы лучше видеть. Но в заоконной темноте больше угадывал, чем мог рассмотреть, как проплывают знакомые, почти ставшие родными, развалины, стена Еникольской крепости, одинокий столбик из рельса, доска переезда. Потом два коротких свистка — и все это снова, в обратном порядке, и опять вперед. Вот довезли до завода Войкова, остановка. И дальше, кажется, к самой станции Керчь. Устал от ожидания, в полусне, по чувству, остановкам, толчкам, звяканью буферов, отрывистым паровозным свисткам стараюсь угадать, где мы.
Под утро наконец один длинный свисток. Толчки и остановки сменились ровным движением. Привычное мерное постукивание колес на стыках, постепенно ускоряющееся. Едем! Сон мгновенно слетел: ведь это поезд идет по первому мосту над морем. За окном тусклые фонари сигналов отмечают знакомые места.
Капканы, переезд, крепость. А сейчас поезд идет по склону горы, огибает болотистую низменность Порфмия. Земля ушла вниз: поезд на насыпи, от паровоза по откосу рассыпаются искры. На мгновение пламя паровозной топки осветило дорогу внизу — переехали путепровод. Значит, сейчас, сейчас мост... Сразу исчезло все: в окне черным-черно. Но внизу, чуть видимые в отсветах паровозной топки, лениво катятся в темноту морские волны. Под нами море. По мосту едем долго, поезд идет медленно. Возникает звук пневматических молотков, на минуту в окне свет, видны конструкции ферм. И опять тихо, темно, одни волны внизу.
Кончился мост. В предрассветной белесоватой мгле, пока поезд стоит на Чушке, всматриваюсь в крымский берег по ту сторону пролива, стремясь за шесть-семь километров над его рельефом разглядеть легкую вертикаль — силуэт памятника морскому десанту. Мне это почти удается.
Борис Надежин
Северный дневник
Недавно был найден дневник Константина Морозова, участника 1-й экспедиции на Северный полюс в 1937 году. Именно тогда на льдину и была высажена четверка папанинцев. Однако до сих пор о дневнике К. Морозова, пролежавшего в архиве полвека, никогда и никто не упоминал. Как выяснилось, Константин Морозов работал инженером эксплуатационно-ремонтного отдела (ЭРО) авиамоторного завода имени Фрунзе. На этом заводе в те годы приступили к серийному изготовлению первого советского и самого мощного в мире мотора АМ-34, созданного конструктором Александром Александровичем Микулиным. Эти моторы впоследствии устанавливали на многих самолетах и в первую очередь на четырехмоторных тяжелых туполевских бомбардировщиках ТБ-3. Для наблюдения за их эксплуатацией и ремонтом на заводе и был организован ЭРО. А инженер Морозов представлял ЭРО в экспедиции на Северный полюс. Весной 1937 года самолеты экспедиции, руководимой Отто Юльевичем Шмидтом, приземлились на куполе — так назывался аэродром на острове Рудольфа — в архипелаге Земли Франца-Иосифа. Здесь нелетная погода надолго приковала машины к земле, и только 21 апреля Водопьянов вылетел на полюс. В составе его экипажа — третьим бортмехаником — находился Константин Морозов. С этого дня он и начал вести дневник. Мы публикуем дневниковые записи К. Морозова, подготовленные к печати Л. Лазаревым.
21.V.37
В час ночи со стороны северо-запада на горизонте появилась светлая полоса. Я с Пашей Петениным стал готовить самолет к вылету. Часа в 4 прилетел на У-2 с зимовки Водопьянов. Теперь всего нас 13 человек: О. Ю. Шмидт, Водопьянов, Спирин, Бабушкин, Бассейн, Морозов, Петенин, Иванов, Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров, Трояновский. Мы запустили моторы и еще раз их прогрели. Потом долили горючего и опять запустили. Двумя тракторами стронули машину с места и стали выруливать на старт. Был небольшой ветер, ясно, мороз 10 градусов. Водопьянов дал полный газ. Машина стала медленно набирать скорость — ведь полетный вес 24,5 тонны. Но под горку мы в 5 ч. 10 мин. оторвались от земли. Сделали несколько кругов над аэродромом, набрали высоту 1500 м и в 5 ч. 35 мин. легли курсом на Северный полюс.
Моторы работали четко. Пролетели около часа и впереди увидели сплошную облачность. Водопьянов набрал высоту 1800 м. Все чувствовали себя превосходно. Наконец-то вырвались.
Я три раза ходил в плоскости слушать моторы. (Самолет ТБ-3 имел очень толстое у корня крыло, и подобраться к моторам можно было передвигаясь внутри крыла.— Л. Л.) Все было в порядке. Но спустя два часа я обнаружил, что идет дымок сзади второго мотора. Отверткой проковырял плоскость над радиатором и увидел, что из-под фланца трубы радиатора хлещет антифриз. Я позвал Петенина, и мы с ним вырубили окно в плоскости, чтобы можно было подобраться к фланцу , и стали заматывать его лентами из тряпок, предварительно пропитав их герметиком. Намотали много, но течь не устранили. Тогда я взял миску, кружку, воронку и мягких тряпок. Ими мы обкладывали фланец. Как только тряпки впитают антифриз, я выжимаю их в миску и опять кладу на радиатор. А из миски выливаю в кружку и уже кружкой через воронку заливаю в аварийный бачок, потом из него альвеером качаю в мотор. Таким образом, по очереди с Петениным мы и переливали антифриз...
Посмотришь вниз — только торосы, сплошные торосистые ледяные поля, иногда заметны разводья. Наконец пролетаем полюс. Водопьянов стал снижаться, пробивая облачность. Выйдя из нее, начал искать подходящую площадку для посадки. Среди торосов такая нашлась. Сбросили дымовую шашку для определения направления ветра и, сделав круг, пошли на посадку. Самолет Водопьянов посадил хорошо, несмотря на значительные снеговые наносы. Температура минус 20. Когда машина остановилась, все вышли из самолета и распили бутылку коньяка за благополучный перелет на полюс и за товарища Сталина. Громкое «ура!» прокатилось над полюсом. Но сообщить об этом не могли — перед самой посадкой у Иванова испортился радиопередатчик. Сгрузили папанинское добро.
Папанинцы установили палатки, радиоантенны, но и у них радио плохо работает. Пока Кренкель настраивал, прошло 10 с половиной часов. В это время Рудольф и остальные станции безрезультатно пытались поймать нашу волну. И вот на Рудольфе Страшилов поймал Кренкеля, и началась нормальная связь.
Полет продолжался 6 ч. 45 мин. Мы так переутомились, что даже не стали устанавливать свою палатку, а в 17 часов легли спать прямо в самолете.
22.V.37
Поставили палатку и загородили от ветра снежными «кирпичами». Закрепили на льду тросами плоскости. Больше ничего не делали, так как началась сильная пурга.
23.V.37
Запаяли радиатор, исправили подогрев на двух моторах, осмотрели остальные. Слушали по радио передачу с Диксона о нашем перелете. Я получил радиограмму через Рудольфа. Температура минус 10, ветер 3 балла, иногда просвечивает солнце, временами небольшой снегопад. Рубили лунку во льду. Лед оказался толщиной в 3 метра. (Морозов все время упоминает погоду из-за того, что экспедиция ждет остальные самолеты. А лунка была необходима прежде всего для определения толщины льдины — насколько она надежна для посадки самолетов и для дрейфа на ней папанинцев.— Л. Л.)
24.V.37
Делали дом из снега — радиорубку для Кренкеля. Небольшой ветер, 2—3 балла. Температура минус 14. Осмотрели остальные два мотора. Лопнула коробка подогрева воздуха в карбюраторе у 4-го мотора. Потек антифриз из-под дюрита на трубе, ведущей к радиатору. Это уже на четвертой трубе. Слабнут хомуты КФ завода 22. Закончив работу, мы легли отдохнуть в палатке. Слышим, подошел Ширшов и крикнул, что нас зовет О. Ю. Выйдя, увидели, что у палатки О. Ю. собрался весь народ. Он собрал всех, чтобы огласить только что полученную приветственную телеграмму от Политбюро. Это была для всех большая радость.
25.V.37
Стоит ясная безоблачная погода. Температура минус 16. С Рудольфа сообщили, что три самолета собираются лететь к нам. Мы добавили в радиатор воды, приготовленной из снега, и повесили трубы для прогрева мотора. Потом пошли срубать ропаки, мешающие посадке, и выложили Т, вернее, окрасили снег краской. Самолеты вылетели в 23 ч. 05 мин.
26.V.37
Погода стоит такая, как вчера. Самолеты летят, но все растерялись. Мы подкопали лыжи, поставили под одну домкрат и машину сдвинули с места. (ТБ-3, как и большинство самолетов того времени, имел неубирающиеся шасси. Зимой колеса заменяли на лыжи, но они нередко примерзали, и стронуть самолет с места даже с работающими моторами было невозможно. Поэтому лыжи предварительно отрывали от снега домкратом.— Л. Л.). В 4 часа самолеты должны подходить к нам. Получаем радиограмму с Н-171: «Прошел над полюсом, иду к вам». И через 10 минут мы увидели над горизонтом маленькую точку, которая с каждой минутой росла, и скоро над нами прошел Н-171. Через несколько минут самолет плавно приземлился. Мы пошли к машине. Были очень рады, жали друг другу руки, целовались. Потом началась разгрузка. Ивашина и Фрутецкий (бортмеханики H-171 — Л. Л.) проверили моторы. По их словам, они работают «как часы».
Бензина у них осталось больше, чем у нас, на 100 литров, всего 5100 л. Хотя они были в воздухе 7 часов — на 15 минут больше, чем мы, но зато у них встречный ветер был слабее. По радио получили телеграмму от Алексеева. Он, не найдя нас, сел в 20 милях от нас. Мазурук неизвестно где находится.
Стали работать на аварийном агрегате по очереди. Все ловят Мазурука и переговоры с Алексеевым и с Диксоном. Мне, Петенину и Иванову досталось дежурство. Я гоняю моторчик, Иванов работает по радио. Папанин установил ветряную электростанцию. (Аварийный агрегат — это маленький моторчик, приводящий электрогенератор для питания рации — то есть автономное питание, не зависящее от бортовой электросети.— Л. Л.)
27.V.37
В 13 часов Алексеев сообщил: «Все готово, дайте пеленг, я взлетаю». Я с Орловым положил на нарты 7 спальных мешков и пошел выкладывать Т. Долго ждали, но Алексеева нет. И по радио связь прервана, так как он собрал аварийную антенну, но задержался с вылетом: машина его никак не могла оторваться — груз приличный, а льдина небольшая. И только в 16 ч. 35 мин. мы увидели на горизонте самолет. Погода стояла ясная, мороз минус 15. Через несколько минут машина приземлилась. Была теплая дружеская встреча. Сугробов на мой вопрос: «Как работали моторы и не было ли дефектов?» — ответил: «Моторы работали как звери. Дефектов нет». Началась разгрузка самолета Н-172, а мы пошли спать.
28.V.37
Небо покрыто низкой сплошной облачностью. Температура минус 10 градусов. С Челюскина получена радиограмма от Мазурука. Он находится от нас в 35 милях. Льдина небольшая, все в порядке, готовят аэродром — на этом связь прекратилась. Наши радиостанции (аварийки) никак не могут с ним связаться, хотя работают без перерыва. Я послал вторую телеграмму домой.
29.V.37
Тепло, минус 5. Небольшой ветер, снегопад. С 5 утра нашему самолету дежурить по радио. Я смел снег с плоскостей. Пришел на самолет Бронтман и передал мне телеграмму от жены и сына. «Северный полюс, Морозову. Сердечно поздравляем с Валей тебя и всю экспедицию с таким мировым успехом, как завоевание полюса. Целуем, Аня, Валя».
Пошел помочь Папанину разместить его груз. Опять получил телеграмму — от брата...
Погода улучшается, а от Мазурука никаких вестей. О. Ю. дал распоряжение т. Молокову лететь на поиски Мазурука, и если найдет, то совершить посадку и оказать помощь, после чего вместе перелететь к нам на зимовку. Я пошел с Бассейном помочь греть моторы Ивашины. Моторы через час были прогреты, экипаж занял свои места, и машина скоро пошла на взлет.
Наша радиостанция работала без перерыва — давала пеленг самолету Н-172. Через 1 ч. 20 мин. Молоков вернулся — он лишь в воздухе связался по радио с Мазуруком, но связь была плохая, обрывистая. Видимо, у Мазурука плохо работает рация.
30.V.37
Погода стоит отличная. Штиль, безоблачное небо. Ослепительно светит солнце. Мороз минус 10 градусов, но на солнце тепло. Иванов связался с Мазуруком, и начались переговоры. Оказывается, у них аэродром 700X50 метров, и они боятся взлетать. Все устали, расчищая площадку. О. Ю. решил послать к ним самолет Н-171 и 11 человек, чтобы помочь расчистить аэродром и взять у них часть груза, а затем вместе прилететь на зимовку. Стали греть моторы, но погода испортилась, и полет отменили. Я сегодня дежурил по кухне. Готовил в самолете. Мне помогал Спирин. Перед обедом слушали концерт из Москвы, посвященный нашему перелету. Обедали в самолете. Обед из трех блюд получился неплохой, О. Ю. даже похвалил.
Посадка самолета Мазурука на маленькую льдину вызвала большие трудности. О том, чтобы бросить самолет, и речи не могло быть. Но взлетать тяжело груженному самолету с маленького аэродрома опасно. Отто Юльевич Шмидт шел на риск как руководитель экспедиции, посылая на помощь Мазуруку самолет — удастся ли второму самолету взлететь?
31.V.37
Вот уже десятые сутки сидим на льдине Северного полюса, однообразие начинает надоедать. Все время думаем о Мазуруке. Он, как узнал, что Молоков хочет за ним лететь, сейчас же со своим экипажем усилил расчистку аэродрома. Погода сегодня неважная: облачность, небольшой ветер, видимость пять километров. На горизонте видна светлая полоса, которая медленно продвигается к нам. Я встал на лыжи и пошел прогуляться за торосы. Ослепительный снег, перед глазами все сливается. Без синих очков ничего не видно.
Вернувшись на корабль, узнал, что Мазурук аэродром расчистил и может взлететь, если будет хорошая погода. Запрашивал Спирина, как лучше найти нас. Спирин ему объяснил. Но у них погода неважная, и они не полетели. Вечером из нашего самолета разговаривали с Москвой — связь получилась хорошая.
Часов в 20 я еще раз прогулялся на лыжах за торосами. Вид нагроможденных льдов загадочно красив. Очень удивился, когда надо мной пролетела северная птичка пунка.
1.VI.37
Погода стоит отвратительная: ветер, небольшой снег, температура минус 3 градуса, низкая облачность. Говорили по радио с Мазуруком. Он ждет исключительно погоды. (Скучно.) Все люди сидят в своих палатках. (Читать нечего.)
2.VI.37
Небольшой ветер, низкая облачность, временами идет мокрый снег, температура минус 2 градуса. Сегодня опять готовил обед (скуки ради). От метеоролога Дирулевского, с Рудольфа, получили по радио сообщение, что из Америки через полюс должен пройти гребень атмосферного фронта и будет хорошая погода. О. Ю. во время обеда в самолете решил к прилету Мазурука приготовить моторы и всем лететь на Рудольф. Н-172 и Н-169 сядут на 84—85-й широте из-за недостатка горючего. А им доставит горючее с Рудольфа или наша машина, или Н-171.
Послал еще одну телеграмму т. Марьямову (директор завода имени Фрунзе.— Л. Л.) о работе моторов.
Первая телеграмма не дошла. К вечеру пошел мокрый снег. С плоскостей повисли сосульки, таяли и падали. К вечеру в 23 часа получили от Мазурука телеграмму. Он просит, чтобы с хорошей погодой за ним послали самолет, так как они боятся самостоятельно вылетать. Мы расстроились. Для этого нужно израсходовать 1000 литров горючего, а оно для нас очень дорого.
3.VI.37
Погода все стоит плохая, температура минус 3 градуса. На Рудольфе — такая же. Все время шторм, и купол закрыт. Это нас немного успокаивает — на Рудольф лететь нельзя, даже если бы мы были готовы к вылету. 12 суток просидели уже на льдине Северного полюса. Привыкли, а все же домой тянет. Так надоела эта длинная бесконечная зима. Очень хочется поскорее вернуться в теплые края и хорошо отдохнуть. Каждый день думаешь о доме, о родных и знакомых. Еще страшно надоел круглосуточный день. Когда ложишься спать, всегда чем-нибудь закрываешь глаза. Кругом одно и то же — торосы, и больше ничего. Все мертво. В нашем поселке все сидят в палатках или в самолетах и чем-нибудь занимаются. Ждем к вечеру улучшения погоды, но пока не предвидится. Получили по радио сообщение ТАСС о награждении Большого театра орденом Ленина и ряд заметок из заграничной жизни.
Я получил телеграмму от жены, она пишет: «Живы, здоровы. Как ты?» (почему-то без подписи). Я тут же послал ответ: «Чувствую хорошо, здоров. Привет всем. Крепко целую тебя, Валю. Костя».
Погода не улучшается. В 24 часа О. Ю. говорил с Мазуруком. Он просит, чтобы за ним послали самолет, боится, что не взлетит с грузом. О. Ю. обещал при первом же улучшении погоды.
4.VI.37
Погоды опять нет, всю ночь шел снег. Нашу палатку окончательно засыпало. Пришлось откапывать... Народ стал скучать. От скуки и чтобы размяться ходили за торосы на лыжах. Мертвая тишина, только ветер гуляет. Куски льда цвета лазури, красивые и разнообразной формы. Да, этот Северный полюс мне останется памятен на всю жизнь. Нас дрейфует к Гренландии. Мы уже находимся почти в ста милях от полюса. В 23 часа погода улучшилась, и О. Ю. по радио сообщил Мазуруку, чтобы он попытался вылететь, а если не удастся, то он сейчас же пошлет к нему Молокова.
5.VI.37
Что-то не спится. Встал в 2 часа, вижу, что и остальные тоже ждут Мазурука. Я пошел помочь греть моторы Ивашине. Погода хорошая, высокая облачность, температура минус 1 градус. На горизонте чистое небо. Мазурук сообщил в 6 часов, что он готов к взлету, и через полчаса от него получили сообщение — он в воздухе. С наших самолетов стали ему давать пеленг и разговаривать на луче. Мы все поднялись на самолеты с биноклями и смотрим в ту сторону, откуда должен появиться Мазурук. В это время Трояновский закричал: «Вижу самолет!»
Теперь и мы видели над горизонтом маленькую точку, которая каждую минуту росла. И вот над нами пролетел самолет и, сделав круг, приземлился. Трудно описать, сколько было радости,— все транспорты собрались в лагере. Во время чая О. Ю. сказал, что он составит рапорт правительству и даст благодарность всем заводам, которые построили такие хорошие мощные самолеты. Дали телеграмму на Рудольф о том, что Мазурук прилетел, и сделали запрос о погоде.
Лагерь Папанина готов, все ему доставлено. Теперь нам можно возвращаться на Рудольф. Дирулевский ответил, что Рудольф принять нас не может, так как облачность 200—300 метров. Купол закрыт, но есть надежда на улучшение. Решили послать Крузе на Р-5 на 85-ю параллель для того, чтобы он сообщал о погоде. Ширшов начал свои наблюдения над морем и определил, что здесь проходит теплое течение... Часов в 9 утра легли спать, а в 19 часов встали. Р-5 в воздухе. У нас поднялся ветер, небольшая поземка. К 22 часам ветер усилился до 3— 4 баллов. О. Ю. говорит, что при первой возможности вылетим. Получил телеграмму от жены, она меня очень обрадовала: «Привет, здоровы, Валя едет 16 в Крым, Артек. Очень довольна. Как ты, отвечай, целую крепко. Аня».
О. Ю. распорядился отлить 300 литров бензина Папанину. У нас остается 4500 литров, у Молокова 4000, у Алексеева и Мазурука по 3300 литров. Они сядут на 85-й широте, и им придется доставлять бензин с Рудольфа.
6.VI.37
Часам к трем погода стала улучшаться, и с Рудольфа нам сообщили, что и у них тоже лишь слабый туман на куполе.
Крузе с 85-й параллели сообщает, что облачность 600—800 метров с разрывами. Решено всем вылетать. На самолетах стали греть лампами моторы. Ветер до трех баллов здорово мешал. В это время О. Ю. открыл митинг в честь выполнения правительственного задания. Были подняты флаги с портретами т. Сталина. Дали троекратный салют из карабинов и спели «Интернационал». После митинга стали укладывать все свои вещи и запускать моторы. Петенина отправили на Н-169, так как ему придется садиться для помощи. Мы с Бассейном со всей работой справились быстро. Моторы крутились. Я домкратом стронул машину, и когда Водопьянов дал газ, я в это время ударил два раза по лыже, машина сдвинулась и тихо пошла. Я на ходу вскочил в самолет, после чего Водопьянов дал полный газ, и самолет быстро поднялся в воздух! Сделали несколько кругов над лагерем, пока не взлетели остальные 3 самолета, и тогда легли курсом на Рудольф. Шли над сплошной облачностью. Изредка видны через разрывы облаков битый лед и разводья. Температура в воздухе минус 5 градусов. Ярко светит солнце. Моторы работают отлично. Высотные корректоры подняты до предела для экономии горючего. Через каждые 10— 20 минут осматриваю все моторы. Дефектов нет.
Облачность кончилась. Внизу битый лед и разводья. Иногда видим большие льдины. Опять сплошная облачность. Скорость самолета 200—215. Попутный боковой ветер.
Я следил за остальными самолетами на 85-й широте и ждал, когда два из них пойдут на посадку. Вижу, как Алексеев начал снижаться, за ним Мазурук. Алексеев скрылся за облаками, как утонул, а Мазурук пошел за ним, но опять набрал высоту. Оказывается, он решил дойти до Рудольфа. По его расчетам, бензина должно хватить... Вот на горизонте показался Рудольф. Все были очень рады. Через 15 минут мы плавно приземлились, несмотря на небольшой туман. Была теплая встреча с зимовщиками, экипажем Головина и оставшимися членами экспедиции. Сходили в баню, покушали и легли спать. Алексеев сообщил свои координаты. Решили послать за ним с горючим Р-6 Головина...
На этом обрывается дневник Константина Морозова. После возвращения он был награжден орденом Красной Звезды и легковым автомобилем. И продолжал работать на родном заводе инженером ЭРО — снова обслуживал самолеты, на которых стояли моторы завода имени Фрунзе.
Константин Морозов
Полигон для дикобразов
«Уазик» почти уперся в отвесную скалу. Справа от нее вилась узкая гравийная дорога. Выйдя из машины, я вскоре очутился на небольшой площадке, откуда открывалось огромное ущелье. Среди камней, яблонь, в непролазных кустах шиповника бился звонкий ручей, а неподалеку, на взгорке, стояли три аккуратных домика. Урочище Ушканур! Здесь, в 30 километрах от Алма-Аты, впервые в отечественной науке создан биосейсмологический полигон для наблюдения за животными — предвестниками землетрясений. Идея его создания принадлежит доктору биологических наук Павлу Иустиновичу Мариковскому. Сейчас он на пенсии, но по-прежнему продолжает заниматься этой проблемой. В досье Павла Иустиновича собрано более 300 фактов, когда именно поведение животных предвещало землетрясения. Мариковский и посоветовал мне съездить на биосейсмологический полигон и познакомиться с его начальником Виктором Борисовичем Поле.
Узнав о цели моего приезда, Виктор Борисович полушутя заметил:
— А раньше рассказы о животных-биопредвестниках считались сказками... Помните сильное землетрясение в Ташкенте в 1966 году? — спросил Виктор Борисович.— Так вот за пять часов до катастрофы в районе Чиланзар, что находился в нескольких километрах от эпицентра, необычно громко стали орать кошки. И тревога их передалась людям. А за десять минут до толчка, о чем рассказал очевидец, кошка перетащила котят из кухни в комнату и спрятала их на кровати под одеялом. Кровать была с металлической сеткой, которая, очевидно, экранировала какие-то излучения, идущие из земли...
Едва мы поднялись на крыльцо домика, как навстречу нам вышла невысокая женщина.
— Знакомьтесь,— сказал Виктор Борисович,— это заведующая лабораторией сейсмобиомеханики Института сейсмологии АН Казахстана Белла Зияевна Серазетдинова.
Пройдя через кухню, мы оказались в небольшой комнате, посреди которой стояла настоящая русская печка с дымоходом, у стен — две железные кровати, возле окна на столе шуршал осциллограф — шла запись сигналов, идущих, как оказалось, из нор дикобразов. Кроме того, эти данные фиксировались в журнале, над которым склонился сотрудник. Олег Александров — метеоролог, он следит за микроклиматом в ущелье. Кроме него на полигоне находится сейчас Валерий Чувашов, биолог и охотовед, остальные — в Алма-Ате.
Я попросил В. Б. Поле показать свое необычное хозяйство и пояснить, какие исследования проводят ученые.
Мы обогнули дом и через десяток метров остановились у большой вольеры, огороженной металлической сеткой, в центре которой росли два огромных, буйно цветущих куста барбариса с объеденной внизу корой.
Здесь жили дикобразы. Для них смастерили искусственную нору из досок. Самка дикобраза выходит из норы только ночью, а самец — тот посмелее. И вдруг, словно решив нарушить заведенный порядок, ощетинившись, с урчанием дикобразы выскочили из своих нор и заметались вокруг барбариса.
— Теперь они не скоро зайдут,— услышал я спокойный голос Виктора Борисовича.— Очевидно, начались взрывные работы. В горах новую дорогу прокладывают до Фрунзе... Ага, вон смотрите, так и есть.
Я проследил за его взглядом. Узкая полоска шоссе уходила серпантином в поднебесье, растворяясь в густой дымке. И там я с трудом разглядел расплывающееся серое облачко.
Ученые считают, что реакция животных на воздействия окружающей среды носит явно защитный характер и выработана, отточена и проверена длительной эволюцией, когда на земле выживали в бесчисленных катаклизмах лишь те, кто был способен заранее почувствовать приближение стихийного бедствия.
Крутая тропинка уводит нас вверх, на вертолетную площадку. Впереди идет Виктор Борисович с полевым биноклем и фоторужьем, с которыми он не расстается. Шагает легко, не сбивая дыхания. Мы с Беллой Зияевной едва поспеваем за ним. Он ведет нас туда, где живут колонией сурки, которых считают «интеллектуальной элитой» среди грызунов. Их реакция на действие подземной стихии уже не вызывает сомнения. Когда весной 1978 года в десяти километрах от районного центра Джалагаш, что в Казахстане, земля дрогнула от подземных толчков, еще за сутки до этого пастухи обратили внимание на то, что сурки выбрались из своих нор и покинули эпицентр землетрясения...
Мы миновали ложбину, и я сразу обратил внимание, что кругом земля сплошь изрыта. Сурчиные норы. Молодые зверьки появляются только днем и, как правило, далеко не уходят от дома. Ну а взрослые вылезают и в сумерках. Животные весело резвились, гоняясь друг за другом, но под присмотром родителей. Нас они все-таки заметили или скорее почувствовали, потому как беспокойно начали поглядывать в нашу сторону...
— Сейчас мы уже точно определяем, какие физические явления воздействуют на животных,— говорила мне Белла Зияевна.— Это и колебания уровня подземных вод, и выделения гелия, углекислого газа, углерода из земли...
Для исследований здесь набирают животных, которые не боятся людей и — это очень важно — чтобы они были «аборигенами». Цель исследований — описать поведение различных зверьков. И чем больше их будет на полигоне, тем разносторонней будет полученная информация. Поэтому в дальнейшем ученые думают завести сюда красного сурка, ( барсука, суслика, рыжую лисицу, корсака... А из пернатых — сизоворонку, золотистого щурка и зеленую береговую ласточку.
С апреля прошлого года ученые вели только визуальные наблюдения, теперь вот — с помощью чувствительной аппаратуры. В норах и жилых камерах установлены специальные сейсмодатчики, которые регистрируют суточную активность подопытных животных.
Известно, что «живые приборы» улавливают идущие из очага будущего землетрясения инфра- и ультразвуковые излучения, меняющийся диапазон электромагнитных полей и многие другие физические сигналы, которые и заставляют животных волноваться. Сначала это выражается в едва ощутимой тревоге, настороженности, зверьки начинают принюхиваться, прислушиваться к чему-то, но до поры выглядят вполне спокойными. Вот эти-то незаметные глазу «симптомы» более всего и интересуют ученых. Зафиксировать их можно лишь специальными приборами, способными вести многоканальную запись. То есть регистрировать все параметры поведения подопытных зверьков. Полученные данные будут обрабатывать ЭВМ, что позволит ответить более или менее точно на вопрос, когда начнется в данном районе землетрясение. Животные — это установлено — реагируют на близкую катастрофу за несколько часов и даже за месяц до нее в радиусе до 90 километров от эпицентра...
Но вот как именно животные предчувствуют землетрясение, пока точно никто сказать не может. Задача сейчас состоит в том, чтобы выявить среди диких животных наиболее тонких индикаторов подземных бурь. Тогда можно будет доказать сейсмологам, как важно создавать подобные полигоны и в других районах страны.
— Наш научный биосейсмологический полигон еще только начинает действовать,— прощаясь со мной, сказал В. Б. Поле.— Работы такие важны еще и потому, что некоторые виды животных предчувствуют приближение тайфунов, смерчей и извержения вулканов... Человек еще не научился укрощать разрушительные силы природы, поэтому суметь предупредить бедствие — значит, наполовину выиграть сражение со стихией.
Владимир Устинюк, наш спец. корр.
Алма-Ата — Москва
Четвертая профессия Калгари
Кинопроектор в самолете усердно «выдавал» на экран немое изображение — звук шел через наушники — какой-то комедии, а мой сосед Боб Уайт расспрашивал о Советском Союзе и отвечал на мои вопросы.
Геохимик по специальности, Уайт служит в одной из четырехсот нефтяных компаний Калгари. Дела в отрасли идут из рук вон плохо — цены на энергоносители на мировом рынке снизились, объем добычи упал, фирмы сокращают персонал. В городе, по официальным данным, десять процентов трудоспособного населения без работы. По мнению Боба — все двадцать. Ему, правда, пока везло.
Сам Калгари ворвался в наш разговор внезапно — самолет резко наклонился на вираже, и в иллюминаторе показалась горящая пурпурными отражениями заходящего солнца горстка сталагмитов-небоскребов посреди ровной, как подстриженный газон, прерии, упиравшейся в частокол снежных вершин на горизонте.
— Вот я и дома,— улыбнулся Боб.
Сто десять лет назад на этом месте стоял форт Королевской конной полиции, охранявшей склады компании Гудзонова залива. Его скоро окружили домики первых горожан. Комендант форта полковник Мак-Леод и дал городку название Калгари, что в переводе с его родного гэльского языка означает «чистая проточная вода». Речки Боу и Эльбоу, на месте слияния которых возникло поселение, берут свое начало в ледниках Скалистых гор. Вода в них была действительно кристально чистая.
Вскоре город пронзила нитка железной дороги, соединившей Атлантическое и Тихоокеанское побережья Канады. Построили бойни, и Калгари стал одним из центров скотоводства так называемого Степного района. Второе дыхание городу дала нефть, найденная в его окрестностях в 1947 году. Тогда и встал посреди степи «Манхэттен в прерии», так называют канадцы деловую — стекло, бетон, металл — часть города.
Самолет приземлился, и я стал прощаться с Бобом Уайтом. Он задержал на мгновение мою руку и сказал:
— Мы, канадцы, по природе — оптимисты. А нефтяники, в силу специфики профессии,— вдвойне. Я верю, что у Калгари все еще впереди.
В городе ничто, казалось, не напоминало о кризисном состоянии его главной промышленности. Небоскребы в сити сияли сотнями и тысячами огней, несмотря на поздний час: делается это для того, чтобы центр города не выглядел вымершим с окончанием рабочего дня. К тому же энергия в Альберте вполне доступна: бензин, например, дешевле процентов на двадцать, чем в Торонто или Монреале. Может быть, потому в Калгари и встречаешь чаще огромные американские «понтиаки» и «крайслеры», нежели юркие и экономичные малолитражки из Европы, Японии, а в последнее время и из Южной Кореи. Были здесь пять-шесть лет назад популярны наши «Лады» — из-за своей дешевизны. Но выгода съедалась большим расходом топлива, да и не менявшаяся годами модель, видно, приелась покупателям.
Когда машина притормозила у очередного светофора, я глазам не поверил: у подножия уходящего ввысь правления банка стояли... тележки рикш. Молодые крепкие парни в гавайских цветастых рубашках и шортах переговаривались между собой, присев на креслица двухколесных тележек с длинными ручками-оглоблями.
— Студенты,— пояснил водитель, перехватив мой недоуменный взгляд.— Сейчас разгар туристического сезона, через неделю родео «Стампид». Приезжие охотно клюют на экзотику. Вот студенты и подрабатывают в каникулы.
Под приезжими шофер имел в виду прежде всего американцев. До границы со Штатами отсюда полтораста миль, и потому из сорока миллионов туристов, ежегодно посещающих Канаду, тридцать восемь миллионов — граждане США.
Ежегодный десятидневный фестиваль животноводов — родео «Стампид» собирает в Калгари ковбоев со всего Степного района: похвастаться лошадьми и бычками, заключить сделки, помериться ловкостью и силой в клеймении телят и укрощении норовистых лошадей. В эти дни в парке «Стампид» разыгрываются сценки из жизни североамериканских пионеров: подтянутые обветренные мужчины в голубых рубашках, в отстиранных до белизны джинсах, в расшитых сапогах на высоких каблуках и обязательно в так называемой «десятигаллоновой» (по вместимости) шляпе степенно прогуливаются под ручку с женами и дочерьми, которые, в свою очередь, щеголяют в длинных, наглухо застегнутых ситцевых платьях со множеством торчащих из-под подола накрахмаленных нижних юбок.
Из близлежащих резерваций прибывают и индейцы. Обычно нелюдимые и ревностно следящие за тем, чтобы на их территорию не проникали докучливые туристы, в дни «Стампида» они облачаются в праздничные наряды и въезжают в Калгари на затейливо убранных лошадях. В городе они охотно фотографируются с детьми и продают поделки, приготовленные к празднику. Правда, рассказывают, интерес ребятишек к «краснокожим» в последнее время упал. Повязки с перьями и складные вигвамы, как у настоящих индейцев, родители приобретают скорее не наследникам, а из ностальгии по собственным детским забавам.
Кульминация «Стампида» — гонка на тяжелых фурах, запряженных четверками лошадей,— точных копиях тех, на которых столетие назад появились в здешних местах пионеры. Состязание это тяжелое, но игра стоит свеч — помимо славы, герой «Стампида» получает премию в сто пятьдесят тысяч долларов. Ну а главный выигрыш получают владельцы развитой и прекрасно функционирующей индустрии туризма, третьего — после скотоводства и нефтедобычи — столпа экономики края. В дни фестиваля они успевают обслужить свыше миллиона приезжих: обеспечить ночлегом, накормить, развлечь.
Знакомство с городом я начал с «Херитейдж парк» — Парка наследия — этнографического музея под открытым небом. Сюда, на берег озера Гленмор, свезли сотню построек из Калгари и его окрестностей.
Одно из первых строений за воротами главного входа, напоминающего форт,— причудливый особняк, стиль которого затруднился бы, наверное, определить самый дотошный архитектор,— дом видного горожанина начала века, банкира Дэвида Принса.
В него можно зайти — все предметы обстановки и утвари сохранены, а служители музея в костюмах соответствующей эпохи с удовольствием расскажут о привычках и распорядке дня бывшего владельца, продемонстрируют, как действовали керосиновая лампа или стиральная машина с ручным приводом. Особенно запомнился, однако, девиз банкира, высеченный на табличке у входной двери: «Не делай ничего бесплатно и всегда откладывай половину на будущее». Надпись пользуется популярностью — молодежь, правда, ухмыляется, а вот люди постарше перечитывают и одобряют.
Рядом — улица ковбойского городка. Лавки шорника, оружейника соседствуют с кузницей, аптекой, офисом шерифа — все действующее. В кондитерской можно купить карамель, приготовленную по старым рецептам, а в «салуне» — пообедать. Кузнец профессионально расскажет о тонкостях ковки лошадей, аптекарь — о лекарствах того времени. Сразу же за городом — хозяйственная зона: деревянный элеватор, каретный сарай, пожарная часть...
На ранчо фыркают привязанные к отполированной временем коновязи лошади, хрюкают разгуливающие по двору свиньи, отмахивается от оводов теленок. Здесь всегда много народа.
Сельскохозяйственный труд в Канаде — в почете. Эмигранты из Европы распахали в начале века обширные территории Степного района и сделали его одной из главных житниц мира. До 60 процентов мирового экспорта пшеницы шло в 30-е годы из этих земель. Занимались земледелием здесь главным образом немцы и украинцы.
И здесь я услышал такую вот фразу: «Наталка, Наталка, пидэм до шопу (От англ. «shop» — магазин.)»,— уговаривал свою грузную чернобровую спутницу сухонький вертлявый старичок. А когда летел домой чартерным рейсом Аэрофлота, закупленным для туристической группы канадских украинцев, соседом оказался крепкий 80-летний старик. Судьба забросила его семью в здешние края из-под Ужгорода в голодные двадцатые годы. Дед, словоохотливый от природы, был еще и возбужден предстоящим перелетом. В пять минут он выложил, что летит в Советский Союз восьмой раз, описал маршруты своих путешествий. И тут же рассказал историю, происшедшую лет пятнадцать назад. В Киеве, куда он отправился тогда вместе с женой, фермер увидел, как подростки играют на улице в футбол черствой булкой. Хлебороб был оскорблен: схватил ближайшего мальчугана и отодрал его за уши.
Я слушал и чувствовал, что лицо мне заливает краска стыда за то, что гражданин Канады давал советскому школьнику урок уважения к чужому труду, к хлебу.
Сегодня лишь пять процентов населения Канады заняты в сельском хозяйстве. Однако тяга к земле у людей сохранилась. В окрестностях Калгари немало ферм, где охотно пускают на лето приезжих. Заплатив деньги за отдых, те встают вместе с хозяевами ни свет ни заря, ухаживают за животными, помогают заготавливать корма, клеймить телят, объезжать лошадей.
К западу от Калгари вытянулся вдоль Скалистых гор провинциальный (управляемый в отличие от национального администрацией провинции, а не федеральным правительством) парк Кананаска. Его территория «прошита» двумястами километрами конных троп. В отведенных для ночлега местах к услугам путешественников запасы дров, чтобы они могли, подобно настоящим ковбоям, сварить на костре кофе и, завернувшись в одеяло, насладиться ночевкой под открытым небом. В одной только Альберте таких провинциальных парков сорок четыре.
Туризм здесь в основном со спортивным уклоном. По реке Боу сплавляются на каноэ; на озере Лесер Слейв ловят рыбу и катаются на яхтах, парусных досках и водных лыжах; на горе Накиска — раздолье для горнолыжников. Летом на Трансканадской магистрали, прочертившей страну с востока на запад, каждый третий автомобиль, наверное, везет за собой на прицепе дачу. У кого — крохотная будочка с парой лежаков и столиком; есть и огромные, длиной метров по десять, караван-сараи на колесах, оборудованные душем, туалетом, кухней, обставленные мягкой мебелью. Развитая сеть асфальтированных дорог позволяет забраться с прицепом в дальние уголки этих малонаселенных мест.
...Молочные зубчики на горизонте вырастают, превращаясь в мощные резцы Скалистых гор, приближающихся к нам со скоростью 140 километров в час. Едем в Банфф, горный курорт. Внезапно водитель сбрасывает скорость — на обочине четыре или пять машин — необычное скопление для этих мест. Останавливаемся и мы — может быть, нужна помощь? На опушке, не обращая внимания на публику с фотоаппаратами, стоит красавец лось и обдирает кору. Наелся, обвел взглядом автомобилистов и затрусил прочь на ногах-ходулях.
Такие встречи со зверьем — не редкость здесь: в туристических зонах на диких животных не охотятся, вот они и непуганы с рождения. К тому же в семьях ведется экологическое — точнее не назовешь — воспитание подрастающего поколения. Его девиз достаточно прост: «Оставь после себя природу такой же, какой она была до твоего прихода».
Недалеко от Банффа расположен один из самых популярных и, соответственно, самых дорогих горнолыжных курортов в Канаде — Сан-Велли. Первый снег ложится на его трассы уже в ноябре. Одна беда — в это время там часто дуют сильные ветры, срывая белый покров. Более поздний снег порой не удерживается на промерзших склонах. Есть выход — примять, утоптать первый пух. Для мощной снегоукаточной техники, в изобилии имеющейся на курорте, пустяковое дело. Но воспользоваться ею — значит, повредить гусеницами хрупкий травяной покров уникальных альпийских лугов. Это запрещено законом, да и противоречит экологическому воспитанию канадцев. Вот почему с появлением первого снега в Сан-Велли приезжают сотни, тысячи добровольцев из Калгари и, надев лыжи, утаптывают многие километры трасс.
Несколько лет назад к трем «специальностям» Калгари: нефтедобыче, скотоводству и туризму, добавилась четвертая: в 1981 году на сессии Международного олимпийского комитета город был выбран столицей XV зимних Олимпийских игр.
Председатель Организационного комитета — ОКО-88 — Фрэнк Кинг рассказал мне: «Мы уже в четвертый раз пытались получить Игры. Желание стать наконец спортивной столицей мира было настолько велико, что весь город не спал, ожидая вестей из западногерманского города Баден-Бадена, где решалась наша судьба. И когда выбор пал на Калгари, ликованию не было предела».
Ликование ликованием, но и в трезвом экономическом мышлении канадцам не откажешь. Помня печальные уроки Олимпиады 1976 года в Монреале, чуть было не сорванной из-за нехватки денег на строительство спортивных арен, в Калгари прежде всего позаботились о финансах. Фундаментом стали средства от продажи прав на телепередачи. Дело в том, что Олимпийские игры притягивают к себе взоры миллионов телезрителей, а следовательно, трансляцию их можно изрядно нашпиговать рекламными вставками.
Право вести передачи выиграла Эй-би-си, подписавшая контракт на рекордную сумму в 309 миллионов долларов.
Однако и этих денег не хватит организаторам. Во-первых, они провозгласили, что проведут «лучшие в истории Олимпийские игры», что само по себе должно стоить недешево. Замечу, правда, что склонность к превосходным степеням сравнений просто в крови у североамериканцев. Если родео — то «самое массовое», если бифштекс — то «самый большой». Волей-неволей люди начинают говорить фразами, скопированными из рекламных объявлений.
Во-вторых, а это причина объективная, организаторам следовало застраховать себя от сюрпризов погоды. Здесь нередко случаются оттепели, вызванные внезапно налетающим со Скалистых гор теплым ветром — чинуком. За три-четыре часа непрошеный гость может посреди зимы нагреть воздух до плюс 15 градусов Цельсия, за одну ночь растопить трассы. Поэтому канадцы решили противопоставить чинуку мощную снегоделательную технику. Под горнолыжные трассы на горе Накиска и беговые, в городе Кэнмор, были уложены десятки километров водопроводных труб. При первых же морозах разбрызгиваемая вода заложит основу для снежной подушки, а во время самих Игр к водопроводам подключат «снежные пушки». Вдобавок насыплют десятиметровые холмы снега про запас, которые помогут в случае оттепели укрепить трассы.
Конькобежный стадион с 400-метровой дорожкой и вовсе решено было спрятать под крышу. Если учесть, что саночники, бобслеисты, хоккеисты и фигуристы соревнуются на трассах и катках с искусственным льдом, то, может статься, XV зимние Игры станут первой Олимпиадой на полностью искусственных покрытиях.
— Если погода в период с 13 по 28 февраля действительно решит посмеяться над нами,— шутит один из сотрудников Оргкомитета,— и мы будем проводить Игры на искусственных льду и снеге, то следующие Белые Олимпиады, учитывая наш опыт, можно будет организовать даже в тропиках...
Василий Сенаторов
Калгари — Москва
Дом, который построил…
…Французский почтальон Шеваль в конце прошлого — начале этого века уникален прежде всего своей бесполезностью. Создатель его не преследовал мечты о несметном богатстве, он вообще мало заботился о деньгах, тем более он не думал о тех многих сотнях тысяч франков, за которые можно дом этот продать сегодня.
Словно с самого своего рождения французский мальчик Шеваль, подобно муравью, термиту или пчеле, был запрограммирован строить, и строить, и строить свой «Идеальный дворец».
И он построил.
«Жизнь — бурный океан,
От берега, где ты родился,
До берега, где старцем завершаешь
путь»,—
неровно вырезано на камне западного фасада «Идеального дворца». Стихи также принадлежат почтальону.
Однако жизнь их автора едва ли можно назвать бурной, во всяком случае, последние ее 44 года. Напряженной, трудовой — да, но бурной — едва ли.
Он вставал до рассвета и возвращался вечером с карманами, разорванными острыми камнями. Позже он соорудил себе тачку и, разнося письма, собирал по пути камни в кучки, а ночью отвозил их домой. С недожеванным ужином во рту он уже был в саду за домом — размешивал штукатурку, тесал, резал и укладывал в стены собранные им по дороге камни.
«Супруг у нее чокнутый»,— часто слышала его жена, входя в деревенскую лавку или выходя из нее. Ее можно только пожалеть — едва ли мадам Шеваль видела много радости от супруга. Их соседи — нормальные крестьяне, впрочем, к «сумасшедшему почтальону» и его безмолвной жене привыкли и мало обращали на них внимания.
«Сумасшествие» ее мужа длилось 44 года: ежедневная работа квалифицированного землекопа, каменщика, грузчика, камнетеса и т. д. — в общем от архитектора до подсобника — все это было совмещено в одном человеке. В общей сложности — 3500 мешков извести, цемента, десятки тысяч камней: обломков туфа, мягких фелитов, известняка, принесенные за многие километры, множество раз уложенные, переложенные, изрезанные и обтесанные именно так, как представлялось это ему в бесконечных мечтаниях. Сорок четыре года подряд почтальон Шеваль строил дом.
Если Шевалю не удавалось найти камня нужной формы и размера, он обтесывал его сам, покрывая его при этом рисунками, и потому на стенах дворца цветут орхидеи, ползают крокодилы, пальмы склоняются над колодцами, каменный водопад почти струится, похожие на собак олени едят траву — и все это напоминает статичные изображения Древнего Египта или даже скорее Ассирии.
В 1912 году «Идеальный дворец» был готов — насколько вообще может быть готова мечта. Он напоминал своим внешним видом одновременно: индуистские храмы в Тируччираппалли, буддистскую ступу в Патене, японские павильоны, барселонский кафедральный собор, Глубовский замок в Чехии и парижский Сакре Кёр. Все одновременно, но прежде всего — фантазию сельского почтальона, и потому все-таки он ближе всего к народным картинкам, рисованным на стекле маслом и украшенным обрезками серебряной бумаги.
Шеваля можно назвать великим наивистом или даже одним из первых сюрреалистов. Если бы он когда слышал такие слова!
Почтальон Шеваль умер в возрасте 77 лет. Одному только ему известно, насколько полно он сумел воплотить в жизнь свою мечту.
До сей поры мало какая туристская дорога проходит по этому краю — провинции Дром, зато в деревне Отерив — целиком благодаря творению Шеваля! — существуют несколько ресторанчиков и магазин сувениров. Внучатый племянник Шеваля торгует непомерно дорогими входными билетами во дворец (окруженный ныне высокой стеной) и кока-колой. «Людей так пробирает, что в горле пересыхает»,— утверждает он.
Он прав. «Идеальный дворец» (26 метров в длину, 14 — в ширину, от 10 до 12 в высоту) имеет два лабиринта, «пещеру Девы Марии», кроме того, включает в себя феодальный замок, индийский храм, греческое надгробие и даже некое строение, отдаленно напоминающее Белый дом. Двадцатиметровый коридор соединяет все эти и многие другие помещения. Четырехметровая винтовая лестница ведет на террасу и оттуда дальше в башни и эркеры.
Кто теперь на самом деле может нам сказать, что творилось под форменной фуражкой обычного сельского почтальона, очевидно, далеко не полное воплощение идей которого до сей поры буквально ошеломляет каждого сюда приходящего?
У Шеваля не было никакого образования, но он покрыл все свободные места строения рифмованными замечаниями, наблюдениями из своей жизни и мыслями о персонажах Библии и сказок «Тысячи и одной ночи».
При виде всего этого голова идет кругом...
По коридорам «Идеального дворца» бегают дети — для них это идеальный аттракцион. Туристы смеются, поражаются нелепости строения и мыслям на камнях, уже покрытых мхом, и пьют кока-колу.
Но какая же это волшебная бесполезность в нашем практическом, функциональном мире! Какое терпение, какая преданность! Какая страсть!
«Идеальный дворец» Шеваля создавался бескорыстно, но тем не менее приносит потомкам почтальона сегодня вполне зримый экономический эффект.
В доме, который построил японский предприниматель Оиси Годзаэмон, преуспевающий владелец мотеля «Папэн», та же идея, что с течением времени выкристаллизовалась в постройке безумного Шеваля,— «Не проезжайте мимо!» — была заложена изначально.
«Папэн» сделан по-японски просто, рационально, и, что главное — цель достигнута вполне,— мимо «Папэна» не проехать и не пройти.
Первая мысль, возникающая у человека, который видит вдруг случайно перед собой мотель «Папэн»,— здесь произошла катастрофа. Тем более что место действия — Японские острова, где землетрясения и прочие стихийные бедствия вовсе не такая уж редкость.
«Дом, который тосковал от одиночества, перевернул добрый волшебник, прилетевший на ветре. Теперь, правда, дом страдает от головных болей, зато одиночества — как не бывало...» Эту сказку придумал сам Оиси Годзаэмон.
Мотель «Папэн» был расположен на обочине оживленного шоссе, в нескольких километрах от города Куросаки на острове Хонсю, где находится один из самых крупных в стране этнографических музеев. Шоссе ведет к побережью Внутреннего моря, где немало отличных курортов, следовательно, трасса никогда не пустует. Но, несмотря на эти очевидные выгоды своего положения, мотель «Папэн», скучное, стандартное здание, пустовал на протяжении многих сезонов. Его хозяину Оиси грозило неминуемое банкротство, и он предпринял последнюю отчаянную попытку — пошел к психологу.
— Дело очень простое! Переверните его,— посоветовал психолог.
— Спасибо,— печально сказал Оиси и взялся за дело.
Затея стоила Оиси гору денег, он безнадежно запутался в долгах, и отступать ему было некуда. Результат превзошел все ожидания. Теперь мотель ежедневно посещают до двух тысяч человек, и многие едут сюда специально ради него. Кроме того, мотель «Папэн» попал в книгу «Японские национальные достопримечательности», хотя, по мнению многих, он совершенно не вписывается в традиционный японский пейзаж.
«Папэн» оскорбляет эстетические чувства многих: Оиси не раз наблюдал, как только что подъехавшие к мотелю посетители, выйдя из автомобиля, первым делом пытаются его перевернуть, «поставить с головы на ноги», упираются руками, пинают ногами, а иные, слегка подгулявшие, бывает, соберясь небольшой группкой, пытаются по команде перевернуть его, уперевшись в крышу спинами, ногами — в землю.
Интерьер мотеля тоже не совсем нормальный: в горизонтальной плоскости размещены только столы и стулья (их ножки ровно подпилены), остальная мебель стоит косо (и большей частью на потолке, которым стал пол), что придает сходство с кают-компанией некоего корабля, попавшего в ужасающий шторм. На потолке (полу) прикреплены горшки, из которых вниз растут домашние растения. Не хватает только, чтобы еще официанты ползали по потолку как мухи!
Однако теперь к перевернутому дому привыкли, как к забавной игре,— он уже не вызывает у посетителей той отрицательной, подчас даже агрессивной реакции, что вначале, а поток их при этом высок по-прежнему. Однако новичок всегда призадумается над особенностью любопытного магнетизма, что порождает подобное воплощение сумасшедших идей на практике.
Может быть, одна из причин этого магнетизма в не всегда даже осознанном протесте против всемирного однообразия бетона?
Шеваль до железобетонного строительства не дожил, он просто строил и строил, а ценность его детищу придало наше время. Оиси Годзаэмон поглощен вопросами прибыли, а архитектура для него — не более чем средство для получения последней.
Но этого категорически нельзя сказать о Фриденрайхе Хундертвассере Регентаге Дункельбунте (клянемся, что это имя выдумали не мы!). Выдумал его сам Хундертвассер и т. д. Фамилия его предка-словака, пришедшего в прошлом веке на заработки в Вену, была Стовашек. Венцы переделали ее в Стовассер, как-то произносить легче. Потомок перевел славянское «сто» в немецкое «хундерт», имя Фридрих — с древнегерманского — в Фриденрайх, «Государство мира», да еще добавил «Дункельбунт» и «Регентаг» — по названиям кораблей, на которых плавал. Получилось громко, труднопроизносимо, но необычайно звучно. Как раз то, что нужно художнику.
А Хундертвассер — художник.
Итак, Фриденрайх Хундертвассер Регентаг Дункельбунт построил девятиэтажный дом в третьем районе Вены, на углу Лёвенгассе и Кегельгассе, на границе центра города и Пратера. В нем пятьдесят квартир площадью от 30 до 150 квадратных метров, 13 цветущих террас — на каждом этаже, на крышах — газоны, где можно загорать, поликлиника, магазин и гараж на 37 машин. Стены дома снаружи окрашены во всевозможные цвета, каждая квартира — своим, окна разной формы и размеров — из некоторых растут кусты и деревья. Отдавая дань традициям города, на одной из террас дома расположено традиционное венское кафе.
Не вдаваясь в подробности того, какое противодействие вызывал «биодом» (термин самого Фриденрайха Хундертвассера) и у официальных властей, и у простых жителей Вены в процессе своего строительства и в первые месяцы существования, скажем, что сегодня дом этот относится к таким же достопримечательностям Вены, как Опера или знаменитые венские кафе. В туристические справочники он входит как непременный пункт посещения, а жители Вены, довольно быстро к нему привыкнув, любовно окрестили «пряничным домиком» и вполне обоснованно им гордятся.
Дом этот — собственность муниципалитета, который и занимается распределением квартир. Создатель проекта убедил муниципалитет вложить деньги в строительство и сам внес значительную часть. Притом сам Хундертвассер Дункельбунт Регентаг работал бесплатно.
Впрочем, Фриденрайх Хундертвассер достаточно богатый человек. Картины-мечты Хундертвассера со спиралевидными мотивами можно найти в галереях, квартирах, канцеляриях. Его рисунки украшают плакаты, призывающие к охране окружающей среды, почтовые марки ООН, фарфор марки «Розенталь», шелковые женские платочки, открытки и медали.
О деньгах он говорить не любит: «Мне лично многого не нужно: не устраиваю банкетов, не езжу в «роллс-ройсах». (Метр — бывший моряк — ходит в куртке, поношенных клетчатых брюках и вечно в разных носках.) Куда идут деньги? «Я финансирую то, что не поддерживает никакое государство,— заявляет он.— Это лаборатория по исследованию и охране окружающей среды, кампания против атомного оружия». .
Кроме того, он повсюду сажает деревья: полмиллиона деревьев посадил на Новой Зеландии, триста штук — в Венеции, полтораста — в Вене.
Экология — конек Хундертвассера. Он говорит, что занялся ею одним из первых. Его мучит картина того, как люди превращают Землю в нечто невозможное для жизни. Это беспокойство заставило его еще в 60-е годы, до того, как он прославился как художник, публично пропагандировать газоны на крышах домов, раскрашивание бетонных стен, разведение живых деревьев на террасах жилых домов — борьба за то, «чтобы стены наших домов не были стенами нашей тюрьмы».
Хундертвассер надеется, что в его «биодоме» людям будет жить лучше. Жильцов, однако, там ждет много приключений. Коридоры, ведущие к их квартирам, выглядят как свежепротоптанные тропинки: полы не ровные, а несколько волнистые, и каждый, кто будет здесь ходить, почувствует их своими ступнями: по мнению Хундертвассера — люди потому утратили ощущение нормальной ходьбы, что уже несколько поколений ходят по ровным полам.
Кафельные плитки в ваннах и на кухнях не составляют аккуратных рядов, а причудливыми узорами разбегаются по стенам. Геометрию прямых линий Хундертвассер воспринимает как аморальную и утверждает, что именно она вызывает у людей душевные болезни. Поэтому метр собственноручно ликвидировал все прямые углы, которые здесь по недосмотру остались. Только лифт ездит в этом доме по прямой. И мастерам-строителям он позволил воплощать при строительстве дома любые собственные идеи. А от жильцов — так просто ожидается, что они будут приспосабливать собственную квартиру к себе. Фасад производит впечатление дикого хаоса: декоративные керамические колонны, выложенные мозаикой входы, асимметрично расположенные окна разной величины.
Он создал собственную концепцию жилой архитектуры, достойную человека, осуществил свою мечту о новом способе жизни: поэтические дома, как антитеза анонимным, враждебным современным коробкам, которыми полны сегодняшние города.
...На террасу на крыше было привезено пятьсот тонн плодородной почвы. На ней разбит газон, клумбы, кусты и деревья. Хундертвассер неделю не спал, размышляя: посадить на крыше липы или платаны.
Он решил посадить платаны...
Илья Кечин
Золотой шафран
Стекольщик-подмастерье по кличке Шафран получил свое прозвище за то, что добавлял этот цветок в краски, добиваясь особо ярких и оригинальных тонов. Работал он в Ломбардии на строительстве миланского собора, и когда в 1574 году у дочки его хозяина была свадьба, добавил шафрану в рис. Получилось необычно, но красиво и вкусно.
Считается, что именно тогда, четыре века назад, и вошел в кухню Ломбардии шафран, который ныне стал ее непременным элементом. Сам подмастерье был родом из южной области Италии, Абруцци, где шафран, собственно, и выращивают. А к распространению его на севере страны приложили руку еще несколько выходцев из Абруцци, особенно один повар, имя которого не сохранилось: он экономил на яйцах и обманывал клиентов, окрашивая рис не яичным желтком, а шафраном.
На Востоке шафран издревле использовали в качестве приправы, уважали как лекарство, ценили как ароматизирующее средство. В Вавилоне, Персии, Китае им окрашивали царские одежды. А в Китае даже существовал закон, грозивший смертной казнью всякому, кто посягнет на пользование шафрановой краской.
Название «шафран» восходит к народной латыни: safranum, а это пошло в свою очередь от персидского zaafer. Существует около 80 видов этого растения, в том числе 19 — в СССР, но лишь немногие из них годятся в пищу.
В Европе сейчас осталось мало мест, которые могут похвастаться настоящим «марочным»- шафраном, производимым с соблюдением всей необходимой технологии. Одно из них — равнина Навелли в провинции Л"Акуиле, в той самой области Абруцци, откуда впервые привезли шафран в Милан. Есть еще небольшие плантации в Калабрии, на Сардинии и Сицилии, но их продукция ни в какое сравнение не идет с навеллийской.
Четыре века вокруг деревенских домов Навелли каждый август прокапывают крестьяне узкие борозды для луковиц, и в течение четырехсот лет в октябре люди встают на рассвете, и пока солнце не поднялось высоко в небе и не повредило драгоценное содержимое чашечки цветка, две недели кряду собирают лиловые цветы. Все это время женщины, собравшись вокруг стола у жаркого очага кухни, обрабатывают урожай. Они раскрывают цветы, раздвигают лепестки и собирают рыльца и верхнюю часть пестика. Рыльца — тонкие красные нити — сушат над жаром. Затем остается их истолочь, чтобы превратить в золотой порошок.
Эпитет «золотой» объясняется не только цветом полученного продукта. У одного цветка бывает не больше трех пестиков, и, чтобы получить один грамм шафрана, требуется примерно две сотни цветков. Но дело не только в этом: никакой механизации шафран не переносит, упорно сопротивляясь любому техническому нововведению, а ручной труд нынче дорог.
Традиционная обработка — в руках небольшого кооператива, где трудятся семьдесят четыре человека. Объединенными усилиями удается собрать примерно полцентнера шафрана в год (до образования кооператива, когда работали поодиночке, получали немногим меньше). Это свидетельствует о том, что шафрану угрожает опасность. Больше всех это заботит основателя и председателя кооператива Сальвио Сарру.
— Шафран из Л"Акуила,— объясняет он,— единственный настоящий шафран в Италии, экстракт из Crocus satirus — растения семейства касатиковых с воронкообразным цветком лилового цвета и горьким на вкус рыльцем. В других местах за шафран выдают цветок сафлора, так называемого дикого шафрана, даже не сопоставимого с нашим ни по цвету, ни по запаху.
Ученые подтверждают, что 90 процентов навеллийского продукта составляет шафранол, пахучее вещество, обеспечивающее характерный вкус шафрана. Ни один из конкурирующих видов даже не приближается к этому. Зато попыток подделать дорогой продукт множество: одни увеличивают массу порошка за счет добавки других частей того же цветка, а то и других растений. Мало того, к готовой продукции недобросовестные люди добавляют химические вещества или искусственные красители.
Угрожают шафрану и обстоятельства экономического порядка. Одним шафраном прожить невозможно. Для всех членов кооператива это лишь побочный заработок. По традиции в работе участвуют только члены семьи, друзья, со стороны никого не нанимают. Разве что «двухнедельщиц» — женщин из соседних деревень, работавших ровно 14 дней. На рождество они получали за это полбарашка, фрукты, зелень, кур, оливковое масло, но ни крупицы шафрана: дорого, да и местная кухня его не признает.
Так уж повелось в Навелли с тех пор, как монах-доминиканец Сантуцци, вернувшись в родные места из Испании, привез с собой несколько луковиц шафрана и посадил их. Результат превзошел все ожидания. Было это в 1498 году. Сохранился, правда, документ 1317 года об отмене некоторых пошлин, дабы благоприятствовать торговле благородной специей, а это значит, что шафран здесь выращивали до путешествия брата Сантуцци.
В XVI веке цена на шафран достигла суммы в 14 дукатов за фунт, что было на несколько дукатов дороже фунта серебра.
Сейчас у кооперации не хватает сил, чтобы обработать даже оставшиеся пять гектаров. Молодежь подалась в город, на фабрики, в конторы. Средний возраст жителей Навелли теперь 60 лет. С каждым годом число их сокращается, а с ними уходит в небытие древняя традиция. Эти две октябрьские недели когда-то были праздником: привычная с детства работа не тяготила. С утра собирали цветы, потом долгими часами, сидя в наполненной ароматом кухне, обрабатывали шафран и неторопливо беседовали.
Нельзя сказать, что всякие попытки спасти шафран оставлены. Существует проект, согласно которому к сбору шафрана должна быть привлечена безработная молодежь с юга, но это — не решение проблемы. Быть может, лучшее будущее обеспечит шафрану наука? Ведь уже пробовали пересаживать луковицы не ежегодно, а раз в три года. Но от этого цветы мельчают, вырождаются. Механизация тоже трудноприменима: растения разной высоты и, когда машина срезает цветки, повреждается половина урожая. Вот при посадке луковиц техника могла бы помочь, но пока такой машины не создано. Ученые селекционируют культуру с помощью новейших методов, пытаясь вырастить два цветка с одной луковицы. Но все это дело будущего.
Пока же лучший шафран, идущий по цене в двадцать раз дороже серебра и всего лишь в три раза дешевле золота, медленно исчезает. Конечно, для кого-то в этом факте не видится трагедии. Ведь научилась же медицина обходиться без шафрана, не осталось императоров, претендующих на ткани особого желтого цвета, печенье и маргарин можно подкрасить чем-нибудь другим, а национальные блюда — итальянское ризотто, испанская паэлья и подобные им — лишь немного изменят вкус и окраску, да и женщины обойдутся без своих осенних посиделок...
Все это так, но с уходом из нашей жизни лилового цветка отойдет в прошлое целая эпоха в кулинарии, обеднеет фольклор, поблекнут многие краски.
Е. Лившиц
Страсть к свисту
На эти состязания съезжаются мастера художественного свиста со всей страны. А зал битком набит свистунами-любителями — против них хоккейные болельщики просто тихони! Поэтому свистеть разрешено только на сцене — перед микрофонами. Устроители шутят: наш конкурс единственный в мире, где исполнители могут освистывать публику.
В прошлом году в Карсон-Сити отметили два юбилея: один анекдотический, другой вполне серьезный. Ровно пятьдесят лет назад в прессе появилась статья «Пристрастие к свисту — верный признак кретинизма. Интервью с профессором философии Чарлзом Дж. Шоу». Самые мягкие фразы из филиппики профессора звучали так: «Ни один достойный и уважаемый человек не унизится до подобных пошлых звуков. По-птичьи свистят только те, кто уже все просвистал и свистит в кулак, а при случае может свистнуть у вас бумажник!» Какую бурю подняли его слова! На следующий день ни один студент не явился на лекции профессора: пикетчики толпились в коридорах университета и вызывающе насвистывали. В журналах появились гневные отповеди: «А не забыл ли профессор, что заядлыми свистунами, кроме простых граждан, были знаменитые ученые — к примеру, Альберт Эйнштейн, миллионеры Генри Форд и Джон Рокфеллер-младший, наконец, президенты — Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон?..»
Забыл профессор Шоу и о том, что свист во многих странах искони был средством общения. Молодецкий посвист слышен куда дальше, чем голос. До сих пор на одном из Канарских островов сохранился язык свиста — сильбо гомера, изобретенный местными жителями в незапамятные времена. Подобный же язык использовали пастухи и крестьяне в Испании, где свист разносится на многие километры. Традиционное пересвистывание собеседников сохранилось кое-где в Гватемале и Мексике, в Пиренеях, Турции, разных странах Африки.
Но и нелюбовь к свисту имеет давнее происхождение. Фольклор чаще всего связывает его с неприятностями. В арабских странах, например, считалось, что свистнувший осквернил свой рот на целых сорок дней. Европейские матросы могли очень круто обойтись со свистуном, если судно находилось в открытом море,— по поверью, он мог накликать бурю. А шахтеры суеверно избегали насвистывать под землей — из боязни взрыва. Во многих странах почиталось за грех свистеть в доме, а по воскресеньям — где угодно.
Особенно нетерпимо относились к свистуньям. Английская поговорка гласит: «Не жди добра от кричащей петухом курицы и свистящей женщины». Американские пуритане были и того суровее: «Женщина свистит — у Святой Девы сердце кровью обливается». Теперь эти предрассудки исчезли. В фестивалях Карсон-Сити женщины свистели наравне с мужчинами.
Второй, серьезный юбилей был отмечен с должной торжественностью. Сто лет назад прошли первые концерты Милой Свистуньи — Алисы Шоу (по иронии судьбы незадачливый профессор был ее однофамильцем). Пока никто не сравнялся с ней в славе. Может быть, потому, что она была первой в ряду виртуозов художественного свиста. Развить свой дар и выступать с концертами ее заставила нужда: девушке-сироте нужно было прокормить четырех младших сестер. Музыкальные критики оторопели: «Неслыханно! Алиса Шоу свистит в пределах двух октав! Она владеет стаккато и трелями, тремоло и плавными переходами! Это не свист, а игра на волшебной невидимой флейте!» В течение сорока лет Милая Свистунья выступала в аристократических салонах и мастерских художников, в лучших концертных и оперных залах Нового и Старого Света. Лондонские медики дотошно обследовали Шоу, чтобы уяснить природу ее дара, но только руками развели: кроме необычно высокого и узкого нёба, никаких других «нарушений». Музыканты же объясняли чудо блистательным владением амбюшуром — виртуозным искусством правильно напрягать губы и мышцы рта. Репертуар Алисы Шоу был огромен: от баллад до инструментальных произведений, в том числе специально для нее сочиненных.
В 1888 году Томас Эдисон записал ее свист на восковые валики своего «усовершенствованного фонографа». А двадцать лет спустя она оказалась среди первых исполнителей, чей голос был увековечен на граммофонных пластинках.
Нэнси Форен из Вашингтона, одна из женщин — победительниц конкурса свистунов, не устает повторять: «Свистуны-виртуозы — настоящие музыканты, а не досужие чудаки или эстрадные ломаки! Нам не нужны дорогие инструменты, мы едем на гастроли налегке — между нами и музыкой нет посредников в тяжелых футлярах».
Трудно не согласиться с ней: на недавних соревнованиях в Карсон-Сити звучали Бах и Бетховен, отрывки из опер, джазовые импровизации, польки и бродвейские шлягеры. Приз завоевала одиннадцатилетняя Ами Роуз из Луисбурга.
Соперников приходилось одолевать в троеборье: после сольного исполнения классической и современной мелодии надо было проявить свою искушенность в свисте дуэтом.
Питер Хоссел лучше всех исполнял классику. Может быть, потому, что использовал «органный принцип» свиста — дул в сжатые ладони. Сплетенные пальцы при этом движутся подобно клапанам трубы и дают звукам должную высоту. Питер — лауреат двенадцатого фестиваля свистунов в Луисбурге. В этом городе, кстати, находится и национальный музей художественного свиста.
Лучшим исполнителем современных мелодий стал Джоэл Брендон из Окленда — уникум из уникумов. Обычные люди свистят на выдохе, Джоэл Брендон исключительно на вдохе. Его звуки поразительно чисты, точны по высоте, а диапазон — три октавы! Он флейтист, но как свистун имеет куда больший успех: записывает пластинки, участвует в джазовых фестивалях, раз сподобился блеснуть в сопровождении симфонического оркестра. За тридцать лет занятий свистом он так и не встретил никого, кто работал бы в его стиле. Но свою неповторимую мимику при свисте Брендон все-таки обнаружил... на древних масках индейцев северо-западного побережья. «Если я в самом деле один такой на всю страну,— сетует Брендон,— это очень грустно: ни опыта не перенять, ни посоревноваться на равных».
О соперничестве на равных Брендон упомянул не зря. Способов свистеть, кажется, только три: губами, горлом или с помощью рук. Но на практике возникают десятки самых неожиданных звучаний и школ. Манеры свистеть порой до того разнятся, что судьи теряются: как сравнивать вроде бы несравнимое? Остаются два критерия: чистота исполнения и степень виртуозности.
Пятидесятилетний Маккроби работает коммивояжером, хотя когда-то мечтал быть джазистом. Впрочем, Маккроби — сам себе джазовый оркестр: имитирует едва ли не все инструменты, и не голосом — свистом! Ему, как никому, даются двойные ноты: он шлет один звук вслед другому с такой скоростью, что слушатель с закрытыми глазами непременно обманется, подумав, что свистят двое.
— Вся моя тренировка,— признается Маккроби,— пять минут по утрам. Сносно насвистывать мотивы может любой человек со слухом. Главное — дыхание. Чтобы его хватало. Чтобы оно было нужной силы. Передуешь — звук грубый. Недодуешь — звук рыхлый. Специалисты рекомендуют почаще подниматься по лестницам — для тренировки. Важен размер губ и языка — ну, это уже от вас не зависит. Потом влажность губ, влажность рта, влажность воздуха... и еще сотня всяких факторов. Многие, наверное, замечали, как пустяк вроде выпавшего зуба делает из мальчишки короля свиста...
Все-таки незабытое искусство свиста продолжает дарить людям праздники.
В. Задорожный
Патрисио Маннс. Мятеж на Био-Био
Талант этого человека, моего близкого друга, поистине безграничен. Журналист, публицист, поэт, писатель... композитор и исполнитель собственных песен. Вот что писал о нем в прошлом году известный критик Хуан Армандо Эппл в издающемся в Мадриде журнале «Араукария»: — Слава Патрисио Маннса как основоположника нового направления в развитии чилийской песни, его композиторское, песенное творчество как-то незаметно отодвинули в тень творчество Маннса-писателя, а, между прочим, его книги под стать песне... Но прежде чем прославиться как композитор, он долгое время работал профессиональным журналистом, написал несколько повестей, много рассказов. Повесть, которую журнал «Вокруг света» предлагает своим читателям,— четвертая по счету. В 1964 году в Чили была опубликована первая — «Ночь над следом», восемь лет спустя — «Доброй вам ночи, пасторы». Несколько позже — «Обвинение Марусии», которая легла в основу одноименного фильма. «Мятеж на Био-Био» — образчик поэтического эпоса. Нельзя забывать, что у индейцев нет своей письменности, предания передаются изустно от поколения к поколению, такими, какими запечатлелись в памяти непосредственных участников и свидетелей тех событий. На мой взгляд, Маннсу удалось здесь воспроизвести мир таковым, каким видит его древний народ, населяющий нашу страну. Мир этот оказался жестоким по отношению к нему, восстание 1934 года было беспощадно подавлено, хунта предприняла все, чтобы эти трагические события не стали достоянием общественности, а сами индейцы были лишены всех прав истинных хозяев земли. Приход к власти Пиночета и годы его правления стали как бы логическим продолжением кровавой бойни, разыгравшейся в Чили в те далекие 30-е годы.
Хосе Мигель Варас, чилийский журналист
Я отчаянно пытаюсь прочесть выражение его лица. Потом в смущении отвожу взгляд и смотрю на горы. Там, на востоке, через Кордильеры тянутся два перевала — Одинокая Сосна и Срубленная Сосна. Невесомо опускается вечер. Усевшись у двери своей хижины, Анголь Мамалькауэльо раскуривает тростниковую трубку. Я подсаживаюсь к нему на грубо отесанную скамью. Моя кобыла, все еще не расседланная, пасется неподалеку.
— Ты всегда жил здесь, Анголь Мамалькауэльо?
И старый Анголь Мамалькауэльо отвечает:
— Я надеюсь умереть здесь.
— А я много раз слышал, что индейцы араукана — великие рассказчики, и знают много всяких историй. Для араукана ты слишком скуп на слова.
Старый, невозмутимый Анголь Мамалькауэльо поднимается, выбивая из трубки остатки табака. Потом направляется к колодцу — он совсем неподалеку — и, черпнув ковшом свежей воды, пьет ее не торопясь.
— Как зовутся эти места? И река, которую видно отсюда?
— Это — Пампа де Кайулафкен, она окаймляет реку, начиная в-о-о-н оттуда, с юга, с Серро Льюкура, ты должен хорошо видеть отсюда эту гору. А река берет начало из двух лагун, что затерялись там, в юго-западной стороне. Икальма и Кальетуэ они зовутся. Реку же называют — Био-Био.
— Почему ты никогда не жил в долине? Ведь она же неподалеку, жил бы себе где-нибудь в Лонкимае или Мансанаре, а чем плохо в Каракаутине или Сельва Оскура, Пуа...
Старый, заядлый домосед, Анголь Мамалькауэльо долго молчит. Вновь раскуривает трубку. И наконец говорит:
— Потому что оттуда пришли убивать нас, сеньор.
— Когда?
— В тысяча девятьсот тридцать четвертом.
Теперь закуриваю и я. Старый, недоверчивый Анголь Мамалькауэльо не отказывает мне в общении, но ему не ясны мои намерения. Он — единственный из оставшихся ныне живых, кто пережил то страшное время. И если уж он замолчит, онемеет то время.
— Наша история, история нашего народа остановилась во времени, сеньор. Она осталась там, в тысяча девятьсот тридцать четвертом... Или тридцать пятом. С тех пор люди помышляют лишь о смерти в своей постели. Говорят, что в тысяча девятьсот шестьдесят первом, в Арауко, мапуче (Самоназвание араукана (Примеч. ред.).) вновь взяли в руки оружие, потому что их стали прогонять из последних резерваций и погнали в пески, на берег. Ты знаешь людей, которые кормились бы песком? Я — нет. И им оставалось одно: преодолеть свое отвращение к убийству и взять в руки оружие.
— Я был там, Анголь Мамалькауэльо.
Глаза под морщинистыми веками вдруг ожили, в них — проснувшийся интерес, смешанный с недоверием.
— Ты действительно там был, сеньор?
— И душой, и телом...
— Значит, ты видел, что там произошло. Они окружили зону и перебили почти всех, кто там был. Юноши мапуче под конец прекратили сопротивление и с тех пор пытаются научиться жить, сеять и собирать урожай на песках прибрежной полосы. Говорят, в ту пору президентом был некий Алессандри, сын другого. И кажется, его звали Хорхе. Раньше война велась против врага. Убивали тех, кто хотел захватить землю, крал наших жен, сжигал наши посевы, уводил наших коней. А теперь все иначе. Нам запрещают иметь оружие и убивают как самых обыкновенных кроликов. Их пьянит наша кровь и собственная безнаказанность. Но немногие из тех, кто поднимается сюда, ко мне, понимают это.
Он встает, разминая затекшие ноги:
— Пойдем, прогуляемся немного, пока Анима Лус Бороа соберет что-нибудь на ужин.
Блеклое солнце Кордильер, пробившись сквозь облачный панцирь, редкими лучами кропит островки высокогорной земли. Мы находимся на высоте двух тысяч метров.
Призрачно-прозрачный воздух создает ощущение безграничности пространства, раздвигает все мыслимые его границы. Иди куда хочешь, дыши полной грудью — нет предела этому миру. Словно заглянув в мою душу, этот старый прорицатель Анголь Мамалькауэльо заметно оживляется:
— Да, так оно и есть. Эта вот высота — самая высокая точка когда-то наших земель, которые, мы защищали. А теперь мы пытаемся отстоять то, что осталось. За что здесь только люди не умирали... Случалось, отдавали жизнь за луч света, за горсть земли. Когда любят землю, то любят и то, что ее освещает, и то, что омрачает,— тоже любят. И все, что орошает ее, любят. Бывает, человек жизнь готов отдать, лишь бы малый ручеек тек своим древним руслом, только бы листва, по осени обильно покрывающая землю, обращалась, как и прежде, в животворный перегной, чтобы вновь потом зазеленеть и опять покрыть собою землю, и так — из века в век. За возлюбленных умирают с улыбкой на лице.
Старый мой проводник Анголь Мамалькауэльо указывает на пологий спуск:
— Здесь теперь проходит наша граница. И никогда уже нам не сеять хлеб, не пасти стада на землях, что лежат на запад от этой реки, реки наших предков, нашего народа, реки нашей древности. Ты ведь хорошо знаешь: веками племя араукана сдерживало натиск инков, а потом и испанцев на северном берегу Био-Био. Тогда река была непреодолимой преградой. Кто отваживался ее переплыть, на северный берег уже не возвращался. Араукания начинается к югу от Био-Био, и здесь же река набирает силу.
Некоторое время мы оба молчим — я жду, а он раскуривает свою трубку.
Мы долго шагаем мягким пологим спуском, и, уже стоя на берегу, он показывает рукой на запад, и тень от руки зябко полощется в зыби.
— В двадцать восьмом году обнародовали Колониальный аграрный закон, и по нему выходило, что он защищает уже сложившийся к тому времени порядок вещей. То есть белые оставались с тем, что у них уже было, а нищие креолы — потомки испанцев — и индейцы — с тем, что у них еще оставалось. И тогда в Темуко объявился вдруг один богатый землевладелец, из немцев, его звали Рольф Кристиан Гайсель. И он сколотил частную ассоциацию, сеньор, а когда индейцы обратились с протестом в правительство, там ответили, что и слыхом не слыхивали ни о какой ассоциации. Может, оно и так, в Сантьяго в ту пору было очень тревожно, сеньор, там то и дело случались военные мятежи. И пока местные богачи и военные сражались на стороне правительства, Рольф Кристиан Гайсель организовал союз с Манфредом Штювеном, Вальтером Маннсом, Германом Скальвейтом и другими такими же негодяями. Мы всю эту шайку звали Немецкой колонией. А они теперь — владельцы всех земель Араукании. А это значит — семьсот километров в длину и двести — в ширину. Посчитай, сколько это будет...
— Да я и так знаю,— сказал я.
— Как о том прослышали в Итальянской колонии — так мы звали другую шайку,— тотчас же создали свою ассоциацию, и ее возглавили Роке Барателли, Джузеппе Гаспарини, Анджело Торти, Марио Фульери... Слух об этом докатился до Французской колонии — так мы называли еще одну шайку, у них теперь земли в пойме Био-Био, в Арауко и Мальеко, и они спешно организовались. Особенно там усердствовали Рауль Моро, Жан-Пьер Ферьер, Сержио Трильо, но эти инородцы, забывшие свою землю и свой народ, были просто ягнятами по сравнению с их главарем, Жоржем Пиночетом; правда, уже тогда его звали на кастильский лад — Хорхе. Я слышал, его племянник ходит теперь в больших армейских чинах. Значит, не миновать новых бед. С нас, правда, немного уже возьмешь, и теперь пострадают другие. Детеныш, вскормленный ядовитой змеей, обязательно кого-нибудь да ужалит... А все началось с тех ассоциаций. Как ты полагаешь, сеньор, для чего они создавались? — Помолчав, он сам и отвечает: — Чтобы бороться против того аграрного закона.
Он опять смотрит на реку, на ее зеленое волнующееся чрево.
— Ну ладно,— говорит он,— хватит всех этих недомолвок, так и быть, я расскажу тебе все; все с того самого дня, когда я узнал Хосе Сегундо Леива Тапию. Мир праху его.
— А ведь я за этим и явился, Анголь Мамалькауэльо. Только за этим — больше, клянусь тебе, ни за чем. Для нас загадка все, что связано с этим именем. И мы хотим в точности знать, как все на самом деле случилось.
Мы заходим в хижину и, поскольку стола нет, усаживаемся в самом центре комнаты, прямо на овечьи и козлиные шкуры, вытягиваем ноги поближе к потрескивающему огоньку очага и принимаемся за ужин.
— Хосе Сегундо пришел к нам в 1929 году восемнадцатилетним подростком,— говорит старый, хлебосольный Анголь Мамалькауэльо.— А до этого он жил внизу, в Лонкимае, и, когда пришел, уселся на то самое место, где сейчас сидишь ты, сеньор. Он еще сказал тогда, что закончил школу и теперь собирается в Сантьяго — хочет поступить в Чилийский университет, потому что желает стать педагогом.
— Он сказал тогда, что хочет как следует подучить испанский и заняться историей,— уточняет его жена Анима Лус Бороа.
— В точности так. Испанский — чтобы научиться писать, а историю — чтобы наверняка уже знать, о чем именно,— кивает старый лингвист и историк Анголь Мамалькауэльо.— В общем мы поняли, что он хочет стать как бы пахарем и возделывателем людских умов. И вот он ушел. А потом возвращался, и опять уходил, и опять возвращался, чтобы посидеть вот так же, как ты сейчас. А однажды вошел — и прямо на пороге обнял Аниму Лус Бороа, и меня обнял, и сказал мне: «А теперь, Анголь Мамалькауэльо, распрями гордо плечи, выпрямись во весь рост и покрепче меня обними: я вступил в партию».
И мы, увидев, что в глазах его стоят слезы, тоже заплакали, сеньор, чтобы поддержать его в радости.
— Я его спросила,— говорит Анима Лус Бороа: — «Что это значит — вступил в партию?» И он мне ответил: «Это значит — обыкновенное существо стало Человеком. С большой буквы».
— И тогда я его спросил: «А чем такой человек может быть полезен?» А он мне ответил: «Он должен дать землю тем, кто ее обрабатывает». Тогда мы и заговорили в первый раз и об аграрном законе, и о том, что новые колумбы ведут уже настоящую осаду наших земель, воруют и отнимают их силой, и хотят загнать всех нас в Кордильеры. А он ответил, мол, он сам займется этой проблемой, вот поедет в Сантьяго и поговорит с кем следует. И попросил, чтобы мы набрались немного терпения, он скоро вернется, и чтобы предупредили всю общину — пусть она тоже запасется терпеньем. По обычаю, обнял он нас — обнимал он всегда порывисто, крепко — и уехал. На следующее воскресенье я назначил совет касиков — вождей,— говорит старый, всех примиряющий Анголь Мамалькауэльо.— Пришли тогда все, и пришли отовсюду — от стойбищ, поселений, деревушек, с севера — из Амарго, из Сьерры-Невады, что на западе, с юга — из Серро-Лиукура, и с перевалов — Безымянной Тропы, Одинокой Сосны и Срубленной Сосны. Я и сейчас помню Ручино Манкилефа, Эуфрасио Уэнчура, Модесто Уэнчулафа, Эусебио Кайуманки, Марсиала Альюпена, Максимо Келенпутре, Годальберто Лиентура...
— Там, у нашего колодца, провели они весь вечер в беседах,— вторит ему Анима Лус Бороа.— Плохие были новости. Новоявленные колумбы то и дело нападали на мапуче и креолов — потомков испанцев. А ведь в жилах креолов течет кровь белых, просто со временем они из испанцев превратились в чилийцев. Есть креолы бедные, есть и богатые, но бедных куда больше. А когда от них поступали в столицу жалобы на этих насильников, те просто нанимали лжесвидетелей и шли с ними в Верховный суд над индейцами. И сколачивали новые шайки из самых отчаянных, а ведь на службе у них и так уже состояла пограничная конная полиция — до зубов вооруженные головорезы. Эту полицию сформировал Ибаньес, о котором говорят, что он был не президентом Чили, а диктатором. Правил он огнем и мечом... Фервьенте Литранкура, который жил близ железной дороги, и поэтому все новости были его, рассказывал, что тот самый Ибаньес объявил коммунистическую партию вне закона, и мы очень испугались, что это ударит по нашему мальчику, по Хосе Сегундо.
— А потом он снова пришел. Это было в конце 1929-го, и он погостил здесь три дня. Он рассказал нам, что в стране разразился ужасный кризис и толпы голодающих проходят через Сантьяго, и что мы должны держаться настороже, потому что богачи всерьез займутся землей и станут отнимать ее у нас. И тогда уж не успокоятся, пока всю ее не отнимут. И еще сказал, складывать провизию, потому что богатые сеньоры приведут войска, чтобы отнять урожай.
— И я спросила, а видел ли он людей, которые нам могут помочь, и что они говорят? — замечает Анима Лус Бороа.
«Их нельзя уже увидеть,— сказал он в ответ.— Они сейчас вне закона, потому что они коммунисты, а когда в стране разражается кризис и народ начинает волноваться, правительство всегда объявляет партию вне закона». Так он мне сказал,— утверждает Анима Лус Бороа.
— «А что это значит — быть вне закона?» — спросил я его тогда,— повышает голос Анголь Мамалькауэльо.— «Это значит — всегда быть на стороне справедливости, не ошибаться в друге, не путать с ним врага» — так сказал он в ответ.
— Каким было его лицо, Анголь Мамалькауэльо?
— Очень живым, на нем читались все мысли. Он и сам весь был, словно одно движение. И никогда ни о чем не спрашивал, он был еще совсем мальчиком, а мне казалось, что с самого рождения ему известно все обо всем.
— Значит, он был для тебя чем-то вроде бога? Как будет «бог» по-араукански?
Старый, мудрый язычник Анголь Мамалькауэльо, сосредоточившись, размышляет. Я уже почти привыкаю к молчанию, когда наконец раздается его негромкий голос:
— Араукана не может сказать «бог», сеньор. У нас никогда его не было, значит, не было необходимости придумывать ему имя.
Я тянусь в карман за сигаретой. Вечер сегодня нетороплив, но мы все еще пребываем в 1929 году, и мне трудно представить лицо Хосе Сегундо Леива Тапии. И я приехал, чтобы отыскать здесь всюду ускользавшую от меня, боязливую правду о 1934 годе, ведь этой правде уже здорово досталось от некоторых нечистых на руку кабальеро, словно карты, шулерски передергивающих события истории, которую им высочайше поручено было написать. Не случайно именно среди них особой милостью был отмечен крупнейший латифундист Франсиско Антонио Энсина, и отнюдь не из-за чьего-то пустого каприза, и уж никак не в насмешку ему была вручена Национальная премия чилийской литературы — ведь он достиг вершин иерархии придворных летописцев, и язык его «истории» щеголяет кастовой правильностью произношения.
— Они продолжали вести осаду наших земель,— с болью цедит слова старый, читающий мои мысли Анголь Мамалькауэльо.— По ночам издалека приходили люди — предупредить нас, что армия землевладельцев раскинулась лагерем у края долины — там, где она смыкается с ребрами Кордильер. С тех пор нас уже не покидало чувство, которое испытывает загнанный охотниками зверь. Однажды один бедный креол, живший в добром соседстве с индейскими резервациями — его звали Диоскоро Бобадилья,— устроил на них засаду, вооружившись дедовским ружьем. Это был настоящий мужчина — с чистым сердцем, открытой душой. Когда я в последний раз встретился с этим гордым, отважным человеком, он сказал на прощание: «Я не позволю этим негодяям украсть у меня ни пяди земли». И, как я уже говорил, он устроил на них засаду. А на рассвете к нам пробрался мальчик-индеец по имени Анибаль Тупальальячи с криками, что на одном из кольев ограды участка Бобадильи торчит его голова и широко раскрытыми от боли глазами смотрит на украденную у него этой ночью ту самую пядь земли. И тогда мы все собрались вместе,— голос старого, верного Анголя Мамалькауэльо звучит глухо,— мы собрались взглянуть, что там происходит, и действительно, там внизу, на одном из кольев ограды увидели голову Диоскоро, и он смотрел широко раскрытыми от боли глазами. И вот, собравшись, мы стоим, и смотрим, и говорим: «Вот теперь дела принимают серьезный оборот».
И это было первое, что мы рассказали Хосе Сегундо Тапии, он поднялся к нам вскоре после этих страшных событий.
— Что он сказал на это? Что он обо всем этом думал?
— Он сказал: «Какое же они дерьмо все-таки...» Извините за такие слова, сеньор. А потом отправился вниз, обратной дорогой. В ту зиму выпало много снега, небо окрасилось в цвет темных оливков, тяжко дышал свинцовый, угарный ветер. Все, решительно все предвещало беду.
— Расскажи ему, что он сказал, перед тем как уйти,— голос Анимы Лус Бороа звучит в такт дробному перестуку ее деревянных башмаков.
— Ах, ну да, конечно! — восклицает старый, забывчивый Анголь Мамалькауэльо.— Он спросил: «Какое сегодня число, Анголь Мамалькауэльо?» Я точно не знал какое и спросил у знахарки Себастьяны Теран Теран. И вот что она мне сказала: «Сегодня 27 октября 1931 года». И мальчик наш, Хосе Сегундо, отчего-то заволновался, сказал, что время уходит. И ушел.
Потом уже, в самый разгар зимы, он попросил, чтобы я собрал вождей, но не всех касиков, а только некоторых... Нет-нет — главных касиков, вот как он сказал. Но я привел всех: равенство сплачивает, а кто будет главным — покажет время. Хосе Сегундо рассказал нам, что тот самый Ибаньес, о котором я уже говорил, свергнут. А если быть точным, он сказал: «Наконец-то этому типу дали под зад», простите за такие слова, сеньор. А потом еще растолковал, что для коммунистов этого мало, ведь они все еще вне закона. И вот тут я понял,— добавляет старый, призадумавшийся Анголь Мамалькауэльо.— Раз эти люди по-прежнему вне закона — значит, они не отступились от справедливости и все так же умеют распознать врага. Потом Хосе долго и с увлечением рассказывал нам о том, как военные моряки повернули оружие против правительства, требуя социальной справедливости, а в Талькауано и Кокимбо разгорается огонь гражданской войны. И он то и дело спрашивал нас, хорошо ли мы понимаем, в чем тут главная суть? Моряки, люди, одетые в форму защитников власти и испокон века хранившие верность этому обычаю, перебили своих начальников, захватили оружие для того, чтобы дать народу свободу выбора власти и провести аграрную реформу по справедливости. «Мы, коммунисты, считаем, что главный сейчас путь — тот, который выбрали моряки,— так сказал наш мальчик.— Отныне и впредь мы станем готовиться к бою и дадим его там, где потребуется, чтобы крепко проучить этих насильников, унижающих наше достоинство, грабящих наши земли»,— вот что сказал наш мальчик Хосе,— говорит Анголь Мамалькауэльо.
— Спустя три дня он ушел,— добавляет Анима Лус Бороа.
— Нет: через два с половиной,— поправляет ее старый, педантичный Анголь Мамалькауэльо.
— Особой разницы в этом нет,— оправдывается Анима Лус Бороа.
— Есть, и еще какая,— настаивает Анголь Мамалькауэльо.— Сеньор хочет знать правду, а не вымыслы, невесомые, словно дым, который не оставляет следов в небе. И если уж мы решили рассказывать, то надо во всем оставаться точным, ведь мы — хозяева своей памяти, а не наоборот.
Потом, помолчав, продолжает:
— Уходя, он мне оставил множество всяких наставлений. Он сказал мне, что решил как следует разведать весь наш район. Ему надо было отыскать подходящие тропы, где можно было бы расставить уачис. Уачис, сеньор, это такие ловушки, западни, которые устраиваются для зверей. Некоторые охотники называют их на испанский манер — волчьими ямами. Он попросил, чтобы я отыскал скрытые от посторонних глаз расщелины и пещеры, где можно было бы хранить провизию, воду и снаряжение и разжигать огонь, не боясь, что снаружи его обнаружат. И еще он спросил, что мне известно о нашем вооружении. Есть ли оружие у моих касиков, можно ли его раздобыть еще, хотя бы ружья и револьверы. Еще он мне наказал, чтобы я осторожно разведал, где и как располагаются пульперии — так в деревнях называются магазинчики, где можно не только сделать покупку, но и отдохнуть с дороги, и закусить. То же самое он хотел знать и о больших молинас — мельницах, на которых помещики производят муку из пшеницы. Ты же знаешь, сеньор, что Провинсиа де Мальеко звалась житницей Чили. Оттого и житницей, что вся долина была усеяна этими мельницами.
— И он ушел, сказав, что вернется летом будущего года,— говорит Анима Лус Бороа.— Но чтобы мы тотчас же его известили, если до этого что-нибудь произойдет.
— Ну и как, случилось что-нибудь?
— Когда он ушел, огонь взметнулся над Кордильерами. Вулканы будто взбеленились. А может быть, это был один вулкан.
— Тот, который зовется Чертом?
— Очень может быть, сеньор. Похоже, это был настоящий демон вулканов, дух огня, ринувшийся на землю.
— Пока шло извержение вулкана, все дороги сюда были полностью перекрыты, в районе объявили чрезвычайное положение. Когда опасность миновала, сюда заявились какие-то сеньоры и объяснили нам, что они землемеры и их дело простое: нужно восстановить четкую линию нашей границы там, где она пострадала от извержения. И они стали ходить и тут и там и делать снимки, и что-то замерять, и еще при этом пользовались аппаратом на трех деревянных ногах. И все время делали какие-то пометки на карте. Теперь я думаю, что это землевладельцы их сюда послали, чтобы в точности знать расположение наших лучших горных земель и пастбищ, отнять их у нас и поделить уже между собой, оставив нам голые камни и ледники.
— Ты бы сходил, показал сеньору, по каким местам они ходили,— говорит Анима Лус Бороа.— А я приготовлю кофе, пока не стемнело. Ты останешься на ночевку, сеньор?
— Если найдется место.
— Ты же видишь, наш дом не слишком велик, но ты вполне можешь разместиться у огня. Мамалькауэльо будет поддерживать его всю ночь.
— Хосе Сегундо вернулся в Пампу де Кайулафкен. Он пришел сюда из Сантьяго, и было это уже в ноябре 1933 года.
— Он слал там, где ты проведешь эту ночь,— говорит Анима Лус Бороа,— а перед этим сидел, вытянув ноги к огню, в точности как сейчас ты, и держал в руке чашку с мудаем — ароматным травяным настоем.
— К тому времени трое из моих касиков уже были убиты, а у их жен отняли землю. Знаешь ли ты, что мапуче по-араукански означает человек земли?
— Да, я знаю это, Анголь Мамалькауэльо.
— Тогда постарайся это понять, что означала потеря земель не только для тех, кто стал жертвами грабежа, но и для всей общины. А они еще завели гнусный обычай насаживать головы убитых на колья теперь уже своей, за ночь поставленной ограды, и не возвращать тела убитых родственникам. Те трое касиков жили близ лагун Икальма и Гальете, где нарождается Био-Био. Когда Хосе Сегундо узнал о том, что случилось, он бросил все свои дела. И университет бросил. Ему оставалось всего несколько месяцев, чтобы сдать экзамены на педагога.
А незадолго до этого была страшная ночь. Чистые запахи леса и сырого тумана смешались со смрадом прокисшей пороховой гари и горьким дымом от далеких костров. Они уже собирались, и я слышал, как шепотом отдаются приказы, и змеями подползают лазутчики, высматривая удобные подходы. А там подтягиваются и остальные... Я хочу все это помнить. Иметь память означает — выжить.
— Когда Хосе Сегундо пришел, что он перво-наперво сделал?
— Женился, сеньор.
— Как — женился?
— Как это принято у индейцев. Он взял в жены одну маленькую индеанку, дочь одного из моих касиков — Марсиала Альипена.
— Дельянира Альипен — так ее звали,— уточняет Анима Лус Бороа.
— Он ее приметил еще раньше. Поэтому, зная обычай, он сколько-то времени пробыл в Лонкимае — я уже говорил: то местечко расположено неподалеку отсюда, ближе к реке. И, побыв там, поднялся в Пампу и попросил у меня аудиенцию — так, кажется, принято у вас говорить. И мы, как водится в таких случаях, стали готовиться, чтобы подобающим образом встретить Хосе Сегундо. И он мне сказал: «Я хочу взять в жены Дельяниру Альипен».— «Дала ли она свое согласие?» — «Нет. Но я полон решимости». Если так,— говорю я,— то иди в ее дом и возьми ее. Когда вы вернетесь, мы устроим достойный праздник.
Наездник он был отличный, в искусстве верховой езды мог поспорить с любым индейцем. И вот он сел на коня и отправился к дому Марсиала Альипена. А там его уже ждали невеста, ее родители и братья. Вид у родителей и братьев был самый свирепый. А невеста уже была в платье и украшениях, полагающихся для свадебного обряда. Дельянире было пятнадцать лет. Она сидела в углу и плакала. Так полагается по обычаю, сеньор, все это вроде маленького представления. И вот на двор въезжает Хосе Сегундо, спрыгивает с коня и ударом ноги открывает дверь. Братья бросаются на него и изрядно колотят. Он вступает в схватку и швыряет двоих на пол. Та же участь постигает и их отца. Потом он уводит мать — подальше от дома. Ни братья, ни отец не имеют права подняться с пола. А невеста заливается горьким плачем. Он берет ее за волосы, подводит к коню, усаживает на него и сам вспрыгивает на коня. И конь галопом уносит их в лес. Да, еще: через круп коня он заранее перебросил две большие холщовые сумки с запасом провизии и водой, а в лесу, в незаметном для чужих глаз месте, приготовил из листьев пышное ложе. И после этого минуло три дня.
Через три дня они вернулись и вошли в дом Марсиала Альипена. Там их уже ждали — с мудаем и зажаренным на костре поросенком. Когда всех об этом оповестили, мы тоже стали собираться. И вошел Хосе Сегундо и поцеловал в лоб Аниму Лус Бороа. Потом подошел ко мне и меня поцеловал в лоб. Потом Дельянира Альипен поцеловала в лоб Аниму Лус Бороа, и потом Дельянира Альипен поцеловала в лоб и меня. И так мы стали ее матерью и отцом. И за это мы подняли чаши.
После этого я повелел четырнадцати юношам:
— Вам надлежит принести пучки конского волоса. А потом повелел еще четырнадцати юношам:
— Вам надлежит срубить деревья и снять с них кору и ветви. Но выбирайте из них лишь те, что устоят от любого ветра и самых грозных потоков воды.
И они все ушли.
И тогда я повелел четырнадцати девушкам:
— Вам надлежит замесить глину. Но выбирать следует только самую мягкую и чистую.
И потом повелевал другим четырнадцати девушкам:
— Вам надлежит выбрать место и очистить землю. Пусть на ней не останется ни единого камня, ни единой щели, ни бугорка, ни даже морщинки — одна-единственная ветвь куста должна там остаться.
И они все ушли.
Тогда я повелел оставшимся:
— Через семь дней мы устроим праздник в честь Хосе. Повелеваю вам обзавестись всем для этого необходимым.
А потом мы оставили жениха с невестой наедине — в доме Марсиала Альипена, и каждый принялся за порученное ему дело.
— Однако ночью Хосе Сегундо вернулся в наш дом. Он хотел поговорить с Анголем Мамалькауэльо,— вставляет Анима Лус Бороа.
— И я помню все, что он мне сказал — до единого слова. Сначала он объяснил, что еще в 1929 году Национальный конгресс принял поправку к аграрному закону. По ней, все три ассоциации колумбов — помнишь, я тебе о них говорил? — эти ассоциации приобретали право собственности на 175 тысяч гектаров земель в верховьях Био-Био, то есть в этих самых местах, сеньор,— и еще в Нитратуе, Ранкиле и Лонкимае. То есть им отходила вся эта область. Эту поправку приняли за нашей спиной, о ней ничего не знали и мелкие землевладельцы — креолы из наших мест, и даже те политические силы, которые были на нашей стороне.
Эта уловка закончилась неудачей: им оказали сопротивление креолы из долины — владельцы небольших участков, у которых были официальные права на собственность, и эти права предоставило им государство. К тому же, сказал Хосе, правительство не могло принять поправку в то время — слишком уж тревожно складывались дела в Сантьяго, в других городах и провинциях Чили.
Ну а теперь, сказал Хосе Сегундо, перейдем к главному, из-за чего я и пришел. Ровно две недели назад Национальное общество агропромышленников обратилось за поддержкой к президенту — зовут его Артуро Алессандри, и они как раз перед этим выбрали его на второй срок. Без них он не смог бы удержаться у власти. А это общество, по сути, стало не только его патроном, но и патроном тех самых ассоциаций, и все они были заодно...
В итоге, сказал Хосе, скоро, очень скоро к нам заявятся незваные гости, и не одни, а с карабинерами и наемниками. Это должно случиться вскоре после рождества, самое позднее — после пасхи.
Я спросил его, что нам теперь делать, и он, не задумываясь, ответил:
— Защищаться везде, где только возможно. Ведь ты — касик, вождь, Анголь Мамалькауэльо. Я буду у тебя военачальником. У нас нет ни малейшей надежды на победу, но они все равно всех перебьют, если будем сидеть сложа руки. Но главное даже не в этом: поднявшись на борьбу, мы задержим их продвижение, и они долго еще не смогут безнаказанно грабить других крестьян. Значит, мы дадим тем крестьянам время на передышку, а кто знает, может быть, и победу. Ведь обстановка в стране в любой момент может перемениться. Я крепко верю в это, что рано или поздно у нас будет издан закон, утверждающий право на землю тех, кто ее обрабатывает...
— И теперь скажи мне, сеньор: разве не прав был наш мальчик? Ты хоть понимаешь, что теперь, когда у нас — президент Альенде, обязательно будет издан этот закон? Возможно, он уже мало чем поможет нам, арауканам... Возможно. Но для очень многих крестьян он будет в самый раз, сеньор, это точно.
— А о чем еще говорил Хосе Сегундо?
— В этом добровольном самопожертвовании, говорил он, заложен большой политический смысл. В долинах сейчас сгоняют с земель их хозяев — обедневших креолов. Это издревле были пахотные земли, но сейчас там появились золотодобытчики и скотоводы. Я думаю, золото есть и здесь, месторождение может оказаться в любой части зоны, сказал Хосе Сегундо. Вот почему они рвутся сюда. Как жаль, что у нас нет уже времени искать его, а то мы смогли бы нанять целую армию адвокатов.
Той же ночью я подробно рассказал ему обо всем, что проделал по его просьбе, ты помнишь, сеньор, о чем он меня просил?
— Я помню все, Анголь Мамалькауэльо.
— А я все успел сделать к его приходу.
— Потом был праздник — медан,— говорит Анима Лус Бороа.
— Верно, это было самое примечательное событие тех дней. В назначенный срок, с восходом солнца, все вышли из своих хижин, одетые в рабочую одежду. Дом Хосе намечено было построить за километр отсюда, может, чуть дальше.
— А что говорила Дельянира? Как она вела себя?
— Она только смеялась и глаз не сводила с него, сеньор. Редко когда я слышала от нее хоть словечко, сеньор,— говорит Анима Лус Бороа.
— Но как женщина, ты можешь сказать мне, что творилось в сердце юной индеанки?
— Свершившееся чудо, тайная гордость, счастье творилось.
— Я сам осмотрел то место,— говорит старый, одобряющий Анголь Мамалькауэльо.— Все было сделано так, как я им велел, и оброненная там иголка резала бы глаз мимо проходящему человеку. В центре наши девушки выкопали квадратную яму для очага и выложили ее стенки деревом и глиной. Потом с берегов реки Думо принесли крупные круглые гладкие камни, они отлично держат тепло, когда ночью все дрова превращаются в тлеющий уголь. Около семи утра юноши начали копать ямы для опорных столбов. Двое из девушек уселись плести из конского волоса длинные и прочные косички, а наши жены стали готовить пищу и разливать мудай по большим глиняным кувшинам.
В день медана, сеньор, дом поднимается очень быстро, потому что строят его всей общиной. На все это уходит ровно столько времени, сколько нужно, чтобы приготовить праздничное угощенье. Это подарок, который община делает новобрачным. Каждый вносит свой вклад: кто работает, кто приводит домашних животных, кто несет дичь, всякую утварь, рабочие инструменты. И когда начинается праздник, дом уже готов полностью, стоит, будто всегда так и стоял. Неподалеку — огород, по двору расхаживают куры, в загонах — козы и свиньи. Чулан полон еды, есть запасы мудая на случай, если заглянут гости, есть инструменты, чтобы хозяева могли работать по дому, ухаживать за огородом и полем, в доме хранится оружие, теплится очаг, расстелено мягкое ложе из шкур нестриженых овец. Таков наш обычай, сеньор.
Ближе к полудню стали настилать потолок. Делается это так: берутся привезенные из леса бревна — одинаковой длины и толщины. Их кладут в ряд, плотно друг к другу и плотно связывают с помощью тростниковой бечевки, она здесь зовется «воки». Ничего крепче воки я не знаю, сеньор. Затем берется глина, и ею обмазываются места стыка бревен, это делается для того, чтобы ни одна капля дождя никогда не попала на пол, сеньор. Глине дают немного просохнуть. Потом потолок укладывают на становые столбы с уже готовыми стенами. С той стороны потолка, которая обращена к небу, ровными рядами проложены прочные длинные косички, сплетенные из конского волоса, по ним, как по желобкам, будет стекать дождевая вода. Там же, по углам, уложены крупные, широкие и плоские камни, чтобы ни в какую бурю ветер не сорвал крышу. Вот и вышло, что дом Хосе был готов уже к трем часам дня. Мальчик наш был очень счастлив. Он сказал:
— Анголь Мамалькауэльо, а ведь это — первый дом в моей жизни. Мой дом... Ты понимаешь, Анголь Мамалькауэльо?
— Как не понять, Хосе,— ответил я ему.
— А потом мы открыли кувшины, и начался пир. Он продолжается два-три дня, потом каждый, кто хочет, может вернуться домой — отдохнуть, отлежаться. Никто в обиде не будет, всем известно, что силы человеческие не беспредельны. А Хосе плясал, и всем понравилось, как он пляшет. На второй день юноши показали ему, как надо играть на культруне — это такой небольшой барабан, и представь себе, сеньор, он в два счета этому научился. Вообще, я думаю, главным свойством его натуры было неистребимое стремление познать все, научиться всему. Любознательность этого маленького разбойника была неисчерпаемой,— говорит старый, любящий Анголь Мамалькауэльо.— Его дом просто ломился от книг, другого такого дома не было во всей резервации.
— А ты умеешь писать, Анголь Мамалькауэльо? — неожиданно спрашиваю я. Он смотрит на меня с сомнением. И медлит с ответом.
— Я — нет,— говорит наконец старый, неграмотный Анголь Мамалькауэльо.— Но Хосе научил меня одной фразе. Это все, что я умею.
— Ты не хочешь написать ее для меня?
Я протягиваю ему блокнот и ручку, и, с трудом выводя каждую букву, старый, взволнованный Анголь Мамалькауэльо пишет для меня вот эти слова: «Все люди равны».
— Ты веришь в это, Анголь Мамалькауэльо?
— Да,— твердо говорит мудрый Анголь Мамалькауэльо. Сейчас я знаю, что настал самый трудный момент. Вот-вот
начнется рассказ о том, ради чего я и приехал, но я не могу, не имею права быть назойливым, ведь в этой истории — вся их жизнь, и сейчас она тоже проделала длинный нелегкий путь — в их памяти.
— Потом настал день, который мне особенно памятен,— говорит старый противник затянувшегося молчания Анголь Мамалькауэльо.— Это было, когда в резервации появились первые плантаторы и землевладельцы. Они были без оружия, но их сопровождал отряд карабинеров. Все утро выпытывали, где находится мой дом, обошли все в округе, пока наконец не отыскали меня. Тем временем Анима Лус Бороа успела предупредить Хосе, и он пришел мне на помощь. Он предупредил меня, что в любой ситуации следует сохранять спокойствие и невозмутимость: ведь главное их намерение — побольше о нас разузнать и по возможности довести дело до ссоры.
И вот мы оба вышли навстречу. Тот, что явно выделялся среди других громким голосом и властными жестами, был тот самый Рольф Кристиан Гайсель, о котором я уже тебе говорил. Держался он высокомерно, однако видно было, что ему не терпится вызвать нас на откровенность. Чтобы знать наверняка, в чем наша слабость, а в чем — сила. Когда он увидел Хосе, то сразу насторожился. И спросил:
— А этот что здесь делает?
— Я его зять,— говорит Хосе.
— Ты что же, женат на индеанке?
— Я женат на женщине.
Он молча уставился на Хосе, и я думаю, что именно в тот момент и Гайсель и все остальные из его компании мысленно как бы поставили дьявольскую свою отметину на моем мальчике, словно выжгли клеймо. Поняли, что как раз он-то и представляет для них главную опасность.
— Мы приехали сюда,— наконец говорит Гайсель,— чтобы провести в жизнь закон, который последние пять лет существовал для нас лишь на бумаге — все как-то откладывали до лучших времен.
— Что ж, давайте посмотрим этот самый закон,— говорит Хосе,— ведь даже слухи о нем и то сюда не доходили. Не правда ли, странно? А ведь вполне может статься, что он касается и нас.
И опять этот Гайсель целит в лоб ему своим тяжелым взглядом.
— Язык у тебя неплохо подвешен,— говорит он.
— Я преподаю историю и испанский,— отвечает Хосе.
— Оно и видно,— говорит Гайсель. И начинает рыться в карманах, и делает это явно не торопясь. Потом достает наконец какую-то бумагу. А точнее, сеньор, целую папку, доверху полную бумаг,— она лежала в чересседельной сумке. Передает все это мне и говорит: — Почитайте-ка вот это. Тут все написано, и думаю, дополнительных разъяснений вам не понадобится.
Хосе незаметно подает мне знак и забирает бумаги:
— Ну вот, опять ты забыл очки. Дай уж, я тогда почитаю. Читает он очень долго, медленно переворачивает одну за другой страницы. Кони под всадниками фыркают, горячатся, из ложбинки неподалеку доносится шум ручья — вот все, что нарушает молчанье. Карабинеры застыли на конях словно куклы — не говорят между собой, даже по сторонам не смотрят, и глаза у них мертвые. Хороших свидетелей подобрал себе Гайсель. А сам он смотрит на Хосе, будто снимает с него мерки, как портной или гробовщик — на руки его, ноги, какого роста, прикинул, потом опять вперился в склонившуюся над бумагами голову. День был вялым, пасмурным — должно быть, подступали дожди. Один из тех летних дней, когда вдруг ни с того ни с сего ложится повсюду туман или начинает лить как из ведра. Наконец Хосе поднимает голову и смотрит Гайселю прямо в глаза.
— Я скажу вам, что думаю по этому поводу,— говорит он совершенно невозмутимо.— Все это очень даже может быть, как вы уже сказали, законом. Но никакой закон не поможет вам отнять у нас землю. Правительство, само государство — вот кто ввел в обиход позорный принцип, по которому были организованы индейские резервации, вот кто установил на наших землях границы, запретив нам их нарушать под страхом смерти. А свои собственные принципы надо уважать. Вы же видите: нас столько раз толкали в грудь, что мы прижались уже спиной к границе с Аргентиной. Еще немного — и мы окажемся на ее территории. До каких же пределов вы будете наступать? — поднимает голос Хосе.— Вся трагедия в том, что законы вырабатываете вы и они состоят на службе у вас. У нас нет юридического права защищаться от ваших законов. И, кроме всего прочего, ваши требования невыполнимы по той простой причине, что все наши земли, вместе взятые, никак не набирают тех 175 тысяч гектаров, что проставлены на бумаге. Вам придется добирать недостающее, отнимая кровное у креолов — потомков первых испанцев, чтобы сделанное оказалось в полном соответствии с написанным.
— Очень сожалею,— ухмыляется Гайсель,— но я как член национального общества агропромышленников обязан вас известить, что мы исполним предписанное нам законом.
— Это ваше дело,— говорит Хосе,— мы ничего не потеряем, оставшись здесь, потому что нам некуда уже идти.
— Но эти земли лежат здесь мертвым грузом, никто их не обрабатывает,— почти кричит Гайсель,— а государство не может себе позволить такую роскошь по отношению к своим собственным ресурсам. Вы являетесь тормозом прогресса.
— Весьма странно выглядит прогресс,— говорит Хосе,— которому для самоутверждения необходимы штыки и мошеннические законы.
— Как, вы еще и оскорбляете наши вооруженные силы? Эй, капрал, вы только послушайте, что он такое говорит! — восклицает Гайсель, оглядываясь через плечо на карабинеров.
— Вы всего лишь несколько лет, как приехали в эту страну,— говорит Хосе,— а я здесь родился. И никто не заставит нас сойти с этого места.
— Ну это мы еще посмотрим,— рычит Гайсель.— Да-да, вам это так не пройдет!
С этими словами он разворачивает коня и пускает его в галоп. Следом, в облаке пыли, скачет охрана. Сколько-то дней никаких вестей к нам не поступало, но мы все смотрели на дорогу, словно так можно проникнуть в замыслы затаившегося врага. И вот Хосе сказал однажды утром:
— У нас иссякли запасы продовольствия и слишком мало осталось семян для предстоящего сева. Не хватает и инструментов. Я предлагаю небольшими группами спуститься в долину, и пусть каждая группа выберет свой маршрут, чтобы всем вместе обойти как можно больше пульперий. Ведь там можно не только купить все необходимое, но и послушать, о чем говорят за столиками. Кто знает — может, повстречаются и горожане. Пусть каждый внимательно слушает и запоминает все, когда речь будет вестись о нас. Но помните: мы должны соблюдать дисциплину и не поддаваться ни на какие провокации. Пусть каждая группа назначит старшего — он должен знать обо всем, что услышите вы. Выступаем завтра в пять утра.
— Время и лишения притупили чувство локтя,— задумчиво говорит Анголь Мамалькауэльо,— но Хосе вернул нам его. И вот как поначалу пошли дела. Мы вышли утром. В долинах никто ничего не захотел нам продать. Ты знаешь, отчего они зовутся пульпериями? От слова «пульпо» все происходит, что значит «осьминог». Бедняки-крестьяне, рабочие прозвали хозяев «пульпос», «осьминогами» за то, что у тех слишком много отросло рук и все норовят залезть в чужой карман.
Так вот, пульперий закрылись повсюду, где появлялся хотя бы один индеец. Моих юношей забрасывали камнями, а тех, кто прошел дальше, в глубинку, арестовали карабинеры и несколько дней продержали в околотке, предъявив вздорные обвинения — в бродяжничестве, воровстве, неуважении к представителям власти. Их били дубинками, хлестали плетями. И голыми швыряли в ледяную воду. И только спустя несколько дней пинками вышвырнули на улицу. А еще три дня спустя после того, как вернулся последний из них, вооруженные до зубов землевладельцы предприняли против нас военные действия. Запылали индейские хижины, и пошла осада наших земель. Тревожные вести приходили отовсюду.
Хосе отправился в Сантьяго — надо было попытаться, как он сказал, найти поддержку среди определенных политических кругов и адвокатов. Там он вел переговоры еще с одной группировкой — ее представляли служители церкви, но никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы помочь в этом деле. Адвокаты и политики заявили ему, что положение наше безвыходно: закон учитывает интересы лишь одной стороны. И, значит, нам следует всеми силами противиться его проведению в жизнь, а не искать способов обернуть его в нашу пользу. Хосе возразил: закон появился на свет во времена диктатуры Ибаньеса, но конгресс, учитывая обстановку в стране, положил его под сукно и лишь спустя много лет одобрил, на что ему просто ответили, мол, именно это и называется политикой — ни больше ни меньше. Когда Хосе вернулся, мы тоже не смогли ничем порадовать нашего мальчика. Еще больше стало мертвецов, вдов и сожженных жилищ. Двери пульперий по-прежнему были для нас заперты. Жить стало совсем тяжело, сеньор. И, зная это, Хосе принял решение...
— Какое решение? — спросил я, прерывая затянувшуюся паузу.
— В ту ночь он не спал,— говорит Анима Лус Бороа.— Все ходил по дому и разговаривал сам с собой. Три слова я расслышала.
— Какие это были слова?
— Он сказал: «Сейчас или никогда».
— Часов в пять утра он вышел, никого не предупредив,— говорит врасплох захваченный Анголь Мамалькауэльо.— Мы подумали еще, что он вернулся к себе. И только спустя три дня он появился здесь, на пороге, молча взглянул на нас и обнял. Он весь дрожал. Он был голоден, и одежда его была грязной и мокрой, а из-под плаща выглядывал ружейный приклад. Я налил ему чашку мудая, потом еще одну и еще, и только тогда к нему вернулось желание говорить. И он сказал мне: «Анголь Мамалькауэльо, мы совершили нападение на четырнадцать пульперий и все привезли сюда. Все, что смогли забрать. Семеро наших погибли, еще двадцать четыре ранены, но и с той стороны имеются раненые и убитые. И теперь хорошенько запомни: война ступила на нашу землю; ты слышишь меня, Анголь Мамалькауэльо?» — «Я слышу тебя, Хосе,— сказал я.— Почему ты не взял меня с собой?» — «Потому что если падет один вождь, его место должен занять другой».— «Тогда все хорошо»,— одобрил я. И поцеловал его в лоб.
— Да, сеньор! События стремительно обрушились на долину,— говорит подобный грозной лавине Анголь Мамалькауэльо.— Хосе рассказывал потом, как средь бела дня не таясь он и еще сорок юношей-всадников, вооруженных старыми ружьями, мотыгами, вилами, садовыми ножами, мчались вниз по дороге. Да, самые обычные орудия труда он умел обратить в оружие. Первая на их пути пульперия была в Лонкимае.
По традиции хозяева — пульперос — занимались только обменом. За инструменты для возделывания труда земли они получали скот, за семена — свежие овощи, зелень, а за шерсть расплачивались мукой. Тем, кого хорошо знали, давали в кредит — в счет будущего урожая. Но с должников уже брали, как здесь говорят, макилу, то есть четверть всего урожая. Получалось, что хозяин забирал себе на целую четверть больше, чем полагалось по обмену. Поэтому в наших домах никогда не водилось денег. А деться некуда: одно и то же во всех пульпериях. Но больше всех награбил добра Хуан Смитманс, главный землевладелец на юге, его звали «касиком всей пшеницы провинции Мальеко». Но он был еще и владельцем ста пятидесяти мельниц, разбросанных по четырем провинциям. Кто же не знал его? Прославился он главным образом тем, что в дни выборов в сопровождении своих людей на коне въезжал в помещение для голосующих, набрасывал лассо на урны и уволакивал их домой. Спустя три дня, перетасовав на свой вкус их содержимое, Смитманс возвращал урны на место. Вот как, думается мне, оказался у власти в 1932 году Алессандри; так же получил свои «голоса» и некто Гонсалес Видела, но уже в 1945-м; тем же способом переизбрали небезызвестного тебе Ибаньеса — в 1952 году; Хорхе Алессандри, по кличке «сеньора», испытал этот метод в 1958-м, а потом и Фрей — в 1964-м. До наших дней Смитманс вроде бы не дожил, но эту его привычку, я думаю, еще будет кому унаследовать. «Непокорных» он убивал своими руками и никогда не спешивался для разговора. Разговаривал, не слезая с лошади. Он был из тех немцев, что приплыли в Чили в конце прошлого века и, как и все его компаньоны, получил от правительства свой надел. И с помощью пуль, спиртного, сифилиса, Верховного суда над индейцами и еще крупных и мелких подкупов основал здесь свою империю... Ах, сеньор, до какой же низости может пасть человек!
Этот самый Смитманс был еще и владельцем всех местных пульперий, и это он отдал приказ закрыть их для индейцев. Жил Смитманс в селении Лос Саусес, внизу, в долине, неподалеку от местечка Траиген. Теперь ты представляешь, с кем вступил в схватку Хосе...
И вот домчались они до Лонкимая, Хосе и еще сорок всадников, и часть из них, не слезая с коней, с криками стала носиться вокруг пульперий, а другие, спешившись, вышибли дверь топорами. В помещении были вооруженные охранники, и они без предупреждения дали залп по вошедшим. Хосе вынужден был всех перебить. Потом из пульперий вынесли все товары, навьючили лошадей и умчались. Точь-в-точь как в старые времена арауканских набегов, сеньор. Я плакал, когда он рассказывал мне об этом, да, плакал, сидя вот здесь, с чашей мудая в руке.
Спустя полчаса прибыли карабинеры — узнать, что там происходит, но Хосе в это время уже совершил налет на пульперий в местечке Вилья Порталес. Три пульперий они разорили и отправили сюда десять навьюченных коней. Здесь, в горах, уже заранее был подготовлен тайник, но где именно, знали очень немногие. Во всех пульпериях происходило одно и то же: всякий раз охрана без предупреждения открывала огонь, и Хосе вынужден был ее уничтожать, сами же пульперий он предавал огню.
Новости там не летают, а ползут, словно улитки, и у него было время пройти перевал неподалеку от Лонкимая и хорошо известными нам скрытыми тропами выйти к поселению Ломакура, где отряд разорил три пульперий, перебил стражников, собравшихся было стрелять. Никто в долине так и. не понял, откуда свалилась беда, и неизвестность тревожила всех еще несколько дней. В ту пору нередко случались бандитские налеты — грабили банки, вокзалы, и это сбивало полицию со следа.
Из всех доставленных сюда трофеев самым ценным было оружие: не обстрелянные еще ружья с запасом патронов, охотничьи ножи и револьверы. Хосе решил, что пора уже ставить большие капканы — уачис на всех дорогах, ведущих к нам. Я приступил к делу. Мы устроили сотни уачис,— говорит старый, видавший виды охотник Анголь Мамалькауэльо.
— После этого он стал подумывать о налете на мельницу в Черкенко,— напоминает Анима Лус Бороа.— Расскажи, как это было.
Медлит с ответом старый, задумчивый Анголь Мамалькауэльо. Что ж, простой эту историю не назовешь, однако логика ее событий вполне ясна и последовательна. Но старику приходится нелегко, нередко он умолкает, чтобы перевести дух, отчего паузы порой затягиваются. Никто и не думает спать. Не усну и я, примостившись в том самом углу, где любил сиживать и Хосе. Уже шесть утра. Снаружи раздается беспокойный перестук копыт, и вот уже голова Эспуэлы, моей кобылы, с любопытством просовывается в дверь. И я говорю старому потакателю всем сластенам на свете, Анголю Мамалькауэльо:
— Дай мне немного сахара. Мне нужно объяснить ей, что я занят.
Нежными губами она мягко берет сахар с ладони и тычется ими в лицо, глаза, в шею, я глажу ее, запускаю пальцы в густую гриву и говорю:
— А теперь ступай, порезвись немного. Сегодня не будет ни купанья в ручье, ни парного молока, ни бешеной скачки. Вот завтра — другое дело.
На прощанье я легонько похлопываю ее по крупу, и кобыла уходит. Останавливается неподалеку. Обернувшись, коротко, призывно ржет. Мы уже собираемся пить кофе.
— У них уже не оставалось пульперий, к которым стоило бы приставить охрану,— говорит Анголь Мамалькауэльо.— Все были сожжены. Но им и в голову не приходило позаботиться о сохранности мельниц. Ведь они большие, как фабрики, и там работает много народу. Нас заботило другое: как доставить муку сюда? Ведь она хранится там уже в готовом виде, в мешках, и каждый весит 54 килограмма. Там сотни, тысячи этих белых, громадных мешков, доверху полных мукой самого свежего помола. Конечно, можно было рискнуть, но только один раз: другого уже не представится. После этой атаки в дело скорее всего вступят уже армейские части и возьмут под охрану все мельницы в округе. Так что же, по-твоему, все-таки сделал Хосе, чтобы доставить муку сюда?
Первым делом мы подготовили для нее хранилище, и его уж никто никогда не смог бы отыскать. Да и как пройти туда, если это местечко расположено среди вершин Кордильеры де Мело, нависающей прямо над Черкенко. Там повсюду были расставлены уачис, свободным оставался лишь один проход, неприметная тропа, по которой, однако, могли пройти наши повозки. Хосе заметил, что волов надо бы заменить лошадьми. Лучше всего першеронами — они привычны к повозкам, необычайно выносливы и рысью тянут даже большой груз, и весь день напролет могут без устали везти поклажу, вышагивая по горным дорогам. Они словно родились для этого.
И тогда мы запрягли першеронов — по двое в упряжке. А повозки выбрали самые большие, с колесами на металлических осях и ободах, выкованных из железа.
И мы отправили их в Черкенко; повозки шли с большим интервалом, стоянка была намечена у въезда в селение. В пятницу ночью мы атаковали мельницу — она стояла как раз у дороги, ведущей на Кордильеру де Мело. Время атаки было выбрано не случайно, ведь по субботам и воскресеньям никто не работает. Мы не хотели убивать рабочих. Как обычно, там находилась охрана, но была она малочисленна, к тому же плохо вооружена. Да и какая охрана? Просто очень пьяные люди резались в карты.
Мы разбились на небольшие группы и верхом тихо подобрались к кладовым. Пока несколько наших юношей снимали стражу — они убивали ножами, чтобы не вышло шума,— мы открыли закрома и подвели к ним повозки. Четыре часа шла погрузка, и никто нас за это время не потревожил. На дороге не было ни души, здание мельницы освещалось, как и бывало каждую ночь. И в любую ночь на мельницах людно — вот и сейчас со стороны казалось, что рабочий день здесь просто несколько затянулся, вот грузчики и суетятся, чтобы поскорее нагрузить обоз да разойтись по домам. Сто пятьдесят мешков мы погрузили и еще до рассвета отправили их в свое хранилище. Вышло около десяти повозок. От Кордильеры де Мело до Пампы де Кейулафкен — семьдесят километров птичьего полета. Два дня мы поднимались с грузом, следуя потайными тропами. В понедельник весь груз прибыл к верховьям Био-Био. Мы не стали сжигать мельницу Смитманса, ведь мы не какие-нибудь преступники, у нас рука не поднимется, чтобы сжечь урожай, даже если он принадлежит врагу. В тот же понедельник, утром, хозяевам стало известно о налете на их предприятие. И начиная со вторника вся местная пресса стала трещать без умолку, расписывая «подвиги» бандита по имени Хосе Сегундо Леива Тапия.
— Хосе над этим только посмеивался,— говорит Анима Лус Бороа.— Он принес нам несколько газет и прочел вслух заголовки и что под ними написано. Помню, там еще разглагольствовал Гайсель. Он требовал немедленного вмешательства армейских подразделений, поскольку под угрозой находится частная собственность: «Они начали с грабежа и поджогов пульперий и мельниц; теперь они станут грабить наши земли, убивать ни в чем не повинных детей, женщин и рабочих, наших уважаемых военнослужащих. Так пусть же такое больше никогда не повторится в нашем краю — Молине де ла Эскуадра». В общем, ты ведь хорошо знаешь, сеньор, как это делается.
— Знаю,— говорю я,— ведь я журналист.
— Что ж из того,— роняет Анима Лус Бороа,— и среди журналистов встречаются достойные люди...
Перевел с испанского Николая Лопатенко
Окончание следует