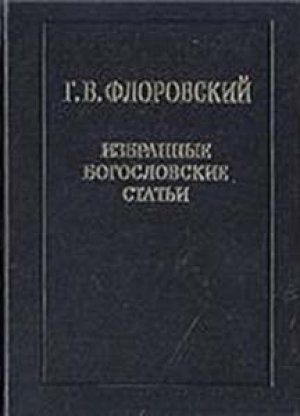
ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ
С.А. Рачинский написал немного. И не словом, но делом красна его память. В эпоху великого общественного возбуждения и подъема, в эпоху великих реформ прошлого века он удалился в свое сельское уединение. И здесь вложил всю волю свою и всю душу в единое и живое дело, в дело создания церковной школы, школы церковного духа, школы под сенью под сенью Церкви. Это был творческий опыт. Вскоре он был повторен сверху и во Всероссийском размахе, через учреждение церковно–приходских школ. Смута снесла и разорила церковно–народную школу. Живое преемство дела прервалось. Но замысел остался жив и с новою силою оживает, должен ожить теперь, как творческое задание в предстоящей борьбе за народную душу, за подлинную и Святую Русь. И память воскрешает уроки прошлого опыта, иногда прямые, иногда назидательные от обратного.
Школьное дело было для Рачинского своеобразным хождением в народ. Его педагогическая мысль сложилась под живым впечатлением острого разрыва и разъединения общества и народа. В освобождении крестьян он почувствовал и увидел пробуждение и призыв «многочисленнейшего из христианских народов» к творческой жизни, к духовной свободе. «Историческая минута, переживаемая нами», говорил Рачинский в конце 80–х годов, «минута великая и страшная!. «Ныне начинает слагаться умственный и нравственный облик самого многочисленного, самого сплошного из христианских народов вселенной», повторял он лет десять спустя. Народ пробудился, и приносит с собою и великое религиозное богатство, и великую религиозную потребность. Рачинскому казалось, что народ свидетельствует свою окончательную и непреложную решимость и волю жить и быть в Церкви, и через Церковь расти и развиваться. Этого убеждения в нем не колебали наблюдение над темными сторонами народного быта. Он верил в «ту высоту, ту безусловность нравственного идеала, которая делает русский народ народом христианским по преимуществу». И в этой вере повторял Хомякова и Достоевского. «Русский народ», полагал Рачинский, — народ глубоко верующий, и первая из его практических потребностей, наряду с удовлетворением нужд телесных, есть общение с Божеством». И народ умеет, удовлетворяет эту потребность, и удовлетворять эту потребность в Церкви. «Среди тягостного однообразия серой, трудовой жизни, среди лжи и пошлости, веющей от полуобразованного слоя сельского населения, где просвет для души нашего крестьянина, где отзыв на те стремленья, которые лежат на дне этой души, составляют существеннейшую ее суть? В церковном празднике, приносящем ему полуискаженный отголосок древнего дивного напева; в баснословном, но согретом верою, рассказе темного странника; в долго откладываемом, наконец, удавшемся походе в дальний монастырь, где его молитва обретает достойные ей звуки, укрепляющую ее обстановку, где он видел, увы! лишь признак истинно христианской жизни, и еще все чаще и чаще ныне — в долгих чтениях, при свете лучины, в бесконечные зимние вечера — Священного Писания или Жития Святых». И силою вещей, силою народного духа и влечения накладывается религиозная и церковная печать на народную школу, на сельскую школу. «Религиозный характер всегда присущ русской сельской школе», говорил Рачинский, «ибо постоянно вносится в нее самими учениками». «Наша бедная сельская школа, при всей своей жалкой заброшенности, обладает одним неоцененным сокровищем. Она — школа христианская; христианская потому, что учащиеся ищут в ней Христа». «Из дому они выносят и вносят в «школу духовную жажду»,…интерес к вопросам веры и духа». Во всех насажден живой и зародыш благочестия: истинное благоговение перед еще неведомою святыней, глубокое уважение к знанию вещей божественных, живое чувство красоты внешних символов богопочитания», — и смутный, но твердый религиозный и нравственный идеал. «Монастырь, жизнь в Бога и для Бога, отвержения себя, — вот, что совершенно искренно представляется конечною целью существования, недосягаемым блаженством этим веселым, практическим мальчикам…Монастыря они и не видали. Они разумеют тот таинственный, идеальный, неземной монастырь, который рисуется пред ними в рассказах странников, в житиях святых, в собственных смутных алканиях их души»… Школа должна насытить эту таинственную внутреннюю жажду, укрепить и осуществить врожденный религиозный характер. Ибо школа есть не только образовательное, но, прежде всего, воспитательное дело. Сельская школа не может быть «простым приспособлением для научения крестьянских ребят чтению и письму, элементарному счету, словесным символам господствующего вероисповедания». «Начальная школа должна быть не только школой арифметики и элементарной грамматики, но, скорее всего, — школой христианского учения и добрых нравов, школой жизни христианской». В ней должно осуществляться такое высшее духовное задание. И вот, Рачинский с горечью и тревогой убеждается, что в существующей и устрояемой сверху начальной школе если и осуществляется какое — нибудь задание, то задание глубоко чуждое и далеко коренному народному духу. С шестидесятых годов народная школа строится по иноземному образцу, по отвлеченному гуманистическому идеалу, вдали от Церкви, даже с подозрительностью к Церкви и Ее духу. И в этом сказывается и отражается отрыв и отпадение культурного меньшинства русского общества от Церкви, от исконных начал религиозно–исторической жизни русского народа. Такая школа остается народу непонятной, не отвечает его лучшим и святым запросам, и если оказывает на новые поколения большее или меньшее влияние, то всегда опасное, — вносит духовное и вместе с тем социальное разложение в сельскую среду. Она вводит крестьянскую молодежь в какой–то новый и чужой мир, срывает ее с живых бытовых корней, приобщает к какому–то другому строю и жизни. Она создает и вселяет противоречья в народную душу. Самым строем и составом своим она колеблет религиозные устои, наводит на сомнения. «Прежде всего, внимание учеников сосредотачивается на учителе», описывает Рачинский… «Человек новый, совсем непохожий на отца и деревенских соседей, одетый как барин, вхожий к господам, и говорит он, как барин. Это — все оттого, что он очень учен, много знает, знает все. Говорит он ласково. По большей части, он человек добродушный, и ребята скоро привязываются к нему. Говорит он и о Боге, но неохотно и мало. Постов он не соблюдает, (да и как их соблюдать?) Это значило бы, на добрую половину дней в году отказаться от общения с людьми почище. (Не утренние же делать визиты?) В Церковь он ходит, но пользуется всяким предлогом, чтобы в нее не ходить.… Мало–помалу оказывается, что все это — не его личные странности, но что, как он, живут все господа, все ученые люди в сюртуках, которых от господ не разберешь. Они даже, эти господа, часто между собою посмеиваются над всем этим, и над постами, и над церковными службами, а всего чаще над батюшкой и дьячком. Видно, все это ученым людям не нужно. Церковь, приверженность к Боженьке — дело мужицкое, дело людей серых и темных.… С этим мальчик и оставляет школу. Да, это так. Все божественное, все церковное, это — только для нас, пашущих землю, учащихся на медные гроши. Люди ученые, господа, без всего этого обходятся. А заповеди Божии? Разве чтут их господа? Разве помнят они день субботний? Разве чтут отца и матерь более, чем мы? «И эти детские впечатления подтверждаются и закрепляются в дальнейшей жизни, под «влиянием той низшей господской среды, которая мелькнула в школе» перед детским взором. Выход за пределы семьи и сельского быта для крестьянского ребенка всегда оказывается соблазнительным. Но всего острее и резче этот соблазн является в образе сельского учителя, пришедшего из новой школы, из учительских семинарий, из городских школ, из низших классов гимназии. По происхождению он связан с деревней, но духом оторван от нее навсегда. «Он вполне отпадет от крестьянской среды, и, поступивши на места, вдали от своей родины, прямо примыкает к среднему слою сельского общества, состоящему из духовенства, небогатых помещиков, кабатчиков и деревенских кулаков». Он бесповоротно переходит «в разряд господ (в крестьянском смысле этого слова)». Его склад и стремления чужды народному быту. «Он приобрел некоторые сведения, отрывочные и скудные; он вдохнул того воздуха, коим дышат образованные классы; их жизненный склад умственной и нравственный, мелькнул пред ними в живых образах несравненно более красноречивых, более властных над мыслью и духом чем всякое книжное учение. Мало того, он сам стал гражданином, хотя последним, этого мира образованности и знания, сам стал спицей — и последнею ли, — в колеснице умственного прогресса. Отныне взоры его обращены туда, по крайнему разумению его, — к верху. Оттуда свет, там же знание, там высший строй жизни». Об этом мире, конечно, он узнает понаслышке, из десятых рук, в опрощенной и опошленной передаче. Но этим миром он пленен. И дух этого мира в существе своем чужды и даже противен Церкви, а потому и подлинной сути народа. Таким образом, вопрос о сельской школе в понимании Рачинского получает острый и принципиальный характер. «Вопрос о современной русской школе», справедливо находил он, «не есть вопрос программ и более или менее практически устроенного надзора. Это вопрос роковой и грозный». Предстоит решить вопрос о самых основах и устоях духовной жизни и культуры, предстоит сделать выбор среди противоположных определений и путей. Русские верхи ушли от Церкви, и этим самым ушли от народа. Внешняя грань снята в освобождении крестьян. Как снять более глубокую и внутреннюю? Вести ли верхам за собою народ, возвращаться ли к народу? «Быть может, все то, к чему стремятся программы наших сельских школ, — и благочестие, и церковность, и самая христианская нравственность, — все это у нас уже умерло, как, по уверению многих, все это умирает в Западной Европе; все это — лишь символы и формулы отжившего строя мыслей, обреченного на гибель порядка вещей. Не обязаны — ли мы откровенно и прямо внести в сельскую школу ту новую жизнь, столь роскошно и быстро, столь победоносно, и смело развившуюся в образованных слоях нашего общества? Заменить учение о добрых нравах учением, о нравах свободных, старое благочестие, поклонение недоказанному Богу — поклонением естественному человеку, этому высшему выражению мировых сил, доступному нашему здравому смыслу? В праве ли мы скрывать ту истину, которою мы живем, от людей темных ищущих света?«… Рачинский подчеркивает, что в такой резкой постановке для большинства «этот вопрос, столь естественный и логический, звучит так странно и дико», — «при такой мысли нам становится страшно и жалко». В половинчатой нерешительности «стыдно сказать и нет, и еще стыднее, сказать да» — не от тайной ли неуверенности в новых учениях, в новой нравственности?… Из этой нерешительности пора выйти, и вернуться к вечным устоям. Конечно, для этого нужен «внутренний подвиг». «Нужно нам выйти», говорит Рачинский, «из того лабиринта противоречий, в который завела нас вся наша внутренняя история нового времени — совместное расширение нашего умственного горизонта и сужение кругозора духовного, совместное развитие у нас европейской культуры и крепостного права. Внешний узел разрублен. Пора разрешить внутренний… Достаточно оплакивали мы тот раковой разрыв, который составляет суть нашей внутренней истории нового времени и однако не мешал в великие минуты этой истории нашему полному единению. Пора нам вспомнить, что у нас под ногами есть общая почва, и твердо сознательно стать на нее. Пора сознать, что настало время взаимодействия, благотворного на обеих сторон, не того мгновенного, случайного взаимодействия и единения, которое вызывается событиями чрезвычайными, а взаимодействия постоянного, ежедневного. Почва этого взаимодействия этого единения — Церковь; орудие его — школа, и по преимуществу — школа сельская». Здесь и могут и должны встретиться духовные общества и народ в едином и совокупном творческом делании и строительстве, в созидании цельной и единой культуры, на вечных устоях, в верности преданию и истории, в полноте пережитого искуса и опыта. Для народа это будет раскрытием его исконных заветов стремлений. Для общества — возрождением и обновлением. Скромный, как будто, и ограниченный вопрос о сельской школе в сознании Рачинского вырастал до великих размеров. И в этом был он прозорлив и прав. Вопрос о сельской школе, обостренный безмерным многолюдством «народа» по сравнению с меньшинством «верхов» в последнем пределе своем был и есть вопрос категоричного духовного и культурного самоопределения. Рачинский верно и тонко ставил его: он не звал возвращаться к народу по кровным или органическим мотивам; он звал возвращаться в Церковь, чтобы там, как меньшего, но лучшего брата, встретить народ, который отсюда еще не ушел и хочет здесь возрасти и жить.
Делая скромное, повседневное, практическое школьное дело, Рачинский понимал весь его сокровенный и решительный смысл. С практической сдержанностью он остерегался торопливых обобщений, преждевременного максимализма. Он зорко глядел и четко обозначал последнюю цель, воцерковление русской души чрез воцерковление школы, — но с такой же зоркостью он его понимал, что осуществиться она может только в медленном процессе творческих рождений. Рачинский всегда подчеркивал то, что для него было самоочевидным, — что каждая школа есть живое и творческое дело, соборное сотрудничество и взаимодействие учащих и учащихся. И потому вопросы организации и программ для него получили вторичное значение. Их нельзя разрешить наперед, и даже обобщение опыта не может получить вяжущего и общезначимого характера. Жизнь школы зависит, прежде всего, и больше всего от ее личных участников, от личности ее руководителей и наставников. И в этом вся трудность школьного вопроса. В общем виде и наперед можно и достаточно определить только основные задания и приемы. Все остальное остается на волю творческого почина. И сделанный опыт получает смысл вдохновительного примера — не для повторения, но для подражания, свободного и живого. Вот почему Рачинский с таким вниманием останавливается на вопросе об учительском составе в народных школах. По его справедливому определению, «учительство в русской школе не есть ремесло, но призвание, низшая степень того призвания, которое необходимо, чтобы сделаться хорошим священником». Поэтому первым и основным учителем в сельской школе должен быть сам священник. Школа должно быть «органом Церкви». Школьное дело должно быть осуществлением учительного призвания Церкви. И этим определяется место священника в школе. Он здесь не только учитель, но, прежде всего пастырь и духовник. В его учительстве осуществляется его пастырство в отношении к юной части его паствы, — его учительство началось до школы и не прекратиться после нее, оно простирается за ее приделы, охватывает всю жизнь. И это придает ему особый смысл. В таинстве священства, напоминает Рачинский, «в числе других даров Духа Святого, сообщается и благодать наставления в вере». И этим вносится таинственное освящение в самое существо школьного дела. Священник, как учитель, имеет возможность сказать каждому из учеников то слово, в котором нуждается душа его, и та власть взять и решить, которою он облечен, придает этому слову такую силу, которой никогда не достигнуть слову светского человека». Вокруг священника должен собираться остальной учительский состав. Рачинский считал, что «школьных учителей должна плодить сама сельская школа». Не только потому, что специальные учительские школы его времени, по его оценке, были поставлены неудовлетворительно, и он опасался их не народного и кощунственного, чуждого духа. Но, прежде всего потому, что только таким путем, казалось ему, обеспечивается живой и жизненный характер школьного дела. «Приобретение практических навыков преподавания, истинного понимания обязанностей учителя относительно учеников», говорит Рачинский, «совершается гораздо успешнее в живой действительной школе, где ученики являются целью, а не средством, чем в экспериментальных школах при учительских семинариях, где ученики более или менее отводятся на степень учебных пособий для преподавания педагогики и дидактики. Лучшая школа для начинающего учителя — не упражнение в давании образцовых уроков, но в поручении ему, под руководством опытного наставника, последовательного, сообразно с его силами дела, сопряженного с ответственностью, сперва легкого потом постепенно осложняющегося». При такой постановке учительской подготовки школа естественно превращается в живой организм. Он как бы вырастает из жизни. И это связано с ее назначением быть «органом Церкви, в самом широком смысле этого слова», т. е. прежде всего органов той малой, приходской Церкви, духовному возрастанию которой она призвана служить. В школе должна отражаться эта Церковь, и потому никогда школа не должна быть приходскою, ибо «за приходом после деревни остается значение единственного действительного, живого союза в нашем сельском быту, и притом союза духовного. Церковность школы в понимании Рачинского совсем не означает клерикального и тем более «ведомственного» характера. Церковною может быть любая школа. Эта характеристика ее внутреннего строя, — церковна школа, если она «школа благочестия и добрых нравов». «Поручена» она должна быть священнику. Но вместе с тем она должна быть делом всех церковных элементов сельского населения, духовных и светских, без различия состояний и сословий». И живою школа становится только тогда, когда вокруг нее создается атмосфера, в коей возможно насаждение и благочестия, и добрых нравов, и жизни христианской». Рачинский был далек от оптимизма в расценке этой действительной сельской «атмосферы», в счете и разборе наличных сил школьного строительства и дела. И к сельскому обществу, и к сельскому духовенству он относился довольно сурово и строго. Духовенству он вменял в вину чистое равнодушие к школьному пасторству, хотя и находил для этого объяснение и извинение в неладице существующих условий. но из этого он делал вывод только о необходимости всеобщего творческого напряжение и подъема, и обращал возбудительный призыв и к наличному пасторству, и к будущем, и ко всему обществу. «В делах свойства духовного», говорит Рачинский, «в делах неизмеримой важности и длительности безграничной, каково дело народного образования, нужно иметь в виду не только то, что есть, но и то, что может и должно быть. Для всякого творческого акта нужна воля, нужна вера, хотя в зерно горушечно — в данном случае вера в несокрушимость Церкви, как вечного союза и мирян и духовенства, как живого тела с Главою Небесным, твердая воля осуществить этот союз во всех отправлениях жизни духовной. Явления, так называемой материализации, в сфере вещественной призрачные, совершаются ежедневно в духовной жизни… Далеки мы, по многообразным немощам и мирян и духовенства, от идеала школы истинно церковной. Глядя на дело со стороны, легко в нем отчаяться. Но стоит только смиренно и искренно приложить руки к этому делу, чтобы никогда более их не отнимать, — так отраден, так многозначителен каждый малейший шаг на этом пути»…
Сельская школа должна быть школою благочестия. И этим определяется в ней сосредоточенное место Закона Божия. Это не только один из предметов преподавания, хотя бы и главный, именно живое сосредоточие школы. О преподавании Закона Божия Рачинский говорит немного, перелагая центр тяжести на пастырское творчество и самодеятельность приходского законоучителя. Но со всею силою он подчеркивает, что классное обучение должно оживляться практическим участием школьников без совершении богослужения в качестве чтецов и певцов. С этим связывается и введение в основной круг преподавания церковно–славянского языка и церковного пения. «Религиозный, церковный характер, налагаемый на нашу школу силою вещей», говорит Рачинский, «обуславливает ее резкую особенность — учебную программу, отличающуюся от учебных программ всех школ иноземных». Усиленное преподавание церковно–славянского языка имеет не только прикладное значение. Рачинский подчеркивает его исключительный воспитательный смысл. «Обязательное изучение языка мертвого, обособленного от отечественного целым рядом синтаксических и грамматических форм, а между тем столь к нему близкого, что изучение его доступно на первых ступенях грамотности, — это такой педагогический клад, которым не обладает ни одно сельская школа в мире. Это изучение, составляя само по себе превосходную умственную гимнастику, придает жизнь и смысл изучению русского языка, придает незыблемую прочность приобретенной в школе грамотности». Но церковно–славянский язык открывает доступ к несравненным и незаменимым сокровищам высшего духовного творчества и вдохновения, — к Священному Писанию, к богослужебным книгам. На самих уроках славянского языка дети вводятся в область высших откровений истины, красоты и правды. Самое обучение грамоте получает новый и живой смысл, если начинать со славянской грамоты, «со звукового разбора и писания самых кратких, самых употребительных молитв». «Ребенок, приобретающий за несколько дней способность писать» Господи помилуй и Боже милостив, буди мне грешному, заинтересовывается делом несравненно живее, чем, если вы заставите его писать: оса, усы, мама, каша…» Обучение славянскому языку начинается с употребительных молитв и должно быть доведено «до полного понимания языка церковно–славянского Нового Завета». Для этого Рачинский рекомендует «неоднократное, внимательное чтение в классе всех четырех Евангелий, сперва с помощью русского перевода, а потом по одному церковно–славянскому тексту, с терпеливыми остановками на каждом обороте, который может подать повод к недоразумению»… Так уроки славянского превращаются в повторительные и дополнительные уроки Закона Божия. Наряду с чтением Евангелия необходимо чтение Псалтири, что давно осознано в непосредственной практике сельского обучения. «Псалтирь — единственная священная книга, проникшая в народ, любимая и читаемая им, и того, что в ней непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы потрясать сердца, чтобы дать выражение всем скорбям, всем упованиям верующей души… Школа обязана укрепить наш народ в обладании этим сокровищем назидания и поэзии, раскрыть несколько это возможно, перед своими учениками его высокий дух, вечный смысл». Псалтирь и Часослов должны быть в ежедневной школьном употреблении. С большою точностью и чуткостью разъясняет Рачинский глубокий воспитательный смысл «постоянного чтения и перечитывания этих книг». «Псалтирь», говорит он, — высочайший памятник лирической поэзии всех веков и народов. Содержание его — цельное и вечное. Это постоянное созерцание величия и милосердия Божия, сердечный порыв к высоте и чистоте нравственной, глубокое сокрушение о несовершенствах человеческой воли, непоколебимая вера в возможность победы над злом при помощи Божьей. Все эти темы постоянно в оборотах речи неисчерпаемой красоты, силы и нежности». Часослов состоит из тех же Псалмов и молитв, Псалтирью вдохновленных». Эта неповторимая сила Псалтири засвидетельствована всею историей Церкви. «Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства, и положила на христианском сознании и чувстве неизгладимую и властную печать. И в то же время она остается венцом молитвенного песнопения, недосягаемым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество двух тысячелетий», — «величайшее чудо во всей истории всемирных литератур». И чуткий духовный взор народа давно разглядел это сокровище и это чудо, полюбил его и сроднился с ним. «Случалось ли вам», спрашивает Рачинский, «при вынужденной ночевке в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную ее обстановку, раскрыть ту единственную книгу, в почерневшем от времени переплете, которая лежит под полкою с образами? В огромном большинстве случаев, эта книга — Псалтирь. Запятнанные ее страницы, обтерты ее углы. Но не одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, капли слез медленно падающих на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Не рассеянною небрежностью истрепаны эти углы, но благоговейным переворачиванием этих страниц, быть может, многими поколениями. И при всяком чтении, для чтеца, по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или другого речения, до сих пор для него непонятного и с каждым чтением дороже становилась ему старая книга, лежащая под образами»… Псалтирь раскрывает пред ребенком небесную высоту, окрыляет, освежает и освещает его душу. И вместе с тем открывает для него доступ и возможность «постоянно участвовать в совершении величайшего из художественных действий, завещанных нам творчеством веков — в исполнении наших церковных служб». И это новая великая не только художественная, но и нравственная школа. «Учение в школе еще не началось», записывает Рачинский в один субботний вечер. «Завтра соберутся ученики, чтобы петь обедню. Но ученица из самой дальней деревни нашего прихода (18 верст) уже тут. Она поет на правом клиросе: это радость и гордость ее жизни. Из темной глубины притвора, из — за густого напева мужчин, она вознесена на высоту того таинственного алтаря, в который он не может вступить. О ней молятся в сугубой ектении. Те святые и страшные слова, от которых содрогаются сердца и гнутся колени — она оглашает ими Церковь, и мало помалу, в строгом строе созвучий, в благоговейном внимании, напрягающем весь хор, перед нею раскрывается глубокий смысл этих слов, неизъяснимая никакими школьными толкованиями». С исключительным проникновением Рачинский описывает совершение великопостного Великого Повечерия (Мефимонов) в его школе, и подчеркивает все оттенки этой неподражаемой священной службы с ее, действительным, неописуемым драгоценным перлом, Каноном преп. Андрея. В великой простоте здесь разверзаются неоглядные глубины, и над ними недоступные высоты. Пение и чтение за этой службой, конечно, есть несравненный урок не только благочестия, но и духовной тонкости и культуры. Конечно, сельская школа за краткий срок рядового обучения не может до конца раскрыть все глубины богослужебного богатства. Нельзя поспеть научить действительно хорошему церковному чтению, чтению с разумением. Но можно заложить для этого твердые и незыблемые основы. И в этом залог «элементарной, но прочной грамотности». Рачинский верно отмечал, что только церковно–славянский язык дает в условиях сельского быта живую возможность плодотворного и «постоянного упражнения в грамотности». Ибо он открывает доступ к нужным, доступным и безусловно полезным книгам. «Неисчерпаемая богатство нашего богослужебного круга, — этого сокровища поэзии, нравственного и догматического поучения, наряду со священным Писанием и житиями святых, дают постоянную пищу уму, воображению, нравственной жажде нашего грамотного крестьянина, поддерживают в нем способность к тому серьезному чтению, которое одно полезно и желательно». «Кто овладел хотя бы только службами Страстной Седмицы, тот овладел целым миром высокой поэзии и глубокого богословского мышления»… «Тот, кто это понял, кто это почувствовал, кто своим чутьем довел до сознания безграмотных слушателей хотя бы десятую долю этого вечного содержания, — можно ли отказать ему в умственном, в художественном развитии?» — спрашивает Рачинский. «Можно ли сомневаться в том, что ему будет доступно по содержанию и по форме все, что представляет прочного и истинно ценного наша светская литература?» И то же нужно сказать о церковном пении древнего стиля. «Тому, кто окунулся в этот мир строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны все выси музыкального искусства, тому понятны и Бах и Палестрини, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки»… Не часто это осуществляется, но всегда возможно, для каждого в меру врожденной восприимчивости и одаренности. — Так школа славянского чтения и церковного пения становится школою умственного, и нравственного, и этического воспитания, школою духовной культуры. В такой школе ребенок раскрывается в действительности человека, по образу и подобию Божию.
Образовательный объем начальной сельской школы при четырехлетнем ее курсе Рачинский определял довольно скупо. Он ограничивал его русской грамотой и арифметикой целых чисел. Он не допускал возможности прочного усвоения слишком большого запаса сведений и потому переносил центр тяжести на образование и приобретение практических навыков и умений. На такие навыки, а не на сообщение некой «энциклопедии реальных знаний» должно, по его мысли быть направлено внимание преподавателя. На уроках русского языка за четыре зимы можно или следует научить и приучить школьников: 1) говорить без ошибочных местных оборотов и речений;2) читать с полным пониманием доступную по содержанию прозу и стихотворения «Пушкинского периода» и 3) писать без ошибок против грамоты и правописания обиходные письма и бумаги, нужные в крестьянском быту. В сущности, этот объем не так уж мал. Рачинский дает примерный перечень произведения для чтения. К творениям Пушкина и Гоголя он присоединяет из русских Семейную Хронику, Князя серебряного, исторические романы Лажечникова, Загоскина, условно, рассказы Печерского; из всемирной литературы Гомра, исторические драмы Шекспира, Потерянный Рай. Весь Гоголевский период он исключает и исключает по дельным основаниям. Во–первых, из–за слишком сложного стилистического строя, «затрудняющего быстрое понимание и плавное чтение». И, главным образом, во–вторых, потому, что «в массы проникают только произведения вечные», и весь «Гоголевский период русской литературы остается и навсегда останется недоступным русскому народу». Ибо, «он не более, как яркое отражение переходного состояния русского, от части европейского общества, отражение таких внутренних процессов его сознания, которое не имеет ни общественного, ни всенародного значения». Он, думалось Рачинскому, вообще скоро устареет и «переживет нас только Война и Мир». Толстой, находил он «еще должен написать книгу, которая проникнет в самую глубь народа и останется, и эту книгу он напишет». Вводить сельских ребят в чужой и чуждый мир, Рачинский считал ненужным и даже опасным. Но здравое чутье детей само производит выбор, и что же делать «если им легче проникнуть с Гомером на греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников»… С особенной силой Рачинский выдвигает Пушкина, начиная со сказок до прозы и Годунова. «Его творчество, что — всемогущий талисман, сразу раздвигающий вокруг каждого грамотного тесные пределы времени и пространства, в котором до тех пор вращалась его мысль»… — Преподавание арифметики Рачинский ограничивает областью целых чисел, при чем считает ненужным постепенность перехода от первого десятка к сотням и т. д. Он обращает внимание на то, что у сельских детей, при «необыкновенной восприимчивости количественного созерцания», уже имеется на лицо, хотя и в представлении только, «бесконечная перспектива чисел, группирующихся по системе, известной им по копейкам, гривенникам и рублям». При обучении счислению нужно ставить конкретную и практическую задачу — развить быстрый и верный умственный счет. Дальнейшее расширение программы Рачинский считает целесообразным только при увеличении учащего персонала, полагая, что, в противном случае, вместо действительных получаются мнимые знания. Но дальше арифметики дробных чисел и элементарной физики он вообще не идет. Преподавание отечественной истории представляется ему чрезвычайно трудным. Живое изучение природы в зимнее время не возможно. Зато возможно и нужно развивать технические сведения и навыки, заводить специальные ремесленные и земледельческие школы. Но сквозь эти рассуждения Рачинского просвечивает еще одна общая и определяющая мысль: сельская школа есть школа окончательная. И она готовит и должна готовить в жизни в сельском быту. Здесь Рачинский встречается с трудным вопросом, как быть в тех случаях, когда открывается для отдельных школьников материальные и духовные возможности продолжать образование. «Средне–образовательные заведения» его смущают, как «рассадники не просвещения, но чиновничества»… Окончательный, бесповоротный разрыв с крестьянской средою, неизбежный при таком шаге, редко вознаграждается приобретением научного образования», в особенности, если образование прерывается до окончания полного гимназического курса. Рачинский ищет «иных путей, чем помещение в наши теплицы для выгонки чиновников». Но интересны здесь не его практические предположения, а необходимость самого вопроса при церковно–народной постановке сельской школы. Вся русская школа выше элементарной ступени имеет другой стиль, насыщена другим духом, а не народным и не церковным. Здесь снова сказывается резкий разрыв и раскол общества и народа, верхов и массы. При нем всякое дальнейшее образовательное восхождение означает отрыв от быта, от среды, от семьи, переход в мир «господ». Единственный путь, до известной степени предохраняющий от разрыва, открывается через духовную школу. Но и здесь Рачинский не без оснований колеблется, при сложившемся в прошлом типе духовных школ. Он не ставит вопроса в общей и четкой форме, но вопрос подготовляется всем ходом его размышлений. Сельская школа, как единственная школа для сельских детей, должна быть сразу и окончательной и подготовительной, и потому должна быть низшей ступенью в восходящей системе школ, но при том системе единого типа и духа. Продвижение по этим ступеням, конечно, зависит от личной одаренности и от внешних условий. Но возможность такого продвижения должна быть открыта. Иначе сказать ставится на очередь осуществление школ высших ступеней церковного духа, под сенью Церкви, подобно начальным школам, раскрывающим сокровищницу Церкви и живущим, как Ее органы. Рачинский не говорил, но вряд ли не думал об этом. Но это равнозначно коренному переустройству всего школьного дела. В его время это было несвоевременно и невозможно.
В педагогических размышлениях Рачинского многое устарело. Разлагающие процессы, которых он так боялся, изменили всю народную среду, ниспровергли ту бытовую цельность и твердость, ту легкость народного духа, из — которых в своих думах он исходил. После смуты сельская среда стала совсем иной. И вместе с тем основной замысел Рачинского остается в полной силе. Быть может именно теперь и только теперь он становится до конца общепонятным. При восстановлении и возрождении России школа должна быть внутренне единой и цельной, изнутри определяется единой идеей и более, чем идеей. Если во времена Рачинского было справедливо сказать, что «только в качестве органа Церкви» школа в силах справиться с «нравственной сутью русского человека», уже заложенный в русском ребенке, со всею сложностью могучих, но и опасных задатков, прирожденных русской душе, — то в сколько раз справедливее это теперь, когда до дна взбудоражена, и потрясена, и отправлена эта душа, и прошла чрез омуты зла и бесстыдства. Вправить духовный вывих можно только в напряженном творчестве всецерковном. Только внутри Церкви, в Ее недрах можно уврачевать взвихренную душу. И более того, в действительности уже неотразимо зарождается церковная школа, в случайных и в переливчатых формах. Ибо Церковь не прекращает, но усиливает свой учительный подвиг. И учительство Церкви силою вещей выходит за пределы нравственного душепопечения, ибо верующее самоопределение стало теперь невозможно без твердого и четкого решения мировоззрительных вопросов. В это учительство неизбежно вовлекается весь состав церковный, и пастыри, и миряне. Не время определять, как далеко отходит теперь этот процесс. Нет возможности это учесть. И не следует увлекаться оптимистическими надеждами. Несомненно одно, этот процесс начинается или начнется, ибо не может не начаться, — конечно, не сразу и не везде. Это учительство имеет молекулярный характер, вспыхивает по местам, — и в том его сила, и залог силы. Церковные школы возникнет и при лучших условиях вряд ли сверху, по заранее обдуманному и единообразному плану. Она будет проявлением творческой самодеятельности небольших, но сплоченных, уплотненных ячеек или групп, — может быть, приходов, может быть, братств, может быть, нового неведомого еще типа организаций. Это будет строительство снизу, и только в нем опора возможному строительству сверху. Может случиться и так, что снова повторится расхождение школы казенной и школы церковно–народной по духу и по цели: два порыва, несмыкающиеся и не встречающиеся, но даже противоборствующие. Тем более этого можно опасаться потому, что останется надолго и одним насилием до конца не может быть устранено наследие советского школьного строя, сделанного теперь дренажем безбожной и безверной пропаганды. Во всяком случае, церковная школа никогда не может быть школою государственной. Но государство, как таковое, может и будет строить ее, как не государство строить и всю духовную культуру, которая только строится в государстве живыми и свободными силами народного гения духа. Школа церковная и в прошлом, поскольку она существовала, государственной не была. Рано загадывать далеко вперед. Но одно наперед должно сделать ясным. Церковно–школьное строительство не может и не должно ограничиваться начальной ступенью. Оно должно раскрыться в целостную и законченную систему непрерывно восходящих ступеней. Этим выдвигается целый ряд совершенно новых творческих заданий. Главная трудность не в создании начальной школы церковного типа, для которой есть примеры и опыты в прошлом. гораздо сложнее и загадочнее высшая ступень. Для нее прообразов искать придется в слишком далеком и отчужденном прошлом, может быть, в огласительных школах седой христианской древности, разраставшиеся временами и по местам в подлинные школы мудрости и любомудрия. Во всяком случае, не школы ближайшего и родного прошлого подадут здесь пример. И прежде всего потому, что они были существенно внецерковные, они не были «органом Церкви». Закон Божий был в них рядовым предметом преподавания, часто даже побочным, слишком рыхлою и формально–внешнею связью соединялся с остальным кругом предметов, тонул среди них, — так что выключение его из программы ничем не сказалось бы, на чем не отразилось бы. И более того, слишком часто он бывал как бы лишним в школьной системе, и часто чувствовалось мучительное противоречие между Законом Божиим и той идеей, которая скрыто или явно, по самому заданию осуществлялась в преподавании общем. Идеал Гомера и греческих трагиков, идеал римских поэтов и историков слишком далеко уходил от церковного идеала. Такая школа не была и не могла быть «преддверием Церкви». Немногим лучше обстояло и в школах духовных, многострадальных в своей истории. Не найдется пригодного образца и в конфессиональной школе Запада. Ибо церковная школа не есть школа конфессиональная. Церковь не исповедание, но неизмеримо больше. Как сделать «Закон Божий» и христианские вероучения живым сосредоточием школьной жизни и школьного творчества — это не вопрос программ или организации. В некоторой мере опыт Рачинского дает указания в этом вопросе. Начинаться снизу церковно–школьная сеть должна с некоего подобия его сельской школы. Но раскрытие богослужебного и исторического богатства Церкви должно быть более полным и глубоким. В нем могут найти для себя основание и опору многие школьные дисциплины, исторические, прежде всего. Гораздо шире должна быть раскрыта в школьном творчестве картина Церкви в ее исторических судьбах. Гораздо глубже должна быть исчерпана библейская сокровищница. И в этом определиться и закалиться пробуждающееся мировоззрение, так начнет расти в школьнике христианин, живой, хотя и юный член Церкви, участвующий и опознающий себя таковым и утверждающий это в своей воле. Это главная задача, — создание и укрепление церковного стиля и характера в школьнике. Вопрос программ и слияние их в живое и единое целое при всей своей сложности и трудности, остается все же на втором месте. Конечно, церковно–школьное строительство возможно только в живой связи общего строительства церковной культуры. Путь к воцерковлению — христианская школа — только в порядке воцерковления, в воцерковленной уже жизни возможна. Это — мнимый круг. Это значит только то, что церковную школу может создать только Церковь. И нужно прибавить, понятие воспитания в существе своем шире его обиходного значения. Воспитание не есть только воздействие старших на младших. Воспитанием является всякое заражающее взаимодействие лиц или слов, влияющих односторонне или обоюдно друг на друга. В этом смысле вся культурная жизнь есть некое соборное воспитание И в нем воспитание младших есть только живой элемент. Напряженность культурной жизни, творческой и собирающей, есть непременное условие жизненности школы. Еще резче это сказывается в деле школы церковной, церковной на деле, а не по имени. Путь к религиозному воспитанию русского народа, русская церковная школа осуществится только на святой Руси, пусть в пределах единственного прихода. Сеемое немощной человеческой рукою выращивает Всемогущий Бог.
Георгий В. Флоровский.
Медон под Парижем
декабрь 1927 год.
печатается по книге: «Вопросы религиозного воспитания и образования» Выпуск II. Париж 1928. Издание Религиозно–Педагогического кабинета при Православном Богословском институте
ЗАПАДНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ
Вопрос о западных влияниях в православном богословии крайне сложный. В наше время он поднимался уже не раз, порою — остро и взволнованно.
Митрополит Антоний Храповицкий (ум. в 1936) настаивал, что все русское школьное богословие, начиная с семнадцатого века, представляло собой череду опасных заимствований из инославных западных источников. Поэтому, согласно Митрополиту Антонию, мы должны отречься от этого богословия и начать сначала.
«Нужно признаться открыто всем, что система православного богословия есть нечто искомое, а потому нужно тщательно изучать его источники, а не списывать системы с учений еретических, как это делается у нас уже в течение двухсот лет» [1].
Многие чувствуют, что русское богословие было безнадежно искажено западными влияниями. Отсюда созрело убеждение, что нам необходимо решительно исправить богословие в самих его основах, обратившись к забытым источникам подлинного, святоотеческого Православия. Такой поворот подразумевает разрыв и отречение от многовековых привычек. «Борьба с Западом» в русском богословии действительно необходима, и для нее накопилось достаточно поводов и причин. Однако история этих западных влияний и заимствований в Православном богословии изучена еще недостаточно. А начинать надо, в любом случае, с точного изложения фактов.
В этой небольшой работе читателю придется удовольствоваться ограниченным числом фактов — лишь самыми важными, решающими и показательными из них. Того же, кто желает изучить проблему более полно, отсылаю к моей книге «Пути русского богословия».
I.
Традиционное представление о полной изоляции и закрытости Древней Руси давно отброшено. Древняя Русь никогда не была полностью отрезана от Запада. И связь с Западом утверждалась не только в сферах экономики и политики, но также и в сфере духовной, даже в области религиозной культуры [2]. Византийское влияние оказалось главным и решающим: но оно, без сомнения, было не единственным. Трудно не заметить ослабление Византийского влияния в шестнадцатом веке — кризис русского византинизма. Дольше и глубже всех к тому времени с Западом был связан Новгород. А в четырнадцатом–пятнадцатом веках этот город стал религиозным и культурным центром всего русского северо–запада. Стремительно возвышавшаяся в то время Москва в культурном отношении зависела прежде всего от новгородских источников. Книги доставлялись в Москву именно из северной республики [3].
А в Новгороде в это время производилась, по благословению Архиепископа Геннадия, большая и очень важная богословская работа, — составление первого полного славянского библейского свода. Библия изначально была переведена на славянский не как целая и единообразная книга — скорее как собрание богослужебных чтений, основанное на порядке и цикле литургического года. Этот перевод охватывал не весь Библейский текст: второканонические книги Ветхого Завета переведены не были, и лишь много лет спустя некоторые из них появились в Восточных лекционариях. Общее смотрение и руководство официально принадлежало владычнему архидиакону Герасиму Поповке. Но реальным духовным вождем был доминиканский монах по имени Вениамин, согласно свидетельству летописца, «презвитер, паче же мних обители святаго Доминика, родом словенин, а верою латынянин». Мы мало знаем о нем. Но вряд ли доминиканский монах из Хорватии оказался в Новгороде случайно. Очевидно и то, что он привез с собой полный текст Библии. В Геннадиевском Библейском Своде чувствуется сильное влияние Вульгаты. Именно Вульгата, а не греческие рукописи, служила образцом для составителей. Второканонические книги включены в Кодекс сообразно с использованием их у католиков. Книга Паралипоменон, Третья книга Ездры, Премудрость и первые две книги Маккавейские полностью переведены с латыни. Один ученый, изучавший рукописную традицию славянской Библии [проф. И.Е. Евсеев] характеризует Геннадиевскую Библию как «сдвиг славянской Библии с греческого русла в латинское». Не забудем, что первая печатная русская Библия — «Острожская» (1580) основана именно на Геннадиевской Библии. Разумеется, текст был пересмотрен и сличен с печатной греческой Библией — историческое значение Острожской Библии в том и состоит, что она основана на греческом тексте — однако постоянное соскальзывание на латинский путь осталось непреодоленным до конца. Острожский текст с некоторыми изменениями был воспроизведен в «Елизаветинской Библии» 1751 года — и по сей день используется [4]. В «Архиепископском дому» Геннадия вообще много переводят с латыни. В процессе работы над новым богослужебным уставом была переведена, по крайней мере в извлечении — очевидно, для справок — знаменитая работа В. Дурантия «Rationale divinorum officium» [Распорядок божественной службы]. По языку в переводчике угадывается иностранец — не был ли это тот же монах Вениамин? К тому же времени относится переведенное с латыни «Слово кратко противу тех, иже в вещи священныя, подвижныя и неподвижныя, соборныя церкви вступаются» — слово в защиту церковных имуществ и полной независимости духовного чина, который имеет при том право действовать «помощию плечий мирских». Хорошо известно и многозначительное упоминание о «спанском короле», который, как рассказывал цесарский посол, с помощью государственного преследования «свою очистил землю» от еретиков [5].
Итак, у нас есть основания говорить о «невидимом сближении с латинством» [И.Е.Евсеев] в окружении Геннадия. В пятнадцатом–шестнадцатом веках западные мотивы проникают и в русскую иконопись: из Новгорода и Пскова они приходят в Москву, где в определенных кругах вызывают протест как «новшества» и «искажения»: здесь лежит историческое значение известного «сомнения» дьяка И.М.Висковатого о новых иконах. Однако церковные авторитеты принимали эти новшества с восторгом, видя в них что–то древнее. Во всяком случае, западное влияние утвердилось даже в священном искусстве иконописания [6]. «Западное» в этом контексте, разумеется, означает «римское», «латинское». Символом этого движения на Запад стала «свадьба Царя в Ватикане». Действительно, этот брак означал не столько новый подъем византийского влияния, сколько сближение Москвы с Италией. Не зря в это же время итальянские мастера обстраивают и перестраивают Кремль. Естественно, новые постройки проникнуты, как пишет Герберштейн, «итальянским духом» [more Italico] [7]. Еще показательней то, что Максим Грек, вызванный в Москву из Афонского монастыря Ватопед для помощи в переводах, не нашел в Москве ни единого человека, знавшего по–гречески. «Он сказывает по–латински, а мы сказываем по–русски писарем». Переводчиком стал Дмитрий Герасимов, бывший ученик и помощник Вениамина [8]. Разумеется, неверно было бы объяснять эти факты как проявление католических симпатий Новгорода или Москвы. Русские люди усваивали чуждые духовные ценности полубессознательно, с наивным убеждением, что смогут при этом остаться верны родной и привычной истине. Так «западная» психология странным образом соединялась в России с нетерпимостью к Западу.
II.
По другую сторону Московской границы общение с Западом было более близким и непосредственным. Литва и Польша столкнулись сперва с Реформацией и «социанизмом», затем с Римской Церковью, иезуитами и «Унией». Борьба за Православие была напряженной и трагической, а заимствования у инославных союзников, соперников, противников, даже врагов — психологически неизбежны. Вначале в Острожском кружке и в Лемберге (Львове), в доме самого князя Острожского ориентировались на греков, велико было стремление к созданию единой славяно–греческой культуры. По многим причинам от этот замысел оказался неосуществимым. Даже в самом Острожском кружке мнения разделились, а общее настроение было неустойчивым.
Практическая мудрость жизни указывала на Запад. Перед лицом угрозы Унии православные должны были даже против воли искать союзников среди протестантов и «инославных». И многие были готовы идти даже дальше простого практического сотрудничества: в этом смысле очень характерны, например, отношения православных и кальвинистов на съезде в Вильно (1599), когда был заключен религиозно–политический союз — «Конфедерация». Князь К. Острожский привлек для составления православного опровержения на книгу Петра Скарги «На отпадение греков» социнианина Мотовилу, к величайшему негодованию и возмущению непримиримого князя А.М. Курбского. А ответ православных на книгу Скарги о Брестском Соборе был фактически написан кальвинистом. На титульном листе знаменитого «Апокрисиса», отпечатанного в 1587 году, стоит имя Христофора Филалета. Можно с достаточным основанием догадываться, что этот псевдоним принадлежит известному дипломату того времени, Мартину Броневскому, секретарю короля Стефана Батория, активно участвовавшему в конфедерации между православными и евангелистами. В самом «Апокрисисе» заметно сходство с Кальвиновским «Institutio Christianae religionis» [9].
Во всем этом не заключалось ни сознательного предательства православной традиции, ни склонности к протестантизму. Всего важнее и опаснее было то, что русские писатели привыкли обсуждать религиозные и богословские вопросы в их западной постановке. Опровергать латинизм ведь совсем еще не значит укреплять православие. В спорах с Римом православные все чаще подхватывают доводы реформаторов, далеко не всегда совместимые с православными предпосылками. Исторически эта прививка протестантизма, может быть, и была неизбежна: но под нею замутился и потускнел идеал славянской и греческой культуры. Нужно прибавить: и на греческую помощь не всегда можно было положиться. Ведь греческие учителя обычно приходили с Запада, где учились сами, — в Венеции, Падуе, Риме, или даже в Женеве и Виттенберге. Ни в одном из этих центров западной учености они не находят византийской традиции, восходящей к Святым Отцам. Скорей уж они приносят оттуда западные новшества. В XVI веке это бывали обычно протестантские симпатии, позже, напротив, неприкрытый латинизм. В жестоких словах униатского митрополита Ипатия Поцея, обращенных к Патриарху Мелетию Пигасу — что в Александрии Кальвин занял место Афанасия, Лютер правит в Константинополе, а Цвингли в Иерусалиме [10] — есть доля горькой правды. Достаточно напомнить об «Исповедании» Кирилла Лукариса, подлинность которого больше не подвергается сомнению. Неожиданное исповедание православным Патриархом кальвинизма может быть частично объяснено его обучением в Женеве, а частично — тем, что он жил в Западной Руси как раз в период общей борьбы с Унией. Возможно, поэтому он и решил «объединиться» с представителями Женевского Вероисповедания.
Влияние Реформации в Западной Руси было временным. Вскоре возобладала противоположная тенденция — горячее стремление к Римскому образцу. Значение этой перемены ярко иллюстрирует фигура знаменитого Петра Могилы, митрополита Киевского. Роль его в истории неоспорима. С полным основанием его именем обозначают целую эпоху в истории Западно–русской церкви и культуры. Могила и его сподвижники были откровенными и решительными «западниками». А «Запад» в данном случае означал не что иное, как ненавистную «латынщину». Могила отстаивал независимость Киевской Церкви и боролся с Унией — однако в вопросах вероучительных он был уже как бы в догматическом единомыслии с Римом. Потому он так легко и свободно обращался к латинским книгам, полагая, что сможет раскрыть в них неискаженную истину Православия. Есть что–то загадочное и двусмысленное в образе Петра Могилы. Он вывел Западно–Русскую Церковь из той растерянности и дезорганизации, в которых находилась она со времен Брестского Собора. Благодаря Могиле она получила законный статус в Речи Посполитой. Но в то же время вся структура Церкви оказалась пронизана новым и чуждым духом — духом католицизма. Против планов и проектов Могилы восставал как Запад, так и славяно–греческий Восток. Петр Могила учредил Киевский Коллегиум — несомненная заслуга перед Церковью. Но его школа была латинской школой. Латинской не только по языку, распорядку или богословию — нет, латинской по всей религиозной психологии: «олатынивались» души учеников. Странным образом все это делалось во имя борьбы с Римом и с Польшей. Внешняя независимость была сохранена, но внутренняя — утеряна. Восточные связи были прерваны. Утверждается чуждая и искуственная традиция, и она как бы перегораживает творческие пути.
В своем крипто–романизме Могила был не одинок. Скорей уж он выражал дух времени. «Православное Исповедание» — это основной и самый выразительный памятник могилянской эпохи. Трудно точно сказать, кто был автором или составителем этого «Катихизиса»: обычно называют самого Могилу, хотя, возможно, это коллективный труд нескольких его сподвижников. «Исповедание» изначально составлено по–латыни, и в этом первом варианте чувствуется гораздо большее римское влияние, чем в окончательной версии, прошедшей критический пересмотр на соборах в Киеве (1640) и в Яссах (1642). Впрочем, для нас важны не столько отдельные уклонения в католицизм — их можно объяснить случайностью — сколько тот факт, что вся «Confessio Orthodoxa» построена на католических материалах. Связь ее с римо–католическими писаниями глубже и непосредственней, чем с духовной жизнью Православия и Преданием Восточных Отцов. Отдельные римские догматы — например, учение о папском примате — отвергаются, но общий стиль остается римским. То же относится и к литургической реформе Петра Могилы. Его знаменитый «Требник или Евхологион» испытал на себе подавляющее влияние “ Ритуала» Папы Павла Пятого: объяснения отдельных обрядов в предисловии списаны оттуда почти дословно [11]. Киевский Коллегиум Могилы скоро стал рассадником этого подражательного латинизма — не только на Южной и Западной Руси, но и на московском Севере. Киевская религиозная литература семнадцатого столетия полностью зависит от латинских образцов и источников. Достаточно назвать имя Стефана Яворского, позже, в царствование Петра Первого, переехавшего на север. Его «Камень веры» представляет собой «извлечение» и «сокращение» из немногих латинских книг, главным образом Белларминова «Disputationes de controversis christianae fidei» [«Рассуждения о противоречиях христианской веры»]. Книга его о пришествии Антихриста имеет образцом труд испанского иезуита Мальвенды [12]. Сущность этого псевдоморфоза — в том, что схоластика на Руси затемнила и заменила патристику. Измены Православию не произошло — произошла психологическая и культурная «латинизация».
Но вскоре потряслись и основания веры. При Петре Великом богословские школы и семинарии по всей Великороссии были перестроены на западный, Киевский лад. Школы эти были латинскими по духу, и преподаватели в них долгое время набирались с русского Юго–Запада. Даже Славяно–Греко–Латинская Академия в Москве перестроена была по образцу Киевского Коллегиума. Эта Петровская реформа означала прямую «украинизацию» церковных школ. При Петре началось, так сказать, переселение южноруссов на Север, где они были «чужими» по двум причинам: сами они были «иностранцами», а школы их — «латинскими». В своем интересном труде о богословских школах восемнадцатого века Знаменский высказывает следующее резкое суждение : «Все эти приставники были для учеников в собственном смысле слова люди чужие, наезжие из какой–то чужой земли, какою тогда представлялась Малороссия, с своеобразными привычками, понятиями и самою наукой, со своей малопонятной, странной для великорусского уха речью; притом же они не только не хотели приноровиться к просвещаемому ими юношеству и призвавшей их стране, но даже явно презирали великороссов, как дикарей, над всем смеялись и все порицали, что было непохоже на их малороссийское, а все свое выставляли и навязывали, как единственно хорошее.» То было время, когда в сан епископа или архимандрита мог попасть только «малоросс», ибо правительство не доверяло великороссам, подозревая их всех в приверженности допетровским обычаям.
Народ принимал латинские школы неохотно и с крайним недоверием. Едва ли не силой приходилось заставлять духовенство отдавать туда своих детей. Да и сами студенты частенько сбегали. И происходило это не потому, что духовное сословие в России было привержено к суевериям и коснело в невежестве, но потому, что эти школы для них оставались «чужими», «иностранными» — какие–то латино–польские колонии на родной земле, никому не нужные и бесполезные даже чисто практически — ибо «практический ум» не видел никакого проку ни в латинской грамматике, ни в каком–нибудь «обхождениии политичном, до семинарии относящемся». Практический ум вовсе не находил резонов менять привычные способы приготовления священнослужителей — в родном доме, по отцовским наставлениям — на новые, непривычные и сомнительные. «Еще далеко не было доказано, кто больше был обыкновенно приготовлен к священнослужительству: псалтырник ли, с детства служивший при церкви и практически изучивший чтение и пение, и устав, — или латынник из школы, заучивший только несколько вокабул и латинские флексии.» (Знаменский) От славянского языка почти что отвыкали в этой латинской школе — ведь даже тексты Писания на уроках чаще приводились по–латыни. Грамматика, риторика и пиитика изучались латинские, а российская риторика присовокупляется к ним только в старших классах. И нетрудно понять, что родители с таким недоверием отсылали детей в эту «проклятую семинарию на муку». А дети предпочитали попасть хоть в острог, лишь бы избыть этой учебной службы. Ибо создавалось гнетущее впечатление, что в этой нововводной школе меняют если еще и не веру, то национальность. Самое учреждение школ было бесспорным и положительным приобретением. Однако это перенесение латинской школы на русскую почву означало разрыв в церковном сознании. Разрыв между богословской «ученостью» и церковным опытом; молились ведь еще по славянски, а богословствовали уже по–латыни. Одно и то же Писание в классе звучало на интернациональной латыни, а в храме на родном языке. Вот этот болезненный разрыв в самом церковном сознании есть, быть может, самый трагический из итогов Петровсой эпохи. Создается некое новое «двоеверие», во всяком случае, двоедушие [13]. В русской церковной школе утвердилась западная культура и западное богословие. Эта «богословская школа», разумеется, не имела корней в жизни. Основанная на чужом основании, возросшая на искуственной почве, она стала некоей «надстройкой» над пустым местом. Оно не имело своих корней. Вместо корней — сваи. «Богословие на сваях» — таков результат богословского «западничества» в России восемнадцатого столетия.
III.
Богословское образование в школе оставалось латинским и тогда, когда ориентация на Рим сменилась влиянием Реформации, точнее, раннепротестантской схоластики. Аквинат уступил место Христиану Вольфу — но преподавание по–прежнему шло по–латыни. Западным оставался и весь строй школьного образования. Веяние протестантизма связано прежде всего с именем Феофана Прокоповича, известного сподвижника Петра Великого, ревностного устроителя всех церковных реформ того времени, автора «Духовного Регламента». Богословские лекции Феофана, читанные по–латыни в Киевской Академии, были напечатаны только в 1782–1784 годах в Лейпциге, — однако и задолго до этого они разошлись в рукописи и произвели переворот в богословии. В своих лекциях или «трактатах» по догматике Феофан строго следует западным образцам — особенно он зависит от Аманда Поланского из Полансдорфа, автора «SyntagmaTheologiae Christianae» («Сумма христианского богословия») (1609). Также он систематически использует «Loci Communes» («Общие места») Иоанна Герхарда. Однако, даже следуя иностранным учителям, Феофан не оставался простым компилятором. Начитанный и знающий современную литературу, он прекрасно владеет материалом и приспосабливает его для своих целей. Несомненно одно: Феофан не то что примыкает — он принадлежит к протестантской схоластике XVII–го века. Он не «под влиянием протестантизма» — он сам протестант (А. Карташов). И его сочинения вполне умещаются в истории немецкого реформированного богословия. Не будь на титульных листах его книг имени русского епископа, их автора всего естественнее было бы угадывать среди профессоров какого–нибудь протестанского богословского факультета. Все здесь пронизано западным духом, воздухом Реформации. Это чувствуется во всем, — в привычках мысли, в выборе слов. Перед нами даже не западник, но попросту западный человек, иностранец. На Православный мир смотрел он со стороны. Феофан не чувствовал Православия изнутри. Он весь в западных спорах. И в этих спорах он до последнего стоит за Реформацию. Весь пафос его трактатов направлен против Рима; он не мог ни на минуту отвлечься от «чарующей области» западных конфессиональных споров [14].
Юрий Самарин в своей известной книге «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» пытается представить это столкновение католической и протестантской тенденций как эпизод «диалектики русской богословской мысли». Однако происходившее едва ли можно назвать естественным процессом. Это была борьба двух иностранных влияний, от которой русская богословская мысль только страдала. Здесь не может быть речи о внутренней органической диалектике — скорее, о насильственном псевдоморфозе православной мысли. Православие было принуждено мыслить в чуждых по существу категориях и выражать свои мысли на иноземный манер. Во второй половине XVIII века обучение богословию в большинстве семинарий и академий основывалось на протестантских учебниках, пришедших с Запада. Учебники даже не приходилось переводить — ведь все преподавание велось на латыни. Митрополит Филарет вспоминал, что обучался богословию по учебнику Холлатца ( ум. 1713). Обучение состояло в том, что преподаватель диктовал главы учебника и заставлял студентов заучивать их наизусть. Другие части курса преподавались по руководствам Квенштедта или Турретини (ум. 1737). Были и русские учебники, но они ни в чем не уклонялись от западных образцов — таковы «Doctrina» Феофилакта Горского (Лейпциг, 1784), «Compendium» Иакинфа Карпинского (Лейпциг, 1786), «Compendium» Сильвестра Лебединского (1799 и 1805), а также учебник Иринея Фальковского (1802), — все по Феофану Прокоповичу! Во всех этих трактатах и компендиумах напрасно искать свободного движения мыслей. Это были книги для заучивания наизусть, воплощение «школьного богословия», неподвижное «предание школы». В них можно найти некоторые протестантские догматы и учения — например, учение о Писании и Предании, протестантское определение Церкви, протестантскую концепцию Оправдания.
Во второй половине восемнадцатого столетия к преобладающему влиянию старо–протестантской схоластики добавилось новое веяние пиетизма. Достаточно упомянуть имя Симеона Тодорского (1701–1754), умершего в сане епископа Псковского. Большую часть жизни он был преподавателем в «Сиротском доме» в Галле, где перевел на русский язык с Галльского издания 1735 года знаменитую «Wahres Christentum» («О внутреннем христианстве») Иоанна Арндта. Замечательна в этом отношении также фигура Платона Левшина (1737–1811), знаменитого митрополита Московского при Екатерине Второй, которого С.К.Смирнов, историк Академии, впоследствии точно назвал «Петром Могилой Московской Академии». Платон был более проповедником и катихизатором, чем систематическим богословом. Но его «катихизисы», проповеди «или первоначальное наставление в христианском законе», гремевшие в Москве уже в 1757–58 годах, знаменовали новый поворот в истории богословия. Его лекции, читанные для Великого Князя (впоследствии Императора) Павла, были изданы в 1765 году под заглавием «Православное учение или сокращенная христианская Богословия». Это был первый опыт богословской системы по–русски. Разумеется, для использования в школах она была переведена на латынь. И на этом настоял сам Платон: он полагал, что преподавание богословия на любом другом языке означает снижение образовательного стандарта. Заметим, что это мнение исходит от ревностного борца за «просвещение народа», талантливого проповедника христианской веры и нравственности. Даже в старости, перед самой Освободительной войной 1812 года, Платон был поражен проектом преподавания в духовных школах на русском и горячо против этого возражал. В русских писаниях Платона поражает запутанность богословских терминов, заимствованных из разных латинских источников. В вопросах нравственных он чувствует себя гораздо уверенней, чем в вероучительных. Учение о Церкви, о Предании, о Таинствах в течение всего XVIII века оставалось неясным и неразработанным [15].
Реформа русской богословской школы в начале царствования Александра Первого не вернула богословие к восточным, византийским корням. Вся она была проникнута не столько соборным духом Церкви, сколько влиянием пиетизма, «внутреннего христианства». Преподавание по–прежнему основывалось на западных учебниках; только сухая схоластика в них сменилась пиетическим морализмом и уклоном в мистику. Однако проявилась и противоположная тенденция, которая позднее заживит трещину между «школой» и «жизнью»: в школе начали преподавать по–русски. Цель новой «школьной реформы» была — пробудить общество и народ, внушить им возвышенные духовные интересы, призвать к религиозной и нравственной независимости. В этом ярко проявился дух времени эпохи Священного Союза и Библейских Обществ. Так «латинское пленение» заменилось «пленением» немецким и английским, и на месте схоластики выросла новая угроза — угроза безудержного мистицизма и немецкой теософии. С этого времени на русское богословие ложится тень немецкой школы. В русских богословских академиях начинают изучать немецкий как основной язык богословия.
Однако реформа все же стала шагом вперед, началом творческого роста. В новом псевдоморфозе было немало неправильного и болезненного — но это была болезнь к жизни и к росту, а не к смерти и разложению. Между двумя крайностями — мистико–философским энтузиазмом с одной стороны и боязливым недоверием ко всему новому с другой — открылся узкий и трудный путь Церковного Богословия. Знаменем этой эпохи явилась величественная фигура Филарета, митрополита Московского (1782–1867), может быть, наиболее значительного из русских богословов того времени. Он тоже учился в латинской школе и вырос под заботливым водительством митрополита Платона в Троице–Сергиевской Лавре, где в то время преобладала смесь пиетизма со схоластикой. В молодые годы он прошел через увлечение мистицизмом и был активным сторонником Библейского Общества. Следы этих «протестантских» и «мистических» тенденций можно найти и в позднейших его работах. Однако в целом его мышление оставалось церковным. Филарет начал освобождение русского богословия не только от западных влияний, но и от «западничества» как такового. Он повел богословие единственным путем, ведущим к желанной цели — обратил его к Отцам Церкви, к святоотеческим основаниям и источникам. Святоотеческие писания были для Филарета источником вдохновения и критерием верности Преданию. Впрочем, Филарет не порвал окончательно со старыми «древлепротестантскими» традициями русской школы, с традицией Прокоповича. В творениях самого Филарета немало выражений, отражающих влияние протестантской догматики или просто заимствованных из протестантских источников. В «Начертании церковно–библейской истории», подготовленной в 1814 году для Петербургской Академии, он сам отсылает читателя к протестантским книгам. Из тех же протестантских источников происходит та неполнота или ущербность определений в ранних работах Филарета, на которую любят ссылаться его враги — наиболее характерно и поразительно то, что в первом издании его «Катихизиса» вообще не упоминается Святое Предание. Впрочем, этот пропуск указывает не на ошибку или небрежность мысли, а, скорее, на общую тенденцию того времени.
Поворот к схоластике и проримским настроениям психологически понятен и объясним в связи с реформами графа Протасова, обер–прокурора Священного Синода при Николае Первом. Однако это возвращение к латинообразным формулировкам семнадцатого–восемнадцатого столетий, к «Православному Исповеданию» Петра Могилы, к трудам Св. Димитрия Ростовского и «Камню Веры» Стефана Яворского осталось бесплодным, так как не предлагало решения исторических проблем русского богословия. Склонность к протестантизму могла быть преодолена только возвращением к историческим источникам Восточного Православия, творческим восстановлением когда–то живой культурной традиции — но никак не школярским заучиванием неактуальных для России «достижений» западной мысли. Поэтому Филарет несравненно больше, чем Протасов и его советники, сделал для истинного воцерковления русского «школьного богословия». «Догматика» Макария Булгакова, выдающегося историка Русской Церкви и впоследствии митрополита Московского, при всех своих достоинствах остается мертвой книгой, памятником безжизненного школярства, не вдохновленной истинным церковным духом; это еще одна западная книга. Назад к живому и истинному Христианству ведет не накатанный путь схоластики, а тропа истории. Найти синтез возможно не в сухой «систематизации», основанной на чуждых источниках, а лишь в живом, порой сложном и противоречивом опыте истории Церкви. Так в конце прошлого столетия путем русского богословия стал «исторический метод». Этот метод (см. также «Догматическое богословие» епископа Сильвестра) — самое важное достижение русского богословского наследия [16].
IV.
Одним из наиболее значительных явлений в западном богословии прошлого столетия является влияние немецкой идеалистической философии не только на евангелические круги, но и — достаточно упомянуть римо–католическую школу в Тюбингене — на католическое богословие и латинскую школу, особенно в Германии. В русских богословских школах влияние немецкого идеализма было также сильно, хотя более в философском, чем в религиозном плане. В истинно богословской литературе того времени — богословской в строгом смысле слова — влияние философского идеализма почти незаметно. Частично это объясняется строгостью цензуры. Из воспоминаний современников мы знаем, что многие профессора Академий в те годы предпочитали истолковывать факты, явленные в Откровении, не строго богословски, а философски.
Во всяком случае, психологическое влияние романтизма и реализма было сильно. Студенты Академий увлекались Шеллингом, Баадером и психологами–романтиками, такими, как Г.Х.Шуберт (ум. 1860). Даже в трудах Феофана Затворника, знаменитого истолкователя святоотеческой аскетики, мы встречаем следы «Истории души» Шуберта («Geschichte der Seele»; 1830, 4–ое издание — 1850). В Киевской Академии, где учился Феофан, книга Шуберта использовалась как учебник. Во всяком случае, философское пробуждение России началось в богословских школах, и первые ученики философского идеализма вышли из Академий и семинарий: Велланский — из Киевской Академии, Надеждин — из Московской, Павлов — из Воронежской семинарии, Галич — из семинарии в Севске. Из богословских Академий вышли и позднейшие университетские профессора философии: Сидонский и М.И.Владиславлев в Санкт–Петербурге, П.Д.Юркевич и М.М.Троицкий в Москве (оба из Киевской Академии), архимандрит Феофан Авсенев, О.Новицкий, С.С.Гогоцкий в Киеве, И.Михневич в Лицее Ришелье в Одессе. Профессорами философии в Академиях были Ф.Голубинский и В.Д.Кудрявцев в Москве, В.Н.Карпов, известный переводчик Платона, и М.И.Каринский в Санкт–Петербурге. Так в Академиях родилась особая традиция религиозно–философского идеализма. В ней философская жажда знания скрестилась с горячим интересом к вопросам веры. В богословских школах началось русское «любомудрие», и под обстрел умозрительной критики первым попало богословие. Один из консервативных профессоров Академии в начале нашего века так определял задачу догматического богословия: за каждым догматом следует различить вопрос, на который этот догмат отвечает. «Это — аналитика естественных запросов духа относительно той или другой истины.» Прежде всего нужно на основании Писания и Предания установить точное свидетельство Церкви: «Здесь отнюдь не мозаика текстов, но органический рост понятия.» Тогда догмат оживает и открывается во всей своей умозрительной глубине — как Божественный ответ на человеческие вопросы, как Божественное «Аминь» и свидетельство Церкви. Она открывается нам «истиною самоочевидной», спорить с которой немыслимо. Сталкиваясь со жгучими вопросами настоящего, догматическое богословие должно вновь и вновь воссоздавать догматы так, чтобы угли древних формул превращались в ослепительный огонь истинной веры [17]. При таком понимании проблем богословия философский и исторический методы идут рука об руку. А исторический метод, в свою очередь, ведет к исповеданию веры Святых Отцов.
Влияние философии особенно заметно у многочисленных русских «светских богословов» — славянофилов, Хомякова, и прежде всего — у Владимира Соловьева и его последователей. Тесная связь между религиозно–философскими поисками Владимира Соловьева и немецкой идеалистической философией, в особенности Шеллингом, отчасти Баадером, Шопенгауэром и Эдуардом фон Гартманом очевидна. В своей системе Соловьев пытается воссоздать догматы христианской веры а категориях современной философии — задача, волновавшая еще Хомякова. Традиция Соловьева, подхваченная его учениками и духовными последователями, вошла в современную религиозно–философскую традицию. Такому пониманию задачи богослова можно противопоставить другое: цель не столько в том, чтобы перевести Предание веры на современный язык, столько в том, чтобы преобразовать философию опытом веры так, чтобы вера стала для философии источником и мерой. Слабая сторона Соловьева и его школы в том, что умозрительное рассуждение у них зачастую преобладает над Преданием и даже искажает опыт веры. Во всяком случае, мы можем сказать, что влияние немецкой философии стало для русского богословия органичным и полезным.
V.
Из предшествующего краткого и поверхностного обзора западных влияний в русском богословии, казалось бы, следует неизбежный вывод: не было ли и не остается ли русское богословие в своем развитии, как резко выразился один критик — «блуждающим богословием»? Есть ли в нем хоть что–нибудь неподвижное, неизменное, прочное, постоянное? Нет, — заключают часто иноземные, в особенности римо–католические богословы, по русским богословским трудам составившие себе впечатление о чем–то размытом и неопределенном. Подобные впечатления и заключения являются результатом опасного недопонимания, своего рода оптического обмана. Однако за таким истолкованием стоит нечто трагическое, даже страшное — неисцелимый раскол, надрыв в православном сознании, который прослеживается во всей истории русского богословия как некое творческое замешательство, растерянность и непонимание, куда же идти. И самое печальное, что разрыв этот рзделяет богословие и благочестие, знание и духовность, церковную школу и церковную жизнь.
Новая богословская школа пришла в Россию с Запада. Слишком долго оставалась она инородным телом в структуре Церкви. Она создала свой внутренний язык, чужой для народа — непохожий ни на язык быта, ни на язык молитвы. Развиваясь, она давала странные и уродливые формы. Она как была, так и осталась «школой». Слишком много в ней было от учебника — слишком мало от искания веры и истины. Богословская мысль билась не в лад с сердцем Церкви и в конце концов забыла дорогу к этому сердцу. Она не поняла, как важно пробудить и привлечь к вопросам духовным широкие круги церковного общества и народа. Она смотрела на общество с неприязнью и ревнивой подозрительностью. Для этого были свои причины. Народ был предубежден против школы, завезенной извне, неукорененной ни в жизни, ни в реальности религиозного опыта, против богословской мысли, не способной выразить веру Церкви и свидетельствовать о ней. В этом смысле название «блуждающее богословие» справедливо. Здесь–то и кроется проблема русского религиозного бытия: в глубинах церковного опыта сохранилась неискаженная Вера. В молитве, в обращении к Богу, в монашестве русская душа не свернула со старого, строгого, святоотеческого пути; она жила в неискаженной и неразделенной полноте Соборности и Предания. В своей духовности, в глубинах молитвы вера оставалась «верой святоотеческой, апостольской» — верой древнего, восточного и византийского Православия. Но «мысль» отделилась, оторвалась от этих духовных глубин и слишком поздно осознала свою ошибку. Блуждания мысли не повредили — и не могли повредить веру: Православие осталось неизменным. Однако в этом богословском псевдоморфозе, в богословии, забывшем родной язык и оторвавшемся от народа, кроется серьезная опасность. Опасней всего то, что богословские вопросы и проблемы расходятся с жизнью, и Правда Божия становится предметом школьной зубрежки, уделом узкого круга «специалистов» и «профессионалов». Н.П.Гиляров–Платонов в своих увлекательных воспоминаниях дает яркий пример такого отчуждения школы от жизни:
«Предание в школах понималось обычно полупротестантски. Даже Филарет в своем Катихизисе не отвел Преданию особого раздела. «Богословие» Терновского не упоминало о нем вовсе. Та рукопись, по которой я учился уже в сорокалетнем возрасте, о Предании тоже молчала. Век Прокоповича продолжался… Так происходило не только с Преданием… Учение об Оправдании тоже было совершенно согласно с латинскими книгами… Пока Москва худо–бедно брела по следам Прокоповича, в Петербурге в результате богословия А.Н.Муравьева положение изменилось… Стоит отметить, что «профессиональные» богословы не интересовались нововведениями, касающимися такого важного учения, как учение о Предании ( Предании, как втором и независимом от Писания источнике веры). Они спокойно начали писать и учить на новый лад… Читатель, может быть, решит, что этим почтенным людям недоставало веры. Но у них не было равнодушия к вере — была, скорей, уверенность, что формулы западного богословия сами по себе, а Восточная Церковь — сама по себе. На Западе эти вопросы вызывали ожесточенные споры; по ним проходила граница между конфессиями. На Востоке же они не поднимались вовсе. Интересна в этом смысле переписка Патриарха Константинопольского Иеремии с Тюбингенскими богословами в XVI веке. Тюбингенцы просили его высказать свое мнение по тем вопросам, о которых спорили в то время Рим и Лютер — например, по вопросу о вере и делах. Ответы Патриарха случайны и поверхностны: он не понимает сути вопросов по той причине, что эти вопросы стояли только перед Западной Церковью — в этом проявлялось своеобразие ее исторического развития» [18].
В этих наблюдениях много правды, особенно правды психологической. Главная опасность — не в ошибках, а в отделении богословской мысли и школы от народа.
Мы должны преодолеть западные влияния в русском богословии. И прежде всего — чуждый «западный стиль». Преодоление началось уже много лет назад в русских школах — при Филарете и в монастырях — с возрождением подвижничества. Достаточно вспомнить школу старца Паисия Величковского и особенно наследие Оптиной Пустыни. Восстановить независимость от западных влияний православное богословие может только через духовное возвращение к святоотеческим источникам и основаниям. «Вернуться к Отцам» — не значит отвернуться от настоящего, выпасть из истории, сбежать с поля битвы. Нет, нам предстоит нечто большее — не просто сохранение святоотеческого опыта, а новое открытие и внесение этого опыта в жизнь. С другой стороны, независимость от Запада не должна выродиться в тупую враждебность ко всему, что «из–за кордона». Полностью порвав с Западом, мы не обретем свободы. Православие не может и не должно больше хитрить и замалчивать проблему. Это значит, что Православие должно встретиться с Западом лицом к лицу, свободно и творчески. В прошлом у нас — несколько веков зависимости и подражания и ни одной встречи. Встреча происходит в свободе, равенстве и любви. Недостаточно повторять западные ответы, бездумно переходя от одного к другому.
VI.
Путь преодоления западного «соблазна» для Православия не в том, чтобы с презрением и ненавистью отбрасывать западные достижения. Нет, мы должны преодолеть и превзойти их новой творческой активностью. Только творческое возвращение к древним и уникальным глубинам святоотеческого богословия послужит православной мысли «противоядием» от явных, сокрытых — или даже еще неизвестных сторон «западного яда». Православное богословие призвано решить западные вопросы из глубин неповрежденного православного опыта и противопоставить мятущейся западной мысли неизменность Святоотеческого Православия.
Перевод с английского Н.Холмогоровой.
О НАРОДАХ HE–ИСТОРИЧЕСКИХ
Н.Н.С…ой
Der Pfozess der Geschichte ist ein Verbrennen
Novalis.
Из глубокой древности ведет свое начало идея культурно–исторической неравноценности и, стало быть, неравноправности народов, еще с тех пор как «избранный народ Божий» — Израиль выделял себя из пестрой массы «языков», и «свободные» эллины противопоставляли себя рабам — «варварам». В сознании ближайших к нам поколений эта мысль отлилась в форму антитезы народов «исторических» и народов «неисторических», народов старых, живших и проживших длинные ряды исторических превращений, и потому несущих в себе толщу последовательных культурных напластований, и народов, доселе немотствовавших, культурно–девственных, «лишенных наследства» и предков, народов новых. Проблема национальности преломлялась здесь сквозь призму всемирно–исторического плана жизни, и получала разрешение с точки зрения единичности исторического процесса и линейности его пути. Не пучком лучей и не связкою параллелей, а именно одною единственною линией направляются судьбы человечества, как единого целого, к осуществлению единой, всеобщей задачи. Медленными, но непрерывными шагами подвигается оно к своей заветной цели. Но не сразу все человечество выступает на мировую арену: народы сменяются народами и водружают одну над другой все новые и высшие скрижали. Они не отменяют друг Друга, а неуклонно накопляют и углубляют наследственную мудрость. В настоящем, как говорил Гегель, совмещаются все былые века. Нарастают и крепнут богатства «общечеловеческой цивилизации». И вот, казалось, ограниченное число народов «исторических», наследующих друг другу в возглавлении вселенной жизни, уже исчерпано, и тот народ, на чью долю выпала последняя очередь, призван навсегда сохранить за собою права культурной гегемонии и значение мирового центра. Такова завидная доля «Европы», того «романо–германского» мира, который сложился на развалинах древней римской империи, и унаследовал от своих предшественников их государственную мудрость, религиозные откровения и культурные предрасположения. И в пределах этого мира происходила своя «смена народов», приведшая в конце концов к тому, что «сердцем» и «столицею» мировой культуры стал германский народ. Во дни патриотического горя, государственного унижения и народного отчаяния, в порыве религиозного энтузиазма убеждал Фихте «немецкую нацию» в том, что лишь она есть «народ» в подлинном и строгом — мессианском — смысле слова, и только ей доступна настоящая, просветленная идеалами «любовь к отечеству». И в те же почти годы, стараясь воссоздать в целостном образе последовательные судьбы человечества, Гегель приходил к заключению, что именно «народный дух» германского племени, его Gemiith являет высшую точку развития мирового Разума. После ряда попыток он находит, наконец, адекватную форму своего самооткровения.
Ряд культурно–исторических миграций закончился. И, как немудрые девы евангельской притчи, те народы, которым не приходилось еще выступать в первых ролях в «прошлом», обречены навсегда оставаться на положении исторических статистов, если только вообще придется им выйти из–за кулис исторической жизни, куда уже отошел, — в мрак забвения, — не один отживший народ. Право на участие в исторической драме, дается, таким образом, происхождением, благородством, так сказать, чистотою крови, — безродные и непомнящие родства уже тем самым исключены из нее. Единственно что могут они обнаружить, это, отнюдь, не творческие силы, а лишь способность переимчивости, и тем выше будет их относительное значение в мировом обороте, чем ближе в процессе подражания подойдут они к оригиналу, чем более точною копией его станут они.
Запас «новых» слов уже истощился. В сокровищницах «вековечной и абсолютной» мудрости совместилось уже все, что доступно человеческому достижению. Разгадка мировой тайны уже найдена. Прозвучало всепримиряющее и всеразрешающее слово. Отныне проблема производства должна в экономии культурной жизни уступить свое место проблеме распределения и обмена. Не о создании новых ценностей должна впредь идти речь, а об усвоении наличного, достигнутого, о «приобщении» к мудрости веков. Тип самоотверженного искателя правды и истины должен сменится типом Kulturtrager'a, просветителя, проповедника отеческих заветов. «Благодетельная рука Провидения», или диалектическое самоосуществление мирового Разума, или железные законы биологической и экономической «борьбы за существование». или «самые неизменные законы физиологии», — безразлично: фатальная необходимость исторического развития заставила человеческую жизнь отлиться в окончательные, непреложные формы, нормальные для всего антропологического рода — bipedes.
«Единообразие природы» — основной закон и мировой, и исторической жизни. Число действующих космических факторов постоянно, и правящие ими законы неизменны. Так было, так будет — вот основная всепроникающая идея «эволюционного» мировоззрения. Силы, действующие в природе, действовали всегда — и они одни — и все по тем же железным, необходимым законам, которые открывает современный испытатель природы и наблюдатель жизни людей и человеческих обществ. «Будущее», как выразился со своей всегдашней беспощадностью Герцен, «отдано в кабалу до рождения». Но зато рассеяны те страхи, которыми наполняло робкое человеческое сердце старинное «катастрофическое» мировоззрение времен Вико, времен споров «нептунистов» и «плутонистов», времен даже Кювье. Не раз менявшиеся «законы природы» ведь могут измениться еще раз, космический процесс может свернуть на новые пути, новые силы могут неожиданно врезаться в мировую гармонию, и все бывшее доселе сорвется в небытие… «Теория прогресса» страхует от этого наверняка. И вместе с риском упраздняется и чувство «личной ответственности», совершенно излишнее для колесика в хорошо заведенном механизме «системы природы». Так за культурно–историческим противоположением народов исторических и неисторических скрывается другая, более глубокая противоположность — культурно–философская, противоположность двух тонусов жизни, двух жизнепонимании — ретроспективного и проспективного, которую певец Заратустры так проникновенно сгустил в свои летучие слова о «стране отцов» и «стране детей», — Vaterland и Kinder Land.
«Кто может узнать вас? — спрашивал он «современников — Лицо ваше все исчерчено знаками прошлого и поверх них еще новые знаки, — вы хорошо загримировались, чтобы обмануть всякого гадателя. — Все времена и народы пестро сквозят из–под ваших покровов; все веры и нравы слышны в ваших песнях»… — Но нет у них ни своего живого лица, ни своего убежденного слова. У них есть только мудрость отцов, только прародительские заветы. Их взоры обращены к прошлому: там, даже не в настоящем, ищут они обеспечения будущего, стараясь уловить «тенденции развития». Создается своеобразная гордость летами, числом истекших поколений. Древнейшее считается прочнейшим. Генеалогия заменяет принципиальное оправдание, обоснование по существу Испытание временем — испытание идеалами Создается тип «западного старообрядца» «До нас положено лежи оно во век'” Все, не уходящее корнями в глубокие подпочвенные слои, кажется химерой «Беспочвенным мечтаниям» противопоставляются «исконные начала», «преемственные предания рода человеческого» Свершения выше возможностей Герцен схватывал самую суть этой идеологии, когда писал Чичерину «Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное вы уверены в том что знаете и потому спокойны, вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было так и так настоящее должно быть так и так и привести к такому–то будущему Вы определенно знаете, куда идти, куда вести»
Философия прогресса ориентируется всецело на прошлом. Из прошлого вычитывается программа действий, по прошлому создаются исторические предсказания Само будущее проецируется в прошедшее либо в виде предвечного замысла мироправящего Разума, либо в виде скрытых потенций сущего, развертывающихся с имманентною необходимостью во времени, либо в виде сознательного избрания воли к жизни И мало того, «история повторяется» Все «народы» проходят один и тот же цикл превращений, разница только в темпе и ритме, разница только в счете поколений И по истории одного народа мы можем прочитать вперед творимую историю другого Histona est magistra vitae [19] — в этом афоризме Цицерон слил все культурно–философские упования «отцов» «Мы, Русские, — писал Тургенев Герцену с раздражением человека, принужденного твердить азы, — мы «принадлежим и по языку и по породе к европейской семье, «genus Europaeum», и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге Я не слыхал еще об утке которая, принадлежа к породе уток, дышала бы жабрами, как рыба» И он злостно высмеивал русскую «загадку», «русский сфинкс» с его годами молчания, узнавая в нем знакомые черты ярославского мужичка, забитого нуждой и непосильным трудом, с его запахом и изжогой Он мерил его, вероятно, масштабами «величественного здания величавой цивилизации, слагавшейся веками» — на Западе.
Именно в этой идеологической атмосфере зародилась первая попытка «философии русской истории» Русская историософия началась сразу с отходной Мрачный, безотрадный, удручающий пессимизм чаадаевского первого «Философического письма» внушен был именно тем, что «мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода» и не жили общею с ними жизнью «Наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает» Мы ничего не делали «о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокой мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации», — «и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас» «Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось, мы по–прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы» «Придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию» «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня» и потому, не восприняв ничего «из преемственных идей человеческого рода», не имея «внутреннего развития», «мы все имеем вид путешественников», «мы растем, но не созреваем» «Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно», «каждая новая идея бесследно вытесняет старые», «в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу» И вполне естественно, «что ни одна полезная мысль не родилась на почве нашей родины, ни одна великая истина не вышла из нашей среды» ибо мы совершенно лишены «преемственного идейного наследства» рода человеческого «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества», «мы некоторым образом — народ исключительный» И если бы мы захотели отказаться от этого сомнительного и тягостного преимущества, если бы мы захотели войти в историю и в ней «занять положение, подобное положению других цивилизованных народов — мы должны (были бы) некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода», заново и вкратце Так на почве всемирного плана человеческой истории рождалось русское «западничество» Это был уже не здравый смысл «Царя–мастерового», и не стихийный Drang nach Westen, не бытовая европеизация, а подлинная историософия национальной судьбы Раз нет предков кровных, надо их добыть, нужно добиться усыновлением доступа в «одно из великих семейств рода человеческого» Эти семейства нечто в роде ковчега Ноева «не попавшие внутрь его обречены на гибель, на безвестность, на бесплодность
И патриотическая тревога Чаадаева тотчас же смягчилась претворилась в благодатное упование, в напряженное ожидание будущего, как только он понял, что быть историческим новорожденным вовсе не означает еще обреченности на долю всегдашнего младенчества, что иметь в своем прошлом лишь былые листы далеко еще не равнозначно перспективе вечного ничтожества. Наоборот. «Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен», писал он в своей «Апологии сумасшедшего», — никогда мы не были ввергаемы всемогущею волею в те пропасти, какие века вырывают перед народами. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли». Так неимение исторического наследства из позорной нищеты превращается в бесценное богатство. Старая почва слишком насыщена «воспоминаниями», слишком засорена отбросами долгих веков жизни, и новым росткам приходится всходить на «истощенной почве», пробиваться среди теснящихся состарившихся уже побегов. Груз вековых приобретений, унаследованных предрассудков, сбывшихся и разбитых надежд всегда гнетет и обременяет мысль, всегда парализует бестрепетность творческого искания, мощностью выкристаллизованной апперцептивной массы мешает непредубежденности взгляда, осложняет прямизну самобытности замысловатыми изломами. «Прошедшее Запада обязывает его, — писал Герцен. — Его живые силы скованы круговой порукой с тенями прошедшего… Светлые человеческие стороны современной европейской жизни выросли в тесных средневековых переулках и учреждениях: они срослись со старыми доспехами, рясами и жильями, рассчитанными совсем для другого быта, — разнять их опасно, те же артерии пробегают по ним. Запад в неудобствах наследственных форм уважает свои воспоминания, волю своих отцов. Ходу его вперед мешают камни, — но камни эти памятники гражданских побед или надгробные плиты». Запад — «страна только прошлого», страна установившаяся и потому уже не двигающаяся более. Все силы уходят на охрану дедовских богатств и на чистку музейных сокровищ.
Но никакие культурные богатства не могут заменить неудержимой импульсивности юного роста. «Sero venientibus ossa» [20] — в эту западноевропейскую пословицу заключена ложная мудрость: опоздавшие получают в дар запасы скристаллизованного жизненного опыта, избавляясь тем самым от мучительной тяготы переживать его самим, освобождаясь от доброй половины исторических искушений и грехопадений.
Такой ход мысли повторялся в русском сознании неоднократно со времен Чаадаева и до Соловьева и Достоевского, — разгоняя беспощадный призрак «неисторичности». «Славянофилы» не хуже «западников» ощущали, «как прекрасен был тот Запад величавый», где «в ярких радугах сливались вдохновенья и Веры огнь живой потоки света лил»… Недаром славянофильские уста обронили крылатое слово — «страна святых чудес»… Они страстно исповедывали «Европу» своим «вторым отечеством». Но они знали также, что «все это давно уже кладбище и никак не более»; правда, это — «самое дорогое кладбище», «дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг», что невольно подгибаются колени и навертываются слезы на глазах. И не те же ли самые — почти буквально — слова говорил Герцен в лице Тургенева русским «западникам». «Вы любите европейские идеи, — люблю и я их, — это идеи всей истории. Это надгробный памятник, на котором написано завещание не только вчерашнего дня, но Египта, Индии, Греции и Рима, католицизма и протестантизма, народов римских и народов германских». Все это — «редкость, саркофаг, пышный след прошедшей жизни»… Вся «европейская культура», весь этот блеск и шум «цивилизации», потрясающий и поражающий чувства, все это — прошлое, а не грядущее. «Ветер с Западной стороны слезы навевает», — скажет через несколько десятилетий Вл.Соловьев. Да, но и только слезы, слезы умиленной благодарности отжившему и умирающему миру, следы примирения. Пусть «из края мертвецов сердце не вернулось»: новой «властительной мысли и слова» оно будет ждать из другой, тоже новой страны… Старая рождает стимулы к действию лишь по контрасту.
Давно уже стало избитым, что поэты не создаются обучением: они рождаются. Но никому еще не удалось внушить человеческим массам, что культуре нельзя научиться, что ее нельзя «усвоить», «перенять», «унаследовать», что ее можно только создавать, творить свободным напряжением индивидуальных сил. «Культурная традиция» — в этом выражении и заключается роковая двусмысленность. Natura non facit saltus [21] — исторически это ложь. Наоборот, история вся состоит из «прыжков». Продолжает культурное преемство только тот, кто его обновляет, кто претворяет предания в свою собственность, в неотъемлемый элемент своего личного бытия, и как бы создает его вновь. «Творцы, вы, высшие люди, — говорил Заратустра, — можно быть беременным только собственным ребенком»… Когда прекращаются исторические «мутации», непредвиденное возникновение новых форм существования, тогда культура умирает, и остается один косный быт И вот быт, действительно, передается по наследству. Быт — это застывшая культура, воплощенные идеи, — воплощенные и оттого потерявшие свою собственную жизнь, свой самостоятельный ритм. Быт слагается не сразу, он выковывается иногда столетиями; но когда, наконец, он образовался, это значит, что жизнь пока, по этой линии развития, исчерпала себя, толкнулась о какой–то внутренний свой предел. Культура и есть ничто иное, как еще не готовый быт, быт in statu nascendi [22]. «Там, где вид сложился, — писал Герцен, — история прекращается, по крайней мере, становится скромнее, развивается исподволь… в том роде, как и планета наша. Дозревши до известного периода охлаждения, она меняет свою кору понемногу; есть наводнения, нет всемирных потопов; есть землетрясения там–сям, нет общего переворота… Виды останавливаются, консолидируются на разных возможностях, больше или меньше, в ту или другую сторону односторонних; они их удовлетворяют, перешагнуть их они почти не могут, а если б и перешагнули, то в смысле той же односторонности. Моллюск не домогается стать раком, рак — форелью; если бы можно было предположить животные идеалы, то идеал рака был бы тоже рак, но с совершенным организмом»… «Складывающийся вид, порываясь выше сил, отставая ниже возможностей, мало–помалу уравновешивался, умерялся, терял анатомические эксцентричности и физиологические необузданности, приобретая за то плодовитость и начиная повторять, по образу и подобию первого остепенившегося праотца, свой обозначенный вид и свою индивидуальность». — «Еще поколение, и нет больше порывов, все принимает обычный порядок, личность стирается, смена экземпляров едва заметна в продолжающемся жизненном обиходе». И «пока одни успокаиваются в достигнутом, развитие продолжается в несложившихся видах возле, около готового, совершившего свой цикл вида».
В этом и состоит единственный «закон» жизни: молодые непрестанно вытесняют старых. И только поэтому она и есть жизнь. И если бы вправду число «народов исторических» было исчерпано, если бы, действительно, «смена народов» прекратилась, то это бы означало только то, что жизнь окончилась, и наступает смерть. Если бы мечта о золотом веке, об островах блаженных могла когда–нибудь стать фактом, то это означало бы наступление нескончаемой эпохи вечной спячки, вечного застоя. За достижением всех целей самое понятие движения потеряло бы смысл. Нам, предшественникам этой воображаемой эпохи, некогда столь страстно желанной и призываемой, и в грезе не выдумать типа такого «будущего человека», для которого противоположность данного и нормы, искомого и наличного, должна представляться не имеющей смысла. А между тем, если природа — только система, то и наперекор нашей воле это царство наступит. Второй закон термодинамики, на котором зиждутся все наши расчеты в физическом мире, которому подчинена и человеческая борьба с природой, «завоевание природы» для своих целей, гласит, что энтропия мира возрастает, т. е. что все неравномерности в мире сглаживаются, что число космических превращений беспрестанно уменьшается, для них остается все меньше и меньше простора, словом, что мир стремится к покою. Этот покой смерти есть, ведь, лишь другое выражение для устранения всех дисгармоний, угашения всех неравенств. Если в мире владычествуют одни «законы», значит, мы собственными руками роем себе могилу и готовимся сами себя засыпать в ней.
Но что представляют собою законы мира и в каком смысле можно говорить об их господстве над существующим? «Реальности» их в том смысле, что они представляют собою, так сказать, точную копию с отношений между силами природы, как они существуют сами по себе, an und fur sich, теперь никто не станет утверждать. Уже достаточно глубоко укоренился взгляд на них как на способ понимания мира: законы природы, известные нам, суть законы существующего, пропущенные сквозь призму нашего миропонимания, способы нашего мышления о мире. И вот, спрашивается, непреложны ли и неизменны ли эти способы? Единственной опорой положительного ответа является пресловутое «единообразие природы», выражающее не что иное, как догматическую, волеутверждаемую веру в то, что будущее есть однозначная функция прошлого. Мы стараемся создать своей интеллектуальной фантазией такой идеальный образ мира, чтобы действующими в нем силами порождались как раз те явления, которые наблюдаются нами ныне и, как известно нам, наблюдались до нас. Мы стараемся, таким образом, объяснить определенный, фактический материал, определенные конкретно–исторические факты. Построяя «план» исторического процесса, мы имеем в виду установить причинную неизбежность настоящего, и исходим из молчаливого предположения, что в настоящее прошлое упирается, как в тупик. И если, в конце концов, нам начинает казаться, что исторической жизнью управляют железные законы рокового предопределения, то только потому, что из этой предпосылки мы исходили. Ведь разум человеческий всегда находит в вещах только то, что он сам вложил в них». — В действительности, исторические перспективы раздвигались и менялись не раз. Было привычно делить историю на древнюю, среднюю и новую, и с этой привычкой пришлось расстаться, когда внутри античности раскрылось свое «средневековье» и выяснилось, что то, что мы считали за один из периодов единого всемирно–исторического процесса, есть, в сущности, законченное целое, самостоятельная культурно–историческая единица, имевшая свое начало, свое акме и свой финал. И за пределами средиземноморского культурного мира обнаружились еще другие такие замкнутые исторические циклы… Как долго ни держалась схема четырех царств Данииловой книги, наконец, полная непригодность этого образа стала ясной.
Наши историко–генетические схемы всегда упираются одним концом на такое–то настоящее, другим — на такое–то прошлое. Делать прогнозы и предсказания с уверенностью мы можем лишь под тем условием, что заранее исключена возможность неожиданностей, переломов, изгибов, — словом, творчества. Расчеты должны вестись так, как будто существует только быт, и нет культуры. И тогда мы выводим новый быт из старого, забывая о связующем их звене — человеческой личности. Та магистраль всемирной истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, — утверждал охваченный зловещими предчувствиями Владимир Соловьев, — кончилась. Осталось доиграть эпилог великой драмы, и он может растянуться на много актов. Но призрак «бледной смерти», вставший перед, действительно, уже близким к могиле мыслителем, был ли призраком всеобщей смерти, или только приговором былому? Смерть Европы есть ли смерть человечества? Для того, чтобы это утверждать, нужно было бы поставить знак равенства между Европой и человечеством. Можно ли это сделать, не насилуя фактов? Первая ли в мире по времени культура европейская и не знаем ли мы случаев вымирания не менее величественных «культур»?!
«Не долго ждать, — предсказывал Заратустра, — и «новые народы возникнут, и новые источники низвергнутся в новые бездны. — Землетрясения, — они засыпают много источников и многое ниспровергают; но они зато открывают и выход новым силам… В крушении старых народов пробиваются новые ключи».
«Общий план развития, — писал Герцен Тургеневу, — допускает бесконечное число вариаций непредвидимых… Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи… Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковых биографий. Каин и Авель были родные братья, а какие разные карьеры сделали». И воспоминая о тургеневском сравнении, он продолжает: «Что утка не дышит жабрами, это верно, еще вернее, что кварц не летает, как колибри. Впрочем, ты верно знаешь…, что в жизни утки была минута колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры; но, имея физиологическое предание, привычку и возможность развития, утка не остановилась на беднейшем строении органа дыхания, а переходила к легким. — Это значит просто–напросто, что рыба приладилась к условиям водяной жизни, и далее жабр не идет, а утка идет»… «Перед нами стоят теперь оконченные, оседлые типы, до того далекие друг от друга, что всякий переход между ними невозможен. За каждым животным просвечивает длинная история — стремлений, прогресса, avortement [23] и уравновешения, в котором формы его успокоились наконец, не выполнив смутного идеала своего, но остановившись на возможном, на русском «живет и так»… Одни части рода человеческого достигли соответствующей формы и победили, так сказать, историю; другие в разгар деятельности и борьбы творят ее; третьи, как недавно обсохнувшее дно моря, готовы для всяких семян, для великих посевов и всем дают неистощенную тучную почву». — Как бы предваряя современного нам теоретика «Творческой эволюции», Герцен закладывает основы новой социологии, — увы, до сих пор еще не построенной, — социологии, основанной не на идее монофилетического развития жизни, а на идее веерообразного расхождения ее путей.
«Страну отцов», страну преданий и преемств сменит «страна детей, не открытая, в дальнем море»…, куда исступленно звал «высших людей» пророк «сверхчеловека». Но где она, эта новая «земля блаженных»? Какой компас укажет, куда направлять паруса? И ясен ответ — в страну народов «неисторических».
Юноша — Киреевский еще в свои «западнические» Lehrjahren [24] писал в 1830 году: из европейских народов «каждый уже совершил свое назначение, каждый выразил свой характер» и как бы выговорившись, пройдя через свой черед быть общечеловеческим «сердцем», «столицей» «просвещенных народов», впал в старческий сон. «Вот отчего Европа представляет теперь вид какого–то оцепенения», — «запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болото, где цветут одни незабудки, да изредка блестит холодный, блуждающий огонек. Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждой: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество». Сам Гегель называл Америку страной будущего, в которой в грядущие времена… «предстоит раскрыться всемирно–исторической ценности», отличной и отдельной от той почвы, на которой до сих пор развивалась всемирная история. И он припоминает гордые слова Наполеона: «Cette vieille Europe m'ennuie!» [25] Уже в 60–х годах, пройдя болезненный искус революционных созерцаний, Герцен находил «вне Европы… только два деятельные края — Америку и Россию, разве еще начинающуюся Австралию». Правда, Америка это та же Европа, но молодая, растущая. «Волна за волной несет к ее берегам наплыв за наплывом — и они не остаются на месте, но идут далее и далее. Движение продолжается в самой Америке, новые пришельцы просачиваются сквозь основное народонаселение, иногда увлекают его — и все стремится, толкаясь и торопясь»… «Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собой все, — писал Герцен Тургеневу — Россия понимает кругом, как вода, обходит племена со всех сторон… И тот же юный пластицизм! Чему смеялся Иосиф II на закладке Екатеринослава, говоря, что императрица положила первый камень города, а он последний? Не город там построился, а государство… А вся Сибирь? А теперичные поселения на берегах Амура, где на днях будет развеваться звездчатый флаг американских республик? Да и самые восточные губернии Европейской России? Читая летопись семейства Багровых, я был поражен сходством старика, переселившегося в Уфимскую провинцию, с «сетлерами», переселяющимися из Нью–Йорка куда–нибудь в Висконсин или Иллинойс… Когда Багров сзывает со всех сторон народ засыпать плотину для мельницы, когда соседи с песнями несут землю и он первый торжественно проходит по побежденной реке, так и кажется, что читаешь Купера или Ирвинга Вашингтона»… Так сама «географическая физиология» России свидетельствует о ее мощи и силе, о «неутомимости» ее народа и пророчит ей будущее, которое сторицей вознаградит ее за отсутствие прошлого.
Эти оптимистические прогнозы опирались, конечно, не на один «юный пластицизм»; под них подводилась определенная социологическая база, правда, не совсем одинаковая у Киреевского и у Герцена. Различие между ними обусловливалось, однако, не противоположностью «славянофильства» и «западничества», консервативного национализма и либерального космополитизма, а тем, что только Герцен доводил до конца свою разрушительную критику исторических предрассудков; а представления ранних славянофилов оставались в прежнем кругу, внутренне расщепленные. Они, в сущности, только прибавляли к числу народов «исторических» еще один народ и обосновывали это восстановлением забытой «традиции», нередко заведомо фиктивной. Наряду с «западной» колеёй всемирно–исторического пути, исходящей из Рима, устанавливалась «восточная», ведущая начало из Византии, быть может, из самой Эллады и Иерусалима. Славянское племя включалось в планы исторического предопределения на то самое место «увенчания здания», на которое на западе ставили «немецкую нацию». И так же, как и там, культуру смешивали с бытом, свершения с идеалами. Будущее выводили из прошлого, и все надежды упирали на него, на то, что и мы имели историю, — не хуже, а, пожалуй, даже получше западной: и наше наследство богато и старо. Опять делался смотр предкам, вместо того, чтобы считать наличные силы. Один только Герцен преодолел понятие «исторического» народа вполне, и лишь его исторические предсказания опирались на идею непредопределенности исторического процесса, на идею «растрепанной импровизации истории», не знающей ни монополий ни прерогатив. Лишь он не возводил исторических подпорок, глядя только вперед.
Но и социология — какова бы она ни была — не может обосновать творческих предчувствий; — она лишь раскрывает возможность рождения «новых» культур, возможность вечно обновляющейся культуры сверх быта. И все русские провидцы, утверждая русское или славянское будущее, имели перед своими духовными очами вполне четкий образ грядущего культурного типа.
«Православие» и «социализм», — вот те две главные вехи, по которым обыкновенно ориентировались русские предсказатели. «Святая Русь», «народ–богоносец» и «земельная община», «хоровое начало» — вот неизменно повторявшиеся лозунги сторонников русской «самобытности». В эти слова не следует вкладывать застывшего содержания, не следует понимать под ними конкретных исторических форм: под ними всегда разумелись прежде всего «идеи», и если пристально всматриваться в тот контекст, в котором они обычно мыслились, то станет совершенно ясно, что эти как будто несовместимые идеи пересекались в понятии «цельной жизни», или «свободного всеединства», как выражался Вл.Соловьев. Недаром Достоевский называл православную вселенскую церковность — «нашим русским социализмом». Как бы часто «должное» и «наличное» ни сплавлялось в русском интеллигентском сознании в уродливый слиток националистической утопии, как бы часто ни делались попытки апологии всего конкретно–исторического русского — и византийско–славянского вообще — пути, движущей мыслью оставалась всегда идея преодоления «организации», идея творческой личности. Не о строе, а о духе томилась русская душа. И, томясь, верила, что можно построить жизнь вне «рамок узких юридических начал», что можно заменить все писанные законодательства неписанным законом, запечатленным в человеческом сердце, что власть и принуждение могут быть замещены искренним исповеданием правды. И верила потому, что знала, что только такая жизнь была бы верным осуществлением великого завета Богочеловечества претворением в дело пророческого моления Вечного Первосвященника: «Да вси едино будут». — Владимир Соловьев ярче других выразил это упование в ранний, еще чисто «славянофильский» период своего творчества. «Такой народ, — говорил он о народе–мессии, — не должен иметь никакой специальной ограниченной задачи. Он не призван работать над формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую душу, дать средоточие и целость разорванному и омертвелому человечеству, чрез соединение его с всецелым, божественным началом. Такой народ не нуждается ни в каких особенных преимуществах, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое». Он — подлинное орудие Божие, творческий носитель божественной и вселенской жизни, «общечеловеческой или вселенской культуры». — Есть ли здесь горький привкус национального «самовозвеличения», исказилась ли здесь «любовь к отечеству» — в «народную гордость»? И были ли элементы превозношения в том истинном мессианизме, которому основа была положена обетованием, данным свыше Аврааму, вместе с призывом уйти из земли предков «не на год лишь один, не на много годин, а на вечные веки?..»
Но более того, — в самой попытке воссоздания «прошлого» для грядущей культуры было верное и неисключимое зерно. Эти неудачные «апологии» хотели показать возможность осуществления именно такого идеала — именно русским народом или всем славянским племенем. «Кто должен творить, — проповедовал Заратустра в «стране учения», — тот всегда имеет свои вещие сны и звездные знамения — и верует в веру». — Так создается неотложная необходимость исторической ретроспекции, погружения в недра народных стихий, чтобы проверить соответствие замыслов и сил для их воплощения. Исторические упования требуют для себя опорных точек в прошлом и настоящем. — Здесь нет никакого противоречия с восстанием против отеческих преданий, с призывом смотреть только вперед. Понятие «традиции» в области «культуры» и в области «быта» — это далеко не одно и то же понятие.
Когда мы говорим, что правовые нормы современной Европы покоятся на римском праве, мы можем шаг за шагом проследить все этапы непрерывного преемства, показать узловые пункты пресекающихся нитей. Мы можем указать вещественные памятники, в которые отливалась эта традиция, все непосредственно касающиеся меж собой звенья цепи, натянутой от лициниевых закон до Дигест и оттуда до Code Napoleon [26] и позднейшего германского уложения. Мы можем показать, что здесь происходи сознательное «усвоение», «рецепция» в строгом и точном смысле слова. И то же можно сказать о бытовой эллинизации римского мира, об европеизации современной Японии и т. д. — Но в том же ли смысле понимал «традицию» Достоевский, совершенно справедливо утверждая, что утопический социализм Фурье икарийцев дышит духом римского католицизма? В таком же ли смысле употребляем мы понятие «преемства», говоря, что философия Европы насыщена платоническими реминисценциями?
Потоки культурной и бытовой «традиции» могут резко и o6остренно расходиться. От этого именно так загадочен лик Дальнего Запада — Америки. По быту это повторение и утрировка «Европы», гипертрофия общеевропейского демократизма буржуазности. И тем неожиданнее встретить под этою коркой определенно гетерогенную традицию культуры, ведущую от первых иммигрантов через Бенжамена Франклина и Эмерсона к self–made men Джека Лондона, традицию радикального отрицания мещанства и путь жизни и утверждения индивидуальной свободы. Где проходит колея этой традиции? Она почти неуловима: «пластицизм» — лишь символизирует ее. Но именно в ней, а не «капитализме» усматривает свой «дух» американское самосознание, исповедующее Джеймса своим пророком.
Таков и «русский сфинкс». Несмотря на свою — во «всемирно–историческом плане» — «неисторичность», Россия есть в высшей степени сложная историческая формация. Нетрудно различить в русском быте разнородные слои — варяжский византийский, славянский, татарский, финский, польский, московский, «санкт–питербургский» и прочая, и нетрудно возвести эти осадочные образования к определенным причинно–действиям. Как бы сами собой перебрасываются мостики к норманским «вооруженным купцам», к византийскому цезаропапизму и Номоканону, к Золотой Орде и кочующим инородцам, к иезуитам и шляхте и т. д. Но этим бытом русское бытие явным образом не исчерпывается. «В рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя» русские степи и леса. И нити паутинной тонкости тянутся от Достоевского и Толстого, от Гоголя и Самарина, от отца Амвросия и преп. Серафима куда–то назад, в заволжские чащи, к Нилу Сорскому и преп. Сергию, а оттуда на Афон и далее, в раскаленные пространства Фиваиды. Чрез века и пространства безошибочно осязается единство творческой стихии. И точки ее сгущения почти никогда не совпадают с центрами быта. Не в Петербурге, не в древле–стольном Киеве, не в Нове–городе, не даже в «матушке» Москве, а в уединенных русских обителях, у преподобного Сергия, у Варлаамия Хутынского, у Кирилла Белозерского, в Сарове, в Дивееве чувствуется напряжение русского народного и православного духа. Здесь издревле лежали средоточия культурного творчества. И поныне разве не «незримый град Китеж», в далекой лесной глуши, на берегах завороженного озера, ведомый лишь верующему взору, притягивает к себе магическим очарованием разлаженные струи национальной стихии? Традиция культуры — неосязаема и невещественна. Ее силы — мистические межиндивидуальные взаимодействия. Ее нити перекрещиваются в неведомых тайниках человеческого творческого духа. Ее седалище — его интимные недра. Когда мы разлагаем живые течения русской культурной жизни на их составляющие и отчеканиваем последние в отточенные формы, что–то всегда проскальзывает меж пальцев, и интуитивно–несомненная русская «культура», «русская стихия» перед рассудочным анализом оказывается пустым местом. Ее вспышки кажутся какими–то разрывами «традиции», загадками, уродствами. Не таков ли образ Достоевского: «российский маркиз де Сад», по ощущению Тургенева, человек, «принявший в свое сердце давно с восторгом» Тихона Задонского, по его собственным словам… По быту порождение страшного града Петрова, по культуре — отпрыск Оптиной Пустыни.
Подлинное творчество, подлинно новое всегда «необъяснимо». Мутационные взрывы, искривления наследственных путей — всегда остаются за пределами рационального осознания. Но значит ли это, что они «беспричинны», что к ним не ведет, не вело никакое «прошлое»? Мир — «космичен» (не хаотичен) не для одного разума. «Импровизации» имеют свою имманентную необходимость. Творчество, как и бытовая переимчивость, имеет свои традиции. Но эти культурные связи постигает не разум, не дискурсивный анализ, а чувство, сгущающее века в миг единый. В мистической интуиции схватывается зараз, «что есть, что было, что грядет во веки» в их подпочвенной таинственной связи. В мистическом чувстве ощущается и сознаются «народ–богоносец», «Святая Русь», «православный Восток» и «безбожный Запад». И религиозно–просветлённый взор видит под конструктивною преемственностью бытовых картин трагическую мистерию исторической жизни, воспринимает мир как непрестанную борьбу веси Божией с градом Антихриста — борьбу, тяготеющую к апокалиптическим катаклизмам, как веками разыгрывающуюся единую драму; он схватывает культурно–психологические преемства свои и своих врагов, он чувствует себя в определенном русле. Но это «прошлое» незримо и не гнетет настоящего и будущего слепой неотразимостью Рока. В этой мистерии священнодействуют свободные служители идеалов, — правда, в благодатном общении между собой.
Раскрывающиеся в интимных созерцаниях идеалы и предчувствия будущего становятся подлинным стимулом культурного творчества и жизни, — но не в качестве исчерпывающей программы действий или непогрешимой regula vitae, а в виде вдохновляющей веры, любовью споспешествуемой. Центр тяжести всецело переносится в глубь личности. Будущее становится причиною настоящего, по вещему слову Заратустры. Много ли, мало ли поколений жило до меня, стою ли я в «чистой» или в «гибридной» линии — безразлично: внутренний «внеисторический» голос, а не генеалогические выкладки говорит «куда идти»… «Кто открыл землю: «человек», — говорил Заратустра, — тот открыл и землю «человеческого будущего»…
Здесь глубинное, можно сказать, интуитивно–мистическое средоточие «неисторического» восприятия мира. Не vis a tergo [27] «жизненного порыва», не бесчисленный сонм предыдущих поколений, не непреодолимые навыки движут «культуру» и творчество впредь, а свободно избранный идеал призывно влечет его вдаль…
Печатается по первой публикации в сб.: «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». София, 1921, кн.1, с.52–70
ПОСЛУШАНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВО
В экуменическом движении мы встречаемся как христиане. Встречаемся во имя Христово. Но встречаемся мы как «разделенные христиане», с полным сознанием нашей взаимной разделенности, наших «несчастных разделений». Больше того, мы рождаемся в этот разделенный Христианский мир, мы вовлечены в этот Христианский раскол, прежде чем мы знаем о нем, прежде чем мы отдаем себе отчет в его существовании и смысле. И это создает главную трудность нашего Христианского положения в мире. Никто не стремится быть сектантом, членом секты. Христиане разных исповеданий или толков хотят быть христианами, не членами секты, но членами именно Церкви, Единой, Святой, Кафолической и Апостольской, и часто как раз для этой цели выделяются и отделяются, уходят в раскол. Проблема сейчас стоит острее, чем во времена религиозного индивидуализма, когда она решалась довольно просто. Тогда можно было утверждать, что религия, и в том числе Христианство, было «частным делом» каждого, — еine Privatliche, — как то часто заявлялось в прошлом веке и вне всех вероисповедных границ. Границы эти тогда могли легко быть перейдены или просто оставлены без внимания. Предполагалось, что вполне можно было быть Христианином, не принадлежа ни к какой Церкви. Устанавливалось не только различие, но и прямое противоположение между Христианством и Церковностью. Странным образом, в то время даже церковные люди не осознавали своей собственной церковности, считая ее как бы чем–то случайным, «чисто историческим», относительным, условностью исторического положения.
Противополагались «вера» (или «дух Христианства») и «Церковь», как установление или учреждение, и этот «институционный» аспект христианского бытия рассматривался как нечто человеческое, и «слишком человеческое», и потому второстепенное и относительное. Вероятно и сейчас многие, и даже значительное большинство, все еще придерживаются этой точки зрения, по крайней мере для самих себя, для личного самооправдания, хотя бы, в то же время, они охотно сохраняют традиционный строй своих отдельных «исповеданий», по разным причинам, по привычке и моде, как унаследованный бытовой уклад, или по мотивам эстетическим, или социальным. «Внешняя» структура церковности воспринимается часто как почтенная историческая традиция, которую следует и должно сохранять, хотя бы и без подлинной «веры в Церковь». В наше время, однако, этот индивидуалистический подход к вопросам веры, который практически может сочетаться с острой конфессиональной нетерпимостью и даже высокомерием, становится все более трудным. По удачному выражению одного современного протестантского богослова, в наше время христиане вдруг вновь «открыли для себя Послание к Ефесянам», то–есть — ощутили реальность Церкви. Может быть, в этом утверждении есть преувеличение.
В действительности далеко не все сделали это «открытие», и не все его осозналн. Иные осознали Божественное измерение Церкви другим путем. Но, в общем, «соборная» или корпоративная природа христианского бытия все более становится очевидной в последние годы. Если уместно сослаться на мой личный опыт, я припоминаю одну мелкую, но характерную подробность. Почти сорок лет тому назад в одной из моих статей я выразился так: «Христианство есть Церковь». Тогда эта фраза показалась странной, слишком сильной и преувеличенной. Теперь она прошла бы незамеченной — сейчас это почти что «общее место», нечто почти что самоочевидное. Это не значит, конечно, что все последствия такого утверждения ясно осознаны. Да и самая фраза может быть понята и истолкована поразному. Вполне она может быть усвоена только в полном контексте христианского исповедания, в контексте церковной веры. Впрочем, и с чисто исторической точки зрения очевидно, что с самого начала Христианство существовало как Церковь, то есть как «общество» или община верующих, соединенных между собой не только единством взглядов или убеждений, но прежде всего общей верностью живому Господу, Спасителю мира, и жизнью «во Христе». Церковь была установлена самим Христом, еще «во дни Его плоти», даже до Его искупительной смерти и Воскресения. Или даже Церковь была им восстановлена, внутри Израиля, избранного народа Ветхого Завета, как «мессианская община», как «верный остаток», как «малое стадо», по выражению самого Спасителя. И это «малое стадо» было организовано Им самим, через избрание Двенадцати и других, которым была дана «власть».
В самом Евангелии существование Церкви предполагается и чувствуется. Это не книга для отдельные лиц, а книга для Церкви, и книга Церкви. Верующие становятся христианами, когда они входят и включаются в Церковь. Но именно здесь возникает главный вопрос. Допустим, все сказанное верно, как исторический факт, в плане исторической и человеческой действительности. Нет сомнения, Церковь от начала является исторической формой христианского бытия. Но принадлежит ли Церковь самому существу этого христианского бытия, есть ли она нечто большее, чем «историческая форма»? В прошлом веке было легче верить в некую «Невидимую Церковь», и отвлекаться от исторических форм. В наше время труднее всего верить именно в эту «Невидимую Церковь» и выходить за пределы ее исторического измерения. Церковь, как историческое явление, стала совершенно очевидной, и обладает сейчас большой притягательной силой. На первый взгляд, такое утверждение может показаться нарочитым парадоксом.
Верно ли, в самом деле, что теперь, в разделенном христианском мире, так ценят, по–новому, исторические формы? Так ли это! Не наоборот ли! С торопливыми обобщениями нужно всегда быть очень осторожным. Но достаточно привести один, весьма характерный и убедительный пример. В разных современных переговорах между протестантскими исповеданиями, о единстве и соединении церквей нередко высказывается мысль, что известные исторические факты и формы исторического строя должны быть положены в основу единства, хотя при этом богословское истолкование этих форм строго исключается. Имею в виду прежде всего так называемый «Исторический епископат», который был установлен или восстановлен, через посредство Англиканской церкви, и новосоединенной «Церкви Южной Индии». Епископат может быть здесь не больше, чем исторической формой, историческим установлением, частицей человеческого предания, и все же он принимается как база единения и единства. Природа его и характер могут быть, с полной свободой, по разному определяемы в новой церкви. Гораздо меньше внимания уделяется единодушию в вере. Ссылаюсь на этот пример не затем, чтобы набросить тень на «Церковь Южной Индии», о которой много доброго было сказано даже некоторыми выдающимися богословами Римской Церкви, как о начинании благородном и многообещающем в экуменическом плане. С такой положительной оценкой я не могу согласиться. Но в данном случае, для нас важно только то, что «учреждение» очевидно поставлено выше или прежде «веры» — единство в учении сведено к минимуму, а «исторические формы», и именно как «исторические», сделаны обязательными. Правда, такой подход не так уже парадоксален в конкретном положении так называемых «молодых церквей», выросших из недавнего протестантского миссионерства. В этом конкретном положении противоречия «разделенного христианства» становятся патетически очевидными. Протестантские миссионеры в колониях и в других странах не имели прямого намерения обращать туземцев в «секты». Они искренно, по своему разумению, хотели привести их ко Христу и приобрести для Его Церкви. Но на деле их обращали в «исповедания», разные и разделенные между собой, и нередко в противоречии и борьбе друг с другом. И такое положениее не могло не отразиться и на миссионерской деятельности, как Православной, так и Римской Церкви. «Разделенный Христианский мир» распространялся и в тех странах, где причины и смысл этого разделения были неизвестны и непонятны. Именно на этом миссионерском поле грех разделения становился вопиюще ясным. Именно на этом поле впервые была осознана «экуменическая необходимость» единства, и впервые прозвучал зов к единению. В историческом положении «молодых церквей» ударение было естественно поставлено именно на внешнем или организационном единстве. «Единство» было выставлено как особая тема и как первичная и первоочередная задача и цель. Действительно, это была острая тема. В итоге «свидетельство» было сведено к «основным» положениям христианского благовестия, к «провозглашению Слова», к проповеди одного Евангелия.
Мы подошли теперь к нашей главной проблеме, к проблеме Христианского Единства в нашем собственном положении, в нашей собственной исторической перспективе, в перспективе исторического мира Христианской Цивилизации, к которому мы, на Американском материке, принадлежим по наследству. Мы тоже слышим зов к единству, и воспринимаем его, как неустранимое обязательство, как обязывающий долг. И этот зов усиливается внутренним беспокойством, разного рода страхом или испугом. Мы не можем по совести укрыться от проблем экуменизма, уклониться от темы Христианского Единства. Конечно, мы находимся в разных положениях, соответственно характеру нашей вероисповедной принадлежности. Это вполне естественно внутри разделенного Христианского мира. Экуменическая проблема была впервые формулирована протестантами. Вернее сказать, они поставили и формулировали свою собственную экуменическую проблему, которая, строго говоря, просто не существует для православных, как не существует она и для Римских католиков. Основной предпосылкой протестантского экуменизма является некоторое «равенство» существующих вероисповеданий, во всяком случае равенство в известном смысле и в известных пределах, которые могут по разному определяться, по отношению к основному «данному единству», как обычно говорится, на которое нужно смотреть как на «дар Божий» и как на заданную цель. Следовательно, главная задача, при этих условиях, в том и состоит, чтобы это «данное единство» выявить и проявить, выразить его в известных организационных формах, и раздвинуть его размах и пределы. Это предполагает известное взаимное признание. Исповедания рассматриваются как взаимно дополняющие друг друга. Практические цели могут ставиться по разному.
Первая опасность, заключающаяся в такой установке, есть опасность экуменического нетерпения. В нем есть своя логика. Если «единство» уже «дано» и христиане призваны «проявлять» его, то трудно понять, почему они должны откладывать тот главный акт, в котором «данное единство» было бы провозглашено с полной очевидностью, то–есть Общее Причащение. Фактически, этот акт, под разными именами и в разных формах — «взаимное причащение» (т. наз.intercommunion), сослужение, или открытое причащение, и т. д., постоянно требуется, в особенности среди молодого поколения, как неотъемлемая часть всякого экуменического действия, как залог серьезности и искренности экуменического искания, как такового. Вне такового акта все остальное преяставляетcя просто праздной и безответственной болтовней. Нужно действие, открытый жест, видимый знак. При всем том, часто открыто признается, что те, кто приглашают к такому акту «взаимного причащения», резко расходятся в понимании и оценке именно этого торжественного действия, как они расходятся и в понимании многих других вопросов веры.
При таких условиях для постороннего, то есть, для непротестанта, остается совершенно непонятным, как такой поспешный и преждевременный акт может послужить делу единства. Жало разделения остается, и о нем умалчивают. Существующее единство, то есть — так называемое «данное единство», считается достаточным — нужно только «проявление». Но в действительности, как непротестанты видят ее, единства нет, а есть только различие и разногласие. Не буду отрицать, что во многих случаях это «икуменическое нетерпение» исходит из благородных и честных побуждений. Я только утверждаю, что оно не попадает в цель, игнорирует главный вопрос, и только усиливает раздор и смешение. К единству такое поспешное действо не может приблизить еще и потому, что, к счастию, не все нетерпеливы, импульсивны, и торопливы. И тех, кто более сдержан и дальновиден, обычно упрекают в недостатке мужества, в нерешительности, и даже в неискренности и черством догматизме. Говорю об этом, так как тема «интеркоммуниона» особенно жгучей является именно в студенческих кругах. Так было, например, на большой студенческой конференции в Лозанне, в августе 1960 года. От имени этой конференции было сделано особое заявление Комиссии «Веры и Порядка», на ее собрании в С. — Анрус, сразу же после Лозаннского съезда. Нам было сказано, что молодежь считает старшее поколение устарелым и отсталым, увлеченным в бесплодные разговоры и неспособным к действию. Нас предупредили, что молодежь будет действовать без нас. Конечно, это не было общим мнением Лозаннского съезда, и во всяком случае не было общим убеждением христианской молодежи в целом. Но это был важный симптом.
Нетерпение мотивировалось христианским послушанием. Все должны быть едино, так будем действовать сообща, как если бы мы были едины. Этим предполагается, что так называемое «данное единство» является достаточной и прочной почвой, на которой можно утвердиться. К призыву к единству, конечно, надо относиться со вниманием. Но должно ли «послушание» быть слепым и формальным? Очень показательно, что несколько лет назад на местной конференции Национального Совета Церквей в США, в Оберлине (штат Огайо), в сентябре 1957 года, как раз обсуждался вопрос: какова природа, или смысл, того единства, которого мы ищем? И никакого согласия на эту тему не было, и не было достигнуто. Отсюда можно только заключить, что «разделенные христиане» еще не готовы к соединению, так как они не знают еще, какого единства искать, и во всяком случае нет общего ответа на вопрос о смысле и природе искомого единства. Нет ли здесь игры с абстрактным понятием единства, безо всякого определенного содержания? Это подтверждает мой диагноз: люди не уверены насчет «невидимых» вопросов веры и зато страшно заняты внешними проявлениями, хотя остается неясным, что собственно нужно проявлять. Остается прибавить, что никакое объединение, которое по своему характеру неизбежно исключает всех «кафолически» мыслящих христиан (понимая слово «кафолический» в широком смысле слова), не может притязать быть «Христианским Единением» или его проявлением. Такое объединение только бы углубило уже существующий ров.
Третья Ассамблея Всемирного Совета Церквей, в Нью–Дели, в которой я сейчас участвую, будет обсуждать проблему христианского послушания с трех точек зрения: Единство, Свидетельство, Служение. Не знаю, к каким заключениям приведет предстоящее обсуждение, но предвижу оживленные прения по всем трем вопросам. Более того, всего важнее вопрос о соотношении трех аспектов между собою. Можно ли отделять «единство» от «свидетельства» даже в порядке обсуждения? И «свидетельство» о чем? Желание единства — благородное желание. И воля к свидетельству — благая воля. Но нечто важное обойдено молчанием, и самое важное, «единое на потребу». Имею в виду Символ Веры. Символ Веры содержит член о Церкви, и в каком–то смысле это его высшая точка, а последующие члены содержат его раскрытие — вплоть до конечного исполнения христианской надежды — в грядущем веке. До того, как начинать рассуждение о единстве, нужно выяснить природу Церкви. Христианское Единство есть, по существу, Единство в Церкви и Единство Церкви. Верно то, что до сих пор нет окончательного богословского определения Церкви. Но есть сама Церковь, как Божественное установление, видимая, историческая Церковь, и вместе с тем превосходящая и объединяющая в себе все века и все ступени своего исторического движения в непрерывности своего единого бытия. Много лет назад, тогдашний епископ Глостерский, А. Гедлам, настаивал на том, что «Единая Церковь» никогда не существовала в истории — были только «схизмы», частичные группы расходящиеся ветви. С этой точки зрения вполне последовательно он требовал признания равенства всех «схизм», то–есть, исторических вероисповедных групп, в ожидании и предварении будущей «Единой Церкви».
Среди протестантов, многие до сих пор стоят на этой точке зрения. Но Православные, так же как и Римские католики, не могут стать на такую точку зрения и должны ее отвергнуть решительно и без оговорок. Исходная точка их зрения, как бы ни расходились между собой православные и католики, совершенно иная. Также и их понимание христианского послушания и самого призыва к единству и свидетельству совершенно другое, как бы они ни сочувствовали всякому честному и искреннему исканию единства, и как бы горячо не настаивали они на его необходимости. «Данное единство», в их понимании есть самая Церковь, и оно выявлено и выявляется в исторической жизни Церкви. Церковь не только есть общество «свидетельствующее», и больше, чем только общество «молящееся». Церковь сама есть неразрывная часть своего свидетельства, потому что Она есть не только «тело верующих», но и Тело Христово. Можно сказать даже, что Церковь есть сам Христос, ибо Он живет и пребывает в Церкви, и управляет своим Телом, — Totus Christus, caput et corpus, — как замечательно выразился блаженный Августин. Церковь есть историческая форма или модус постоянного и действенного присутствия Христа в мире, в истории, в космосе, искупленном, искупляемом, и имеющем быть искупленным. Да, Церковь есть историческая данность, видимое и временное явление, в измерении человеческом. Но «историчность» Церкви является в то же время и ее предельной «сверх–историчностью», ибо это — историчность Божественного присутствия. В Церкви нераздельно и неслиянно действительны и «видимое» и «невидимое». Она имеет свой собственный строй и отличительные черты. Но Церковь не есть «вероисповедание». Есть только одна Церковь, одна Церковь в истории, хотя, к несчастью, было и есть много «схизм», отошедших и отделившихся от нее. Это — первая и основоположная предпосылка того, что можно назвать «Православным экуменизмом», как бы мало он ни осуществлялся на деле. Я не собираюсь излагать сейчас православную экклезиологию, даже и в общих чертах. Я излагал ее уже много раз и многого не могу прибавить к тому, о чем говорил раньше. Я хочу сейчас только подчеркнуть вклад православной экклезиологии в самую методологию экуменического исследования и действия. И я хочу сразу же напомнить мою излюбленную мысль об «экуменизме во времени», которая представляется мне верным методологическим ключом ко всем экуменическим замкам и загадкам. Конечно, это только ключ, это только «метод», то–есть, по точному и первоначальному смыслу этого греческого слова, путь.
Сравним этот новый тип экуменизма с общепринятым «экуменизмом в пространстве», который был зло, но метко, описан как «упражнение в сравнительном богословии». Обычно, в экуменических рассуждениях исходят от существующих многообразных «церквей», включая сюда и самую Церковь, поскольку она эмпирически представляется одной из многих исторически существующих христианских «единиц». И затем устанавливается ряд «согласий» и «несогласий» между «церквами», в надежде найти некое ядро веры, общее всем, которое могло бы быть использовано как исходная точка, или даже как база или почва для сближения и примирения. Слабое место этого обычного метода в том, что он по существу статичен и обходит как раз главный вопрос, вопрос о «схизме» или разделении. Никакое «соглашение» не может исцелить схизму автоматически, как бы ни было важно достигнуть согласия или соглашения. Не всякие разногласие разрывает единство, разве на нем настаивают с исключительностью и непримиримостью. Другое слабое место состоит в следующем, и трудно сказать какая слабость имеет решающее значение: критерий сравнения применяется неопределенный и неясный. Ссылка ни Писание и «Писание только», — sola scripture, не обеспечивает верное руководство. Нельзя обходить тот исторический контекст, в котором только Писание заучит своим полным голосом. В наши дни все более и более открывается, что Писание и Церковь не могут быть разделяемы друг от друга. Библия жива только в Церкви, внутри Церкви, то есть — в контексте «Живого Предания». Есть разные попытки определить хронологическую дату, до которой включительно Предание Церкви имеет нормативный и обязательный характер. Уже в XVI веке было высказано, с протестантской точки зрения, что почвой единения должно быть «согласие пяти веков», Consensus quinque saecularis, во всяком случае до Халкидонского Собора включительно (451). Православные, со своей стороны, полагают, что нужно идти много дальше, что в действительности хронологических пределов вовсе нет, что Предание живо и сейчас и Дух Святый неизменно пребывает в Церкви и ведет ее. В самом деле, Предание не есть только передача или сохранение древних воззрений. Предание есть непрерывное созерцание в Церкви основных событий «Истории Искупления». И в этом непрерывном созерцании и испытании, под водительством Духа Святого, открывается с новой силой неисследимая глубина той Тайны, которая явлена по Христе Спасителе.
К христианской древности нужно обращаться не потому, что она более первоначальна и ближе к событиям Евангельской истории, а потому что это есть единственный способ войти или влиться в поток Церковной жизни. Главная трудность современного человека именно в том, что он заключен или заперт в своей «современности», и кругозор его чрезвычайно узок и ограничен. Прошлое для него прошло и ушло, оно вне его досягаемости, включая и искупительное прошлое самого Евангелия, о котором он только вспоминает, — он знает его только как прошлое. Современный человек и об Евангелии, и даже о Христе, только вспоминает. «Согласие пяти веков», пяти веков только, конечно, не есть достаточное основание, если брать его в ограничительном смысле — но не дальше. Но для современного человека, и для нас всех, узников нашего века и «современности», было бы громадным достижением и приобретением, если бы мы смогли раздвинуть наше поле зрения и воспринять Писание, которое является первичным Апостольским свидетельством о Христе и Его победе, воспринять его в живом контексте жизни и мысли этих великих пяти веков, если бы мы смогли отожествить себя, в любви и духе, с поколениями прошлого, с тем «облаком свидетелей», которые хранили и передавали истину в Церкви. Отзывчивые и восприимчивые люди нашего времени все более отдают себе в этом отчет, осознают узость или ограниченность своего кругозора. Но обычно современные люди стараются преодолеть свою ограниченность расширением в пространстве, складывая вместе разные местные предания в расчете достигнуть таким методом планетарной полноты, на манер «Соединенных Наций». Конечно, узы «провинциализма» тяжелы и опасны, и их тоже следует разорвать. Но гораздо опаснее узы забвения, отсутствие исторической перспективы. Светская аналогия может помочь в этом случае.
Никто не может охватить вполне содержание своего национального бытия, если его кругозор не вмещает прошлого. Никто не может творить, если он не вживается в традиции того поля культуры, в котором он хочет двигаться. Художник изучает творения древних мастеров, не только как памятник древности, но и как воплощение творческого порыва, который как–то жив и пребывает и в своем воплощении. Философы изучают древних мыслителей, как свидетельство своих былых предшественников на том же поле искания. Тем среди современных христиан, кто страдает нетерпением и готов разрушить все стены разделения, которые были фактически возведены ведь в истории, нужно посоветовать расширить кругозор, обогатить себя опытом прошлого. Вряд ли многие охотно примут такой совет, и вряд ли многие обратят на него внимание. Скорее над ним посмеются, как над ярким примером архаизма и отсталости. Даже с чисто человеческой точки зрения мне всегда казалось странным, что так легко забывается, что христиане жили и прежде и что их свидетельство заслуживает внимания и изучения. Прорвавшись чрез загородки времени можно обрести вновь чувство солидарности в видении и действии на протяжении веков. Конечно, это не больше, чем человеческое приближение к тайне Церкви. Церковь есть единое Тело единого Господа, всегда та же, вчера, сегодня, завтра, — тело, к которому постоянно прибавляются и приростают новые члены (хотя, к несчастью, некоторые члены и отпадают), и так будет до дня конечного завершения и суда, когда настанет он по воле Божией, в неизвестном будущем. И тогда времени больше не будет.
Мое изложение было отрывочным. Нужно подвести итоги. Начальной точкой нашего рассуждения была проблема христианского послушания. Многие из нас услышали призыв к работе над восстановлением Христианского Единства и готовы на него ответить. Да, разделение среди христиан есть стыд и соблазн.
Однако, мы не достигли согласия и единомыслия в вопросе о природе и цели Единства, которое мы стремимся восстановить или установить наново. Причина этого разногласия в том, что мы по–разному воспринимаем и разумеем природу и тайну Церкви. Однако, и в хаосе разделенного христианского мира можно найти Церковь, и для этого не требуется исторических изысканий. Слава и благодарение Господу за это. Но мы никогда не сможем постигнуть сущность и силу Церкви иначе, как в исторической перспективе. Ибо Церковь Христова, будучи всегда тожественной в своем неизменном существе, живет и растет во времени, по воле Божией и под неизменным водительством Святого Духа, как об этом проникновенно свидетельствовал Апостол Павел, в «Послании к Ефесянам». И рост Церкви должен быть каждым христианином благоговейно и внимательно изучен и понят. Я резко отзывался о том, что я назвал «экуменическим нетерпением», но эта резкость внушена мне глубоким уважением к человеческой истории, к судьбе человека в истории, к судьбе очень трагической. Мы не можем преодолеть историю через простое отрицание. Мы не смеем относиться к Христианской истории небрежно и неуважительно, рассматривая ее во всех ее трудностях и ее видимом хаосе, со всеми ее неудачами и достижениями. Вперед можно идти только последовательно. Сейчас меня занимает только ближайшая задача экуменического размышления. Вряд ли мы можем сейчас пойти дальше «взаимного ознакомления».
Поэтому я не говорил о многом, что следовало бы и стоило бы сказать, и что нужно сказать рано или позже. Многие страдают, как я сказал, нетерпением «проявить» Богом данное единство. Но находимся ли мы в этом единстве? И что есть это единство? Мы страдаем нетерпением и хотим свидетельствовать. Свидетельствовать о чем? О наших противоречивых и личных убеждениях и взглядах? или о Божественной Истине, которая открыта была нам Богом, в Его Святой Церкви, и открывалась через века Христианской истории, которая опознавалась, усваивалась и воплощалась в жизни и свидетельстве непрерывного ряда «свидетелей верных», вплоть до нашего времени? Будем ли мы свидетельствовать от нашего имени, или от имени всего сонма наших братьев по вере, от Пятидесятницы до сегодняшнего дня, или, лучше сказать от имени Церкви, которая есть «Столп и Утверждение Истины», воздвигнутые Господом в хаосе мира сего? Послушание нельзя отделять от свидетельства. Но свидетельство должно быть подлинном, полным и объемлющим, свидетельством о Христе в Его полноте, caput et corpus, о всей полноте Истины Христовой.
Мы призваны работать на поле Христовом. Но прежде нас другие подготовили почву. Мы должны войти в их труд, смиренно, уважительно, терпеливо. По слову Апостола Павла, и сам Господь тоже долготерпелив.
Нью–Дели. Воскресенье, 19 ноября 1961 г.
Настоящая статья переведена с английского н является текстом доклада, прочитанного на Съезде неправославным студентам в Кембридже в декабре 1961 г. Статья напечатана по–английски в сборнике: The sufficiency of God, Essavs in Honour of W. A. Visser't Hooft ed. bv Robert C. Mackic and Charles C. West, SCM Press, Ltd, London (1968).
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Оп.: Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии/ Сост., вступит. Ст. И.И. Евлампиева, примеч. И.И. Евлампиева и В.Л. Селиверстова. — СПб.: РХГА, 2005. — 862 с.
Впервые (на англ. яз.): The Social Problem in the Eastern Orthodox Church // The Journal of Religious Thought. 1950–1951. Vol. 8. No. 1. Autumn–Winter. Pp. 41–51. Воспроизведена без изменений во 2–м томе американского Собрания сочинений Флоровского (р. 131–142). Печатается по последнему изданию в переводе Л. А. Успенской.
1
Христианство по существу своему — религия социальная. Есть древняя латинская поговорка, которая гласит: Unus christianus nullus christianus (один христианин — не христианин). Никто не может быть истинно христианином, оставаясь одиноким и изолированным существом. Христианство не есть прежде всего учение или дисциплина, которую отдельные люди могут воспринимать для собственного употребления и руководства. Христианство есть именно община, т. е. Церковь. В этом отношении преемственность Ветхого и Нового Завета очевидна. Христиане — «новый Израиль». Слова Священного Писания в высшей степени показательны: Завет, Царство, Церковь, «люди святые, особый народ». Отвлеченный термин «христианство» — явно позднего происхождения. С самого начала оно осмыслялось социально. Весь строй христианской жизни общественен и корпоративен. Все христианские таинства по своей сути являются «таинствами социальными», т. е. включающими членов. И христианская молитва есть молитва корпоративная, «publica et communis oratio»[28], по словам св. Киприана. Поэтому созидать Церковь Христову значит созидать новое общество, т. е. воссоздавать человеческое общество на новой основе. Всегда сильно подчеркивалось единодушие и жизнь сообща. Одним из самых ранних наименований христиан было простое «братья». Церковь есть и должна быть тварным отображением божественного Первообраза. Три Лица — Единый Бог. Соответственно в Церкви многие должны быть включены в единое Тело.
Все это, конечно, составляет общее наследие всей Церкви. Однако это подчеркнутое значение корпоративного начала было, вероятно, особенно сильно в восточной традиции; оно и до сих пор составляет отличительный этос Восточной Православной Церкви. Этим я не хочу сказать, что все социальные стремления
597
христианства действительно осуществились в эмпирической жизни христианского Востока. Идеалы никогда не осуществляются вполне; Церковь еще находится in via (в странствии), и мы должны признать, что Восток потерпел горькую неудачу в своем стремлении стать и остаться истинно христианским. Однако идеалами пренебрегать не следует. Они являются и руководящим принципом, и движущей силой человеческой жизни. На Востоке всегда было ясное видение корпоративной природы христианства. Восточной Церкви и теперь, как в течение веков, свойствен мощный социальный инстинкт, несмотря на все исторические трудности и препятствия. И в этом, может быть, состоит то основное, что Восточная Церковь может внести в современные размышления о социальных вопросах.
2
Ранняя Церковь не была просто добровольным союзом с «религиозными» целями. Она была новым обществом, даже новым человечеством, polis или politeuma[29], истинным Градом Божиим в процессе созидания. И каждая местная община вполне сознавала себя членом всеобъемлющего и универсального целого. Церковь понималась как независимый и самодовлеющий социальный строй, как новое социальное измерение, особая Systema patriados[30], как сказал Ориген. Первые христиане ощущали себя в конечном счете совершенно вне существовавшего социального порядка, просто потому, что для них сама Церковь являлась «порядком», своего рода экстра–территориальной «колонией Неба» на земле (Фил. 3.20). От этого положения не вполне отказались даже и позже, когда империя как бы пришла к соглашению с Церковью.
Позиция ранних христиан получила продолжение в монашеском движении, быстро распространившемся именно в период якобы примирения с миром. Монашество было, конечно, сложным явлением, но основное его течение было всегда настроено социально. Оно было не столько бегством из мира, столько попыткой создать новый мир на новом основании. Монастырь есть община, «малая церковь» — община не только молящаяся, но и трудящаяся. На труде очень настаивали, и безделие счита598
лось серьезным пороком. Но работа эта должна быть для общей цели и общего пользования. Так было уже в ранних общинах св. Пахомия в Египте[31]. Св. Пахомий проповедовал «евангелие постоянного труда». О нем правильно сказано: «Общий вид и жизнь монастыря св. Пахомия не могли сильно отличаться от жизни хорошо отлаженного колледжа, города или лагеря» {Kirk. The Vision of God). Большое значение проблеме социальной перестройки придавал и великий законодатель восточного монашества, св. Василий Кесарийский и Каппадокии[32] (ок. 330–379). Он с глубоким опасением следил за процессом социального разложения, которое в его время было столь явственным. Таким образом его призыв к созданию монашеских общин был попыткой возродить дух взаимности в мире, который, казалось, утерял всякое понятие о социальной ответственности и сплоченности. В его понимании человек есть по существу «животное общительное» (koivovikou zоо»6), «не дикое и не любящее одиночества». Он не может осуществить цель своей жизни, не может быть подлинно человеческим, если не живет в общине. Монашество поэтому — не высшая степень совершенства для немногих, а серьезная попытка дать жизни человека правильное направление. Христиане должны были показать образец нового общества в противовес разлагающим силам, действовавшим в распадающемся обществе. Истинная сплоченность может быть достигнута в обществе только через единство цели, подчинением всех индивидуальных забот общему делу и интересу. В известном смысле это был социалистический эксперимент особого рода на добровольной основе. Само послушание должно быть основано на любви и взаимной привязанности, на свободном осуществлении братской любви. Весь упор делался на корпоративность человеческой природы. Индивидуализм является поэтому саморазрушающим.
Как ни удивительно это может показаться, такой «киновийный» образ жизни считался в это время обязательным для всех христиан, «даже состоящих в браке». Возможно ли было построить все христианское общество как своего рода «монастырь»? Св. Иоанн Златоуст, великий епископ царствующего града Константинополя (ок. 350–407) без колебаний отвечал на этот вопрос утвердительно. Это не значило, что все должны уходить в пустыню. Наоборот, христиане должны были воссоздать суще599
ствующее общество по «киновийному» образу. Златоуст был совершенно уверен, что все виды общественного зла коренятся в духе стяжательства человека, в его эгоистическом желании обладать предметами для своего исключительного пользования. Но законный владелец всех вещей и имений в мире только один: Всемогущий Господь. Люди — лишь его исполнители и слуги, и они должны употреблять ложные Божие дары исключительно в божественных целях, т. е. прежде всего для общих нужд. Понятие Златоуста о собственности было строго функциональным: обладание ею оправдывается только ее правильным употреблением. Конечно, Златоуст не был социальным или экономическим реформатором, и практически его предложения могут казаться скорее неубедительными и даже наивными. Но он был одним из величайших христианских пророков социального равенства и справедливости. В его призыве к любви не было ничего сентиментального. И действительно, христианская любовь — совсем не просто харитативная эмоция. Христиане должны не просто быть тронуты страданиями, нуждой и убожеством других людей. Они должны понимать, что социальные беды являются продолжением мучений Христа, все еще страждущего в лице членов Своего Тела. Нравственная ревность и пафос Златоуста коренилась в ясном видении Тела Христова.
Можно возразить, что из этой сильной социальной проповеди на практике мало что получилось. Но нужно понимать, что на христианскую проповедь социальной добродетели наложено величайшее ограничение — оно состоит в том, что Церковь может действовать только посредством убеждений и никогда не насилием или принуждением. Конечно, никакая церковь никогда не могла устоять перед искушением призвать на помощь ту или иную мирскую силу, будь то государство, общественное мнение, или какую–либо другую форму социального давления. Но результаты никогда не оправдывали изначального нарушения свободы. Это доказывается хотя бы тем, что и теперь еще мы не далеко ушли в осуществлении христианских норм. Как ни важны все социальные улучшения, Церковь прежде всего озабочена изменением человеческих сердец и умов, а не изменением внешнего порядка. Ранняя Церковь попыталась осуществить повышение социальной нормы внутри своих собственных рядов. Успех оказался лишь относительным; самые нормы нужно
600
было понизить. Это, однако, не было примирение с существующей несправедливостью; это было скорее признанием внутренней антиномии. Могла ли Церковь, в человеческой борьбе за существование, прибегать к какому–либо другому оружию, кроме слова истины и милосердия? Во всяком случае, были установлены и смело сформулированы известные основные принципы, действительные в любой исторической ситуации.
Это было прежде всего признание высшего равенства всех людей. Этот эгалитарный дух остается глубоко внедренным в православную восточную душу. В теле Восточной Церкви, несмотря на ее разработанную иерархическую структуру, нет места социальной или расовой дискриминации. В глубине этого чувства легко увидеть именно раннехристианское понятие Церкви как особого «строя».
Во–вторых, общепринятым является то, что Церковь должна прежде всего заботиться о всех нуждающихся и обремененных, о кающихся грешниках, и именно о кающихся мытарях, а не о самодовольных фарисеях. Восточное Предание видит Христа униженным, и притом прославленным именно в Своем унижении, снисхождении и сострадательной любви. Западным наблюдателям это подчеркивание жизненного сострадания в восточной традиции представляется иногда преувеличенным, даже болезненным. Но это является лишь последствием того основного ощущения, что Церковь есть в мире скорее больница для немощных, нежели общежитие для совершенных. Это ощущение всегда имело очень непосредственное влияние на все социальное мышление Востока. Подчеркивалась прежде всего непосредственная помощь нуждающимся и бедным, а не выработка планов идеального общества. Непосредственное человеческое отношение важнее самой совершенной схемы. Социальная проблема всегда рассматривалась как проблема нравственная; нравственность же основана на догмате, догмате Воплощения и Искупления Крестом. Все эти мотивы сильно подчеркиваются как в популярной проповеди, так и в традиционных богослужебных текстах, вновь и вновь читаемых и повторяемых во всех православных храмах. В общем Церковь всегда на стороне смиренных и кротких, а не могущественных и гордых. Всем этим, может быть, часто пренебрегают, но от этого никогда не отказываются даже те, кто на практике изменяет традиции.
601
И в–третьих, унаследованный социальный инстинкт делает из Церкви скорее духовную родину, дом, нежели авторитарное установление. Те, кто хочет вникнуть во внутренний дух Восточной Церкви, должны исходить из очень далекой исторической исходной точки. Одной из самых характерных черт этой Церкви является ее «традиционализм». Термин этот легко поддается неправильному пониманию или истолкованию. На самом деле традиция означает продолжение, а не коснение. Она — не статический принцип. Этос Восточной Церкви и теперь все тот же, что и в первые века. Но не одной ли и той же является и жизненная ситуация христианина, несмотря на все коренные и жесткие изменения в его ситуации исторической?
3
В России нового времени не было сильного движения социального христианства. Однако влияние христианских принципов на жизнь в целом было совсем не слабым: это было все то же подчеркивание милосердия и сострадания, человеческого достоинства, никогда не уничтожаемого даже грехом и преступлением. Но самый большой вклад в социальную проблему был сделан в области религиозной мысли. «Социальное христианство» было основной и излюбленной темой всего религиозного мышления в России в течение прошлого века, и это мышление придало определенную окраску всей литературе того периода. Разные писатели настаивали на том, что истинное призвание России — в области религии, и именно в области социального христианства. Достоевский зашел так далеко, что считал Православную Церковь именно «нашим русским социализмом». Он хотел сказать, что конечное осуществление социальной справедливости в духе братской любви и взаимности может быть вдохновлено и усилено Церковью. В его глазах христианство могло вполне осуществиться только в области социальной деятельности. Все элементы уже даны в традиционном благочестии: чувство общей ответственности, дух взаимности, смирения и сострадания. «Церковь как социальный идеал» был основной идеей Достоевского, как сказал Владимир Соловьев в своих замечательных речах о Достоевском. То же самое являлось и руководя602
щей идеей Соловьева. Ключевыми словами были в обоих случаях свобода и братство.
Социальный аспект христианства был выдвинут на первый план в XIX веке славянофильской школой. Название это может ввести в заблуждение. «Славянская идея» совсем не была отправным пунктом или стержнем этого влиятельного идейного движения. Поставленный им главный вопрос был таков: не преувеличил ли Запад значение индивидуума? И не большее ли внимание уделил Восток, и, в частности, Восток славянский, социальному и коллективному аспектам человеческой жизни? В этой историософии было много утопического преувеличения, но все же этот социальный акцент был вполне оправдан. И лучшие представители этой школы хорошо знали, что это восточное понимание социальных и общинных ценностей происходит не от славянского национального характера, а восходит именно к преданию ранней Церкви. Один из величайших руководителей движения, А. С. Хомяков (1804–1860), выработал богословское обоснование социального христианства в своей краткой, но содержательной статье «Церковь одна». Весь его упор снова на духе любви и свободы, которые делают Церковь единым братством, скрепленным верой и любовью. Духовное содружество в Церкви должно неизбежно распространяться на всю область социальных отношений. Само общество должно быть перестроено в содружество. «Наш закон не закон рабства или наемничества, труда за плату, а закон усыновления и любви, которая свободна. Мы знаем, что когда кто–либо из нас падает, то падает один; но никто не спасается один». Это как раз то, что говорил св. Василий: никто не может достичь своей цели в одиночестве и отделенности. Нет также в отделенности и истинной веры, поскольку то основное, во что христианин должен верить, — всеобъемлющая любовь Бога во Христе, Который есть Глава Тела.
Сущность христианства поэтому заключается в свободном единодушии многих, включающем их в единство. Эта короткая статья Хомякова означала на самом деле коренную переориентацию всей богословской и религиозной мысли в России. Это было, с одной стороны, возвращение к ранней традиции, с другой же стороны — призыв к деятельности. Идеи Хомякова были отправной точкой идей Соловьева. Правда, позже последний пошел по другому направлению и прельстился романтизирую603
щим понятием «христианской политики», хотя и не оставил основного понятия Церкви как социального идеала. Всю свою жизнь Соловьев твердо верил в социальную миссию христианства и Церкви. Позже Николай Бердяев написал о Хомякове книгу, в которой подчеркивал социальный аспект понятия Хомякова о Церкви. Интересно отметить, что все трое упомянутых писателя были мирянами, и однако все трое были в основном верны Преданию, даже если и отступали от него в некоторых пунктах. Их влияние, однако, не ограничилось мирянами. Весь комплекс социальных проблем был выдвинут на первый план катастрофой русской революции. Исторические ошибки христиан в социальной области нужно сознать и признать. Но основное положение остается незыблемым: вера Церкви дает твердое основание для социальной деятельности, и только в духе христианства можно надеяться заново создать такой новый строй, который ограждал бы и человеческую личность, и социальный порядок.
Здесь встает важный вопрос: почему же тогда на Востоке было так мало социальной деятельности и все богатство социальных идей осталось без соответственного воплощения? На этот вопрос нет легкого ответа. Одно, однако, следует сразу отметить. Церковь никогда не является единственным деятелем в социальной области. Ей могут давать свободу действий в области социальной филантропии почти при всяком режиме, кроме, конечно, тоталитарной тирании. И действительно, Церковь была обычно зачинательницей даже в организации медицинского обслуживания. В России, во всяком случае, первые больницы и сиротские приюты устраивались Церковью еще в XV веке, если не раньше, и, что показательно, именно в связи с «киновий–ными» монастырями точно так же, как во времена св. Василия и св. Златоуста. Государство взяло на себя это дело только во второй половине XVIII века, сохраняя все же память прошлого в названии «богоугодные заведения», обычном еще сто лет назад. Однако все положение изменяется, когда мы подходим к основам социального строя. Христианские и мирские критерии не обязательно совпадают, и множество конфликтов не допускает легкого решения. Осуждение ранней и средневековой Церковью ростовщичества может, конечно, быть оправдано с общей нравственной точки зрения. Однако в экономическом отношении оно было серьезной помехой прогрессу. Ранняя Цер604
ковь относилась с необычайной строгостью к торговле вообще, и не без причины. Однако и другая сторона имела дельные доводы в свою пользу. То же самое относится и ко всему развитию промышленности (и «капитализма»). Во многих вопросах конфликт между церковным и государственным подходом представляется неизбежным. Какие возможности имеет Церковь, чтобы поддержать свою точку зрения, кроме проповеди и увещания? К критике, исходящей от Церкви, государство никогда не относится благосклонно, только если оно открыто объявляет себя христианским. То же самое относится и к экономическому обществу. Восточная Церковь, как правило, неохотно прибегала к политическим методам вмешательства. И не следует также забывать, что великие Церкви Ближнего Востока в течение столетий находились под мусульманским владычеством и поэтому не имели никакой возможности независимой социальной деятельности, кроме каритативной[33]. А когда в XIX веке пришло освобождение, то новые государства строились по западному буржуазному образцу и совсем не были готовы следовать христианскому руководству.
В России область ожидаемого влияния Церкви была таким же образом ограничена, поскольку государство, также под западным влиянием, восприняло все черты «Polizei–Stat» (полицейского государства) и стало требовать главенства над самой Церковью. Церковь была совершенно свободна только внутри своих собственных рядов. У нее было мало места для строительной деятельности, и все же дух оставался живым и сознание социальных проблем никогда не замутнялось. Но была и другая важная проблема: следует ли Церкви связываться с какой–либо определенной социальной или экономической программой? Следует ли Церкви принимать участие в политической борьбе? На Востоке ответ будет отрицательным, но это ни в коем случае не означает безразличия.
4
Для Церквей «за железным занавесом» нет возможности никакой социальной деятельности. Конечно, занавес этот сделан не из железа или какого–либо другого материала, а скорее, из принципов. Основным же принципом нового тоталитарного
605
режима является именно полное отделение Церкви от всей области политической, социальной и экономической деятельности. Церковь вынуждена замыкаться в «своей собственной сфере», которая к тому же очень строго ограничена. Единственная дозволенная деятельность — богослужение. Запрещена всякая воспитательная и миссионерская деятельность, хотя в действительности политика может меняться в разных странах и от года в год. В общем признается как само собой разумеющаяся абсолютная верховная власть государства. В этих странах существует только одна власть — власть государства или партии.
В принципе, Церковь может находить свой путь при всех обстоятельствах и в любом конкретном положении. Основная опасность заключается в другом, а именно в неправильном истолковании «неотмирности» Церкви. Очень показательно сравнение двух документов, исходящих от православных Церквей и носящих более или менее неофициальный характер. Первый из них — недавно опубликованная от имени «Христианского общества профессиональных людей Греции» книга «К христианской цивилизации» (Афины, 1950). Это откровенный и смелый призыв к христианской деятельности во всех областях цивилизации. Это прекрасный набросок активного и «руководящего» христианства, и христианства «современного». Христиане должны выносить суждение о всех сферах жизни, и прежде всего о своих собственных неудачах в действенной борьбе с безнадежным положением. Страницы этой книги дышат свободным и творческим духом. Это настоящий призыв к христианской деятельности. Призываются христиане, не только власти или духовенство. Считается, что христианство обладает авторитетом в социальной области. Этот манифест носит неформальный и частный характер. Это голос христиан, голос Тела Церкви.
Другой документ исходит из Советского Союза. Это доклад о всей экуменической проблеме, составленный московским священником о. Разумовским, для конференции нескольких православных Церквей, состоявшейся в Москве в июле 1948 г. Он включен в деяния этой конференции, теперь опубликованные по–русски (т. II, Москва, 1949). Нас в данном случае касается заключительная часть этого доклада. Основная мысль доклада — совершенное разделение области Церкви и области государства — «души» и «тела». Цитируется фраза из оксфордского доклада
606
1937 г.: «Для христианина нет большего авторитета, чем Бог», и добавляется характерное уточнение: «Да, но только в области души и духа, а не в материальной сфере, в которой самовластно государство, ответственное перед Богом» (с. 177). Это замечание действительно странно, если мы вспомним, что государство, о котором речь, есть государство безбожное. Однако мысль совершенно ясна: христианские принципы не приложимы к «материальной сфере». Кроме того, в следующих страницах нам сообщается, что принципы справедливости, равенства, свободы — не христианские. Они принадлежат независимой мирской сфере, неподвластной даже моральному суду Церкви. Церкви просто нечего делать в области социальных и подобных им проблем. Подчеркивается и один определенный пункт: признается, что Христос послал Своих апостолов «учить», но учить они должны «только народы, ане «правителей»» (с. 177). Далее Христос указал Своим последователям избегать непосредственного контакта со злом. «Если социальная несправедливость есть зло — ибо мир во зле лежит — то это уже знак, что это не принадлежит к нашей области» (с. 191). Эта загадочная фраза должна, видимо, означать, что христиане не должны бороться со злом, а лишь творить добро. Говорится также, что социальные усовершенствования и экономическая обеспеченность, с нравственной точки зрения, ценности сомнительные: «Оставалось лишь бы место для жертвенной любви, которую заповедал Христос». Отсюда — нет нужды преодолевать алчность или зависть (с. 189). Основное содержание документа очевидно: Церковь отступает от мира, в котором ей нечего делать; у нее нет вообще никакой социальной миссии, и ей нужно избегать всякого «контакта» с этим миром потому, что он «во зле лежит». Следует ли нам забыть о нищете и страданиях? Нет, но все это относится исключительно к компетенции государства, Церковь же отказывается от своей ответственности за «материальную сферу». Возможно, что это как раз тот объем «религиозной свободы», который дается церквам атеистическим государством и возможно, что это вполне согласуется с безбожными принципами. Но может ли Церковь принять «примирение» и «терпимость» такой ценой, не изменяя Евангелию праведности и своей собственной вековой традиции? Такая «неотмирность» Церкви не имеет для себя основания в историческом опыте Восточной Церкви. Конечно, это не в традиции св. Василия и св. Златоуста.
607
Нет нужды добавлять, что на самом деле между сферами компетенции действительного разделения нет, просто потому, что Церковь в Советском Союзе неоднократно впадает в заявления открыто политического и социального характера, когда, конечно, государство приглашает ее это делать.
5
Церковь действительно «не от мира сего», но у нее, тем не менее, есть очевидная и важная миссия «в мире сем» именно потому, что он «во зле лежит». Во всяком случае невозможно избежать хотя бы диагноза. В течение веков было общепринято считать, что основное призвание христианства есть именно распространение любви и справедливости. Как на Востоке, так и на Западе Церковь была высшим учителем всех нравственных ценностей. И все нравственные ценности нашей теперешней цивилизации можно возвести к христианским источникам и прежде всего к Евангелию Христову. Скажем еще раз: Церковь есть такое общество, которое требует для служения Богу всего человека и предлагает оздоровление и исцеление всему человеку, а не только его «душе». Если Церковь как организм не может вступить на путь открытой социальной деятельности, то христиане не могут отказаться от своих гражданских обязанностей, потому что им надлежит внести огромный вклад в «материальную сферу» именно как христианам.
СТАРЕЦ СИЛУАН (1866–1938)
Cтарец Силуан был смиренен, но учение его смело. И это не смелость любознательного ума, занятого умозрительными исследованиями и доводами, а бесстрашие духовной уверенности. Так, по словам старца, «совершенные ничего не говорят от себя, но только то, что Дух дает им сказать». Старец Силуан, конечно же, среди совершенных. Это «совершенство» есть плод смирения, которого можно достичь — и, что не менее важно, удержать и сохранить — только постоянным и непрерывным усилием по самоотвержению и самоотречению. Но самоотречение — вовсе не отрицательное усилие, вовсе не само–отрицание, само–умаление или само–уничижение. Напротив, это процесс восстановления истинного себя; и начало ему дают вера и любовь. Человек отказывается от себя ради Христа по своей великой любви к Нему; у этого процесса положительное стремление, оно всегда созидательно. Это, как говорил преподобный Серафим Саровский, «стяжание Духа Святого». Здесь действительно парадоксальное напряжение. Цель духовных исканий возвышенна и дерзновенна: consortium divinae naturae (причастность Божественной природе — Пер.), стать «причастниками Божеского естества» (2 Пет 1:4). Как бы это поразительное место Писания ни интерпретировалось, оно ясно и определенно указывает на конечную цель всей христианской жизни: «жизнь вечную», жизнь «во Христе», «со–творчество Святому Духу». Греческие Отцы использовали даже такое смелое выражение как theosis ‘обожение’. Однако самый верный путь достичь этого — решительное само–отречение; награда дается только смиренным и кротким. Более того, и само смирение не является достижением человеческим, оно всегда — дар Божий, даваемый свободно, gratia gratis data (благодать, данная благодатью — Пер.). Все устроение духовной жизни на самом деле парадоксально — богатства Царства даются только бедным; а вместе с богатством дается власть. Смиренные ничего не говорят от себя, но всякий раз, когда они вообще побуждаются говорить, они говорят с властью. И власть им нужна не для себя, а чтобы через их посредничество раскрылось то, что исходит свыше. В противном случае они должны хранить молчание. «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все» (1 Ин 2:20).
Слова старца Силуана просты; в них действительно нет ничего эффектного, кроме их собственной простоты. У него нет особого «призвания» разоблачать. Обычно он говорил об общих вещах, и все же даже об общих вещах он говорил совсем не обобщенным образом. Он не стеснялся говорить о своих сокровенных переживаниях. Любовь — это и начало, и самый центр устремлений христианина. Но на «новизну» христианской любви так часто не обращают внимания и пренебрегают ею. По словам Самого Христа, единственно истинная Любовь — это «любовь к врагам». И это вовсе не настоятельное указание и тем более не свободный выбор. Это скорее первый критерий, отличительный признак подлинной Любви. Этот взгляд столь же настойчиво высказывал и апостол Павел. Господь любил нас и тогда, когда мы были к Нему враждебны. Сам Крест — это вечный символ и знак такой Любви. И христиане должны разделять искупительную Любовь своего Господа. Иным образом невозможно «устоять в Его Любви». Старец Силуан не только говорил о любви. Он любил. Со смирением и в то же время бесстрашно он отдавал свою жизнь молитве за врагов, за погибающий и отвращающийся от него мир. Но без абсолютного смирения такая молитва — опасная и сомнительная попытка. Легко восчувствовать свою любовь, но потом она окажется разъеденной и зараженной тщеславием и гордыней. Невозможно любить совершенно, кроме как любовью Самого Христа, вливающейся в смиренное сердце и действующей в нем. Невозможно быть святым, кроме как осознавая себя «жалким грешником», безусловно нуждающимся в помощи и прощении. Только Божия благодать смывает весь позор и исцеляет всю немощь. Слава святых является в их смирении, так же как слава Единородного является в абсолютном унижении Его земной жизни. Любовь Сама распинается в мире.
В своем духовном восхождении старец Силуан испытал печальный опыт «темной ночи», полного одиночества и оставленности. Но в нем никогда не было мрачности или уныния. Он всегда был тих и спокоен, всегда излучал радость. Это была радость о Господе, совершенно отличная от любой мирской радости. Мы знаем из истории его жизни, что эта радость была приобретена долгой и изнуряющей борьбой, непрекращающейся «невидимой бранью». Оставшись один, человек ощущает отчаяние и одиночество. Спасение только в Господе. Душа должна соединиться с Ним. Человек никогда не останется один, если только сам не оставит Бога. Старец Силуан опытно знал страх и опасности внешней тьмы. Но он так же опытно узнал и бесконечность Божественной Любви. Она сияет даже сквозь бездну испытаний, мук и горя. Именно потому, что Бог есть Любовь.
Старец Силуан пребывает в давно существующей, древней традиции. Он не был единственным даже в своем собственном времени. В каждом поколении был сонм свидетелей Тайн Царства Божия. Наша беда в том, что мы не знаем их, не интересуемся ими и их свидетельством. Мы поглощены мирскими заботами. История старца Силуана — это своевременное напоминание нашему поколению о единственной «хорошей вещи», которая никогда не отнимется, а также приглашение в паломничество к вере и надежде.
Перевод с английского Н. Ерофеевой
Rt. Revd. G. Florovsky. Foreword // Arhim. Sophrony. The Undistorted Image: Staretz Silouan (1866–1938). L. The Faith Press, 1958. — Pp. 5–6. Это издание — первый краткий вариант той книги, которая ныне известна под заглавием «Старец Силуан».
ТОМЛЕНИЕ ДУХА
О книге о. П. Флоренского трудно говорить, — это значит говорить об авторе и о его личном религиозном пути. Книга о. П. Флоренского нарочито и намеренно субъективна. Не случайно избрал он для нее полубиографическую форму дружеской переписки. Это не только литературный прием. Такова тональность его духовного типа, — о. Флоренскому так подходит богословствовать в письмах к другу… Слишком силен у него пафос интимности, пафос психологического эзотеризма [34], — слишком сильна потребность в личных отношениях и связях. Он много говорит о церковности и соборности, но именно соборности всего меньше в его книге. В его размышлениях всегда чувствуется одиночество, уединенность. Из этого томительного одиночества он ищет исхода в дружбе… И полнота соборности разрешается для него в множественность интимных дружественных пар, и двуединство личной дружбы психологически заменяет для него соборность. Он живет в каком–то укромном уголке и хочет так жить, в каком–то эстетическом затворе. Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келию. И убирает ее душистыми и пряными цветами… Флоренский весь во времени, он живет в каком–то разорванном мире, в непреодолимом, «асиндетон» [35]. И время для него — тоска, но не подвиг, — время тянущееся и тянущее, вытягивающее и томящее душу. Флоренскому понятен динамизм, но непонятна история. Для него непонятно конкретное и творческое историческое время, в котором не только переживается, но и совершается нечто. И в этом разгадка его субъективизма. Он не чувствует ритма церковной истории. Флоренского упрекали в пристрастии к теологуменам [36], к частным богословским мнениям. И действительно, к теологуменам у него больше вкуса, чем к догматам. Точно догматы слишком громки для него, и он предпочитает неясный шепот личного мнения… И в книге своей о. Флоренский говорит прежде всего о переживаниях, не только о личном опыте, но именно о личном в опыте. Правда, он смиряется и отрекается от собственного мнения; он хотел бы ничего не говорить от себя, ничего своего, но только передавать и пересказывать общее, всецерковное. Однако в действительности он все время говорит от себя и о себе. Он субъективен и тогда, когда хочет быть объективным. Со всей силой это сказывается в его отношении к церковному преданию. Он сам сознается, что выбирает или подбирает свои ссылки и примеры. К церковному прошлому он подходит не как историк, но как археолог. И оно разбивается для него на множество памятников древности и старины, среди которых он бродит, как в музее. Свиток церковного предания как–то свертывается для него, он не различает эпох. Историческая перспектива для него не реальна. Все предание для него — единая скрижаль, и эта скрижаль — притча, символ недвижного… Исторические ссылки о. П. Флоренского всегда случайны и произвольны. С каким–то беспечным эстетизмом плетет он свой богословский венок. Для него не важны все вопросы исторической критики, он легко ссылается на заведомо неподлинные свидетельства, считает мнимого Дионисия святым Ареопагитом… И никогда не исследует, но только выбирает. И… умалчивает, — это в особенности для него характерно. И оттого такою особенной кажется его книга. Это книга личных избраний. И прежде всего виден в ней автор.
Свою книгу о. Флоренский начинает письмом о сомнении. Путь к истине начинается отчаянием, начинается в пирроническом огне. Это мучительный и безысходный лабиринт, и вдруг где–то неожиданно вспыхивает молния откровения. Остается неясным, о каком пути говорит о. Флоренский. Говорит ли он о трагедии неверующей мысли? Или изображает диалектику христианского сознания?… Во всяком случае он ставит вопрос так, точно самое важное — убежать и спастись от сомнения. Точно неизбежно для человека идти к Богу через сомнения и разочарования и здесь на земле проходить через чистилище и адскую муку… Вся религиозная гносеология сводится для о. Флоренского к проблеме обращения. Положительной гносеологии у него нет, он ограничивается отрицательной, нейдет дальше пролегомен: как возможно познание?… И вот, в рассуждениях о. Флоренского вскрывается противоречие: его психология не соответствует его онтологии [37]. В самом деле, как совместить антиномизм [38] и онтологизм? Как сочетать пирронизм [39] с платонизмом [40], в особенности при том толковании, какое сам о. Флоренский дает теории идей в своем этюде: «Смысл идеализма» (1915). Остается непонятным и необъяснимым, почему так антиномичен, надрывен путь познания, если мир софиен в своих основах и София, по определению о. Флоренского, есть «ипостасная система миротворческих мыслей Божиих»… Как возможно, чтобы антиномизм выражал последнюю тайну мысли, если мир создан в Премудрости, в Софии, и есть премудрое откровение Божие… Учение о грехе не допускает этой апории [41]. Ибо для о. Флоренского двоится не только греховное сознание, — мысли вообще свойственно колебаться в антиномиях и противоречиях. Антиномично и христианское сознание, антиномична догматика, антиномична сама истина, — «истина есть антиномия»… И это для о. Флоренского означает не только несоизмеримость религиозного опыта и рациональных схем, но и невозможность для разума сделать выбор между: «да» и «нет».
Получается впечатление, что только у мысли нет софийных корней, что и христианское сознание остается в плену и отравлено незнанием. Странным образом, в главе о Софии о. Флоренский совсем забывает об антиномиях… И при этом мир раскрывается для него, как система разума. Как будто бы в последнем свершении антиномии разрешаются или, по крайней мере, остановятся в вечном равновесии. Однако в сознании Церкви это равновесие еще не достигнуто. Так борьба с рационализмом приводит о. Флоренского к символизму в догматике. И здесь все качается. И отсюда нужно спасаться. Это относится не только к личному пути, но и к пути Церкви…
От сомнения разум спасается в познании Троицы. И с особой силой о. Флоренский раскрывает спекулятивный смысл Троического догмата, как истины разума. Но странным образом он как–то минует Воплощение, и от глав троичности сразу переходит к учению о Духе Утешителе. Это отсутствие христологических глав особенно разительно и поразительно в книге о. Флоренского. Образ Христа, образ Богочеловека какой–то неясной тенью теряется на заднем фоне. И потому так мало подлинной радости в книге о. Павла. Точно ушел Господь из мира… и потому не столько радуется о. П. Флоренский о пришествии Господнем, сколько томится в ожидании Утешителя, в чаянии Духа. И снова, не радуется о пришествии Утешителя, но жаждает большего. Более того, он как–то не чувствует неотступного пребывания Духа в мире, церковное видение Духа кажется ему смутным и тусклым. Откровение Духа чувствует он в немногих избранниках, но не в «повседневной жизни Церкви». Точно еще не совершилось спасение: «чудное мгновенье сверкнуло ослепительно и… как бы нет его»… И мир остался темным, непреображенным, только сверху озаряют его какие–то еще не греющие, предрассветные лучи. Сердце томится о небывалом. И потому так грустно о. Флоренскому в истории, — некая истома грусти овладевает им, и душа вся вытянута к еще не наступившему мигу… В мире христианском о. Флоренскому как–то тесно и душно… Одностороннее видение Второй Ипостаси не освобождает мира, — напротив, заковывает его в закономерность. Ибо Логос есть именно «всеобщий Закон мира»… Откровение Логоса для о. Флоренского обосновывает научность, и потому в христианском сознании не открывается свобода и красота мира. Христианский мир есть мир суровый и жестокий, мир закона и непрерывности, — точно не пришла сень законная благодати пришедши… Как в Ветхом Завете только ждали еще слова, так и в Новом Завете мы только чаем Духа, — и стало быть, в Новом Дух является только так, как в Ветхом являлся Логос. И неясно, что значит для о. Флоренского Пятидесятница… Речь идет не только об исполнении, но именно о новом откровении, о третьем завете. И в конце времен он ждет не второго Пришествия Христова, но Откровения Духа. Остается бесспорным: о. Флоренский не чувствует абсолютности Новозаветного Богоявления, Воплощение Слова не насыщает его упования. Странным образом, он как–то не видит — Иисуса Сладчайшего, не видит и пришедшего Утешителя, и все ждет иного… И снова здесь вскрывается острое противоречие в его созерцаниях. Мир еще не преображен, но уже в вечных корнях своих он Божественен. И от тоски о. Флоренский переходит к славословию. Его томление разрешается в созерцании Софии: «есть объективность, это Богозданная тварь»… Упование о. Флоренского не в том что пришел Господь, и Бог стал человеком, но в том, что от самого творения и по природе «тварь уходит во внутритроичную жизнь». В первореальности своей мир, как некое «великое существо», уже есть некое «четвертое лицо», четвертая Ипостась. В учении о Софии о. Флоренский не стремится к примирению противоречий, — образ Софии двоится и является во многих аспектах. Но при этом, учение о Софии слабее всего связано с образом Христа. И если о. Флоренский называет Софию Телом Христовым, разумея при этом «тварное естество, воспринятое Божественным Словом», то, во–первых: София предсуществует в своей полноте и реальности всякому конкретному историческому времени, а во–вторых: высшее откровение Софии о. Флоренский видит не в Христе, а в Богоматери. Получается впечатление, что во Христе о. Флоренский видит только Божество Слова, а полнота обоженного человечества открывается ему в Приснодеве. И более того, в Богоматери видит о. Флоренский предварительное явление Духа на земле, тип пневматофании [42]. Это для него подлинное предварение будущего века, начало последнего завета. И в Приснодеве он видит и чтит прежде всего явление Софии, более, чем Матерь Божию. О Богоматеринстве и о рождестве несказанном он говорит только вскользь, в эпитетах и придаточных предложениях. Во всяком случае, Богоматерь как–то отделяется для него от Христа. И о соединении двух естеств в Богочеловеке он говорит глухо. Много говорит о. Флоренский о духовном типе церковной мистики, с формальной стороны, как о собирании духа, как о девственности души. Но по содержанию его мистика всего менее мистика Христа. Скорее, — мистика первозданной тварности, мистика софийной девственности. И даже Церковь для него скорее осуществление премирной Премудрости, нежели раскрытие Богочеловечества. Потому и уходит он из христианской истории в какие–то мечтательные планы… Можно сказать, в сознании о. Флоренского как–то причудливо переплетаются августинизм и пелагианство: психологический пафос дистанции: вера в природу твари… С этим связан еще один характерный мотив: в сущности человечество предмирно разбито и раздроблено на множество несоизмеримых родов и типов, — с особой резкостью эту мысль о. Флоренский развил в своем замечательном этюде: «О типах возрастания» (в Богословском Вестнике 1906 года, июль–август). И у каждого есть свой предмирно–определенный путь, — о. Флоренский выше ставит именно эту врожденную непорочность, нежели святость подвига. И высший из «родов», — духовный род Богоматери… Флоренский остро чувствует проблематику обращения и мало ощущает пафос возрождения. Он чает проявления софийных устоев, но не говорит о воскресении. В девственности, а не в воскресении для него открывается последняя судьба твари. Он как–то замкнут в кругу софийного имманетизма.
В русской религиозно–философской литературе книга о. Флоренского занимает особое место. Это очень яркая, но совсем не сильная книга. Напротив, в ней есть что–то жалобное и тоскующее. В ней всего сильнее чувствуется усталость и разочарование. Это какая–то осенняя книга, и в ней красота увядания: «люблю я пышное природы увяданье»… И какою–то бескрылою мечтой вплетаются сюда весенние мотивы… Книга о. Павла, прежде всего, религиозно–психологический документ. И документ определенной русской эпохи. Этим объясняется ее психологический успех. В ней как–то слилась вся тоска XIX века. По своему духовному смыслу — это очень западническая книга. Книга западника, эстетически спасающегося на Востоке. Романтический трагизм западной культуры о. Флоренскому ближе и понятнее, нежели проблематика православного предания. Менее всего можно видеть у Флоренского православную реставрацию, «стилизованное Православие»… Совсем не из православных глубин исходит о. Флоренский. В православном мире он остается чужим, только быт православный он старается усвоить и то эстетически, т. е. как чужой. Скорее можно видеть в о. П. Флоренском запоздалого александрийца. Во всяком случае, человек до–никейской эпохи. В этом узость и несоборность его религиозного сознания. Флоренский не приемлет и не вмещает церковно–исторической полноты, он выбирает из нее архаические мотивы. И притом, не радость апостольского перво–христианства, но пепельную грусть умирающего эллинизма. На Флоренском повторяется судьба Оригена: для обоих Христианство есть религия Логоса, а не Христа. Этим определяется вся архитектоника религиозно–философской системы. В церковном синтезе снята исключительность александризма, и вместе с тем претворены его истинные прозрения. Флоренский хотел бы снова разложить этот синтез и вернуться к двусмысленности III века. И эта попытка реставрации обречена на неуспех. Путь о. Флоренского уводить в тупик. Это выдает его грусть. И мысль срывается в мечтательность и грезы. Его книга — книга о прошлом, о трагическом прошлом русского духа, возвращающегося в Церковь. Еще не раскрылся пред ним лик Богочеловека. И потому еще не открылся творческий путь.
ПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСТОРИКА
Veritas non erubescit nisi abscondi.[43]
Лев XIII
I
« Христианство — религия историков» ( [44]). Сказано сильно, но верно. Христианство есть прежде всего смелое обращение к истории, свидетельство веры в определенные события, происшедшие в прошлом — в исторические факты. Вера свидетельствует о том, что это особые события. Эти моменты истории — поистине исторические. Коротко говоря, верующие считают их «великими деяниями Божиими» — Magnalia Dei. «Преткновение конкретности», как называет это Герхард Киттель ( [45]), составляет самую суть Благой Вести христианства. Сам Символ веры глубоко историчен. Вся полнота бытия в нем укладывается в одну историческую схему — «историю спасения» от Сотворения мира до исполнения времен, Страшного Суда и конца истории. Особое внимание уделяется наиболее важным событиям, а именно Воплощению, Пришествию Мессии, Его Крестной Смерти и Воскресению. Можно справедливо утверждать, что «христианство — это ежедневное приглашение к изучению истории» ( [46]).
Здесь–то и начинаются трудности. Обычный верующий, к какой бы конфессии или традиции он ни принадлежал, едва ли считает своим долгом изучать историю. Историческое содержание Благой Вести очевидно. Но люди, даже рассуждая о событиях библейской истории или истории Церкви, больше интересуются «вечной истиной», чем какими–то «историческими обстоятельствами». Разве сама Благая Весть не указывает за пределы истории, на «жизнь будущего века»? И существует устойчивое стремление истолковывать исторические факты как символы, образы, примеры или общие случаи, и превращать «историю спасения» в некую назидательную притчу. Эту тенденцию можно проследить вплоть до первых веков христианства. И в наши дни вокруг слышатся ожесточенные споры на ту же тему.
С одной стороны, в последние несколько десятилетий была вновь открыта и осознана глубинная историчность христианства. Во всех областях современного богословского поиска — в библейской экзегезе, истории Церкви, литургике, последних попытках «реконструкции веры» и даже в нынешнем экуменическом диалоге — чувствуется свежее дыхание возрожденного исторического видения. С другой стороны, недавнее требование радикальной демифологизации Благой Вести — зловещий знак, указывающий, что наступление на историю продолжается. «Демифологизировать христианство» на деле означает деисторизировать его, несмотря на все различия между мифом и историей. Это требование есть не что иное, как новая форма старого богословского либерализма, который уже два века пытается вылущить христианство из исторической скорлупы, освободить его от исторических связей и контекста и обнаружить в нем «вечную сущность» («Das Wesen des Christentums»[47]). Как ни удивительно, рационалисты эпохи Просвещения, благочестивые пиетисты всех мастей и мечтатели–мистики работали в одном направлении. Немецкий идеализм, несмотря на видимую историчность, в конце концов вел к тому же. С «внешних» исторических фактов акцент сместился на внутренний опыт верующего. Христианство превратилось в «религию опыта» — мистического, этического или даже просто интеллектуального. История здесь ни при чем. Историчность христианства свелась к признанию вечного «исторического значения» за некоторыми идеями и принципами, которые, хотя и возникли в определенных пространственно–временных координатах, внутренне никак не связаны с пространством и временем. Как результат подобного видения, личность Иисуса Христа потеряла свое значение, несмотря на то, что Весть Христова была до некоторой степени принята и усвоена.
Сейчас очевидно, что этот антиисторический подход — лишь пример крайней формы историцизма, а именно такого истолкования истории, при котором всё историческое отвергается как «случайное» и «неважное». Большинство либеральных аргументов были и остаются историческими и критическими, хотя за ними без труда угадываются определенные идеологические предрассудки и пристрастия. В либеральной школе культивируется изучение истории — хотя бы только для того, чтобы скомпрометировать ее как царство относительности или как повесть греха и падения и в конце концов — изгнать из богословия. Из–за этого «злоупотребления историей» среди либералов консервативные круги с подозрением относятся даже к «законному» использованию истории в богословии. Не опасно ли ставить вечную истину христианства в зависимость от исторических событий, по природе своей земных и случайных? Поэтому кардинал Маннинг отвергал любое обращение к истории или к «древности» как «измену и ересь». В этом он был тверд: у Церкви нет истории. Она вечно пребывает в непреходящем настоящем ( [48]).
Часто спрашивают, возможно ли вообще «знать» историю, то есть прошлое? Можно ли хоть с какой–то уверенностью судить о том, что происходило до нас? Наши представления о прошлом столь различны, они меняются с каждым поколением, если не с каждым историком. Есть ли в них что–нибудь, кроме субъективных мнений, впечатлений и домыслов? Сами ученые в своих наиболее скептических трудах ставили под сомнение возможность какого–либо исторического знания. Казалось, даже Библия теряет статус исторической книги, оставаясь лишь блистательным отражением вечной Славы и Милосердия Божьего. Более того, даже если допустить, что христиане — историки по призванию, всё равно придется признать, что это дурные и ненадежные историки: ведь они заведомо пристрастны. Принято считать, что главная добродетель историка — беспристрастность, свобода от предрассудков, совершенная Voraussetzungslosigkeit [беспредпосылочность]. Очевидно, верующий и церковный христианин, даже сохраняя интеллектуальную честность, не сможет сознательно отрешиться от «груза предрассудков». Сам факт веры и верности обязывает христиан совершенно особым образом трактовать некоторые исторические события и по–особому рассматривать исторический процесс в целом. Христианин неизбежно окажется пристрастным. Он не будет сомневаться во всём. Он не согласится, к примеру, рассматривать священные книги как «просто литературу» и читать Библию как «еврейский эпос». Он не поступится своей верой в единственность и исключительность Христа. Он не согласится выкинуть из истории «сверхъестественное». Возможно ли на таких условиях беспристрастное и критическое изучение истории? Может ли христианин оставаться христианином, работая «по призванию»? Как он оправдает свой труд? Может ли он отделить свою работу историка от религиозных убеждений и писать историю, как обычный человек, как не внемлющий подсказкам и указаниям веры?
Легче всего ответить, что все историки пристрастны. Беспристрастной истории нет и не может быть ( [49]). У «историков–эволюционистов» предвзятых мнений не меньше, чем у верующих в Божественное Откровение — это всего–навсего иной род предвзятости. Эрнест Ренан и Юлиус Велльхаузен пристрастны не менее Риччотти и о. Лагранжа, Харнак и Баур — не менее Барди и Лебретона, а Райценштайн и Фрейзер — куда больше, чем Дом Одо Казель и Дом Грегори Дикс. Просто пристрастия у них различны. Слишком хорошо известно, что в угоду «критическим» предрассудкам историки порой искажают и извращают истину куда сильней, чем из покорности «традиции».
Тем не менее это обоюдоострый аргумент. В конечном счете он приводит к радикальному скептицизму и дискредитирует историю вообще. Он означает, что все наши надежды и притязания на достоверное историческое знание тщетны. Однако заметим, что в этом споре все участники обыкновенно оперируют весьма спорным определением исторической науки, заимствованным из другой области знания, а именно из наук естественных. Считается, что существует некий «научный метод», применимый в любой области исследования, независимо от специфики изучаемого предмета. Но это–то и есть предрассудок, необоснованное допущение, не выдерживающее критики. В последнее время его оспаривают и историки, и философы. Прежде всего необходимо определить, какова природа и специфика «исторического» и каким образом возможно познать этот особый предмет. Необходимо определить цель и задачу (или задачи) изучения истории, а затем — указать методы, которые следует применять для достижения этой цели. Только в такой перспективе мы сможем правильно поставить и разумно разрешить вопрос о «беспристрастности» и «предрассудках».
II
Изучение истории — странное занятие. Сам объект изучения неясен. История есть наука о прошлом. Строго говоря, необходимо сузить поле исследования: история занимается человеческим прошлым. Приравнивание человеческой истории к истории естественной — неоправданная натяжка. Такой натуралистический подход, ведущий в конечном счете к отрицанию какой–либо специфичности человеческого бытия, принес истории немало вреда. Во всяком случае, непосредственно «наблюдать» за прошлым невозможно. Оно действительно прошлo, а потому не доступно нам ни в каком «возможном опыте» (выражение Джона Стюарта Милля). Познавать прошлое приходится косвенно, путем умозаключений. Познание прошлого — всегда «истолкование». Прошлое можно только «восстанавливать». Действительно ли это возможно? И как это делается? На самом деле ни один историк не начинает с прошлого. Он отправляется от настоящего, к которому принадлежит сам. Он оглядывается назад. Он начинает с «источников», то есть ныне существующих документов. Из них и на них он начинает «восстанавливать» прошлое. Его действия зависят от характера источников.
Что такое источники? Что делает то или иное историческим источником? В каком–то смысле почти всё постигаемое, omnis res scibilis, может служить источником, при условии что историк умеет им пользоваться — считывать информацию. С другой стороны, ничто — ни хроника, ни повествование, ни даже автобиография — не является источником само по себе. Исторические источники становятся таковыми лишь в контексте исторического исследования. Сами по себе молчат даже тексты и речи; они обретают голос, лишь когда их понимают; они отвечают, лишь когда их допрашивают, словно свидетелей на суде, задавая точные и правильные вопросы. Первое требование к историку — уметь задавать правильные вопросы, подвергать источники перекрестному допросу и заставлять их отвечать. Марк Блок в своей замечательной работе «Apologie pour l’histoire, ou le Metier d’historien» иллюстрирует это правило убедительными примерами:
Кремневые орудия в наносах Соммы изобиловали как до Буше де Перта, так и потом. Но не было человека, умеющего спрашивать, — и не было доисторических времен. Я, старый медиевист, должен признаться, что для меня нет чтения увлекательней, чем какой–нибудь картулярий [ [50]]. Потому что я примерно знаю, о чем его спрашивать. Зато собрание римских надписей мне мало что говорит. Я умею с грехом пополам их читать, но не опрашивать. Другими словами, всякое историческое изыскание с первых же шагов предполагает, что опрос ведется в определенном направлении. Всегда вначале — пытливый дух. Ни в одной науке пассивное наблюдение никогда не было плодотворным. Если допустить, впрочем, что оно вообще возможно ( [51]).
Это замечание добросовестного и думающего ученого очень показательно. Он утверждает, что любое историческое — да и всякое подлинное — исследование обязательно пристрастно. Пристрастно, ибо изначально движется в определенном направлении. Иначе допроса не получится, и свидетели промолчат. Только вопросы, направленные к некоторой цели, способны помочь источникам заговорить; точнее, только так «предметы» превращаются в «источники» — тогда лишь, когда их расколдовывает, вопрошая, пытливый ум историка. Даже в экспериментальных науках факты говорят о себе только в процессе и в контексте целенаправленного исследования, и ни один эксперимент не возможен без предварительного «мысленного эксперимента», выполняемого ученым ( [52]). Даже наблюдения не существует без понимания, а значит — истолкования.
Серьезной помехой на пути истории стала некритическая «натуралистическая» концепция источников. Источники часто представлялись какими–то независимыми сущностями, пребывающими вне и до процесса изучения. Историку предлагалась неверная задача: найти историю в источниках, рассматривая их просто как «предметы». Из такого труда не могло выйти ничего, кроме псевдоистории, истории, сделанной «ножницами и клеем» ( [53]), «истории без исторической проблемы», по удачному выражению Бенедетто Кроче ( [54]). Иные историки готовы довольствоваться ролью репортеров; но даже репортер, если он хочет, чтобы его поняли, должен отбирать и объяснять свой материал. Исторические источники нельзя использовать как «следы», «останки» или «отпечатки» прошлого. Их функция в историческом исследовании совсем иная. Они — не следы, но свидетельства. А извлечь информацию из свидетельства возможно только в процессе истолкования. Ни собрание фактов, ни компиляция дат и событий не есть история — пусть даже все даты точны и факты проверены. Самый полный каталог художественного музея — не история искусств. Самый исчерпывающий список рукописей — не история литературы, даже не история письменности. Хроника — не история. Хроника, по резкому выражению Бенедетто Кроче, есть «труп истории» — il cadavere. Хроника — просто «вещь», una cosa, набор звуков или иных знаков. История же — это «действие духа», un atto spirituale ( [55]). «Вещи» превращаются в «источники» только в процессе познания, становясь таковыми для вопрошающего разума исследователя. Вне исследования исторических источников просто не существует.
Историк задает вопрос о смысле и значении. Он рассматривает предметы не как следы или отпечатки, но как знаки и свидетельства прошлого. Истолковывать можно лишь знаки, а не «голые факты», ибо вопрос о смысле выходит за рамки чистой данности. Есть предметы пустые и лишенные смысла; их нельзя ни понять, ни истолковать, причем именно потому, что они бессмысленны — так в разговоре порой не удается уловить значение отдельных замечаний, брошенных случайно и не содержащих никакой информации. А изучение истории — это своеобразный разговор, диалог между историком и обитателями прошлого, чью жизнь, мысли, чувства, решения он должен узнать через знаки и свидетельства документов. Следовательно, мы можем оттолкнуться от слов, предметов или фактов и перейти от знака к значению при том лишь условии, что действительно есть основания рассматривать тот или иной объективный материал как знак, как нечто значащее, что справедливо будет считать его не плоским, но имеющим измерение глубины — измерение смысла. Мы должны открыть содержащееся в источнике значение, а не приписывать ему свое. Таким образом, предметы, документы и источники несут в себе значение только потому, что нам подлинно известно о протекании за ними некоторой сознательной деятельности.
Стало быть, история изучает не любое, а человеческое прошлое. Только человек имеет историю в точном смысле слова. Р. Дж. Коллингвуд разрабатывает эту мысль с великолепной ясностью. Сходство между археологом и палеонтологом очевидно: оба копаются в земле. Но задачи их совершенно различны. «Использование археологом его стратифицированных реликтов определяется его пониманием их в качестве артефактов, служащих определенным человеческим целям. Тем самым они выражают определенный способ мышления людей о своей собственной жизни». В изучении природы нет такого деления на «внешнюю» и «внутреннюю» сторону опытных данных. «Для естествоиспытателя природа всегда только " феномен» , " феномен» не в смысле ее недостаточной реальности, но в смысле того, что она является некоей картиной, данной созерцанию разумного наблюдателя; в то же время события истории никогда не выступают как простые феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк смотрит не " на» них, а " через» них, пытаясь распознать их внутреннее, мысленное содержание» ( [56]). Мы вправе считать исторические документы «знаками», поскольку они действительно содержат в себе значение — в них отражается и выражается, сознательно или бессознательно, жизнь и деятельность человека.
Истолкователь может достичь своей цели, только если он способен в достаточной мере отождествить себя с теми, чьи мысли, действия или обычаи пытается истолковать. Пусть документы полны смысла — но если контакт почему–либо не установлен или и не может быть установлен, все попытки понять и извлечь смысл напрасны. Это происходит, например, с нерасшифрованной письменностью. Свидетельства могут быть поняты и истолкованы неверно. Так бывает и в разговоре, когда мы не находим «общего языка» с собеседником — тогда мы не понимаем друг друга, и общения не получается. То же случается при переводе иностранного текста: порой мы переводим неверно не потому, что делаем ошибки в языке, а потому, что не можем проникнуть во внутренний мир человека, чье свидетельство пытаемся расшифровать. Чтобы что–то понять, необходим Einfuhlung [проникновение, вчувствование]. Даже в обычном разговоре мы расшифровываем слова собеседника — и при этом нередко терпим неудачу. Проблема семантики и разумного общения — общения между разумными существами — присутствует на всех стадиях процесса исторического истолкования. По словам Ранке, «история начинается только тогда, когда памятники становятся понятны» ( [57]). Следует добавить, что историческими документами, источниками в полном смысле слова являются только «понятные документы» — dans la mesure ou l’historien peut et sait y comprendre quelque chose [в той лишь мере, в какой историк может и умеет в них что–то понять], по выражению Анри Мару ( [58]). Следовательно, личность интерпретатора имеет такое же значение, как и интерпретируемый материал: для диалога необходимы двое. Понимание невозможно без «конгениальности», интеллектуальной и духовной близости, без встречи душ. Коллингвуд прав, указывая, что
…историческое исследование показывает историку возможности его собственного ума… Всякий раз, как он сталкивается с какими–нибудь непонятными историческими материалами, он обнаруживает ограниченность своего ума, он видит, что существуют такие формы мышления, в которых он уже или еще не способен мыслить. Некоторые историки, иногда целые поколения их, не находят в тех или иных периодах истории ничего разумного и называют их темными веками; но такие характеристики ничего не говорят нам о самих этих веках, хотя и говорят весьма много о людях, прибегающих к подобным определениям, а именно — показывают, что эти люди неспособны воспроизвести мысли, которые лежали в основе жизни в те эпохи ( [59]).
Вот первое правило истинной экзегезы: мы должны уловить образ мысли автора, понять, что он хотел сказать. Если нам не удастся это, если мы станем вносить и видеть в тексте собственные мысли, мы рискуем ошибочно истолковать значение той или иной фразы, отрывка или даже всего документа. Ни текст, ни отдельное высказывание нельзя называть «бессмысленными» только потому, что мы не понимаем их смысла. Если мы понимаем метафоры буквально — мы не понимаем текста; если, наоборот, реальная история кажется нам притчей — мы не понимаем текста.
Вы никогда не сможете узнать смысл сказанного человеком с помощью простого изучения устных или письменных высказываний, им сделанных, даже если он писал или говорил, полностью владея языком и с совершенно честными намерениями. Чтобы найти этот смысл, мы должны также знать, каков был вопрос (вопрос, возникший в его собственном сознании и, по его предположению, в нашем), на который написанное или сказанное им должно послужить ответом ( [60]).
Это относится к обычному общению в ходе повседневной жизни. Это относится и к изучению истории. Исторические документы есть документы жизни.
Каждый историк отталкивается от некоторых сведений. Усилием пытливого ума он превращает их в свидетельства или, так сказать, «коммуникации», связывающие нас с прошлым, то есть в полные смысла знаки. Силой интеллектуальной интуиции он постигает значение этих знаков и при помощи «индуктивного воображения» достраивает тот исторический контекст, в котором все сведения оказываются на своих местах, объединенные в гармоничное — понятное и логически непротиворечивое — целое. В этом процессе не обойтись без элемента «догадки» или, вернее, «прозрения» — так же как не обойтись без него при любой попытке понять другого человека. Нехватка сочувствующего воображения и точных интуитивных догадок может расстроить диалог, ведь тогда не произойдет подлинной встречи душ и мыслей: собеседники будто говорят на разных языках, и произносимое одним достигает слуха, но не сознания другого. По существу, любой акт понимания есть производимый в уме эксперимент, и здесь не обойтись без прозрения. Прозрение есть род умственного видения, интуитивный акт, акт воображения, направляемого и контролируемого всем приобретенным человеком опытом. Можно назвать его проявлением фантазии, но фантазии совершенно особой. Это познавательная фантазия, без которой, как красноречиво объясняет Бенедетто Кроче, историческое знание просто невозможно: «…senza questa ricostruzione o integrazione fantastica, non e dato ne scrivere storia, ne leggerla e intenderla» [без этой восстанавливающей и восполняющей фантазии нельзя ни писать историю, ни читать ее, ни понимать]. Это, как он говорит, «фантазия в мысли и ради мысли» (la fantasia nel pensiero e pel pensiero), «реальность, относящаяся к мышлению», включающая в себя здравый смысл, дисциплинируемая и управляемая логикой, а потому не имеющая ничего общего с «поэтическими вольностями» ( [61]). «Понимание — сказанных слов или осмысленных событий — есть истолкование», — сказал Ф. А. Тренделенбург . «Alles Verstandniss ist Interpretation, sei es des gesprochenen Wortes oder der sinnvollen Erscheinungen selbst» ( [62]). Искусство герменевтики — сердцевина исторического ремесла. И, как удачно заметил один русский ученый, «нужно наблюдать, как читают, а не читать, как наблюдают» ( [63]). «Читать» тексты или события означает «понимать», постигать их внутренний смысл, и от постигающего разума в этом процессе зависит очень многое, так же как от читателя — в процессе чтения.
Историк обязан быть критичным к себе, может быть, даже более, чем к своим источникам — ведь они становятся источниками лишь по отношению к вопросам, которые он им задает. Как говорит Анри Мару, «понятным документ становится лишь постольку, поскольку ему удается попасть в руки историка, способного в него проникнуть и осознать его природу и значение» — dans la mesure ou il se rencontrera un historien capable d’apprecier avec plus de profondeur sa nature et sa portee ( [64]). Вопросы, задаваемые тем или иным историком, в конечном счете зависят от меры его профессионализма и компетентности, от его личности в целом, от взглядов и интересов, от широты кругозора, даже от его симпатий и антипатий. Не следует забывать, что любой акт понимания, строго говоря, личен, и только в качестве личного акта имеет истинное значение и ценность. Историку необходимо трезво оценивать, подвергать тщательному испытанию свои предрасположения и предпосылки; но он не должен пытаться изгнать из разума все предпосылки. Такая попытка есть самоубийство ума, ведущее к полной умственной импотенции. Стерильный ум всегда бесплоден. Для историка, как и для литературного критика, безразличие, равнодушие и нерешительность, прикрывающиеся личиной «объективности», — не добродетели, а пороки. Понимание истории — это сознательный ответ на «вызов» источников, расшифровка знаков. Доля относительности присуща любому акту понимания, как неизбежна она и в личных отношениях между людьми. «Относительность» всегда сопутствует «отношениям».
Цель изучения истории не в том, чтобы устанавливать объективные факты — даты, места действия, числа, имена и тому подобное. Это только необходимая подготовка. Главная же задача — встреча с живыми людьми. Без сомнения, историк должен прежде всего установить, тщательно проверить и подтвердить факты — но основная его цель не в этом. Процитируем еще раз Мару: «История есть встреча с другим» — l’histoire est rencontre d’autrui ( [65]). Этой встрече, как и любым отношениям, препятствует ограниченный и выхолощенный ум. История как предмет изучения есть история людей в их отношениях друг с другом, в социальных связях, в контактах и конфликтах, в одиночестве и отчуждении, в благородстве или низости. Только люди живут в истории — живут, действуют, борются, творят, разрушают. Только человек является в полном смысле слова историческим существом. Изучая историю, мы устанавливаем связь с людьми, с их мыслями и трудами, внутренним миром и внешними действиями. Поэтому Коллингвуд совершенно прав, утверждая, что в истории не бывает «просто событий».
То, что ошибочно называется «событием»[66], на самом деле является действием и выражает определенную мысль (намерение, цель) субъекта, его производящего; дело историка — познать эту мысль ( [67]).
Поэтому, говорит Коллингвуд, «всякая история — история мысли»[68]. Несправедливо было бы сводить это утверждение к чистому интеллектуализму, к мрачному призраку гегельянства. Основной упор Коллингвуд делает не на мысли как таковой, а на разумном и целенаправленном характере человеческой жизни и деятельности. В истории мы имеем дело не со случаями и происшествиями, но с деяниями и трудами, достижениями и неудачами. Только они придают смысл человеческому существованию.
В конечном счете история — это история человека, во всей сложности и многообразии его бытия. Отсюда специфика исторического исследования и исторического знания. Методы должны соответствовать цели. Об этом обыкновенно забывали в век воинствующего узколобого позитивизма, часто забывают и в наше время. Объективное, more geometrico [геометрическое] знание в истории невозможно. И это не беда, поскольку история изучает не объекты, а субъектов — наших собратьев и соработников на ниве познания жизни. Историческое знание должно быть — и в действительности является — знанием экзистенциальным. Здесь–то и лежит пропасть между «die Geisteswissenschaften» и «die Naturwissenschaft» — «наукой о духе» и «наукой о природе» ( [69]).
III
Историки, особенно принадлежащие к старой школе, часто считают, что в их работе ими движет стремление знать прошлое так, «как знает свидетель», то есть в каком–то смысле превратиться в «свидетеля» прошедших событий, «всё видеть своими глазами» ( [70]). Но именно этого историк никогда не делает, сделать не может и не должен даже пытаться, если хочет быть хорошим историком. Более того, ниоткуда не следует, что очевидец события действительно «знает» его, то есть понимает его смысл и значение. Стремление достичь заведомо неосуществимой и внутренне противоречивой цели только мешает осознать, что же реально делает историк (если он в самом деле занимается историей).
Знаменитую фразу Леопольда фон Ранке о том, что историк хочет знать прошлое «таким, каким оно действительно было» — «wie es eigentlich gewesen» ( [71]) — толкуют вкривь и вкось. Прежде всего, не стоит возводить случайное замечание великого мастера в принцип. В своих собственных трудах Ранке не следует этому правилу: он всегда больше, чем хроникер. Он всегда стремится к истолкованию ( [72]). Конечно, историк хочет знать, что действительно произошло в прошлом; но хочет это знать в перспективе. Иначе он и не может. Мы не можем пережить вновь даже собственное прошлое, ибо, когда мы вспоминаем, а не грезим, события прошлого предстают перед нами в перспективе, на фоне приобретенного с тех пор опыта. Коллингвуд определяет историю как «воспроизведение прошлого опыта» ( [73]). В таком определении есть своя правда, поскольку «воспроизведение» входит в процесс «сочувственного отождествления», без которого невозможен диалог. Но при этом не следует путать свои мысли с мыслями собеседника. Сам Коллингвуд говорит, что объектами исторического исследования «выступают события, случившиеся в прошлом, условия, больше не существующие», которые и становятся предметами исторической науки «лишь после того, как перестают непосредственно восприниматься» ( [74]). Историк видит прошлое сквозь века, на расстоянии. Он не стремится повторить прошедшее событие. Историк хочет знать прошлое как прошлое, следовательно, в контексте последующих событий. «Un temps retrouve» [найденное время], то есть восстановленное при помощи воображения, — это именно «un temps perdu» [утраченное время]. Оно некогда прошло, оно было утрачено, и потому его можно найти и обрести вновь только в качестве «прошлого».
Историческое видение всегда ретроспективно. То, что было будущим для людей прошлого, теперь само стало прошлым для историка. Поэтому историки знают больше о прошлом, чем могли знать люди, в прошлом жившие. Историки осознают влияние прошлого, определенных его событий, на позднейшее время. Как историки, мы не можем видеть славное Периклово пятидесятилетие иначе, нежели в свете последующего упадка и гибели афинской демократии, а попытку отказаться от такого видения, даже если бы она не была обречена на провал (а она обречена), никак нельзя назвать историческим подходом. Перспектива и контекст неотделимы от подлинного понимания и представления истории. Мы не сможем глубоко и исторически понять Сократа, если забудем о том, как сказывалось на позднейшей греческой философии влияние его идей и личности. Если же мы попытаемся увидеть его, так сказать, в вакууме, вне целостного исторического фона, включающего и то, что для самого Сократа было далеким и непредсказуемым будущим, — мы будем знать об «истинном», то есть историческом, Сократе гораздо меньше.
История не зрелище и не панорама. Это процесс. Временнaя перспектива — с конкретным временем, заполненным событиями — дает нам ощущение направления, которого, возможно, сами события на момент своего совершения были лишены. Конечно, можно попытаться забыть об уже известном, отрешиться от перспективы и не обращать на нее внимания. Удастся ли это? Вряд ли. Но даже если это возможно, это занятие не для историка. Как было сказано недавно, «пытаться стать современником описываемых людей и событий — значит ставить себя в положение, начисто исключающее историю». Нет истории без взгляда назад, то есть без ретроспективы ( [75]).
Конечно, в ретроспекции таятся свои опасности. Она делает нас уязвимыми для «оптических иллюзий». Мы можем увидеть в прошлом «слишком много», причем даже не потому, что станем приписывать ему собственные мысли, но потому, что свет ретроспективы способен представить нам отдельные стороны прошлого в преувеличенном и искаженном виде. Порой нас искушает желание преувеличить роль каких–либо исторических личностей или социальных институтов, поскольку ее непропорционально раздувает избранная нами перспектива. А часто мы и не выбираем перспективу, и при всём желании не можем ее изменить. Нас охватывает соблазн принять сходство за причинную связь и приписать какой–либо тенденции, направлению или идее ложное происхождение: такие ошибки не раз делалась и в истории раннего христианства, и во многих других областях. Короче говоря, мы можем видеть прошлое в неверной перспективе — сами не зная этого или не имея средств ее исправить. Наша перспектива всегда ограничена. У нас нет и никогда не будет целостной перспективы. С другой стороны, мы не можем видеть прошлое без перспективы вообще. Окончательная цель историка — охватить и осмыслить весь временнoй контекст, по крайней мере в пределах «умопостигаемой, то есть объяснимой из самой себя» (по выражению Тойнби) области исследования. Но достичь этой цели невозможно, а значит любое историческое истолкование остается предположительным.
Историк никогда не довольствуется фрагментарной картиной. Он стремится открыть или предположить в течении событий даже бoльшую степень логичности, чем она есть там на самом деле. Он преувеличивает связь между различными элементами прошлого. Анри Мару описывает действия историка как стремление понятности ради выстроить «груду мелких фактов», из которых, как кажется, состоит реальная жизнь, в «упорядоченную картину» — une vision ordonneе ( [76]). Ни один историк не может удержаться от подобной операции, ни одному историку не удавалось избежать ее. Здесь, однако, надо соблюдать крайнюю осторожность. Историку всегда грозит опасность внести в ход истории слишком много логики и связности. Слишком часто вместо живых людей, всегда несовершенных и не «сложившихся» до конца, историк изображает неподвижные «типы», каждый — в своей характерной позе. То же порой делают портретисты, добиваясь выразительности портрета. Таков был метод древних историков — от Фукидида до Полибия и Тацита. Коллингвуд называет это «субстанциальностью» античной историографии, и именно такая черта, по его мнению, делает ее «неисторичной» ( [77]). Тот же метод усвоило немало современных историков. На ум приходят Теодор Моммзен (его «Римская история»), Джордж Грот, Ипполит Тэн, Гульельмо Ферреро. Сюда же относятся многочисленные современные жизнеописатели Христа — от Теодора Кейма и Эрнеста Ренана до Альберта Швейцера. В каком–то смысле такой подход оправдан. Историк стремится преодолеть разрозненность и путаницу эмпирического материала, соединяя крохи и лоскутки в синтетический образ, объясняя множество поступков и проявлений целостным характером героя. Это редко удается сделать логическим, рациональным путем. Историк работает индуктивно, как художник, ведомый интуицией. У историка есть свое видение мира. Но это преобразующее видение. Так появились все основные обобщения нашей историографии: эллинистическое мышление, человек средневековья, буржуа и тому подобные. Не стоит спорить об исторической верности этих категориальных обобщений; достаточно четко отличать их от обобщений родовых. Однако рискованно будет заявлять, что эти обобщенные «типы» реально существуют, существуют в пространстве и во времени. Это, так сказать, обоснованные обобщения, подобные художественным портретам и, как таковые, необходимые для понимания. Но «типичные люди» непохожи на людей из плоти и крови. Таковы же и наши социологические обобщения: древнегреческий город–государство, феодальное общество, капитализм, демократия и тому подобное. Главная опасность обобщений в том, что они слишком подчеркивают «внутреннюю необходимость» поведения человека. Складывается впечатление, что человек как «тип» или «характер» предопределен поступать «типично» — в соответствии со своим типом. Для каждого типа общества также определен «типичный» путь развития. Однако в наше время мираж «исторической неизбежности» разоблачен и отброшен как нечто искажающее историческую реальность в процессе нашего истолкования ( [78]). И это естественно. Во всех типичных и категориальных образах чувствуется детерминизм. Ведь они не более чем удобные аббревиатуры для «груды фактов». Реальная история текуча, изменчива и совершенно непредсказуема.
Иногда в самом методе ретроспекции скрывается детерминистический уклон. При взгляде назад события развертываются перед нами логически, в строгом порядке, согласно принятой схеме, подчиняясь внутренней необходимости — и нам кажется, что иначе и быть не могло. Необусловленность процесса мы маскируем рациональными схемами, а порой нарочно о ней забываем. События лишаются качества неопределенности и превращаются в неотвратимые стадии развития или упадка, взлета или падения, в зависимости от принятой идеальной схемы. В реальной истории логики меньше, чем в наших истолкованиях. История не есть эволюция, и ход реальных событий не следует эволюционным схемам и образцам. Исторические события не просто «случаи»: это действия или целые серии действий. История — это поле действия, и за каждым событием стоят действующие лица — даже если они потеряли свободу и следуют каким–то образцам и шаблонам или обуреваемы слепыми страстями. Человек остается свободным даже в цепях. Если использовать биологические термины, то история скорее эпигенез, чем эволюция, ибо понятие эволюции предполагает нечто заложенное изначально и раскрывающееся по мере «развития» ( [79]). Есть опасность, что мы примем свои концепции за эмпирическую реальность и начнем говорить о них как о подлинно существующих факторах и действующих лицах, хотя они не более чем удобные обозначения многочисленных и разнообразных реальных действующих лиц. Нередко мы принимаемся изучать эволюцию «феодализма» или «капиталистического общества», забыв, что эти термины лишь суммируют множество разнообразных явлений, «понятности ради» описываемых как целое. «Общества», «категории» и «типы» — не организмы, способные «эволюционировать» и «развиваться», а множества связанных между собой индивидуумов; и связь между ними динамична и неустойчива.
Любое историческое истолкование предположительно и гипотетично. Абсолютно точная интерпретация невозможна даже в частной и ограниченной области исследования. Наши данные никогда не бывают полны, и новые открытия часто заставляют историков радикально пересматривать свои схемы и порой отказываться от самых дорогих идей, раньше казавшихся незыблемыми. Мы могли бы привести множество примеров таких «переворотов» в самых разных областях истории, в том числе и в истории Церкви. Более того, время от времени историк должен прислушиваться к переменам в окружающем мире. Его видение зависит от определенной точки зрения и потому ограниченно. Но в ходе истории сама перспектива изменяется и расширяется — например, ни один современный историк не может смотреть на Средиземноморье как на Ойкумену, что было вполне естественно в древности. Такие ограничения не дискредитируют труд историка. Можно даже предположить, что «стопроцентное» истолкование событий лишило бы историю «историчности», ее неопределенности и необусловленности, и подменило бы ее рациональной «картой истории», ясной и легко читаемой, но не имеющей ничего общего с действительностью. Наша интерпретация — тоже исторический факт, и в ней описываемые события продолжают свое историческое бытие и участвуют в дальнейшем формировании истории. Можно спорить, «реален» ли «платоновский Сократ», но едва ли можно сомневаться в том, что он получил свое историческое бытие и оказал мощное влияние на формирование современного понятия «философа». Быть может, наше истолкование каким–то таинственным образом раскрывает возможности, заключенные в прошлом. Так рождаются и растут традиции, в том числе и величайшая из человеческих традиций — культура — в которой встречаются и сплавляются все вклады и достижения предыдущих веков, преображаясь при переплавке и, наконец, соединяясь в единое целое. Формирование человеческой культуры еще не завершено, а может быть, и не завершится в пределах истории. Вот еще почему любое историческое истолкование приблизительно и предположительно: грядущее прольет на прошлое новый свет.
IV
Недавно было сказано, что «если история имеет смысл, этот смысл не исторический, а богословский: то, что мы называем философией истории, на деле более или менее замаскированное богословие истории» ( [80]). Слово «смысл» можно понимать по–разному: одно дело, когда мы говорим о смысле единичного события или группы фактов, другое дело — Смысл Истории, взятой как всеобъемлющее целое, во всей ее полноте и универсальности. В последнем случае мы говорим о высшем смысле человеческого бытия, о конечной судьбе человечества. Это, конечно, не исторический вопрос. Здесь мы говорим не о том, что уже произошло — только в этом и компетентны историки — а о том, что произойдет, о том, чему дoлжно быть. Можно со всей уверенностью утверждать, что ни будущее, ни «конечные судьбы» не принадлежат к области исторического исследования, которое, по определению, ограничивается изучением человеческого прошлого. Исторические предсказания гадательны и ненадежны. Собственно говоря, это недопустимые «экстраполяции». Да, историю составляют истории людей и сообществ, но подлинно всеобъемлющая промыслительная История Человека — больше, чем история.
Все современные «философии истории» — Гегеля, Конта, Маркса, даже Ницше — на деле криптотеологичны или, может быть, псевдотеологичны. Во всяком случае, все они держатся на каких–то верованиях. То же относится и к современному заменителю философии истории, известному под именем социологии (на самом деле это морфология истории, работающая с постоянными, повторяющимися вновь и вновь элементами и моделями человеческой жизни). Может ли Человек во всей совокупности, во всей сложности своего личностного бытия являться объектом чисто исторического исследования и изучения? Положительный ответ уже есть род богословия, пусть даже сводящегося просто к обожествлению человека. С другой стороны — и в этом главная проблема истории — ни один историк, если только он не откажется от своей центральной задачи — «понимания» — и не удовольствуется ролью регистратора событий, даже на самом ограниченном поле исследования, в рамках самой узкой специализации не сможет не затронуть главнейших вопросов о природе и судьбе человека. Чтобы чисто исторически изучать, например, «греческую мысль», историк должен иметь свой собственный, пусть и не оригинальный, взгляд на все те проблемы, с которыми боролись великие умы древности, то споря, то учась друг у друга. Историк философии в значительной мере должен сам быть философом. Иначе он не поймет вопросов, над которыми ломали головы мыслители прошлого. Историк искусства должен быть, как минимум, художником–любителем — в противном случае художественные проблемы и ценности останутся ему непонятны. Короче говоря, за всеми человеческими вопросами стоит вопрос о Человеке: его нельзя избежать ни в одном историческом исследовании. Более того, труд историка в конечном итоге всегда направлен к чему–то выходящему за рамки истории.
В процессе исторического истолкования формируется и обретает зрелость человеческая мысль. Идеи и взгляды различных времен накапливаются, сопоставляются, диалектически согласуются и оправдываются, а порой осуждаются, отвергаются и проклинаются. Если история — многовековая жизнь человечества — имеет смысл и значение, то и изучение истории, если оно больше, чем простое любопытство, должно иметь значение и смысл. А если изучение истории есть «ответ» историка на «вызов» жизни, значит историк должен быть готов во всеоружии встретить этот вызов человеческого бытия со всей его полнотой и невероятной глубиной.
Таким образом, чтобы разбираться в своей области, историк, вопреки распространенному предрассудку, должен быть чутким ко всем человеческим вопросам и заботам. Если у него нет своих интересов в чем–либо, чужие покажутся ему бессмысленными: он едва ли сможет понять их и правильно оценить. Историк, равнодушный к философским исканиям, совершенно убежден, что вся история философии описывает лишь метания праздной мысли и «пустые умствования». Неверующий историк религии с той же наивной убежденностью и чувством превосходства полагает, что история всякой религии есть повесть «обманов», «суеверий» и всевозможных человеческих заблуждений. Подобные «истории религий» не раз выходили в свет. По тем же причинам историки часто отказываются рассматривать целые отрезки и периоды истории, обзывая их «варварскими», «безжизненными», «бесплодными», привешивая им ярлык «темных веков» и так далее. Суть в том, что претензия на нейтральность и свободу от пристрастий сама является вполне определенной позицией, пристрастием, выбором. На деле — и снова вопреки распространенному предрассудку — пристрастность есть знак свободы и необходимая предпосылка отзывчивости. Пристрастность означает интерес и озабоченность. Не бывает абстрактной предвзятости — она всегда избирательна и конкретна. Да, конечно, различные пристрастия проявляются по–разному и имеют различные последствия. Но в любом случае открытость ума — не пустота: это широта охвата и отзывчивости, это, хочется сказать, «кафоличность». И здесь, между прочим, речь идет не просто о большем или меньшем объеме познаний или о количестве интересов. «Целое» (tO kaq' Olou) не просто сумма «частностей» (tO kat¦ msroj), хотя бы и диалектически упорядоченных (как, например, в гегелевской схеме разума) или выстроенных в соответствии со «стадиями прогресса» (как у Огюста Конта). С частностями необходимо покончить. Достичь кафоличности мышления можно лишь путем новой объединяющей реорганизации, обязательно включающей в себя радикальный отбор. Ибо в конце концов нам не избежать выбора между «да» и «нет»: «более или менее» — это лишь вежливо замаскированное «нет».
Изучение истории всегда включает в себя оценку. Пытаясь избегать оценок, историк искажает и искривляет само повествование. И неважно, идет ли речь о греко–персидских войнах или о второй мировой войне. Истинный историк не сможет не встать на одну из сторон: за «свободу» или против нее. В самом его рассказе будет слышаться пристрастие. Истинный историк не сможет остаться в стороне от противостояния добра и зла, какие бы хитроумные софизмы не скрадывали разницу между ними. Истинный историк не сможет пребывать холодным и равнодушным, услышав вызов и призыв истины. Противоборства и напряжения — одновременно и исторические факты, и экзистенциальные ситуации. Даже отказ есть своего рода утверждение, зачастую весьма решительное, сопровождающееся упрямой настойчивостью. Агностицизм внутренне догматичен. Нравственное безразличие может только исказить наше понимание человеческой деятельности, всегда направляемой определенным нравственным выбором. К тому же результату приводит безразличие разума. Человек, поступая так или иначе, совершает экзистенциальный выбор — поэтому и историк не может обойтись без выбора.
Поэтому историк — именно как историк, то есть истолкователь реальной жизни людей в пространстве и времени — не может избежать ответа на величайший и важнейший вопрос истории: Кого Мя глаголют человецы быти? (Мк. 8, 27) Это действительно решающий вопрос для историка — ведь он изучает человеческое бытие. Остаться глухим к подобному вызову — уже предвзятость. Отказ отвечать на вопрос — тоже ответ. Воздержание от суждения — само по себе суждение. История, избегающая вопроса о Христе, ни в коей мере не «нейтральна». С этим центральным вопросом историк сталкивается не только при создании «Die Weltgeschichte», «Всемирной истории», то есть при истолковании судьбы человечества в целом, но и в процессе исследования любого исторического периода и отрезка, ибо этот вопрос пронизывает всё человеческое бытие. Ответ историка предрешает направление его работы, выбор мер и ценностей, само понимание природы человека. Его ответ предопределяет сферу рассмотрения, контекст и перспективу, в которой он будет исследовать человеческую жизнь, а также меру его чуткости. Ни один историк не должен заявлять, что он создал «окончательную интерпретацию» великой тайны человеческого бытия во всём его многообразии и сложности, низости и величии, двойственности и противоречивости, в его изначальной «свободе». Не должен претендовать на это и христианский историк. Но он вправе утверждать, что его приближение к тайне целостно и «кафолично», что его взгляд соответствует ее невероятной глубине. Он должен отстаивать это право на деле, в служении своему ремеслу и призванию.
V
Возникновение христианства стало поворотной точкой в истолковании истории. Роберт Флинт в знаменитой книге «История философии истории» пишет:
Появление церковной истории означало для историографии больше, чем для географии — открытие Америки. Оно намного расширило содержание истории и заставило по–новому взглянуть на саму ее природу. Оно научило людей считать политическую историю лишь частью истории и внесло даже в обыденное мышление убеждение — которое мы едва ли встретим у историков античности — что история устремлена к какой–то общей для всего человечества цели, к некоему Божественному предназначению ( [81]).
Современные писатели говорят об этом еще определеннее, ибо, несомненно, возникновение христианства означало радикальный переворот в отношении людей к самому факту истории. Произошло подлинное открытие исторического измерения, исторического времени. Строго говоря, это было возвращение к библейской концепции и ее развитие. Конечно, в книгах Ветхого Завета не найти разработанной «философии истории». Но там есть целостное видение истории, перспектива разворачивающегося, раскрывающегося времени, движущегося от «начала» к «концу», направляемого волей Бога, ведущего Свой народ к исполнению Своего замысла и цели. В этой перспективе динамической истории первохристиане приняли и истолковали новый опыт — Откровение Бога во Христе Иисусе.
Античным историкам человеческая история виделась совсем по–иному[82]. Греки и римляне тоже писали историю. Но их видение истории оставалось совершенно неисторичным. Да, они очень интересовались историческими фактами, фактами прошлого, и следовало бы ожидать, что они окажутся прекрасными историками. Но увы — им препятствовали в этом их основные убеждения. Греческое мышление находилось в «тисках прошлого». Оно было, так сказать, очаровано прошлым. Но к будущему оно было равнодушно и безразлично. Однако прошлое обретает историчность и значение лишь в перспективе будущего. «Стрела времени» напрочь отсутствовала в античном взгляде на человеческую судьбу. Великие историки Греции и Рима ни в коей мере не являлись философами. В лучшем случае они были тонкими наблюдателями, а чаще моралистами и художниками, ораторами и политиками, проповедниками и риторами — только не мыслителями. А философы той эпохи не интересовались историей, считая ее чередой случайных событий. Они, напротив, старались исключить из своих построений историю. Она им мешала. Философы древней Греции искали вечного, неизменного, вневременного и бессмертного. Античная историография подчеркнуто пессимистична. История всегда повествует о неизбежном упадке и гибели. Человек поставлен перед выбором. С одной стороны, он может покориться, смириться с неизбежностью «рока» и даже находить радость и удовлетворение в созерцании гармонии и великолепия Космоса, сколь бы он ни был равнодушен и враждебен к желаниям и заботам личности и общества. Это — кaтарсис трагедии, как она понималась в античном мире. С другой стороны, человек мог стремиться к «бегству», исчезновению из истории, из текучего и меняющегося мира, безнадежного колеса возникновений и уничтожений, — в область неизменного.
Античное истолкование истории было «космическим» и «натуралистическим». Во–первых, история развивалась по биологической модели рождения, роста, старения и гибели, общей судьбы всего живого. Во–вторых, существовала астрономическая модель вечного возвращения, кругового движения небес и звезд, модель повторяющихся периодов и циклов. В сущности, обе модели тесно связаны друг с другом, поскольку космические циклы предопределяют циклы земные и управляют ими. Ход истории — лишь одна из сторон всеобъемлющего космического процесса, управляемого нерушимыми законами, заключенными в самой структуре Вселенной. Отсюда — ярко выраженный фатализм. Миром правит tUch или e?marmsnh, космический рок, фатум. Судьба человека определена и охвачена астрономической «необходимостью». Сам Космос рассматривается как существо «вечное» и «бессмертное», но периодическое и подчиненное циклическому ритму. Происходит бесконечное, непрекращающееся повторение одного и того же; события вечно развиваются по неизменному шаблону. В этой концепции вечного возвращения, вечного движения по кругу — kuklofor…a, ?nakUklosij — нет места для «про–гресса». Периодическая модель замкнута, к ее совершенству нельзя прибавить ничего «нового». Следовательно, нет смысла смотреть в будущее: оно принесет лишь то, что уже не раз происходило в прошлом, что заложено в самой природе (fUsij) вещей. В прошлом, уже «завершенном» и «совершенном» (perfectum), вечный порядок различим лучше, чем в неопределенности настоящего и будущего. Именно в прошлом историки и политики искали «шаблоны» и «примеры».
В позднейших философских системах эллинистической эпохи — у стоиков, неопифагорейцев, платоников, эпикурейцев — черты «постоянства» и «повторяемости» подчеркнуты особенно резко. Eadem sunt omnia semper nec magis est neque erit mox quam fuit ante ( [83]). Впрочем, то же убеждение господствовало и в классическую эпоху. Профессор Вернер Йегер великолепно определяет взгляды Аристотеля на историю:
Возникновение и уничтожение земных явлений столь же нединамично, как и кругообразное движение звезд. Согласно Аристотелю, несмотря на то, что природа непрестанно изменяется, у нее нет истории, ибо органическая жизнь закреплена в постоянстве форм и четком, вечно повторяющемся ритме. Подобно тому и мир людей — государство, общество, система взглядов — не захвачен движением неуловимой и непредсказуемой исторической судьбы, но — идет ли речь об истории личности, народа или культуры — прочно зиждется на стационарных формах, которые, изменяясь в частностях, сохраняют свою сущность и предназначение. Такое восприятие жизни отражается в понятии Великого года, в конце которого все звезды возвращаются на свои места и начинают движение заново. Так же и великие цивилизации, по Аристотелю, рождаются и гибнут вследствие природных катастроф, связанных, в свою очередь, с ритмическими переменами в небесных сферах. Любое открытие Аристотеля было сделано уже тысячу раз, а вскоре будет опять забыто, чтобы однажды быть открытым вновь ( [84]).
Такое мировоззрение не оставляет места для «истории» — мира, человека или человеческих обществ. В космическом процессе, а следовательно, и в человеческой судьбе, есть ритм, но нет направления. История никуда не стремится. Она движется по кругу, не имея ни конца, ни цели. У истории есть только структура. Вся античная философия представляет собой систему «общей морфологии» бытия. Она, кроме того, чрезвычайно политизирована и социализирована. Человек в ней рассматривается как «социальное существо», zuon politikOn, а неповторимость его личности едва ли признаётся вообще. Внимания заслуживает только «типичное». Неповторимых событий также не бывает. Всюду видится лишь реализация универсальной схемы. Следует признать, что внутри этой общей для древних греков концепции встречались самые разные оттенки воззрений и взглядов; возникали резкие напряжения и конфликты, которые необходимо замечать и изучать. Но тема вариаций оставалась прежней: «вечный Космос», «бесконечное возвращение», мрачное «колесо возникновений и уничтожений» ( [85]).
На таком фоне и в такой перспективе появление христианства означало интеллектуальную революцию, полную смену вех, коренную переориентацию. Христианство — эсхатологическая религия и именно поэтому религия историческая. Современные богословские споры в значительной мере исказили и затуманили смысл этих слов. Чтобы избежать путаницы и непонимания, требуются некоторые пояснения.
Христианская вера начинается с признания определенных деяний, которые Бог полновластно и свободно совершил «в последние дни сии» ради спасения человека. Потому эти деяния — пришествие Христа в мир, Его Воплощение, Крестная смерть и Воскресение, а также сошествие Святого Духа — суть события эсхатологические: единственные и «окончательные», то есть решающие, ключевые и критические, совершенные раз и навсегда — ™f?pax. В определенном смысле это завершающие события — исполнение и свершение мессианских пророчеств и обетований. Они приобретают значение в перспективе прошедшей истории, которую «исполняют» и «завершают». Они эсхатологичны, поскольку историчны, поскольку принадлежат к приходящему из прошлого ряду событий и подтверждают собой всё предыдущее. В этом смысле Христос есть «конец истории»: не всей истории, а ее определенного отрезка. Пришествие Христа не прекратило, не упразднило историю — она продолжается. Прекратить ее должно еще одно эсхатологическое событие — Второе пришествие. История в таком истолковании линейна, она движется от «начала» к «концу», от Творения к Исполнению, но в одной поворотной точке линия прерывается или, точнее, резко меняет направление. Эта точка — центр истории как die Heilsgeschichte, «истории спасения». Однако вот что удивительно: «центр», «начало» и «конец» совпадают — не событийно, а в Личности Искупителя. Христос не только центр истории, но и «Альфа и Омега, Начало и Конец». А в несколько ином смысле Христос — именно Начало. С Его пришествием началась новая эра. «Ветхое» исполнилось, началось «Новое».
Пришествие Христово никоим образом не «обесценило» время. Напротив, в Его Пришествии, в Нем и через Него, время получило прочное основание. Оно было «освящено» и обрело новый смысл. В свете Христова Пришествия история явилась как «про–гресс», про–движение, строго ориентированное и безудержно стремящееся к конечной цели. Разорваны безысходные «циклы», говорит блаж. Августин. Нам открыто, что история не повторяется: она устремлена к единственной, общей для всех цели. В перспективе неповторимой и универсальной истории каждое событие занимает свое собственное, единственное место. «Уникальность» событий теперь признана и обоснованна.
Можно утверждать, что библейская история представляет собой историю не столько человека, сколько Бога — Божия домостроительства в истории. Действительно, в первую очередь Библия подчеркивает Божественное господство — как в истории, так и в мире вообще. Но именно потому, что история была понята как «история Бога», стала возможной «история человека». Только так получает существование подлинная человеческая история — не воспроизведение космического образца, не хаотический поток случайностей, а полная смысла повесть. История человека понята в контексте спасения, то есть исполнения его предназначения и оправдания его бытия. Человеческая деятельность получила оправдание и обрела новые силы: теперь ей даны цель и задача. Бог действует в истории; Его последнее деяние во Христе Иисусе стало завершением и исполнением «многократных и многообразных» деяний в прошлом. Но неисчислимые деяния Божии — не частные случаи или проявления какого–то общего закона, а совершенно особенные, единичные события. Из Библии не выкинешь имен собственных. Ее нельзя, так сказать, «алгебраизировать». Ее имена не заменить на символы. Здесь Личный Бог общается с человеческими личностями. Это общение достигает кульминации в Личности Иисуса Христа, пришедшего «в полноту времен», чтобы завершить Ветхое и начать Новое. Поэтому в христианском истолковании истории главенствуют две основные темы.
Первая тема — ретроспективная: история приуготовления к приходу Мессии. Вторая — проспективная, открывающая панораму «конца истории». Христианский подход к истории, столь радикально отличный от античного, ни в коем случае не является субъективной переориентацией человека во времени. Речь идет о реальном качественном изменении самого времени. Появление не бывшей доселе единственной надежной опоры и точки отсчета в полном относительностей и нестабильностей потоке событий повлияло не только на человеческое отношение к историческому времени — оно изменило и само время. Чрезвычайно важно то, что Божие Откровение в Иисусе Христе носит экзистенциальный характер, раскрывает новое измерение человеческого бытия. Решающим вкладом христианства в изучение истории стало не открытие свойства «историчности», то есть конечности и относительности, человеческого бытия, но именно открытие в истории перспективы, придавшей человеческому бытию смысл и значение. Следовательно, современный экзистенциалистский упор на «историчность человека» и не историчен, и не характерен для христианства. Это скорее рецидив эллинизма. «Историчность человека» в истолковании некоторых экзистенциалистов означает лишь бренность, безысходную запутанность людей в случайном и преходящем, в конце концов ведущую к угасанию и смерти. Однако подобный диагноз напоминает скорее трагическое мироощущение античности, чем ликующую Евангельскую Весть. С самого начала христианская k»rugma [керигма, проповедь] не только стремилась выявить убожество и «ничтожность» грешного человека и возвестить о Божьем Суде: прежде всего она несла благовестие о достоинстве и ценности людей — Божиих творений, усыновленных Им — и указывала земному человеку, жалкому, духовно нагому, «врагу» Божию и всё же любимому Богом, путь ко спасению. Это не только осуждение старого, но и начало нового — «лета Господня приятна» .
Именно здесь между христианскими историками возникает существенное разногласие. После пришествия Христова может ли в истории произойти еще что–нибудь имеющее высшую жизненную важность для человека? Или же всё, что должно было совершиться в истории, уже осуществилось? История как природный процесс, человеческая история, конечно, еще продолжается. Но продолжается ли Божественная история? Есть ли у истории сейчас, после Христа, какое–то конструктивное значение? Какой–то смысл? Иногда мы слышим, что, поскольку высочайший смысл истории уже явлен и «Последнее» уже наступило, история как полный смысла процесс, так сказать, закрыта и завершена, и эсхатология уже «осуществилась». Здесь мы имеем дело со специфическим истолкованием «поворотного пункта» истории — Христова пришествия. Иногда говорят, что священная история продолжалась вплоть до пришествия Христа, в Нем исполнилась и завершилась, и после Него осталось лишь пустое течение случайных событий, в котором вполне проявляется суетность и ничтожество человека, но ничего подлинно значимого уже не совершается и не совершится, поскольку в рамках истории «исполняться» более нечему. Многие современные богословы повторяют на разные лады эту мысль. Одни вкладывают в нее смысл «осуществленной эсхатологии» и переносят акцент из сферы истории в сферу мистического опыта, где постоянно присутствует и может быть вновь и вновь переживаемо «последнее» ( [86]). Другие называют это «ступенчатой эсхатологией» и превращают историю в огромный промежуток между великими эсхатологическими событиями прошлого и будущего, между Первым и Вторым пришествиями, — время надежды и ожидания, лишенное какой–либо конструктивной ценности. Иные, наконец, «интериоризируют» историю, ограничивая ее смысл опытом отдельных верующих, делающих свой «выбор» ( [87]). Но все они отнимают у истории как хода событий в пространстве и времени ее «священный» характер и какое бы то ни было позитивное значение. Ее течение оказывается лишь постоянным проявлением человеческой суетности и бессилия.
Недавно даже было сказано, что «христианская история» — просто бессмыслица, что «весть Нового Завета является призывом не к историческим действиям, но к покаянию» и весть эта «так сказать, " демонтировала» безнадежную историю мира» ( [88]). Такой радикальный эсхатологизм, «демонтаж» всей человеческой истории, должен вызывать серьезные сомнения у богослова. Безусловно, это не историческое, а богословское утверждение. Оно вытекает из одностороннего богословского видения, согласно которому активен только Бог, а человек является лишь объектом Божественного гнева или милости, но никогда не действует сам. Но не Евангельская Весть, а именно такое «бесчеловечное» понятие о человеке превращает человеческую историю в бессмыслицу. Новозаветная Весть, напротив, придает истории смысл. Во Христе и через Христа само время впервые получило твердую и надежную опору. Только с тех пор, как «Слово плоть бысть», как Утешитель сошел в мир, дабы очистить и освятить его, история во всей своей глубине стала священной. Христос всегда пребывает в Своем Теле, в Церкви, и потому в ней успешно продолжается Heilsgeschichte. История спасения идет вперед. Верно, что ее пути становятся порой едва различимыми, теряясь в многообразии исторических фактов, и историк, в том числе христианский историк, должен быть скромен и осторожен в своих попытках расшифровать скрытый смысл каких–либо событий. Но, так или иначе, историк должен знать о новой «ситуации», возникшей в истории с пришествием Христа: теперь, после Распятия, Воскресения и Пятидесятницы, в человеческой жизни не осталось ничего «нейтрального». Поэтому вся история, даже «безнадежная история мира», предстает теперь в перспективе последнего, эсхатологического противостояния. Именно в этой перспективе блаж. Августин обозревает исторические события в своем повествовании о «двух Градах». Как соотносится Heilsgeschichte с мировой историей вообще —вопрос непростой. А ведь есть еще и такая проблема: Церковь существует в мире, и наросты мира сего часто искажают подлинную ее историю. И всё–таки спасение имеет исторический аспект, свое собственное место в истории. Церковь — закваска истории. Как удачно заметил недавно Сирил К. Ричардсон, в истории Церкви пророческого не меньше, чем в Священной истории Библии. «Это часть Откровения — история Святого Духа» ( [89]).
Можно предположить, что в современном «гиперэсхатологизме» с присущей ему коренной недооценкой истории мы встречаемся с возрождением эллинского антиисторизма, неспособного признать какую–либо ценность за временем и деятельностью в нем. Разумеется, эсхатологи всех мастей клянутся в верности Библии и с проклятиями отрекаются от всякого эллинизма, с негодованием отвергая любые обвинения в философствовании. Однако зависимость Рудольфа Бультмана от Мартина Хайдеггера очевидна. В вопросе об истории они стоят на точке зрения древних греков. Конечно, между подчинением фатуму, понимаемому как слепая e?marmsnh или как «огненный Логос», и провозглашением предстоящего неминуемого Суда Предвечного Бога — большая разница. Но в обоих случаях, хотя и по разным причинам, человеческая деятельность теряет всяческую ценность и за ней не признается никакого конструктивного значения. Так изучение истории становится невыполнимой и бессмысленной работой, сохраняясь разве что в виде изложения бесчисленных примеров человеческой суетности, гордыни и полного бессилия даже в самой этой гордыне. Подобного рода история под маской пророчества рискует выродиться в проповеднические упражнения. Отчасти верно, что современный радикальный эсхатологизм — логическое следствие ущербной концепции Церкви, характерной для некоторых направлений протестантизма. Церковь здесь рассматривается как арена «невидимого» действия и водительства Божия, но никакого исторического значения за ней не признается. Современное восстановление целостного учения о Церкви, происходящее одновременно во всех конфессиях, хочется верить, поможет возродить более глубокий взгляд на историю и вернет ей истинное экзистенциальное измерение ( [90]).
Примечательно, что тем, кто сводит роль Церкви к эсхатологическому знамению и отказывается увидеть в ней предвосхищенную эсхатологию, история предстает так же, как когда–то древним, — «политической историей». Они вновь видят только историю государств и народов и такой ее осуждают и проклинают. Как ни странно, именно в таком истолковании она перестает быть историей человека. Предполагается, что человеку, по большому счету, нечего делать — нечего творить, нечего достигать. Он просто подлежит Суду — и томится, ожидая судного дня. Но ведь только в историческом труде и борьбе человек становится — или, увы, так и не становится — самим собой. С другой стороны, неумеренная эсхатологичность, напротив, обрекает человека на мечтательный мистицизм — ту самую ловушку и опасность, которой так стараются избежать эсхатологи. Человек приговорен к безысходности: открывать и созерцать бездну своего ничтожества, тонуть в грезах и кошмарах о своей суетности и духовной немощи. И эти больные сны порождают новую мифологию. Какова бы ни была «историчность человека», которую торжественно провозглашает столь обнищавшее христианство, ею неявно — а порой и вполне открыто — отрицается и отвергается его истинная историчность. История в таком истолковании действительно становится «безнадежной» — бессмысленной, беспредметной, бесцельной. Но на самом деле история человека — не политическая история с ее утопическими претензиями и иллюзиями, а история духа, история человеческого возрастания в полную меру совершенства под водительством исторического Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Да, конечно, это трагическая история. И всё–таки семя зреет не только для Суда, но и для Вечности.
Христианский историк свою работу не строит, как полагают некоторые, «на христианских принципах». Христианство не есть набор принципов. Христианский историк исполняет свою профессиональную задачу истолкования человеческой жизни в свете христианского воззрения на эту жизнь, безобразно искореженную грехом, но искупленную Божественным милосердием, исцеленную Божественной благодатью и призванную наследовать Царство Божие. Христианский историк будет прежде всего отстаивать достоинство человека — даже человека падшего. Он будет протестовать против всякого рассечения человека на «эмпирического» и «умопостигаемого» (будь то по–кантовски или как–то иначе), где первый обречен и лишь второй удостоится спасения. В спасении нуждается именно «эмпирический человек», и спасение заключается вовсе не в каком–то высвобождении «умопостигаемого элемента» из эмпирического хаоса и рабства. Затем христианский историк постарается раскрыть истинный смысл исторических событий в свете христианского знания о человеке, но, пытаясь увидеть «провиденциальное» за теми или иными событиями реальной истории, он будет предельно осторожен и чуток. Даже в истории Церкви «рука Провидения» сокрыта, хотя было бы безумием утверждать, что этой Руки вовсе нет или что Бог не есть Господин и истории. Цель изучения истории состоит не столько в том, чтобы обнаружить в ней действия Бога, сколько в том, чтобы понять человеческие поступки, во всём многообразии и путанице, в которой они являются нам. Но самое главное: христианский историк будет смотреть на историю как на тайну и трагедию — тайну спасения и трагедию греха. Он будет отстаивать всеобъемлющее и целостное понятие о человеке, считая это необходимой предпосылкой постижения его бытия, его деяний, его судьбы, которая решается в истории ( [91]).
Задача христианского историка нелегка. Но это благородная задача.
Перевод Наталии Холмогоровой.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ
Кто не со Мною, тот против Меня;
и кто не собирает со Мною, тот расточает
Лк. 11:23
I
В самый разгар позитивистических увлечений русского общества, когда все вопросы казались разрешимыми и уже разрешенными наукой, а вера представлялась пройденным, изжитым и устарелым этапом исторического развития человечества, двадцатишестилетний Владимир Соловьев выступил в Петербурге с публичными «Чтениями о Богочеловечестве». Это была вдохновенная апология христианской веры. С одной стороны, Соловьев показывал, что только в религиозном миросозерцании достигается подлинное оправдание жизни, раскрывается и утверждается ее смысл и ценность. С другой, он, так сказать, оправдывал Богооткровения истины перед лицом человеческого разумения, раскрывая глубинное совпадение содержания христианской догматики с высшими достижениями философского умозрения.
Соловьев сам называл свое мировоззрение «философией цельного знания» и именно в таком качестве всеобъемлющего синтетического замысла противопоставлял его исторически сложившимся системам «отвлеченных начал». Не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать, что Соловьев не признавал существования заблуждений. Ложность какого–либо суждения, утверждения или оценки заключается не в его положительном содержании, не в его природе (physis), а в его недолжном положении (thesis) в системе знания, т. е. в неполноте или односторонности. Ни один мыслитель, по оценке Соловьева, не заблуждался вполне, не высказывал лжи по существу; ошибочно бывало только превращение частичной правды в правду исключительную и всецелую. Одно и то же положение может быть и истинно, и ложно в зависимости от того, с какими другими оно сочетается. Поэтому Соловьев воспринимает в свое построение почти что все исторически сложившиеся учения, начиная Библией и кончая социализмом и теорией Дарвина. В его понимании и Бог именно оттого есть Истина, Добро и Красота, что Он абсолютен, безусловен, бесконечен, что Он «все Собою наполняет, объемлет, двигает, созидает», что вне Его нет ничего, иными словами, Он есть Всеединое начало, средоточие и цель всяческого бытия. Соответственно, и религия есть высшая истина именно потому, что она объемлет собою все и притом в надлежащей перспективе, — и, стало быть, то, что, будучи взято само по себе, в отдельности, было бы ложно, в религиозном контексте становится истинным.
Отсутствию абсолютной лжи соответствует отсутствие абсолютного зла. Опять–таки, по природе нет ничего злого, и дурным то или другое движение человеческой воли является не само по себе. «Я не признаю существующего зла вечным», — писал он, — «я не верю в черта». Зло заключается тоже в неправильном распорядке ценностей, в искажении перспективы. Соловьев усматривает сущность зла в постановке ограниченного на место безусловного, в утверждении самости, т. е. в отпадении от Всеединства. Зло, таким образом, не обладает подлинной реальностью, не есть даже нечто самостоятельное, а есть лишь искаженная форма Добра. И преодоление зла сводится не к его искоренению, а к разрушению его односторонности, к восстановлению нарушенных гармонических соотношений.
Но этого мало. Стараясь объяснить существование зла в мире, созданном и управляемом Премудрым и Всеблагим Творцом, Соловьев приходит к утверждению необходимости зла или греха. Миросозерцание Соловьева все насыщено духом историзма, заимствованным отчасти из немецкой идеалистической философии, отчасти из гностической мистики древнехристианской поры и предреформационного времени (в особенности у Якоба Беме). Основная идея этой историософии заключается в том, что вся история разумна и при этом в ней осуществляется некоторый доступный человеческому постижению план. Говоря кратко, разумный смысл временного бытия мира усматривался здесь в том, чтобы осуществилось свободное Всеединство. В силу творения мир осуществлял бы божественный план по принуждению, так сказать, насильно, целостность и единство были бы слепы и механичны. И нужно было, чтобы эта первозданная гармония распалась; чтобы все свободные существа довели до предела свое своеволие, испытали всю тягость неупорядоченного хаоса и уже свободным избранием, свободным актом самоотрекающейся воли вернулись к утраченному Всеединству. Иными словами, без грехопадения и отступления от Бога не мог мир стать тем, к чему его предназначал Бог. Именно не мог, ибо все происшедшее фактически было разумно, логически необходимо, не только для конечного разума, но и для Разума вообще, — и в качестве такового предвечно предусмотрено Богом.
Исторический процесс, следовательно, представлялся Соловьеву в виде изогнутой линии: сперва раздробление, распадение бытия должно было, нарастая, дойти до крайних пределов хаотичности, чтобы потом постепенно происходило вторичное объединение существующего. В конце стоит то же, что в начале: единство; но в начале было голое единство, а в конце единство синтетическое, единство многого, pan kai'en. История, по изображению Соловьева, есть «Богочеловеческий процесс», процесс постепенного установления Богочеловечества, глубинного и свободного единения Божеского и человеческого. Предустановленное предвечно в Софии как идеальной сущности тварного мира, оно вторично восстановилось в Богочеловеческой личности Христа. Но далее оно должно распространиться на весь мир, и в этом сущность христианской истории; здесь снова повторяется тройственный ритм: человечество должно снова отпасть от единства, снова пройти через бездны своевольного самоутверждения, чтобы на последок дней своих придти к совершеннейшему свободному Богочеловечеству, когда будет Бог всяческая во всем, и утвердится всесовершенное Царство Божие на земле, т. е. «полнота естественной человеческой жизни, соединяемой через Христа с полнотою Божества».
В этой идее Царства Божия получают крайнее свое развитие все основные идеи Соловьева. Это должна быть «полнота» человеческой жизни, т. е. вся человеческая жизнь, нисколько не урезанная, должна войти в завершающий мировой синтез. Ничто не будет выключено как недостойное, все будет освящено. Поэтому то будущее и рисовалось Соловьеву в ярких земных красках. И от века уготованное Царство оказывалось в его изображении земным государством, возглавляемым земным Царем, земным Первосвященником и земным Пророком. В этот момент Соловьев ставил точку и выходило, что именно об этом царстве обетовано, что ему не будет конца… И здесь Соловьев вполне сходился с теоретиками безбожного общественного идеала, тоже чаявшими преодоления всех жизненных дисгармоний здесь, а не там, за историческим горизонтом, у Отца светов… И так же, как они, веровал, в конце концов, в «естественное течение вещей», в незыблемые законы имманентного развития мира, «лучшего из возможных».
II
Соловьева часто обвиняли в пантеизме. Но не в этом лежал proton psendos его религиозно–философского построения. Грань между вечным безначальным и тварным, между безусловным и конечным никогда не стиралась в его сознании; и он неоднократно, даже с преувеличением подчеркивал противоположность этих начал. Коренной изъян его мироощущения заключался в другом, в полном отсутствии трагизма в его религиозном восприятии жизни. Грех он воспринимал слишком узко, одним умом, и для преодоления его ему не казалось нужным разрывать непрерывность естественного природного порядка. Мир представлялся ему в виде идеально построенного механизма, неуклонно и точно повинующегося безупречным законам, данным Всемогущим и Премудрым Творцом. Оттого его так привлекала эволюционная гипотеза, и он применял ее для… доказательства Воскресения Христова, его необходимости и, следовательно, реальности. Ведь его «ждет и томится природа».
Нравственный дуализм Добра и Зла воспринимался им слишком абстрактно, реальности «идеала Содомского» он не ощущал. Искушения и соблазны казались ему лишь необходимыми моментами осуществления свободы, неотразимость которого для него была обеспечена разумностью сущего, предвечным изволением Бога. И пред лицом неминуемого торжества всеобщего преображения исчезали живые конкретные личности человеческие, и все внимание оттягивалось в сторону отвлеченных форм общественного и космического бытия. Для Соловьева ценнее было соединение церквей, т. е. формальное объединение всех под единою теократической властью, чем спасение индивидуальной души, мятущейся и озлобленной. Идея дороже лица.
Нужно оговориться, — сказанное о Соловьеве относится лишь к первому периоду его жизни. В последние свои годы он прошел через трудный религиозный кризис, в очистительном огне которого сгорели все его гностические и теократические утопии. Он почувствовал не только остроту греховного жала в индивидуальной душе, но и реальность, самостоятельность зла как космического начала. Он ощутил катастрофический пульс истории и вместо посюстороннего Царства увидел «конец истории» — Страшный Суд и второе пришествие Христово.
«Все великое земное разлетается, как дым» — на этом откровении оборвалась его здешняя жизнь.
III
Соловьев, Толстой, Достоевский были предтечами и пророками того периода нового религиозного подъема, в который русская мысль после нескольких десятилетий безбожных и богоборческих блужданий вступила с началом нынешнего века. «Новое религиозное сознание» складывалось в «пылу освободительного движения», когда заветные, наследственные надежды, казалось, готовы были вот–вот осуществиться, — обстановка благоприятствовала возникновению утопий. И действительно, в возбужденном ожиданиями сознании «русская революция», — движение политическое и социально–экономическое по происхождению и своему непосредственному содержанию, — вырастала до размеров апокалиптического сдвига. Но это была хилиастическая, чувственная апокалиптика, совершенно не осязающая грани, hiatus'a между «здесь» и «там», пламенно «взыскующая града», но града здешнего. Идеал свободного всеединства повторялся здесь снова в других формах, но со всеми его прелестями и обольщениями. Религия должна стать всем, воспринять полноту человеческой жизни, плотяной и плотской, — для «богоискателей» этот постулат превращался в задание — совместить язычество с «историческим», «церковным» христианством, умирающего Пана с Воскресшим Христом. И, казалось, при дверях уже эпоха Третьего Завета, мистического Царства Духа. В нем должна сочетаться правда эллинского чувственного натурализма с правдою аскетического спиритуализма, свобода и святость плоти с свободою и святостью духа. — Соловьев ждал идеального религиозного государства, Мережковский, Гиппиус, Минский, Вяч. Иванов, Свенцицкий «богопьяной» (Gottgetrunken) анархической общины. И то, и другое одинаково — рай на земле. «Еще немного, еще одно усилие добра, — восклицал один из крупных представителей этого течения, Свенцицкий, — и раздвинутся своды небесные, мир содрогнется, как умирающий больной, и разом засияет новое небо над новой, прекрасной, нетленной, вечной землей».
Религиозная мысль движется здесь всецело в пределах идеи Царства Божия на земле: «христианская общественность занимает место социалистического общества или идеальной демократии прежних внерелигиозных общественно–исторических построений. Предметом желаний по–прежнему является здесь строй, идеальный порядок как таковой. И это несмотря на то, что остро ставится проблема личности, несмотря на увлечение индивидуалистической религиозностью внецерковных мистических сект. Мало того, несмотря на зарождающееся ощущение мирового трагизма, «Жизнь, — говорит Савицкий, — не гармонический аккорд, а бурный, душу надрывающий диссонанс». И вместе с тем, отказ «религиозно осмыслить историю», по его мнению, был бы «самым безусловным отрицанием Бога», ибо Бог не мог создать бессмысленного, калейдоскопически–пестрого, бессвязно–эпизодического, не цельного мира. Либо история — «органический рост Космоса», либо Бога нет.
Так восстановление нарушенной вселенской гармонии заслоняет задачу просветления и спасения отдельных индивидуальных душ.
Причина этого ясна: между смыслом мира и его разумностью ставится знак равенства, а разумность измеряется конечным, человеческим масштабом. Разумность истории отождествляется с ее планомерностью, логичностью в пределах человеческой «аристотелевской» логики. «Религиозное осмысливание жизни превращается в один из вариантов теории прогресса, словно между разумом человеческим и Разумом Божественным различие только количественное, как между конечным и бесконечным, и в хрупкие рамки человеческого познания вместима и уловима вся Тайна Божией Премудрости…»
Преодоление рационалистической ограниченности религиозного сознания было возможно только через систематический философский анализ исторической проблемы, и он привел в результате к обостренной постановке вопроса о взаимоотношении знания и веры, иначе говоря, Премудрости Божией, от века сокровенной, и мудрости человеческой. В отчетливой и ясной постановке вопроса о сущности религиозного понимания истории, во вскрытии неизбежно присущих ему антиномий и заключается главная философская ценность русского «богоискательства».
IV
«Знать разум всего сущего, понимать одинаково и в поле каждую былинку и в небе каждую звезду» доступно лишь всеведению Божию», — писал в 1902 г. С.Н. Булгаков (тогда профессор политической экономии, теперь также протоиерей). Для нас же отдельные события как нашей собственной жизни, так и истории навсегда останутся иррациональны. Для нравственного действования «уверенность в том, что прогресс осуществляется с механической необходимостью», и ненужна, и излишня; «никакие костыли не нужны для нравственного закона!» Ибо не гарантирующее знание, а дерзающая вера должна лежать в основе жизни. Другими словами, определяющее и направляющее значение должно принадлежать не лежащему где–то впереди, в пределах исторической перспективы идеальному строю, а вневременной и вечной норме, абсолютным нравственным постулатам.
Возможно историю рассматривать двояко: либо смотреть на нее, как на «процесс, ведущий к достижению некоторой предельной, однако истории еще имманентной и ее силами достигаемой цели», либо «усматривать над собой и за пределами этого мира с его историей сверхприродную цель»: тогда «пред лицом вечности бледнеют и испаряются или же радикально переоцениваются все исторические ценности». «Мир созревает для своего преображения творческой силой божества», история «всецело есть дело воли и всемогущества Небесного Отца» и ее цель для человека и совершенно непостижима, и не досягаема. Булгаков обозначает эти точки зрения, соответственно, как хилиазм и эсхатологию. Хилиазм — пассивно–детерминистичен, строгая определенность всего происходящего в истории, «фатум закономерности» — для него наивысшая реальность; «история берется здесь в таких ракурсах, что в ней не остается места свободной человеческой личности». Такова идеология марксизма, таков мусульманский фатализм, такова была апокалиптика неканонических иудейских пророков. И с этим связана абстрактность хилиастических идеалов и откровений: речь идет всегда не о конкретных фактах, не об определенных эпохах, а о типах или схемах, о будущем вообще, — ибо все друг на друга похоже и повторяется. Эсхатология — существенно трансцендентна, она живет мыслью о другом мире и о предстоящем уходе из этого. И потому она лежит в совершенно отличной религиозно–метафизической плоскости — пути Промысла несоизмеримы человеческим путям, тамошнее не похоже на здешнее. Зло ощущается здесь, как реальная самоутверждающаяся сила, и мировой и исторический процессы — как метафизически реальная трагедия. Но разыгрывается она за пределами эмпирической истории. «Для христиан, — говорит В.Н. Эрн, близко подходящий в этом смысле к Булгакову, — будущее — не мирный культурный процесс постепенного нарастания всяких ценностей, а катастрофическая картина все растущих взрывов; наконец, последний взрыв, последнее напряжение — и тогда конец этому миру, начало Нового, Вечного, абсолютного Царствия Божия». И «будет некогда день, и погибнет в громах и молниях великого Страшного Суда старый мир, Ангелы вострубят, небеса совьются, как свиток, Время исчезнет, Смерть победится, и из пламени преображения возникнет новая земля под новыми небесами. Тогда этого мира уже больше не будет».
В такой перспективе совершенно ясно, что «собирать сокровища» нужно не на земле, где все тленно, а на небесах… И переводя это на язык обыденный, нужно сказать — ценность не в тех или иных формах эмпирического существования, а — в душе человеческой. Меняется способ оценки: на смену прежнему, хронологическому, когда достоинство исторического достижения однозначно определялось его расстоянием во времени от венчающей идеальной цели, приходит вневременный, — и приговор произносится в зависимости от того, какое содержание воплощено в данных формах. Этим личность окончательно изъемлется из–под владычества времени и рока. Во все времена и у всех народов оказываются возможными праведники. Каждая эпоха оценивается сама по себе, измеряется одним и тем же, не меняющимся в исторической перспективе мерилом — абсолютной, религиозно–нравственной нормой.
И все–таки время существует. Мы живем в истории. И хотя история не поддается безвредному рационализированию, не может быть «осмыслена» логически, без того чтобы не обессмыслиться этически, — все же какой–то «смысл» она имеет, если только миром правит Бог. Но этот смысл не может быть постижимым, не может сполна исчерпываться никакими человеческими определениями. Это поистине — тайна.
Так вопрос о смысле истории приводит к вопросу о вере. История имеет смысл и история непостижима, загадочна. Эта антиномия разрешается тогда, когда расчленяется смысл познаваемый от смысла веруемого.
V
В основе противоположения знания и веры лежит глубокая психологическая и этико–метафизическая противоположность — свободы и необходимости. Знание и вера рождаются из различных мироощущений, в разных плоскостях: как удачно выражается Н.А. Бердяев, если вера есть «вещей обличение невидимых», то знание следует назвать «обличением вещей видимых». «Знание — принудительно, вера — свободна»; «знание носит характер насильственный и безопасный, — пишет Бердяев, — в вере, в обличении невидимых вещей, в волевом избрании иных миров есть риск и опасность. В дерзновении веры человек как бы бросается в пропасть, рискует или сломать себе голову или все приобрести… Требование от веры гарантий, даваемых знанием, представляется похожим на желание пойти ва–банк в азартной игре, предварительно подсмотрев карту». Психологическую природу веры характеризует знаменитое тертуллиановское выражение «credo quia absurdum». «Нужно рискнуть, согласиться на абсурд, отречься от своего разума, все поставить на карту и броситься в пропасть…» — только этот подвиг самоотречения и самоотдачи переводит за «слишком человеческие» пределы. И раскрывается разумность мира, но не человеческая, а Высшая, Вечная, Божественная. «Я верю в Бога моего, — формулирует Бердяев религиозную установку сознания, — не потому, что доказано мне бытие Его, что я принужден к принятию Его, что гарантирован я залогами с небес, а потому, что я люблю Его»… Так знание и вера сводятся, соответственно, к покорности и дерзновению. И вместе с тем, лишь в вере постижение смысла связывается жизненно с познающей личностью, только вера есть событие, глубоко и широко врезывающееся в ее жизнь. А знание — скользит по поверхности. И мало того, односторонний интеллектуалистический идеал познания возводит эту поверхность в норму: он настаивает на внереальности, на «идеальности» познания, на том, что знание не есть событие, что в нем не происходит существенного касания с действительностью, с «мирами иными». В глубине чувствуется дух отчуждения, холодности, равнодушия, — тогда как истинная вера всегда пламенна, всегда — любовь.
С наибольшею яркостью и полнотою этот цикл мыслей раскрывается в религиозно–философской концепции священника о. П.А. Флоренского, книга которого «Столп и утверждение Истины».
«Опыт православной Теодицеи» является, без сомнения, самым значительным фактом в русском религиозном движении последнего времени. Здесь совмещается необычный захват философской и богословской эрудиции и сила и гибкость диалектики с высокой напряженностью интуитивных прозрений и глубиною непосредственного религиозного чувства. «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов — так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги», — начинает о. Флоренский свое вводное обращение к читателю; и вся его книга написана именно на основе такого «живого религиозного опыта», опирается на «опытные данные» и, при том, на данные опыта церковного.
Основная идея Флоренского — это противоположность познания рассудочного и познания духовного, которую он раскрывает прежде всего применительно к словам Христа: «утаил cue от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25). «Истинная человеческая мудрость, истинная человеческая разумность недостаточна по тому самому, что она человеческая. И, в то же время, умственное «младенчество», отсутствие умственного богатства, мешающего войти в Царство Небесное, может оказаться условием стяжания духовного ведения. Но полнота всего — в Иисусе Христе, и потому ведение можно получить лишь чрез Него и от Него». Оттого–то «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11:11).
Для человеческого разума познание истины, как обретение непререкаемой достоверности, решительно недоступно, и единственный достижимый им результат, это — скептическое epoche, воздержание от всякого утверждения; психологически это вовсе не ataraxia, не «глубокое спокойствие отказавшегося от каких бы то ни было высказываний духа», а — невыносимое духовное борение среди неизвестностей, «какой–то нечленораздельный философский вопль)), «поистине огненное терзание». Выход только в вере; для этого надо отказаться от догматической предпосылки, будто «из недостоверного не может получиться достоверного», и — дерзать. «Кто не хочет погубить душу свою, те пусть же пребывают в геенне, в неугасимом огне epoche, «где червь их не умирает, и огонь их не угасает» (Мр. 9:44, 46, 48).» Так поступали ариане, соблазнявшиеся рассудочною непонятностью никейского символа, логическим бессмыслием omoousios; слова упрека, брошенные Евномием братьям–каппадокийцам, «вы дерзаете учить и мыслить невозможное» — есть типическое выражение рассудочного соблазна пред откровенной Истиной, выражение худшего из видов безбожия, так называемой «разумной» веры. Здесь непризнание «вещей невидимых» лицемерно маскируется, — признается бытие Бога, но отвергается самое существо Его — «невидимость». Верить надо «вопреки стонам рассудка», мало того, именно потому, что рассудок к данному утверждению веры враждебен. — «Обливаясь кровью, буду говорить в напряжении: Credo quia absurdum est. Ничего, ничего не хочу своего, — не хочу даже рассудка. Ты один, — Ты только. Die animae meae: Salus ta Ego sum! Впрочем, не моя. а Твоя воля да будет…» «Надобно стать на вполне новую землю, о которой у нас нет и помину. Мы даже не знаем, есть ли в действительности эта новая земля, — не знаем, ибо блага духовные, которых мы ищем, находятся вне области плотского познания: они — то, — «чего око не видело и ухо не слышало, и что на сердце человеку не восходило (I. Кор. 2:9; ср. Ис. 64:4).» «Чтобы придти к Истине, надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя; а это для нас решительно невозможно», но «Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых» [слова Паскаля] приходит к нам, приходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. «Человекам это невозможно, Богу же все возможно (Мф. 19:26 ср. Мр. 10:27).» «Не интуиция и не дискурсия дают ведение Истины. Оно возникает в душе от свободного откровения самой Триипостасной Истины, от благодатного посещения души Духом Святым». А путь к стяжанию Духа — путь умного делания, внутреннего подвига духовного. Христианская философия есть «философия личности и творческого подвига».
По содержанию озарения Духа религиозные откровения решительно невместимы в логические рамки, для мысли — они антиномичны, внутренне противоречивы. И в этом факте противоречий, пронизывающих всю область религиозной догматики, обнаруживается не ее, а наша слабость, наш грех. И только потому, что догматы противоречивы, в них можно (фактически возможно) верить — будь они понятны, «верить тут (было бы) нечему, очищать себя и творить подвиг — не для чего»: все было бы легко и просто общедоступно. И Флоренский показывает действительную наличность «догматических антиномий», между прочим, у апостола Павла. Эти видимые непросвещенному взгляду противоречия претворяются в цельность для духоносного взора. — Самый яркий пример являет собою эсхатологический догмат: если исходить из понятия о Боге как Любви, то «невозможна невозможность всеобщего спасения»; если исходить из идеи твари как свободного создания Божия, то нельзя «допустить, чтобы, могло быть спасение без ответной любви к Богу», и при этом, любви свободной, не принужденной Богом, т. е. «возможна невозможность всеобщего спасения». Идеи прощения и воздаяния неизбежно предполагают друг друга и в то же время друг друга исключают. Одинаково несомненно и то, что будут вечные муки, — ибо ведение Истины и общение с нею может быть только вольным, — и то, что будет всеобщее восстановление, apokatastasis, — ибо Бог любовь. И лишь вере открываются ta eschata.
Но вера не есть преходящее, мимолетное состояние человеческой души, а постоянный определенный ее уклад, определенный tonos ее, — целостность, или целомудрие духа. Достижима эта ступень духовного строя лишь в Церкви. Но Церковь не есть нечто, поддающееся формально–логическому определению. «Нет понятия церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он». «Самая эта неопределимость церковности, ее неуловимость для логических терминов, ее несказанность не доказывает ли, что церковность — это жизнь, особая новая жизнь, данная человекам…» И можно ли Тело Христово, «полноту наполняющего все во всем» (Еф. 1:23) уложить «в узкий гроб логического определения?» В этом смысле познание истины и есть истинная жизнь.
Познать истину в подлинном и глубочайшем смысле, это значит не скопировать или пассивно отобразить в своем сознании что–то, стоящее вне познающего и ему в существе своем чуждое и безразличное. Познать истину значит — стать истинным, т. е. осуществить свое идеальное, предвечное Божественное назначение или, как выражается В.Ф. Эрн, найти и выявить свой «софийный лик», найти свое подлинное «место во вселенной и Боге». «Истина», по его выражению, «может быть доступна человеку только потому, что в человеке есть место Истине», т. е. он есть образ Божий, и ему доступен бесконечный и постоянный рост в осуществлении вечной идеи своего существа. Единственный путь истинного ведения это путь христианского подвижничества. Познать истину может лишь тот, кто раскроет в себе «внутреннего человека», кто станет тем, чем ему предназначено быть таинственным изволением Божиим и чем он был бы, если бы не было грехопадения.
VI
Таковы предельные достижения русской религиозно–философской мысли.
Начав замыслом всеобъемлющего религиозного синтеза, приятия и освещения всей жизни в ее теперешнем, эмпирически–данном виде, она кончает полным отречением от мира и всего, «еже в нем», тем более полным, что оно совершается не во имя отрицательного нравственного значения «мира», а во имя его полной бесценности. Борьба со злом переносится в новую плоскость: религиозно воспринимаемое зло отлично от того, что признается злом в пределах «естественной» жизни — мы видели, что знание, мудрость есть зло пред судом веры. И в глубинах религиозного сознания совершается духовный нравственный подвиг: отречение от своего разума, от «понимания» — его первый шаг; откровение — его содержание.
В исходном пункте — ощущение божественного элемента в человеческом разуме; в заключительном прозрении — исповедание тщетности и суетности человеческой мудрости. «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которой никто из властей века сего не познал… А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божий» (I. Кор. 2:7, 8, 10).
Мы бесконечно далеки от того, чтобы приписывать значение безусловной, канонической достоверности результатам и достижениям русского религиозного искания. Но необходимо признать принципиальную правильность вновь избранного пути. Его сила не в самоутверждении логического познания, а в смирении самоотречения пред тайною Божией и в жажде подвига. И не рискуя ошибиться, можно сказать, что один, по крайней мере, совершенно не подлежащий сомнению урок вынесла из этого процесса исканий и борений православная богословская мысль: за образец и источник вдохновения христианское умозрение должно брать не те богодухновенные начальные слова Благовестия Евангелиста–Богослова, которыми вдохновлялась святоотеческая мысль первохристианской эпохи, а, так сказать, более элементарные, ближе подходящие к ограниченным силам падшего создания слова, которые писал коринфской церкви Апостол Языков. На вершинах Богомудрия ощущается и осязается Логос, раскрывается Премудрость Божия. Но начинать сразу с таких высот и непосильно, и небезопасно. В начале должно стоять покаянное сознание немощи своего разумения, «трепет тайны».
Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» (Ис. 29:14)… потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков»(Кор. 1:19,25).
Печатается по первой публикации на русском языке:
«Младорус», София, 1922, № 1, с. 50–62.
«ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СТРАДАНИЕ»
Очевидно, в короткой заметке невозможно адекватно выразить все сомнения и возражения, которые возникли у нас при первом же беглом просмотре этой книги. Внимательное рассмотрение ее только усиливает первоначальное недовольство. Перед нами очень личная книга. Для Православия она никак не типична. Это в каком–то смысле «голос с Востока» — однако то, что он говорит, нельзя назвать ни «Восточным», ни «Православным».
Автор вырос и воспитан в некоей определенной традиции, и его отношение к «Экуменической Реальности» ярко окрашено особыми убеждениями и предпочтениями. Большой вопрос, — насколько сочетаются эти убеждения с основными положениями Православной Веры. Мало того, можно усомниться, сочетается ли концепция «экуменизма», предлагаемая автором, с главными принципами исторического экуменического движения. Кажется, автора не слишком интересуют ни «Вера», ни «Устройство». Он предпочитает перешагнуть через догматы, каноны и обряды. «Экуменизм», по словам автора, в сущности, понятие мистическое. Он не связан со «внешними событиями» и не заинтересован в исторических результатах. «Единство, которое он ставит своей целью, есть единство в любви, нереализуемое ни в какой исторической форме, но лишь обещанное нам в жизни будущего века» (стр. 44). В этом смысле Экуменизм оказывается «предчувствием Царства» (стр. 222). Экуменизм по существу своему парадоксален и паралогичен. «Экуменизм возможен только против всякой логики, или, точнее, независимо от логики» (стр. 38). Исторические надежды обманчивы и приносят только разочарование. Даже богословская дискуссия не может принести плода. Упражнения в «сравнительном богословии» только углубляют раскол. «Такую работу едва ли можно назвать экуменической» (стр. 210). Исцеление раскола в истории невозможно, и стремиться к нему не следует.
Автор не верит в возможность какого бы то ни было экуменического прогресса на уровне истории. Он призывает читателей к «эсхатологическому видению»; призывов же к трезвым и ответственным действиям в книге не видно. Можно усомниться: не есть ли это «видение» всего лишь мечта? «Эсхатологическая интерпретация, с другой стороны, независима от любых исторических неудач. Перспектива «вечного разделения» ее не пугает; вся история Церкви есть история разделений, и ее нельзя рассматривать иначе, чем как предисловие к ненаписанной книге единства; историческая трагедия Христианства кроется в неустранимой человеческой греховности — и эта греховная реальность станет объектом вечного преображения и будущей парусии» (стр. 45). Автор, очевидно, не замечает того факта, что «видимое единство» и особенно «единство в вере» являются, согласно новозаветному учению, одним из признаков Церкви, и что Церкви назначено Христом быть «столпом и утверждением истины». Это вопрос не «неизбежного» прогресса, но, скорее, долга и задачи.
Интересно сравнить утверждения автора с тем, что недавно было высказано по поводу Экуменизма другим автором, чья книга вышла почти одновременно с той, которую мы сейчас обсуждаем. Это эссе Вильяма Николса «Экуменизм и Католичество», получившее премию Норриса (SCM Press Ltd., Лондон, 1952). Сравнение возможно, так как оба автора отталкиваются от одинакового «опыта» и основываются на одном и том же фундаменте (WSCF). Однако мистер Николс, очевидно, отличается более глубокой богословской подготовкой и лучшим пониманием Церкви. Так, он говорит: «Разделение между христианами не является необходимым следствием их исторического существования. После Христа грех и история уже не равны друг другу. Грех — факт христианской истории, возможно, постоянный факт, но никак не «неизбежный». экуменическое движение напоминает нам, что такое положение дел крайне ненормально и нетерпимо. Его движение к единству в истории есть дело покаяния» (Николс стр. 54–55).
Именно этот дух покаяния начисто отсутствует в рассматриваемой нами книге. «Разделенное Христианство» рассматривается как неизбежный и неоспоримый исторический факт. Вообще говоря, автор защищает весьма странный род «Экуменизма». Движущей силой экуменических стремлений ранее был отчаянный поиск «Воссоединения Христиан», поиск «общего разума». Возможно ли достигнуть этой цели в истории, и годятся ли для этого средства и методы, принятые экуменическим движением — другой вопрос. В любом случае, экуменическое движение стремилось прежде всего к Единству Церкви. И именно это стремление автор отвергает. Он защищает «Единство без Единства», то есть Единство в разъединении, в несогласии. На историческом уровне никакое согласие невозможно, и все попытки добиться согласия, если верить автору, тщетны и даже опасны. Автор весьма красноречив в своих обличениях «прозелитизма», который он отождествляет с «обращением». Каждый должен оставаться в той конфессии, где ему выпало родиться или прийти к вере. Согласно автору, «необходимым постулатом экуменической реальности» является не только воздержание от «прозелитизма» (в обычном, уничижительном значении слова), но и от всяких богословских споров, поскольку последние будто бы являются замаскированной формой духовного давления и насилия. «На практике это означает, что, видя моего брата в заблуждении, я не пытаюсь объяснить ему его ошибку или вывести его на путь истины» (стр. 113). Споры о вере — «не больше чем шахматная игра» (стр. 110). И все это называется «высшей степенью экуменической любви». Что это: яркий образец «окамененного нечувствия», или просто полное отсутствие любви как к «заблуждающемуся брату», так и к Кафолической Истине?
Автор заверяет, что его взгляды — «не компромисс и не безразличие», но нормальный modus vivendi, «т. е. сознательные отношения свободы и терпимости между всеми Христианами, необходимые для экуменической жизни» (стр. 118). Как ни удивительно, именно на таком фундаменте он собирается строить «экуменическое единство». Рамки этого «единства» он распространяет до бесконечности. Он вводит понятие «Либеральных Христиан» и стремится включить в «экуменическое сообщество» всех, кто «хочет быть и называться христианами», невзирая на их реальные взгляды на Христа. Им следует задавать только один вопрос: «Исповедуешь ли ты себя Христианином, хочешь ли носить имя Христа?» И далее: «Хочешь ли пребывать в сообществе с другими Христианами, чувствуешь ли в себе какую–то связь с другими «овцами иного стада», но все же следующими за Христом?» Утвердительный ответ на эти, довольно–таки пустые вопросы, по мнению автора, достаточен «для принятия в экуменическое сообщество» (стр. 176 и далее). Автор недоволен ограничением, накладываемым на членство в Экуменических «организациях»: признавать Христа своим Богом и Спасителем. Такая догматическая «основа» для организации необходима; но для автора это означает лишь то, что никакой организации рядом с «экуменической реальностью» делать нечего. «Мы не имеем права исключать из благодати Христовой тех, кто любит Его — пусть их любовь вызвана лишь привлекательностью образа или «научным» интересом к Нему» (стр. 71). «Хотя многие Христиане и могут заблуждаться относительно Христа и расходиться во мнениях между собой, однако само Его имя прочнее стали соединяет их с теми Антиохийскими учениками, которые впервые назвали себя Христианами». Он отбрасывает то естественное возражение, что одно и то же название может употребляться в разных смыслах, и восклицает патетически: «Как будто человеческая слабость и глупость может аннулировать или ослабить силу, заключенную в Имени Бога! Как будто Имя не способно жить и действовать само по себе, вне зависимости от его правильного или неправильного истолкования!» (стр. 136 и пр. 2). С другой стороны, «название «Христианин» указывает на главное в человеке: направление воли, признание высших духовных ценностей, предмет любви и почитания» (стр. 179). В этих утверждениях чувствуется какая–то путаница… «Направление воли» неотделимо от того, кого или что именно человек избирает «предметом любви и почитания», следовательно, если концепции христианства различаются и противоречат друг другу, и направление воль будет разное. Очевидно, искренняя и чистосердечная вера во все, что исповедуется в Никейском Символе — не то же самое, что «научный интерес» к Галилейскому проповеднику.
Может ли «направление воли» быть одинаково в том и другом случае? Включит ли автор в свое «экуменическое сообщество» людей, подобных пастору Кальтоффу, который хотел продолжать служение в Христианской общине, отрицая земную жизнь Иисуса? Кальтофф был готов называть себя в каком–то смысле «Христианином». И можно ли исключать из проектируемого «экуменического сообщества» тех продвинутых иудеев, которые не только испытывают «научный интерес» к Христу, но и готовы признать его одним из величайших моралистов еврейской нации?
Однако автор идет дальше, чем требует простая «терпимость». Он предполагает, что «Экуменическое откровение» затемняет собою все, открытое в ходе истории. Он полагает, что, поскольку различные концепции относятся к «одной и той же» реальности, все они являются частями откровения Христова. В них не просто содержатся зерна истины; нет, Сам Христос открывает Себя в хаосе и смешении человеческих ошибок. «Разделенное Христианство», при всей своей исторической нетерпимости и непримиримости, имеют некое аутентичное «Откровение», или даже новую «Христофанию». «Это действительно откровение: в нем наши духовные очи поистине открываются для видения внутреннего невидимого образа Христа в Христианах» (стр. 207). Это новое «Экуменическое откровение» закрывает собою все, открытое в историческом измерении, на «феноменальном плане существования Церкви», как выражается автор (стр. 201), то есть существующую Церковь с ее догматами, канонами и обрядами. Все становится истинным «образом» Христа. Человеку остается лишь принять новое видение, «независимое от логики». Можно предположить: и независимое от истины. Можно спросить, вправду ли св. Афанасий и Эрнест Ренан говорили об «одном и том же Христе»? Автор серьезно утверждает, что Пантократор Византийской иконы и «Галилеянин» Уде — «образы» одного и того же Христа.
Выдающийся русский философ прошлого столетия пишет в своих воспоминаниях, что он потерял веру в детстве и однажды по какому–то случаю признался своей матери, что «уважает Иисуса». Мать, незнакомая с новыми «экуменическими постулатами», разрыдалась. Для нее это звучало богохульством. В новой «экуменической» интерпретации это — еще один законный способ выражения Христианского ученичества. Однако похоже, что бедная старушка лучше понимала суть Христианства. Трудно понять, как может человек быть «Христианином», отвергая все догматы, каноны и установления Господни как «человеческие измышления» и «суеверия». И «разными истолкованиями» тут не оправдаешься.
Разумеется, члены «экуменического сообщества», проповедуемого автором, должны мыслить «независимо от логики» и смотреть на мир, не отделяя правды от лжи. Однако многие читатели книги не смогут «освятить свой рассудок» и отвергнуть свою веру. Само предложение sacrificio del inteletto [заклания ума], возможно, покажется им актом давления и насилия. Их протест, скорее всего, никогда не достигнет ушей автора; он всегда сможет укрыться за стенами «парадоксализма» и обвинить своих оппонентов в «конфессиональной зашоренности», духовной близорукости или даже слепоте. Однако остается вопрос: как можно построить «экуменическое сообщество» на зыбучем песке человеческих мнений? Автор постоянно повторяет, что принадлежность к этому «сообществу» не зависит от самых резких разногласий по вопросам веры с членами того же единого открытого «Общества». И это «Общество» проникает в Тайны Божии глубже, чем все возможные Церкви или деноминации, запертые в узких рамках «догматов, канонов и обрядов» (стр. 211). «Церкви» здесь во множественном числе, ибо, согласно автору, «единой Христианской Церкви» просто «не существует» (стр. 30).
Он готов даже отдать должное отличительным достоинствам и достижениям «своей собственной Церкви» — единой из многих существующих. Все «конфессии» в конечном счете отражают одну «тайну». Однако из своих молитв о Христианском единстве он исключает все «конфессиональные» черты. Эта молитва будет неискренней, если все молящиеся не «откажутся полностью от своих конфессиональных идеалов». Единство не должно знать границ. «Но это молитвенное освобождение от всех конкретных условий, от всякой церковной мишуры означает восхождение к вершинам духа, доступным лишь немногим» (стр. 156). Эта молитва должна быть «апофатической»; возможно, это вовсе и не молитва о Единстве Церкви, ибо невозможно представить себе «церковь» без конкретных черт. Настоящий камень преткновения создает для автора фраза: «Да будет едино стадо и един пастырь». При произнесении этой молитвенной фразы очевидно возникает некая «двойственность», ибо Римо–Католики, Православные и Протестанты понимают ее по–разному.
Совершенно неясно, почему здесь автора так смущает эта «двойственность», которую он во всех остальных случаях принимает совершенно спокойно. Почему его не расстраивает тот факт, что «Имя Иисуса» для Православного и «Либерального Христианина», очевидно, имеет разные значения (и это еще мягко сказано). В любом случае неясно, что же он понимает под словами из Писания: «едино стадо»? Очевидно, это относится к истории, а не к «вершинам духа, открытым лишь для немногих». Автор озабочен очень частной и мелкой проблемой, которую ошибочно принимает за главную проблему Экуменизма, а именно, проблемой экуменической встречи. Верно, что экуменическое движение создало «новую атмосферу» в меж–христианских отношениях (стр. 20). Люди различной конфессиональной принадлежности и различных воззрений собрались вместе и столкнулись друг с другом лицом к лицу. Неизбежно встает следующая практическая проблема: что означает это собрание несогласных друг с другом Христиан, что они должны думать друг о друге и как друг с другом обращаться? Наш автор не надеется на примирение различных мнений и вероучительных систем. В то же время на него производит впечатление дружелюбность этих встреч. Экклезиологические барьеры оказались не непреодолимы. На свете множество различных систем, и ни одна из них не должна смотреть на себя как на единственно истинную (стр. 24 и далее). Этот аргумент весьма неубедителен.
Автор предпочитает бороться с проблемой разъединения иным путем. «Я, естественно, считаю свою Церковь истинной — поэтому к ней и принадлежу; и, будучи истинной Церковью, она уникальна. Но это не дает мне права осуждать другие церкви» (стр. 91). Однако вопрос не в том, что для меня «естественно», но в том, где правда. Автор напрасно усложняет проблему ложными предрассудками. В его интерпретации «вера», т. е. «первичная интуиция», «радикально отличается от процессов, которые мы называем знанием» (стр. 126). Соответственно, «знаки Церкви», notae Ecclesiae, «не могут быть предметом веры» (стр. 129). Иными словами, идентифицировать Церковь невозможно.
Как бы там ни было, в обширной главе «Проблемы Экуменизма» наш автор сознательно выбирает именно notae Ecclesiae как заголовок, под которым описывает и анализирует новую «Экуменическую Реальность» (стр. 119–202). И наконец он приходит к выводу, что истинный ключ к экуменической проблеме — «идея единого Христианского мира». Это паралогическая идея, «не входящая ни в какое экклесиологическое учение и недоказуемая логически». Христианский мир, очевидно, идентичен с предполагаемым «экуменическим сообществом», или же новым и открытым «Обществом». В любом случае, то, что невозможно выразить в категориях Церкви («единая Церковь» не существует), можно выразить в категориях «Христианского мира» (который един). «Христианский мир» заменяет «Церковь». «Но поскольку Христос знает, кто хочет быть Его учеником, и поскольку ученики, даже не соглашаясь друг с другом во всем прочем, едины в желании быть верными Учителю, tota Christianitas реальна» (стр. 224). Следует помнить, что желание «быть верным учителю» может выражаться, по желанию, любым способом: от исповедания Христа «Богом и Спасителем» до понимания Его как сентиментального Галилейского проповедника или неудачливого апокалиптика. Можно с полным правом усомниться в реальности единого Христианского мира, построенного на таких основаниях. Много ли останется от истинного Исторического Христианства при такой удивительной интерпретации?
Специальная глава посвящена «предпосылкам Экуменизма» (понимаемого в смысле автора). Они делятся на четыре группы. Во–первых, «исторические предпосылки». Основное напряжение лежит не между «Католиками» и «Протестантами», но между «Востоком» и «Западом». Другими словами, основная причина разделения — не в различной вере или учении, а в различной культурной психологии. Здесь кроется опасность логической ошибки. Такая «предпосылка» попросту уничтожает любую возможность Экуменизма. Христианское Единство просто невозможно, поскольку Восток и Запад не могут ужиться вместе. Исторический экскурс автора производит жалкое впечатление (стр. 55 и далее) и представляет собой не что иное, как набор банальностей, к тому же неверных. Разрыв единого «вселенского культурного дискурса», вопреки рассуждениям автора, произошел не в третьем столетии, а только в одиннадцатом, если даже не в тринадцатом. Св. Иларий, Св. Амвросий и Св. Иероним в своих интеллектуальных воззрениях были не меньшими «эллинами», чем их «греческие» современники, и платонизм, очевидно, сыграл в духовном формировании Св. Августина большую роль, чем «Римское Право» — так же как ключом к системе аквината является Аристотель, а не «Пандекты», и даже у Ансельма заметен греческий фундамент. Не стоит забывать, что «Римское Право» было кодифицировано в Византии только при Юстиниане, и что, с другой стороны, Рим до времен Карла Великого, если не позже, оставался византийским по духу.
Антитеза «Востока и Запада» принадлежит скорее к полемической и публицистической фразеологии, чем к трезвой исторической мысли. По крайней мере тысячелетие, несмотря на споры и расколы, существовал единый мир, и напряжение между «Востоком» и «Западом» было не сильнее, чем национальные конфликты на самом Востоке. В любом случае, Св. Августин ближе к Оригену, чем, например, Феодор Мопсуэстийский к Св. Кириллу Александрийскому. Здесь, очевидно, противоречие не между «греками» и «латинянами», но между богословскими концепциями, которые никак невозможно свести к культурным или психологическим факторам. Опять–таки, Реформация, несомненно, была большим потрясением, даже психологически, чем разрыв между Католическим Западом и Православным Востоком. «Единство Запада» автором преувеличено до гротеска. «Восток может представлять себе Запад только как целое» (стр. 74). Может быть: но только когда «Восток» теряет истинную богословскую перспективу и принимает себя за «Греко–Славянский тип» Христианства. Богословского анализа не заменишь «исторической морфологией».
Автор полагает, что единственную законную точку отсчета для «экуменического диалога» следует искать «в глубинах мистического опыта, в молитве и прямом знании Бога» (стр. 19). Но разве истинное Христианское обращение не берет начало и не ищет источник в историческом Откровении, засвидетельствованном в Писании и подтвержденном согласием «Вселенской Церкви»? Во–вторых, упоминается множество «логических предпосылок», наиблее важная из которых — «Конфессионализм». Почему это «логическая предпосылка» — остается неясно. Смысл же самого понятия очень прост. Разделения должны быть приняты как они есть, и ни одна деноминация не должна «отвергаться». Далее идут «психологические предпосылки». «Экуменизм» определяется как «любовь к еретикам» (стр. 99 и далее). Несомненно, «еретики» как личности не могут исключаться из вселенной Христианской любви, в которой находится место и для «любви к врагам». В этом смысле для сознательного Христианина естественно любить «заблуждающегося Брата», как и Распятый Господь молился за тех, кто Его распинал. Но автор имеет в виду нечто иное: он хочет любить «еретиков» за саму их ересь, доказывая, что даже ересь не отлучает человека от Христа, если он хоть как–то призывает Его имя. «Святость» в ереси возможна не менее, чем в Церкви: «неправославная, отделенная от Церкви, но, благодатию Божией, истинная святость» (стр. 189). Можно прийти к выводу, что Церковь для спасения не нужна. Наконец, существуют этнические предпосылки, т. е. концепция непозволительности миссионерства.
***
Многие читатели отложат эту книгу с ужасом и отвращением. Эта книга — абсолютно бесцельное и бесполезное чтение. Как введение в экуменизм, она толкает своих читателей на ложный путь. Это самая анти–экуменическая книга из всех, опубликованных в последнее время; для экуменизма она вреднее и разрушительней любых нападок извне. Она отрицает саму возможность экуменической деятельности. Она разрушительна для самих предпосылок ее бытия.
Экуменическое движение, как бы велики и значительны не были его недостатки, вдохновлялось изначально благородным порывом к благородной цели. Очевидно, что путь до сих пор не найден, а сама цель понимается разными участниками по–разному и зачастую неправильно. Но теперь раздается заявление, что никакой цели нет и быть не должно!
Последние годы ознаменовались отрадным углублением понимания сущности Церкви. Обсуждаемая книга не придает значения этому богословскому и духовному достижению. Экклесиологическая проблема экуменизма автора не интересует. Об изучении экклесиологии в экуменическом движении он молчит. В этом смысле его книга реакционна. Она тащит нас назад, в туман романтического пиетизма.
Это самая несвоевременная книга в наш век, когда мы живем, как верно сказано, «среди неясностей и на краю бездны». Подавляющее большинство Христиан чувствуют, что единственная надежда для мира лежит в возвращении «единомыслия». Мы живем в век всеобщего распада и хаоса.
На Церковь, несомненно, возложена особая ответственность в нынешнем кризисе духа. В новой же интерпретации «экуменизма» историческая задача и призвание Церкви опасно затемнены. По этой книге, историческая трагедия разделения попросту бессмысленна. Она получает «мистическую», мечтательную интерпретацию. «Экуменическое страдание», о котором говорит автор (стр. 220) — не истинное страдание. Это романтическое страдание, которым любуются и наслаждаются. «Боль — признак жизни», — говорят нам. Верно: но прежде всего это знак болезни, нуждающейся в исцелении. И на все экуменические мечтания автора может быть только один трезвый и церковный ответ: категорическое «Нет».
ВЕК ПАТРИСТИКИ И ЭСХАТОЛОГИЯ
I
Обычно упоминают четыре «последние вещи»: Смерть, Суд, Рай и Ад. Это «последние вещи человека». А есть и четыре «последние вещи» человечества: Судный День, Воскресение плоти, Страшный Суд и Конец Мира[92]. В списке, тем не менее, отсутствует основной пункт — «Последний Адам» и Его Тело, то есть Христос и Церковь. Ведь эсхатология в действительности не просто одна из частей христианского богословия, но его фундамент и основание, его вдохновляющий и направляющий принцип и, скажем так, ориентир всей христианской мысли. Христианство по природе своей эсхатологично. Церковь — «эсхатологическое сообщество», ибо она — Новый Завет, окончательный и, стало быть, «последний»[93]. Сам Христос есть последний Адам, потому что Он — «Новый Человек» (Игнатий Антиохийский, Ефесянам, 20, 1). Христианству присущ эсхатологический взгляд на мир. «Древнее прошло. Вот, теперь все новое». Именно «в последние дни сии» Бог отцов наших совершил заключительное деяние, совершил его раз и навсегда, единожды и навеки. «Конец» наступил, божественный план спасения человека осуществился (Ин 19:28,30: τετέλεσται [совершился]). Однако это заключительное деяние явилось лишь новым началом. Нечто более великое еще должно прийти. «Последний Адам» возвращается. «И слышавший да скажет: при–иди!» Царство основано, но не вошло пока в полную силу и славу. Или, лучше сказать, Царство еще не пришло, но Царь — уже здесь. Церковь же все еще in via [в пути], а христиане — странники и скитальцы в «мире сем». Подобное напряжение между «бывшим» и «грядущим» присутствовало в христианстве с самого начала. Всегда существовали две основные вехи: Евангелие и Второе Пришествие. История Спасения еще не завершена, но Церкви уже дано бесценное обетование. Ведь именно «обетованием Отца» назван Святой Дух, сошедший на Церковь и пребывающий в ней до скончания века. Царство Духа уже пришло. Таким образом, Церковь живет как бы в двух плоскостях. Бл. Августин описывает эту неизбежную двойственность христианского бытия в замечательном пассаже его Комментария на Евангелие от Иоанна, толкующем XXI главу: «Церкви известны две жизни, проповеданные и переданные ей с небес. Одна из них — жизнь верой, вторая — лицезрением. Одна — во временном пристанище на чужбине, вторая — в вечности (небесных) чертогов. Одна — в пути, вторая — на родине. Одна — в неустанной работе, вторая — в дарованном созерцании… В первой заботятся о завоеваниях, во второй — успокаиваются, победив… Первая тянется до конца этого мира, а затем прерывается. Вторая несовершенна, пока длится сей век, зато не знает конца в веке будущем» (In Johan. tr., 124.5). Тем не менее, хотя это — двойная жизнь, duas vitas, но живет ею одна и та же Церковь. В Евангелии подобная двойственность представлена именами Петра и Иоанна.
II
Христианство недавно охарактеризовали как «опыт новизны», Neuheitserlebnis. Это абсолютная, принципиальная новизна. Это новизна Таинства Воплощения. Воплощение понималось Отцами не как метафизическое чудо, но, в первую очередь, как освобождение из онтологической ловушки, в которой находилось обреченное человечество, то есть как искупительное деяние Бога. Именно «нас ради человек и нашего ради спасения» Сын Божий сошел с небес и стал человеком.[94] Искупление было совершено раз и навсегда. Единство с Богом, «причастие» Ему было восстановлено, и люди получили возможность, веруя, становиться сынами Божиими. Иисус Христос — единственный Посредник и Ходатай, и Его Крестная жертва, in ara crucis, была «полной, совершенной и достаточной жертвой, даром и приношением». Положение человечества и статус человека коренным образом изменились. Человек вновь соделан сыном Божиим во Христе Иисусе, Единородном Сыне Божием, воплотившемся, распятом и воскресшем. Церковное учение о Воплощении, разрабатывавшееся в святоотеческой традиции от св. Иринея до преп. Иоанна Дамаскина, выделяет, в первую очередь, этот аспект уникальности и непреложности произошедшего. Сын Божий «вочеловечился» навсегда. Сын Божий, «Единый от Святыя Троицы», воплотившись, стал человеком и пребудет им вечно. Ипостасное единство не разрушится во веки веков. И торжество Креста — вечная победа. Кроме того, воскресение Господа начинает всеобщее воскресение. Но именно по этим причинам «история Спасения» должна продолжаться и продолжается. Учение о Христе обретает полноту и завершенность в учении о Церкви, то есть о «всем Христе» — totus Christus, caput et corpus [весь Христос, глава и тело], по знаменитому выражению бл. Августина. А этим тотчас включается историческое время. Церковь — растущий организм и им останется, пока не придет в «совершенный возраст», είς άνδρα τέλειον [Β мужа совершенного — Еф 4:13]. В Церкви постоянно «присутствие» Воплотившегося, и именно сознание Его присутствия заставляло Церковь смотреть в будущее. В Церкви Бог через Господа Иисуса Христа продолжал осуществлять Свой искупительный план. Церковь, помимо того, являлась миссионерским сообществом, посланным в мир возвещать и распространять Царство, а от «всей твари» ожидали присоединения и соучастия в этом окончательном «обновлении», уже начатом Воплотившимся Господом, уже начатом в Нем. История нашла свое богословское оправдание как раз в миссионерской деятельности Церкви. С другой стороны, историю, то есть «историю Спасения», нельзя было считать бесконечной. Верные ожидали «Конца веков» и «Исполнения». Ясные предсказания конца, содержащиеся в Писании, вполне понимались первохристианами. Цель, конечно, — «по ту сторону истории», однако история внутренне организуется и упорядочивается именно этой надысторической трансцендентной целью, этим бдительным ожиданием грядущего Господа. Только заключительное и окончательное «свершение», окончательная ре–интеграция, или «ре–капитуляция» объяснит потоки событий и «случайностей», объяснит само течение времени. Сильное чувство братства возбуждало в первохристианах ожидание окончательного и полного соединения всех через Искупление — в грядущем Царстве. Это ясно выразил уже Ориген: «Отпе ergo corpus Ecclesiae redimendum sperat Apostolus, nec putat posse quae perfecta sunt dari singulis quibusdam membris, nisi Universum corpus in unum fuerit congregatum» (In Rom., VII, 5). История продолжается потому, что еще не завершено формирование Тела. «Полнота Тела» предполагает ис–полнение истории, включая Старый Завет, то есть «конец». Или, как сказал Иоанн Златоуст, «тогда только исполнится глава, тогда устроится совершенное тело, когда мы все вместе будем соединены и скреплены самым прочным образом» (In Ephes. Нот. III, ad 1, 23). Erit unus Christus, amans seipsum (бл. Августин, In Ps. 26, sermo 2, n. 23). Иной причиной радостного ожидания конца была твердая вера в Воскресение мертвых. Оно, в некотором смысле, и должно было стать «ис–полнением» истории. Христос воистину воскрес и этим извлек смертное жало. In Christo власть смерти была сокрушена, а Жизнь Вечная — открыта и явлена. Тем не менее «последний враг» все еще активен, хотя смерть больше уже не «царствует» в мире. Победа Христа Воскресшего еще не проявилась до конца. Лишь Всеобщее Воскресение в полной мере обнаружит триумф Христова Искупления. Expectandum nobis etiam et corporis ver est [Нам также нужно дожидаться весны нашего тела] (Минуций Феликс, Октавий, 34). Это было общепризнанным убеждением века патристики — от Афинагора и св. Иринея вплоть до преп. Иоанна Дамаскина. Особенно подчеркивалось оно св. Афанасием и св. Григорием Нисским. Христос должен был умереть, чтобы Своей смертью упразднить смерть и тление. Именно смерть была тем «последним врагом», которого Он должен был уничтожить для избавления человека от рабства тления. Таково одно из основных положений св. Афанасия в его работе О Воплощении. «Для принятия смерти имел Он тело» (De Incarnatione, 21). То же самое говорит и св. Григорий Нисский: «Тщательно вникнувший в таинство, еще, может быть, сообразнее скажет, что смерть (Его) последовала не вследствие рождения, а напротив, рождение воспринято было вследствие смерти» (Пространное огласительное слово, 32). Или, как верно заметил Тертуллиан, Christus mori missus, nasci quoque necessario habuit, ut mori posset [Христос, посланный для смерти, должен был обязательно родиться — чтобы мог Он умереть] (De carne Christi, 6). Телесное воскресение человека — одна из главных целей Искупления. Грядущее Всеобщее Воскресение не будет простым «восстановлением» в предшествующем состоянии — это означало бы, скорее, «обессмертливание смерти», по резкому выражению преп. Максима (Epist. 7). Воскресение воспринималось как новый творческий акт Бога, как всеобщее, грандиозное «воз–обновление» Творения. «Се, творю все новое». По утверждению св. Григория Богослова, это будет третье и последнее «преобразование» человеческой жизни (μετάστασις), завершающее и заменяющее собой два предыдущих — Ветхого и Нового Завета, заключительный эсхатологический σεισμός (Orat. theol., V, 25).
III
Новый взгляд на судьбу человечества — в свете Христовом — невозможно было выразить полно и безошибочно на языке философий того времени. Предстояло выработать целый ряд новых понятий, чтобы суметь изложить и зафиксировать христианскую веру в ясной системе богословских формул. Это был вопрос не приспособления, а, скорее, радикального изменения мышления. В греческой философии преобладали идеи неизменности и повторяемости. Несмотря на великое множество философских течений, в каждом из них проступал один и тот же костяк — представление о «вечном» Космосе. Все, достойное существования, уже должно было существовать в идеальных формах прежде времен, и к такой полной самодостаточности добавить ничего нельзя. Появление сколько–нибудь значительных изменений или истинной «новизны» невозможно. Весь Космос совершенен и полон — его нельзя усовершенствовать или дополнить. Возможно лишь дальнейшее проявление предвечной полноты. Аристотель предельно откровенно говорит об этом: «То, что существует в силу необходимости, вместе с тем [существует] всегда, ибо то, что необходимо существует, не может не существовать. Поэтому, если оно существует необходимо, то оно вечно, а если оно вечно, то оно существует необходимо. И если возникновение необходимо, то оно вечно, а если оно вечно, то оно необходимо. Значит, если возникновение чего–то безусловно необходимо, оно происходит по кругу и возвращается [к исходной точке]… Итак, безусловная необходимость имеется в движении по кругу и в возникновении по кругу» (О возникновении и уничтожении, II, 2, 338 а). Аргументация вполне понятна. Если есть «достаточная причина» для существования какой–либо вещи («необходимость»), эта причина должна быть «вечной», то есть не может найтись никакого объяснения тому, почему эта вещь не существовала «все время» — в противном случае причина для ее существования не является «достаточной» и «необходимости» нет. А поэтому «бытие» просто «необходимо». Невозможно представить себе какое–нибудь обогащение «бытия». В него нельзя привнести что–то новое. Истинно сущее всегда «в прошлом» («из–вечно») и никогда — «в будущем». Соответственно, бытие Космоса периодично, и последовательность его «возвращений» бесконечна. Высший символ сущего — вращающийся круг. Космос, лишь часть которого — человек, задуман как постоянный циклический процесс, воплощенный в бесконечный ряд самовоспроизводящихся отрезков, ряд замкнутых на себя оборотов. Только круг — совершенство[95]. Разумеется, ни для какой подлинной «эсхатологии» в подобной системе места нет. И действительно, эллинская философия всегда больше интересовалась «изначальными принципами», чем «последними вещами». Мировоззрение греков очевидным образом основывалось на астрономических наблюдениях периодичности движения небесных тел. За определенное время («Великий Год») совершится полный оборот, после чего начнется «повторение» — очередной цикл, не отличимый от предыдущего. Нет «про–движения» во времени, есть только вечные возвращения, вечный «круговорот»[96]. В сущности, время в этой картине мира и есть вращение, периодическое повторение самого себя. Как пишет в Тимее Платон, время «подражает» вечности и бежит по кругу согласно законам числа (38 а–в). В этом смысле оно может быть названо «движущимся подобием вечности» (37 d). И, вообще говоря, время есть довольно низкий, примитивный уровень бытия. Такое представление о периодической последовательности идентичных миров традиционно для греческой философии. Первыми, кто отстаивал идею точных повторений, были, вероятно, пифагорейцы. Аристотель придал теории периодической вселенной строгую научную форму и превратил ее в согласованную физическую модель. Позднее эту мысль подхватили стоики. Они считали, что происходит циклическое исчезновение и «возрождение» всех вещей (παλιγγενεσία), причем каждая, даже самая мельчайшая подробность воспроизводится в совершенной точности. Такой возврат стоики называли «всеобщим восстановлением», άποκατάστασις τών πάντων, а это, безусловно, астрономический термин[97]. Получалось некое подобие космического perpetuum mobile, неумолимо обрекавшего жизнь каждого человека на вечное рабство круговерти космических циклов и «астральных течений» (именно это греки называли «судьбой» или «роком», ή είμαρμένη, vis positionum astrorum). Числа, характеризующие Вселенную, всегда остаются теми же, и законы, которым она подчиняется, также неизменны, а поэтому каждый следующий мир будет во всех деталях совпадать с предыдущими. В рамках подобных представлений история невозможна. «Круговращение и переселение душ… не есть история. Это история, построенная по типу астрономии, это вид астрономии»[98]. Уже Ориген настойчиво протестовал против такой теории космического рабства (Против Цельса, IV, 67 и далее; ср. V, 20 — 21). Оскар Кульман в своей выдающейся книге Christus und die Zeit очень верно выразил принципиальное расхождение между «циклическим» временем греков и «линейным» Библии и христианства. Ранние Отцы прекрасно знали о существовании этого расхождения. Circuitus illi jam explosi sunt, — восклицает 6л. Августин. Последуем Христу, «прямому пути», и отвратимся от суетного кругового лабиринта нечестивцев — Viam rectam sequentes quae nobis est Christus. Eo duce et salvatore, a vano et inepto impiorum circuitu iter fidei mentemque avertamus (О Граде Божием, XII, 20). Кроме того, модель периодической Вселенной была тесно связана с исходной уверенностью эллинов в том, что Космос «вечен», то есть не имел начала, а следовательно, и «бессмертен», то есть не может иметь конца. В этом смысле Космос оказывался «божественным». Поэтому окончательное опровержение теории циклов было возможно только в контексте стройного учения о Творении. Учение о Творении непосредственно определяет эсхатологию христианства. И именно здесь христианская мысль столкнулась с наибольшими трудностями[99]. По всей видимости, первую попытку систематического изложения теории Творения совершил Ориген. И вот, с самого начала ему сильно мешал его «эллинистический» склад ума. Творение являлось для Оригена безусловным догматом апостольской веры. Однако он считал, что из Божия «совершенства» необходимо следует «вечность» мира. Иначе, по его мнению, пришлось бы предположить возможность перемен в Самом Боге. Согласно Оригену, Космос есть нечто вроде вечного спутника Бога. Аристотелевский метод рассуждения в данном случае налицо. Далее, Ориген был вынужден допустить существование «циклов» и каких–то вращений, хотя он решительно отверг тождественность «оборотов» друг другу. В его построениях была скрытая несогласованность. «Вечность» мира подразумевала бесконечное количество «циклов» в прошлом, но, несмотря на это, Ориген был убежден, что циклическая последовательность оборвется, то есть в будущем произойдет вполне конечное число «оборотов». Это, несомненно, противоречие. С другой стороны, Ориген был вынужден трактовать окончательное «исполнение» как «воз–вращение» в исходное положение, бывшее «прежде всех век». Так или иначе, история для Оригена, можно сказать, непродуктивна, и все, что может быть «добавлено» к предвечной сущности, не выдержит последнего испытания и неминуемо будет отброшено как случайная примесь, как бесполезный нарост. Творение обрело полноту с самого начала — с созидающего fiat, прозвучавшего в «вечности». Исторический процесс может иметь лишь «символический» смысл. Он более или менее проницаем для вечных ценностей. Все звенья цепи следует истолковывать как знаки высшей реальности. В конце концов, эти знаки и символы исчезнут, хотя довольно трудно уяснить, почему бесконечный ряд циклов вообще должен обрываться. Тем не менее все символы играют свою роль в истории. События, как временные образования, не заключают в себе никакого вечного значения. Их можно понимать только «символически». Это основное предположение Оригена стало непреодолимым препятствием для его христологии. Допустимо ли считать Воплощение пребывающим Божиим деянием, или же и оно — не более чем исторический «эпизод», упраздняемый «вечностью»? Более того, само «человечество» — один из модусов бытия — должно рассматривать именно как «эпизод», наряду с другими дифференциациями сущего. Оно не содержалось в изначальном замысле Творения и возникло как результат всеобщего раскола после грехопадения. Значит, оно непременно исчезнет, когда все творение будет восстановлено в первоначальной целостности и когда первобытный мир чистых духов будет возвращен в изначальное состояние светоносности. История ничем не может обогатить этот финальный «апокатастасис». Сейчас нам легко отвергнуть данную попытку эсхатологии как образчик «острой эллинизации». Реальная же историческая ситуация была весьма неоднозначной. Ориген имел дело с настоящей, серьезной проблемой. Его «заблуждения» в действительности были муками рождения христианского сознания. Теория самого Оригена — преждевременные роды. Или, прибегая к другой метафоре, можно сказать, что его собственные ошибки должны были стать указателями на пути к более удачным построениям. Эти построения появились во время борьбы с арианами, когда для Отцов стало необходимо прояснить понятие «Творения» в его отличии от других форм «становления» и «бытия». Здесь решающую роль сыграли труды св. Афанасия. А бл. Августин, применив к той же проблеме иной подход, обнаружил, что само время следует рассматривать как творение — вывод, ставший одним из наиболее значимых достижений христианской мысли. Это открытие освободило христианство от тяжелого бремени эллинистического наследия и заложило надежное основание для христианского богословия истории.
IV
Восстановление целостного человеческого бытия невозможно, если нет воскресения мертвых. Если мертвые не восстают, достичь единства человечества нельзя. В этом утверждении и содержится, вероятно, наибольшая новизна христианства для первых веков. Проповедь Воскресения, равно как и проповедь Креста, была безумием и камнем преткновения для язычников. Вера христиан в грядущее воскресение могла лишь озадачить и смутить эллинов, видевших в подобном уповании только возобновленное навеки нынешнее плотское заточение. Ожидать телесного воскресения более приличествует земляному червю, говорил Цельс, глумившийся над христианством, апеллируя к здравому смыслу. Христиан он называл не иначе как «племенем плотолюбцев», φιλοσώματον γένος, и с гораздо большим сочувствием и пониманием относился к докетам (см. Оригена Против Цельса, V, 14; VII, 36, 39). Порфирий начинает свою книгу Жизнь Плотина, сообщая, что Плотин, казалось, «испытывал стыд оттого, что жил во плоти». Далее он пишет: «И из–за такого своего настроения он всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине. Он отказывался позировать живописцу или скульптору». «Нелепо создавать вечный образ этого бренного тела. Достаточно уже того, что мы вынуждены носить его ныне» (Жизнь Плотина, 1). Такой философский аскетизм Плотина следует отличать от восточного дуализма, гностического или манихейского. Сам Плотин очень резко высказывался «против гностиков». Однако здесь скорее различие мотивов и методов, а конечный результат в обоих случаях один и тот же: «бегство» или «удаление» от этого материального мира и «избавление» от тела. Плотин приводит следующее сравнение. Два человека живут в одном и том же доме. Первый ругает строителя и его работу за то, что дом сделан из безжизненного камня и дерева. Второй же восхваляет мудрость архитектора, столь искусно воздвигшего здание. Для Плотина этот мир не является злом — он есть «образ», отражение мира горнего, причем лучший из образов. И все же человеку необходимо преодолеть все образы, перейти от образа к первообразу. Следует восхищаться не копией, а подлинником (V, 8, 8). «Он знает, что придет время, когда он выйдет наружу и не будет более нуждаться в доме». Это означает, что, только освободившись от телесных уз, только разоблачившись, душа сможет воспарить в достойные ее сферы (II, 9, 15). «Истинное пробуждение есть истинное воскресение из тела, а не в теле», άπό σώματος, ου μετά σώματος 'ανάστασις, ибо тело по природе своей есть нечто чуждое душе (τό 'αλλότριον). Телесное воскресение стало бы лишь переходом от одного сна к другому (III, 6, 6). Полемичность этих высказываний очевидна. Идея телесного воскресения была абсолютно чужда и абсолютно неприемлема для греков. Христианское понимание было прямо противоположным. «Не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор 5:4). Апостол Павел испрашивает απολύτρωσις τού σώματος [искупления тела] (Рим 8:23)[100]. Св. Иоанн Златоуст, комментируя эти пассажи, замечает, что необходимо четко различать само тело и «тление». Тело есть Божие творение, несмотря на то, что оно подверглось тлению. «Чуждое», которое надо снять с себя, — не тело, а тление (О воскресении мертвых, 6). Между христианством и эллинской мудростью существовал острейший «антропологический конфликт». Следовало разработать новую антропологию, чтобы донести христианскую надежду Воскресения до языческого сознания. И в качестве крайней меры христианские богословы могли обратиться за помощью к Аристотелю, но не к Платону. При философском истолковании своей эсхатологии христианское богословие с самого начала опирается на Аристотеля[101]. Такое ярко выраженное предпочтение может показаться странным и неожиданным. Ведь Аристотель, строго говоря, вообще не предусматривает для человека какого бы то ни было посмертного удела. В его трактовке человек — всецело земное существо. Ничто по–настоящему человеческое не проникает по ту сторону могилы. Человек умирает совсем. У Аристотеля частное существование не есть личность и не преодолевает смерть. Однако в этой слабости Аристотеля таится его сила. Он действительно понимал единство человеческого бытия. Для него человек есть, прежде всего, индивидуальность, живое целое. Человек един в своей раздвоенности, един именно как «одушевленное тело», и две части его сосуществуют в нем только вместе, образуя конкретную и неразрывную связь. Для Аристотеля душа и тело — даже не «части», соединенные или связанные друг с другом, а просто два различных проявления одной и той же конкретной реальности. «Душа и тело составляют живое существо. Ясно, что душа неотделима от тела» (О душе, 413 а). Как только функциональное единство тела и души нарушается смертью, «организм» прекращает существование: труп уже не есть тело, а мертвец — вовсе не человек» (Метеорологика, 389 b: νεκρός 'άνθρωπος 'ομώνυμος; ср. О частях животных, 641 а). Аристотель не допускал никакого «переселения» душ в другие тела. Каждая душа обитает в «своем» теле, которое она создает и оформляет, а у каждого тела есть «своя» душа — его жизненное начало, «эйдос», или форма. Эту антропологию легко профанировать, сведя ее на чисто биологический уровень и почти полностью уравняв человека с другими живыми существами. Именно так понимали учение Стагирита многие его последователи, в том числе и знаменитый Александр Афродисийский. Да и сам Аристотель едва ли избежал опасностей, скрытых в собственной системе. Конечно, человек был для него «разумным существом», а способность мыслить — отличительной чертой человека. Тем не менее, понятие Аристотеля о nous плохо вписывалось в общую схему разработанной им психологии и являлось, вероятно, пережитком его раннего увлечения платонизмом. Концепцию Аристотеля можно было приспособить для использования в христианстве; именно это и проделали Отцы, хотя сам Аристотель, безусловно, «не был ни мусульманским мистиком, ни христианским богословом».[102] Не натурализм следует считать истинным недостатком Аристотеля, а его отказ допустить возможность вечного индивидуального. Впрочем, это недостаток греческой философии в целом. С незапамятных времен эллины могли представить только «типическое» и ничего подлинно личного. Как предположил в своей Эстетике Гегель, скульптура дает ключ ко всему миропониманию греков[103]. Не так давно русский ученый А. Ф. Лосев показал, что греческая философия являлась «скульптурным символизмом». Он имел в виду в первую очередь платонизм, однако его мысль вполне можно обобщить. «На темном фоне в результате распределения света и тени вырисовывается слепое, бесцветное, холодное, мраморное и божественно прекрасное, гордое и величественное тело — статуя. И мир — такая статуя, и божества суть такие статуи; и города–государства, и герои, и мифы, и идеи — все таит под собой первичную скульптурную интуицию… Тут нет личности, нет глаз, нет духовной индивидуальности. Тут что–то, а не кто–то, индивидуализированное Оно, а не живая личность с своим собственным именем… И нет вообще никого. Есть тела, и есть идеи. Духовность идеи убита телом, а теплота тела умерена отвлеченной идеей. Есть — прекрасные, но холодные и блаженно–равнодушные статуи»[104]. И все–таки Аристотель чувствовал и понимал индивидуальное лучше, чем кто–либо другой из эллинов. Он предоставил христианским философам все необходимое для создания учения о личности. Сила Аристотеля как раз в ощущении им эмпирической целостности человеческого бытия. Будучи воспринятой христианством, его концепция подверглась коренным изменениям: открылись новые подходы, и все старые термины приобрели иное звучание. Но в то же время нельзя не заметить аристотелевского происхождения основных антропологических идей раннехристианского богословия. Подобное воцерковление учения Аристотеля можно обнаружить и у Оригена, и до некоторой степени у св. Мефодия Олимпийского, а позднее у св. Григория Нисского, совершившего на страницах своей захватывающей книги De Anima et Resurrectione смелую попытку синтеза Оригена и Мефодия. Раскол между «Разумом», безличным и «вечным», и отдельной, но смертной душой врачуется и преодолевается при помощи нового самосознания — представления о духовной личности. Собственно, идея личности была, по–видимому, величайшим вкладом христианства в философию. Теперь стало возможным верно и полно осмыслить трагедию смерти. Ведь для Платона и платоников смерть — лишь долгожданное освобождение из телесного заточения, «бегство на родину», а для Аристотеля и его учеников — естественный конец земного существования, печальный, но неизбежный: «И кажется, что за ним уже для умершего ничто ни хорошо, ни плохо» (Никомахова Этика, III, 6; III, 5 а). Для христиан смерть является катастрофой, крахом человеческого бытия, деградацией в нечеловеческое состояние, причина которого — человеческая греховность; плен, чьи узы разрешены ныне победой Христа. Задачей христианских богословов стало ввести надежду Воскресения в новое учение о человеке. Следует заметить, что эта проблема была увидена и сформулирована уже в первом богословском сочинении о воскресении, которым мы располагаем. В своем кратком труде О воскресении мертвых Афинагор Афинский исходит из следующего положения: «Бог наделил самостоятельным бытием и жизнью не природу души саму по себе и не природу тела, взятую отдельно, но, скорее, людей, состоящих из души и тела». Человек исчезнет, если нарушится целостность этой структуры, ибо подобное разделение уничтожит индивидуальность. «И если нет воскресения, человеческая природа перестает быть человеческой» (De Resurrectione mortuorum, 13, 15). Из тленности плоти Аристотель выводил смертность души, являющейся лишь жизненной энергией тела. И тело, и душа исчезают вместе. Афинагор, напротив, отталкиваясь от бессмертия разумной души, приходит к идее телесного воскресения. И тело, и душа вместе пребывают[105]. Таким образом, был создан надежный фундамент для дальнейшего богословского творчества.
V
Эта краткая статья не имела целью дать исчерпывающее представление о святоотеческом взгляде на эсхатологию. Скорее, она была попыткой выявить основные вопросы, подлежащие обсуждению, а также основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Отцам. Кроме того, данный очерк пробует показать, как глубоко и тесно связано все, касающееся эсхатологии, с сердцевиной христианской вести и веры — с Искуплением человека Воплотившимся и Воскресшим Господом. Только в подобной широкой перспективе, в общем контексте христианского учения можно полностью и в точности уловить все оттенки патристической мысли. Эсхатологические упования основываются на вере и не могут быть поняты с иной точки зрения. Отцы никогда не пытались дать систематическое изложение эсхатологии в узком, техническом смысле. Они, однако, хорошо чувствовали ту внутреннюю логику, которая ведет от веры в Христа Искупителя к чаянию будущего века — конца мира, последних свершений, воскресения мертвых и вечной жизни.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ОТЦЫ ЦЕРКВИ
Святоотеческий взгляд на Ветхий Завет лучше всего выразил Блаженный Августин в своих словах: Novum Testamentum in Vetere Latet. Vetus Testamentum in Novo patet. Новый Завет — исполнение и завершение Ветхого. Иисус Христос — Мессия, предсказанный пророками. В Нем исполняются все ожидания и обетования. Закон и Евангелия говорят об одном. Не может человек называться последователем Моисея, если он не исповедует Иисуса как Господа. Каждый, кто не признает в Иисусе Мессию, Обетованного Богом, тем самым предает Ветхий Завет. Ныне только Церковь Христова имеет истинный ключ к Писаниям, ключ к ветхим пророчествам. Ибо все пророчества исполнились во Христе.
Св.Иустин Философ отвергает предположение, что Ветхий Завет—связующее звено между Церковью и Синагогой. Для него очевидно обратное — все претензии иудеев должны быть решительно отвергнуты. Ветхий Завет отнят у иудеев. Он принадлежит только Церкви. Следовательно Церковь Христова — единственный истинный Божий Израиль. Израиль ветхозаветный был только зародышем Церкви. Слово «Писание» употреблялось в Древней Церкви в первую очередь по отношению к Ветхому Завету. Очевидно, в этом смысле оно употреблено в Символе Веры: «по Писанием», то есть согласно пророчествам и обетованиям Ветхого Завета.
Единство Библии.
Ветхий Завет обильно цитируется раннехристианскими писателями. Даже язычникам Благовестие о спасении всегда возвещалось в ветхозаветном контексте. Это был аргумент от древности. Ветхий Завет не был разрушен Христом, но обновлен и восполнен. А стало быть христианство не «новая религия», но древнейшая из возможных. Новые христианские «Писания» легко были включены в унаследованную еврейскую Библию и составили с ней единое органическое целое. И только вся Библия, оба Завета вместе, были признаны адекватной записью христианского Откровения. Между двумя Заветами не разрыв, но единство Божиего домостроительства. Христианское богословие прежде всего стремилось показать и объяснить, каим образом Ветхий Завет был приготовлением и предвосхищением конечного Откровения Бога в Иисусе Христе. Христианское благовестие — не только провозглашение какого–либо учения, но прежде всего летопись деяний и свершений Божиих. Это история Божиего водительства, достигающего вершины в личности Иисуса Христа, которого Бог послал искупить народ Свой. Бог избрал Израиля Своим наследником, Своим народом, хранителем своей истины, и только ему доверил Свое Божественное Слово. И теперь это священное наследство перешло к Церкви.
Ветхий Завет в целом воспринимался как христианское пророчество, и как «приготовление евангелия». Очень рано были составлены специальные подборки ветхозаветных текстов для использования христианскими миссионерами. Testimonia (Исповедание) Св.Киприана — один из лучших образцов этого жанра. А Св.Иустин Философ в Диалоге с Трифоном делает смелую попытку доказать истину христианства из одного лишь Ветхого Завета. Стремление Маркиона оторвать Новый Завет от его ветхозаветных корней было решительно отвергнуто и осуждено Вселенской Церковью, подчеркнувшей их единство и внутреннее согласие. Конечно всегда сохранялся соблазн …….Но в таком экзегетическом подходе была и великая правда — чувство Божественного действия во все эпохи.
Ветхий Завет как Аллегория.
История раннехристианской экзегезы Ветхого Завета — одна из наиболее волнующих и, вместе с тем, противоречивых страниц в истории христианского вероучения. Вместе с греческим Ветхим Заветом Церковь унаследовала [от иудейства] и традицию его истолкования. Филон — эллинизированный иудей из Александрии, предпринял наиболее смелую и масштабную попытку разъяснить Ветхий Завет языческому миру, применив для этой цели крайне своеобразный метод аллегории. Для Филона никакой истории не существовало. В своей библейской философии он или проглядел или попросту игнорировал мессианские мотивы. Библия была для него системой божественной философии, а не священной историей. Исторические события как таковые для него не интересны и не важны.Вся Библия представлялась ему одной книгой в которой он отказывался различать какую–либо историческую перспективу или развитие. Филон рассматривает Писание скорее как собрание замечательных притч и назидательных историй, призваных проиллюстрировать те или иные философские и этические идеи.
В своей крайней форме аллегорический метод никогда не принимался Церковью. Однако вряд ли кто–нибудь будет отрицать громадное влияние Филона на экзегезу первых веков христианства. Св. Иустин широко пользуется Филоном. Псевдо–Варнава (начало II века) иногда доходит до отрицания исторического характера Ветхого Завета в целом. Филоновская традиция была воспринята христианской школой в Александрии. И даже позднее Св.Амвросий близко следует Филону в своих комментариях на Священное Писание и заслужено может быть назван Philo latinus (латинским Филоном). Аллегорическая экзегеза была двусмысленна и часто вводила в заблуждение.
Прошло много времени прежде чем было установлен, или, если угодно, восстановлено равновесие. Хотя не следует игнорировать и положительные результаты этого метода. Лучшим представителем христианской аллегорической экзегезы был Ориген, а его влияние поистине исключительно. Смелость и вольность его истолкований могут иной раз шокировать. В самом деле, он иной раз вычитывал из священного текста слишком много. Но было бы грубейшей ошибкой считать его философом. Ориген всегда был прежде всего библеистом, конечно в духе и стиле своего времени. Он проводил дни и ночи над Библией. Его главной целью было основать все вероучение и богословие на Библейском фундамнте. Он в большой степени ответственен за крепость и постоянство библейского духа во всем святоотеческом богословии. Еще больше он сделал для простого верующего; он открыл ему доступ к пониманию Библии. Ориген настойчиво вводит Ветхий Завет в свои проповеди. Он помогает простому христианину читать и использовать Ветхий Завет для своего наставления в вере. Он неустанно подчеркивает единство Библии, приводя оба Завета к теснейшими взаимоотношениям. И он предпринимает новую попытку создать целостное учение о Боге на библейской основе.
Ограниченность Оригена очевидна. Но его позитивный вклад гораздо более значителен. Его пример учит христианских богословов всегда возвращаться за вдохновением к священным текстам Писания. Его пути придерживалось большинство отцов Церкви. Но немедленно он встретил и сильную оппозицию. Здесь нет места и возможности углублятся в подробности спора между двумя экзегетическими школсми Древней Церкви. Основные их черты общеизвестны. Антиохийская школа придерживалась «истории», Александрийцы же обращались к «созерцанию». И в конечном счете оба подхода были приведены к взвешенному синтезу.
История и проповедь.
Главная идея Александрийцев заключалась в том, что боговдохновенное Писание дложно нести в себе Универсальное Послание для всех веков и народов. Их целью было распечатать это послание, открыть и проповедать все богатства Божественной мудрости, сокрытые Провидением в Библии. За буквальным смыслом Писания таятся иные смыслы, доступные для понимания только посвященным. За людскими записями многочисленных божественных откровений, можно различить единое Откровениепостигнуть само Слово Божие во всем его вечном сиянии.
Предполагалось, что даже тогда, когда Бог говорил в совершенно особых обстоятельствах, в Его слове было нечто преодолевавшее историческую ограниченость. Необходимо тщательно отличать прямое пророчество от application. Многие из ветхозаветных повествований могут быть весьма поучительны для верующего, даже не будучи сознательным, подразумевавшимся самими священннописателями, предвосхищением Христианской истины. Александрийцы считали, что Бог предлагает Священное Писание в качестве вечного наставления всему человечеству. Следовательно приложение или же постоянное перетолкование Ветхого Завета является как бы авторизованым.
Антиохийская экзегеза имела особый интерес к прямому пониманию древних пророчеств и повествований. Главным представителем этой «исторической» экзегезы был Феодор Мопсуэстийский, известный на Востоке просто как «Толкователь». Хотя его авторитету был нанесен страшный удар его осуждением за ошибочные богословские учения, его влияние на христианскую экзегезу Ветхого Завета было очень значительным. Этой исторической экзегезе постоянно грозила опасность утраты универсального понимания Божественного Откровения из за ее чрезмерного упора на местные и национальные особенности в Ветхом Завете. И даже более того, ей грозила опасность вообще потерять священную перспективу, рассматривая ветхозаветную историю так, как если бы она была просто историей одного народа среди других народов на земле, а не историейединого истинного Завета Божия.
Св. Иоанн Златоуст.совместил в своих экзегетических трудах лучшие элементы обеих школ. Сам он был учеником антиохийцев, но во многих отношениях он также был последователем Оригена. Аллегории могут быть ошибочными. Но не следует игнорировать «типологическое» понимание самих событий. События и герои Ветхого Завета являются также «типами» или образами грядущих вещей и событий. История сама по себе — пророчество. События сами по себе — пророчества, они указывали и указывают на енчто выходящее за рамки их самих. Древние Отцы с трудом могут быть названы «фундаменталистами».Они всегда следовали за Божественной правдой, Божественной вестью, которая часто скрывается за буквой. Вера в Боговдохновенность вряд ли может оправдать фундаменталистские тенденции. Божественная истина не может быть сведена к букве, даже если это буква Священного Писания. Одним из лучших образцов святоотеческой экзегезы был Шестоднев св.Василия Великого, которому удалось проповедать религиозную истинубиблейского рассказа о творении с действительной сдержанностью и умеренностью.
Ветхий завет и христианское богослужение.
Святоотеческий взгляд на Ветхий Завет отразился и в истории христианского богослужения. Еврейские корни христианской литургии общеизвестны. Однако вся система христианского общественного богослужения также тесно связана с практикой синагоги. Псалмы, унаследованные от евреев, стали в ранней Церки образцом для всей христианской гимнографии. Псалмы составляют скелет христианских богослужений и по сей день. Раньше они были основой всей благочестивой литературы.
Исследователь общественного богослужения Православной Церкви будет потрясен количеством ветхозаветных аллюзий, намеков и образов во всех службах и гимнах. Единство двух Заветов повсеместно подчеркивается. Библейские мотивы преизобилуют. Многие песнопения есть не что иное как вариации на основе ветхозаветных песней, от песни Моисея при пересечении Чермного моря до песни Захарии — отца Иоанна Крестителя. По большим праздникам многочисленные ветхозаветные поучения определены и действительно читаются для того, чтобы подчеркнуть что Христианство является только исполнением и завершением предвозвещенного, предобразованного и прямо предсказанного в Ветхом Завете. На Страстной неделе ветхозаветное приготовление особенно подчеркивается. Все богослужение основано на том убеждении, что истинный завет всегда был един, что между пророками и апостолами существует полное согласие. И вся эта система была установлена именнов святоотеческую эпоху.
Одним из наиболее поразительных примеров подобного благочестивого библеицизма является Великий Канон св.Андрея Критского, читаемый Великим Постом. Это — мощнейшая проповедь, призывающая к покаянию, созданная с действительным поэтическим вдохновением и основанная на Библии. Вспоминаются целые ряды ветхозаветных грешников, как раскаявшихся, так и нераскаянных. Можно потерятся в этом бесконечном потоке имен и примеров. Каждому настойчиво напоминается, что все эти ветхозаветные повествования относятся к нему, как к христианину.Каждый приглашаетсявновь и вновь обдумать этот чудесный рассказ о божественном водительстве и человеческом упрямстве и падениях. Ветхий завет сохраняется как огромное сокровище. Достаточно упомянуть о том какое влияние оказала Песнь Песней на развитие христианской мистики. Оригенов комментарий на эту книгу казался блаженному Иерониму поизведением в котором тот превзошел самого себя. А мистический комментарий св. Григория Нисского на Песнь Песней — это подлинная сокровищница подлинного христианского вдохновения.
Ветхий Завет как слово Божие
Многократно раздавались утверждения, что у греческих Отцов раннехристианское благовестие оказалось слишком эллинизированым. Следует крайне осторожно отнестись к подобным высказываниям. В любом случае именно Отцы сохранили все богатства Ветхого Завета и сделали их необходимым наследием Церкви, как в богослужении, так и в богословии. Единственное, чего они не сделали: они не сохранили верности иудейским ограничениям. Священное Писаие для них — вечное и универсальное Откровение. Оно обращено сейчас ко всему человечеству просто потому, что оно было обращено ко всем народам Самим Богом даже тогда, когда Слово Божие передавалось только пророками избранного народа. Это значит, что никто не может мерить глубину Божественного откровения только меркой прошлого, каким бы священным не было это прошлое.Не достаточно быть увереным в том , чт древние евреи понимали и толковали Писание определеннным образом. Пообное истолкование никогда не будет окончательным. Новый свет был пролит на древние откровения Тем, Кто пришел свершить и исполнить Закон и Пророков. Писание не просто исторический документ. Они — истинное Слово Божие, послание Бога ко всем поколениям. И Христос Иисус есть Альфа и Омега Писаний, Он высшая точка и узловой пункт Библии. Это главное в учении о Ветхом Завете, оставленном Отцами Вселенской Церкви.
ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ
I
Должны ли христиане, будучи христианами, непременно верить в бессмертие человеческой души? И что на самом деле означает бессмертие в пространстве христианской мысли? Подобные вопросы только кажутся риторическими. Этьенн Жильсон в своих Гиффордовских лекциях счел необходимым сделать следующее поразительное заявление: «В общем, — сказал он, — христианство без бессмертия вполне осмысленно, и доказательство этому то, что поначалу оно осмыслялось именно так. По–настоящему бессмысленно христианство без воскресения человека» ( [106]). Удивительной чертой раннего периода истории христианского представления о человеке было, по всей видимости, подчеркнутое отрицание ярчайшими авторами второго века природного бессмертия души. И похоже, что это не странное или абсурдное мнение отдельных писателей, но скорее всеобщая тенденция того времени. Не была она полностью утрачена и позднее. Епископ Андерс Нюгрен в своей знаменитой книге « Den kristna ka rlekstanken genom tiderna» восхваляет апологетов второго века именно за эту смелую мысль и видит в ней выражение подлинно евангельского духа. Основной акцент ставился в те годы — а, по мнению Нюгрена, должен был ставиться всегда — на «воскресении тела», а не на «бессмертии души» ( [107]). Ученый–англиканин XVII века Генри Додуэлл (Henry Dodwell, 1641–1711, бывший некоторое время «Кэмденовским профессором») издал в Лондоне любопытную книгу под весьма озадачивающим названием:
«Эпистолярные рассуждения, доказывающие из Писаний и ранних Отцов, что душа — исходно смертное начало, делаемое, однако, бессмертным или на вечную муку — по божественному изволению, — или на жизнь вечную — сочетанием с Божественным Крещающим Духом. Которыми доказывается, что со времен Апостолов никто, кроме епископов, не имеет власти давать Божественный Дух Бессмертия». (1706)
Доводы Додуэлла нередко запутанны и сбивчивы. Впрочем, основное достоинство книги — невероятная эрудиция ее автора. Додуэлл был, очевидно, первым, кто собрал огромное количество информации по раннехристианскому учению о человеке, хотя сам он и не смог надлежащим образом воспользоваться ей. И он абсолютно прав, когда утверждает, что христианство признаёт скорее не естественное «бессмертие», а сверхъестественное соединение с Богом, Который «единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6, 16). Неудивительно, что книга Додуэлла вызвала яростную полемику. Против автора было выдвинуто официальное обвинение в ереси. Несмотря на это, он обрел немало страстных сторонников, а анонимный писатель, «пресвитер англиканской церкви», опубликовал две книги на данную тему, приводя тщательное исследование патристических свидетельств тому, что «Святой Дух был творцом бессмертия, то есть бессмертие было особой новозаветной милостью, а не природным свойством души» и что «бессмертие было сверхъестественным для человеческих душ даром Иисуса Христа, сообщаемым Святым Духом в Крещении» ( [108]). Интересная черта этой полемики: позиция Додуэлла критиковалась в основном «либералами» того времени, и его главным литературным оппонентом был знаменитый Самуил Кларк (Samuel Clarke), настоятель прихода St. James, Westminster, последователь Ньютона, состоявший в переписке с Лейбницем, известный своими неортодоксальными взглядами и идеями, типичный представитель века «Свободомыслия» и «Просвещения». Удивительная ситуация: бессмертие атакуется «ортодоксом», а защищается просвещенцем. На самом деле этого и следовало ожидать. Ведь теория природного бессмертия была одним из немногих догматов просвещенного деизма тех лет. Человек эпохи Просвещения мог с легкостью отделаться от учения об Откровении, но не имел права усомниться в авторитете Здравого Смысла. Жильсон предположил, что «так называемая «морталистическая» доктрина XVII века первоначально была возвратом к позициям ранних Отцов, а не выражением, как обычно считается, настроений вольнодумства» ( [109]). Вообще говоря, подобное утверждение несерьезно. Положение вещей в XVII веке было куда сложнее и запутаннее описанного Жильсоном. Но в случае Додуэлла (и ряда других богословов) догадка Жильсона полностью обоснованна. Налицо «возврат к позиции первых Отцов».
II
Душа как « тварь»
Св. Иустин в « Разговоре с Трифоном» повествует о своем обращении. В поисках истины он сперва пришел к философам и некоторое время был полностью доволен взглядами платоников. «Сильно восхищало меня платоново учение о бестелесном, и теория идей окрыляла мой ум». Затем он встретил учителя–христианина, пожилого и почтенного человека. Среди прочих вопросов, затронутых в их беседе, был вопрос о природе души. «Не следует называть душу бессмертной, — утверждал христианин. — Ибо, если она бессмертна, то и безначальна»,. Это, само собой, тезис платоников. Однако Бог один «безначален» и неразрушим и потому–то Он есть Бог. Мир же, напротив, «имеет начало», а души — часть мира. «Вероятно, было время, когда их не существовало». И значит они не бессмертны, «потому что и самый мир, как мы видели, получил начало». Душа не является жизнью сама по себе, но только «причастна» жизни. Один Бог есть жизнь; душа же может лишь иметь жизнь. «Ибо способность жить не входит в свойства души, но в свойства Бога». Более того, Бог дает жизнь душе «потому что хочет, чтоб она жила». Всё тварное «имеет разрушимую природу и может быть уничтожено и перестать некогда жить». Оно «тленно» (Dial. cum Tryph., 5–6). Важнейшие классические доказательства бессмертия, ведущие начало от «Федона» и «Федра», обойдены и проигнорированы, а их основные предпосылки открыто отвергаются. Как указал профессор А. Э. Тейлор, «для греческого сознания athanasia [бессмертие] и aftarsia [бессмертность] неизменно означали почти то же самое, что и «божественность», подразумевая нерожденность и неуничтожимость» ( [110]). Сказать «душа бессмертна» для грека то же, что сказать «она нетварна», то есть вечна и «божественна». Всё, что имеет начало, обязательно имеет конец. Другими словами, греки под бессмертием души всегда понимали ее «вечность», вечное «предсуществование». Только то, у чего не было начала, способно бесконечно существовать. Христиане не могли согласиться с этим «философским» положением, ведь они верили в Творение, а следовательно, должны были отказаться от «бессмертия» (в греческом понимании этого слова). Душа не независимое или самоуправляемое существо, но именно тварь, и даже своим бытием она обязана Богу, Творцу. Соответственно, она может быть «бессмертной» не по природе, то есть сама по себе, но лишь по «Божией воле», то есть по благодати. «Философская» аргументация в пользу природного «бессмертия» базировалась на «необходимости» бытия. Напротив, утверждать тварность мира — значит подчеркивать прежде всего то, что он не является необходимостью, и, точнее, не необходимо его бытие. Иными словами, сотворенный мир есть мир, который вовсе мог бы не существовать. Это означает, что мир целиком и полностью ab alio [зд. «произошел от другого»] и ни в коем случае не a se [зд. «произошел от себя»] ( [111]). Как излагает это Жильсон, «некоторые существа радикально отличны от Бога хотя бы тем, что они могли бы вовсе не существовать и всё еще могут в некоторый момент прекратить существование» ( [112]). Из «могут прекратить» однако не следует, что их бытие на самом деле прекращается. Св. Иустин не был «кондиционалистом», и его имя призывалось поборниками «условного бессмертия» совершенно напрасно. «Я не утверждаю, что души уничтожатся…» Основная цель этого спора — акцентировать веру в Творение. Мы находим аналогичные рассуждения и в других произведениях второго века. Свт. Феофил Антиохийский настаивал на «промежуточном» качестве человека. «По природе» человек ни «бессмертен», ни «смертен», но, скорее, «способен к тому и другому». «Ибо, если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом». Если бы человек, слушаясь божественных заповедей, изначально избрал бессмертную часть, он был бы увенчан бессмертием и сделался бы Богом — «Богом воспринятым» (Ad Autolycum II, 24 et 27). Татиан идет даже дальше. «Душа сама по себе не бессмертна, эллины, но смертна. Впрочем, она может и не умирать» (Oratio ad Graecos, 13). Взгляды ранних апологетов не были свободны от противоречий, да и не всякий раз удавалось точно эти взгляды выразить. Но основной пункт всегда был ясен: проблему человеческого бессмертия необходимо рассматривать в свете учения о Творении. Можно сказать иначе: не как исключительно метафизическую проблему, а в первую очередь как религиозную. «Бессмертие» — не свойство души, но нечто всецело зависящее от взаимоотношений человека с Богом, его Господом и Творцом. Не только окончательный удел человека определяется степенью причастности Богу, но даже самое человеческое существование, его пребывание и «выживание», — в руце Божией. Священномученик Ириней Лионский продолжает ту же традицию. В своей борьбе с гностиками у него была особая причина подчеркнуть тварность души. Душа не приходит из «другого мира», не знающего тления; она принадлежит именно этому сотворенному миру. Сщмч. Иринея убеждают в том, что для бесконечного существования дyши должны быть «безначальными» (sed oportere eas aut innascibiles esse ut sint immortales), иначе они умрут вместе с телами (vel si generationis initium acceperint, cum corpore mori). Он отвергает подобный аргумент. Являясь тварями, души «продолжают свое существование, доколе Богу угодно» (perseverant autem quoadusque eas Deus et esse, et perseverare voluerit). Здесь «perseverantia», очевидно, соответствует греческому diamon». Сщмч. Ириней использует практически те же слова, что и св. Иустин. Душа не является жизнью сама по себе; она участвует в жизни, дарованной ей Богом (sic et anima quidem non est vita, participatur autem a Deo sibi praestitam vitam). Один Бог есть Жизнь и Податель Жизни (Adv. haeres. II, 34). Климент Александрийский, несмотря на свою приверженность платонизму, упоминает вскользь, что душа не бессмертна «по природе» (Adumbrationes in I Petri 1, 9: hinc apparet quoniam non est naturaliter anima incorruptibilis, sed gratia Dei… perficitur incorruptibilis [отсюда очевидно, что душа не нетленна по природе, но Божия благодать… делает ее нетленной] ( [113])). Свт. Афанасий доказывает бессмертие души при помощи доводов, восходящих к Платону (Adv. gent., 33), но тем не менее настойчиво повторяет, что всё тварное по природе своей текуче и подвержено разрушению (Adv. gent., 41). Даже блаж. Августин осознавал необходимость ограничения бессмертия души: «Anima hominis immortalis est secundum quendam modum suum; non enim omni modo sicut Deus» [Человеческая душа бессмертна лишь до некоторой степени — в отличие от Бога, ее бессмертие не абсолютно] (Epist. ad Hieronymum; PL 23, 721). «Поскольку эта жизнь так непостоянна, можно назвать ее смертной» (In Ioan., tr. 23, 9; ср. De Trin. I, 9, 15 и De Civ. Dei XIX, 3: mortalis in quantum mutabilis). Преп. Иоанн Дамаскин говорит, что ангелы тоже бессмертны не по природе, но по благодати (De fide orth. II, 3) и доказывает это примерно так же, как и апологеты (Dial. contr. manich., 21). Акцент на аналогичном утверждении можно найти в соборном послании свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (634), зачитанном и благосклонно принятом Шестым Вселенским собором (681). В последней части этого послания Софроний осуждает ошибки оригенистов — предсуществование души и апокатастасис — и четко говорит, что «разумные существа», хотя и не умирают, всё равно «бессмертны не по природе», но только по Божией благодати (Mansi XI, 490–492; PG 87.3, 3180). Следует добавить, что даже к XVII веку на востоке не забыли разобранный нами ход мысли ранней Церкви и известен интересный диспут тех лет между двумя православными епископами Крита именно на эту тему: бессмертна ли душа «по природе» или «по благодати» ( [114]). Можно подвести итог: при обсуждении проблемы бессмертия с христианской точки зрения надо всегда помнить о тварной природе души. Само бытие души не необходимо, то есть, можно сказать, «условно». Оно обусловлено творящим fiat, исходящим от Бога. Однако данное бытие — бытие, не содержащееся в природе, — не обязательно преходяще. Творческий акт — свободное, но не подлежащее отмене Божие деяние. Бог создал наш мир именно для бытия (Прем. 1, 14). И не может быть отречения от этого творящего повеления. Здесь — ядро парадокса: имея не необходимое начало, мир не имеет конца. Он держится непреложной Божией волей ( [115]).
III
Человек смертен
Современные мыслители настолько озабочены «бессмертием души», что исходный факт человеческой смертности практически забыт. Лишь недавние «экзистенциальные» философии снова властно напомнили нам о конечности человеческой жизни, взглянув на нее sub specie mortis [с точки зрения смерти]. Смерть — катастрофа для человека. Она — его «последний (или, вернее, окончательный) враг»(1 Кор. 15, 26). «Бессмертие», безусловно, термин, содержащий отрицание; он связан с термином «смерть». И здесь нам вновь предстает острый конфликт между христианством с одной стороны и «эллинизмом», а прежде всего платонизмом, — с другой. У. Г. В. Рид в недавно вышедшей книге «The Christian Challenge to Philosophy» ( [116]) очень удачно противопоставляет две цитаты: «И Слово стало плотию и обитало с нами» (Ин. 1, 14) и «Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике» (Порфирий. Vita Plotini, I). Далее Рэд продолжает: «Если провести подобным образом непосредственное сравнение евангельского чтения на Рождество с уловленной Порфирием сутью учения его наставника, станет совершенно ясно, что они абсолютно несовместимы, что невозможно себе представить христианина–платоника или платоника–христианина; и платоники, надо отдать им должное, прекрасно осознавали этот тривиальный факт» ( [117]). Я лишь добавлю, что, к сожалению, «этот тривиальный факт», похоже, незнаком христианам. Из века в век, вплоть до наших дней, платонизм является излюбленной философией христианских мудрецов. Мы не задаемся целью объяснять сейчас, как такое могло произойти. Однако это, мягко говоря, печальное недоразумение произвело невиданную путаницу в современных взглядах на смерть и бессмертие. Мы можем пользоваться известным определением: смерть есть отделение души от тела, (Немесий. De natura hominis, 2 — он цитирует Хрисиппа). Для грека это освобождение, «возврат» в родную область духов. Для христианина — катастрофа, перечеркнутое человеческое существование. Греческой теории бессмертия никогда не разрешить христианскую проблему. Единственно достойное решение дает весть о Воскресении Христовом и обетование грядущего Всеобщего Воскрешения мертвых. Вновь обратившись к истокам христианства, мы обнаружим, что эта мысль была ясно высказана уже в первые века. Св. Иустин весьма настойчив по данному поводу: «Если вы встретитесь с такими людьми, которые… не признают воскресения мертвых и думают, что души их тотчас по смерти берутся на небо, то не считайте их христианами» (Dial. cum Tryph., 80). Неизвестный автор трактата «О Воскресении» (приписываемого обычно св. Иустину) очень точно излагает суть вопроса: «Что такое человек, как не животное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет — она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет — оно называется телом человека. Если же ни та, ни другое в отдельности не составляют человека, но только существо, состоящее из соединения той и другого, называется человеком, а Бог человека призвал к жизни и воскресению: то Он призвал не часть, но целое, то есть душу и тело» (De resurr., 8). Афинагор Афинский проводит аналогичное рассуждение в своем превосходном сочинении «О воскресении мертвых». Бог создал человека для вполне определенной цели — вечного бытия. Раз так, «Бог наделил самостоятельным бытием и жизнью не природу души саму по себе и не природу тела, взятую отдельно, но, скорее, людей, состоящих из души и тела, чтобы обеими частями, с коими люди рождаются и живут, достигать им по окончании земной жизни общей цели; душа и тело составляют в человеке единое живое существо». Человек исчезнет, утверждает Афинагор, если будет разрушена целостность этой связки, ведь в таком случае личность тоже разрушится. Бессмертию души должна соответствовать неизменность тела, нетление его собственной природы. «Существом, наделяемым рассудком и разумом, является человек, а не душа сама по себе. Следовательно, человек должен всегда оставаться состоящим из души и тела». Иначе получится не человек, а лишь части человека. «А вечное соединение невозможно, если нет воскресения. Ибо, если нет воскресения, природа всего человека не сохранится» (De resurr. mort., 15). Основной предпосылкой подобных рассуждений было включение тела как части в полноту человеческого бытия. А из нее следует, что человек перестанет быть человеком, если душе придется навеки «развоплотиться». Этот факт строго противоположен заявлениям платоников. Эллины скорее мечтали об окончательной и совершенной дезинкарнации. Тело — узы души. Напротив, для христиан смерть не есть нормальный конец человеческого существования. Она — крах и безумие. Она — «оброк греха» (Рим. 6, 23). Она — лишение и извращение. И с момента грехопадения таинство жизни вытеснено таинством смерти. «Союз» души и тела, безусловно, таинственен, о чем говорит непосредственное ощущение человеком органичного психофизического единства. «Anima autem et spiritus pars hominis esse possunt, homo autem nequaquam» [Душа же и дух могут быть частью человека, но никак не человеком], — писал сщмч. Ириней (Adv. haeres. V, 6, 1). Тело без души — лишь труп, а душа без тела — лишь призрак. Человек не бестелесный призрак, а труп не часть человека. Человек не «бесплотный демон», упрятанный в плотскую темницу. Вот почему «отделение» души от тела и есть смерть именно человека, прекращение его существования, его существования как человека. Следовательно, смерть и тление тела, можно сказать, стирают из человека «образ Божий». В умершем уже не всё человечно. Преп. Иоанн Дамаскин в одном из знаменитых песнопений чина погребения передает это так: «Плaчу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробeх лежащую по образу Божию создaнную нашу красоту безобрaзну, безславну, не имyщую вида». Преп. Иоанн говорит не о человеческом теле, но о самом человеке. «Наша красота по образу Божию» — не тело, а человек. Он воистину «образ неизреченной славы Божией», даже если «носит язвы прегрешений». А смерть открывает нам, что человек, это «разумное изваяние» Божие — используя выражение сщмч. Мефодия (De resurr. I, 34, 4) — всего лишь труп. «Наги кости человек, червей снедь и смрад» ( [118]). Можно назвать человека «единой ипостасью в двух природах», причем не из двух природ, а именно в двух природах. Смертью эта единая ипостась раскалывается. И человека больше нет. Поэтому мы, люди, ожидаем «искупления тела нашего» (Рим. 8, 23). Как пишет апостол Павел в другом послании, «потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5, 4). Вся мучительность смерти как раз в том, что она — «оброк греха», то есть результат нарушенных взаимоотношений с Богом. Она не просто естественная ущербность или метафизический тупик. Смертность человека есть смертность отпавшего от Бога, Который единый Жизни Податель. А находясь в подобном отчуждении, человек не может оставаться, «пребывать», полноценным человеком. Смертный, строго говоря, недочеловек. Акцентировать человеческую смертность не значит предлагать «натуралистическое» толкование человеческой трагедии; напротив, это значит обнажить ее глубокие религиозные корни. Чувство смертности человека было важнейшей точкой опоры святоотеческого богословия, ибо это было предчувствие обетованного Воскресения. Бедственность существования во грехе ни в коей мере не умалялась, однако ее рассматривали не с позиций исключительно этики и морали, но и с богословской точки зрения. Греховное бремя состоит не только в нечистой совести и сознании вины, но и в необратимом расколе всей человеческой природы. Падший человек более не человек: он онтологически деградировал. И свидетельством такой «деградации» стала человеческая смертность, человеческая смерть. Вне Бога природа человека становится рассогласованной, в некотором смысле начинает фальшивить. Здание человеческого естества теряет устойчивость. «Союз» души с телом оказывается непрочным. Душа, лишенная жизненной энергии, больше не может оживотворять тело. Тело превращается в застенок и могилу души. Теперь физическая смерть неизбежна. Тело и душа уже, можно сказать, не состроены, не подходят друг другу. Нарушение Божией заповеди, по выражению свт. Афанасия, «возвратило людей в их естественное состояние». «Чтобы, как сотворены были из ничего, так и в самом бытии, со временем, по всей справедливости потерпели тление». Ибо тварь, приведенная в мир из небытия, так и существует над бездной ничто, всегда готовая к низвержению (De incarn., 4–5). «Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать» (2 Цар. 14, 14). «Естественное состояние», о котором говорит свт. Афанасий, есть течение космических циклов, цепко засасывающих падшего человека, и этот плен — знак человеческой деградации. Человек лишился своего привилегированного положения в тварном мире. Однако его метафизическая катастрофа — лишь проявление исказившихся взаимоотношений с Богом.
IV
«Я есмь воскресение и жизнь»
Воплощение Слова было истинным явлением Бога. Более того, оно было откровением Жизни. Христос — Слово Жизни (1 Ин. 1, 1). Воплощение уже само по себе отчасти оживило человека и воскресило его природу. Не просто обильная благодать излилась на человека в Воплощении, но природа его была воспринята в сокровенное единение, единение «по ипостаси» с Самим Богом. Отцы ранней Церкви единодушно видели в подобном достижении человеческой природой вечного причастия Божественной Жизни всю суть спасения. «То спасается, что соединяется с Богом», — говорит свт. Григорий Богослов. А что не будет соединено, вовсе не может спастись (Epist. 101, ad Cledonium). Эта мысль была лейтмотивом всего богословия первых веков: у сщмч. Иринея Лионского, свт. Афанасия Великого, Каппадокийцев, свт. Кирилла Александрийского, преп. Максима Исповедника. Однако кульминацией Воплотившейся Жизни стал Крест, смерть Воплотившегося Господа. Жизнь полностью открыла себя в смерти. Вот парадокс, тайна христианской веры: жизнь в смерти и через смерть, жизнь из могилы, Тайна могилы, чреватой жизнью. И христиане рождаются заново в подлинную, вечную жизнь только пройдя в крещении смерть и погребение во Христе; они возрождаются со Христом в крестильной купели (ср. Рим. 6, 3–5). Таков непреложный закон истинной жизни. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» (1 Кор. 15, 36). Спасение было совершено на Голгофе, а не на Фаворе, и даже на Фаворе говорили о Кресте Христовом (см. Лк. 9, 31). Христос должен был умереть, чтобы дать жизнь с избытком всему человечеству. Необходимость эта не от мира сего — она являет собой Божественное установление, императив Божественной Любви. И нам не удастся понять сию тайну. Почему истинная жизнь должна была открыться в смерти Того, Кто Сам был «воскресение и жизнь»? Единственно возможное разъяснение в том, что Спасение должно было стать победой над смертью и человеческой смертностью. Окончательным врагом человека является именно смерть. Искупление не просто прощение грехов или примирение с Богом. Оно — освобождение от греха и смерти. «Покаяние не выводит из естественного состояния (в которое вернулся человек, согрешив), а прекращает только грехи», — говорит свт. Афанасий. Ибо человек не только согрешил, но и «впал в тление». Итак, Божие милосердие не могло допустить, «чтобы однажды сотворенные разумные существа и причастные Слова Его погибли, и через тление опять обратились в небытие». Следовательно, Слово Бога сошло и стало человеком, приняв наше тело, чтобы «людей обратившихся в тление снова возвратить в нетление, и оживотворить их от смерти, присвоением Себе тела и благодатью воскресения уничтожая в них смерть, как солому огнем» (De incarn., 6–8). Таким образом, согласно свт. Афанасию, Слово стало плотью, дабы изгнать «тление» из человеческой природы. Однако смерть побеждается не явлением Жизни в смертном теле, а вольной смертью Воплотившейся Жизни. Слово воплотилось ради смерти во плоти, подчеркивает свт. Афанасий. «Слово облеклось для сего в тело, чтобы, обретши смерть в теле, истребить ее» (De incarn., 44). Или, цитируя Тертуллиана, «forma moriendi causa nascendi est» [назначенность к смерти есть причина рождения] (De carne Christi, 6). Основной мотив смерти Христа — человеческая смертность. Христос умер, но преодолел смерть и поборол смертность и тление. Он оживил саму смерть. «Смертию смерть разруши». Поэтому смерть Христова явилась, можно сказать, распространением Воплощения. Крестная смерть важна не как смерть Непорочного, но как смерть Воплотившегося Господа. Используя удивительно смелую формулировку свт. Григория Богослова, «мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Orat. 45, in S. Pascha, n. 28). На Кресте умер не человек, но Бог Воплощенный — Богочеловек. У Христа нет человеческой ипостаси. Его личность — божественная, хотя и воплотившаяся. «Ибо страдал и подвизался подвигом терпения не человек малозначащий, но вочеловечившийся Бог», — говорит свт. Кирилл Иерусалимский (Catech. 13, 6). Справедливо утверждать, что на Кресте умер Бог, но умер лишь в Своей человеческой природе (которая «единосущна» нашей). Это была вольная смерть Того, Кто Сам есть Жизнь Вечная. Разумеется, это обыкновенная человеческая смерть, смерть «по человеческой природе», однако происходит она внутри ипостаси Слова, Воплотившегося Слова. А следовательно — ведет к воскресению. «Крещением должен Я креститься» (Лк. 12, 50). Это крещение — крестная смерть и пролитие крови: «Крещение мученичества и крови, которым Сам Христос тоже был крещен», — полагает свт. Григорий Богослов (Orat. 39, 17). Смерть на Кресте как крещение кровью — вот в чем самая суть искупительной тайны Креста. Крещение — это очищение. А Крещение Креста было, можно сказать, очищением человеческой природы, следовавшей к возрождению в Ипостаси Воплотившегося Слова. Это было омовение человеческой природы потоком жертвенной крови Божественного Агнца, и прежде всего — омовение тела, то есть смыты были не только грехи, но и немощи человеческие, и даже сама смертность. Такое очищение явилось приготовлением к грядущему воскресению — очищение всей человеческой природы в лице ее нового, мистического первенца, «Последнего Адама». Это было крещение кровью всей Церкви и, более того, всего мира. Еще раз процитируем свт. Григория Богослова: «Очищение не малой части вселенной и не на малое время, но целого мира и вечное» (Orat. 45, 13). Господь умер на Кресте. Это была настоящая смерть, но всё–таки не совсем как наша — хотя бы потому, что она являлась смертью Воплотившегося Слова, смертью внутри неделимой Ипостаси Слова, ставшего человеком, смертью «воипостазированной» человеческой природы. Это не меняет онтологических свойств смерти, однако теперь она приобретает иное значение. «Ипостасное единство» не нарушилось, не разорвалось смертью, а поэтому, хотя тело и душа разделились между собой, они всё равно остались связанными через Божество Слова, от которого отстранены не были. В этой «нетленной смерти» преодолеваются и «тление», и «смертность», а значит — начинается воскресение. Сама смерть Воплотившегося знаменует воскресение человеческой природы (преп. Иоанн Дамаскин, De fide orth. III, 27; ср. Hom. in Magn. Sabbat., 29). «Сегодня Господь наш Иисус Христос — на кресте, и мы празднуем», — по резкому выражению свт. Иоанна Златоуста (In crucem et latronem, hom. 1). Крестная смерть стала победой над смертью не только потому, что за ней последовало Воскресение. Она — победа сама по себе. Воскресение является лишь результатом и проявлением Крестной победы, совершившейся, едва уснул Богочеловек. «Ты умираешь, оживляя меня…» Вот как описывает это свт. Григорий Богослов: «Он отдает Свою жизнь, но Он властен взять ее назад, и завеса раздралась, ибо тайные двери Небес отверзлись; камни расселись, мертвые восстали… Он умирает, давая жизнь, разрушая Своей смертию смерть. Он погребен, но восстает вновь. Он нисходит во ад, но выводит оттуда души» (Orat. 41). Тайна воскрешающего Креста особенно чтится в Великую Субботу, день сошествия во ад. Ведь сошествие во ад — уже Воскрешение мертвых. В результате Своей смерти Христос соединяется с умершими, и это — дальнейшее распространение Воплощения. Ад — обиталище тьмы и смертной тени; он скорее место безумной тоски, чем заслуженного наказания, мрачный шеол, место безысходного развоплощения, едва тронутое тусклым скользящим лучом не взошедшего пока Солнца, лучом надежд и упований, пока не исполненных. Там проявлялась онтологическая немощь души, терявшей в смертном разлучении способность быть подлинной энтелехией своего тела — бессилие падшей, уязвленной природы. Да и не «место» вовсе, а духовное состояние — «темница духов» (см. 1 Пет. 3, 19). Именно в эту темницу, в этот «ад» нисходит Господь и Спаситель. Во тьме бледной смерти загорелся неугасимый свет Жизни — Божественной Жизни. «Сошествие во ад» — явление Жизни среди отчаяния растворенных смертью; это торжество над смертью. «Тело умерло не по немощи естества вселившегося Слова, но для уничтожения в нем смерти силой Спасителя», — говорит свт. Афанасий (De incarn., 26). Великая Суббота есть нечто большее, чем просто канун Пасхи. Она — «благословенная суббота», «Sanctum Sabbatum — requies Sabbati magni», по слову свт. Амвросия Медиоланского. «Сия бо есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел Своих Единородный Сын Божий» (стихиры на Господи воззвах, вечерня Великой Субботы). «Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1, 17–18). «Надежда бессмертия» христиан основана и держится этой победой Христа, а не какой–нибудь «природной» способностью человека. Кроме того, отсюда следует, что такая надежда обусловлена историческим событием, то есть историческим явлением Себя Богом, а не изначальным устройством или свойством человеческой природы.
V
Последний Адам
Смерть еще не упразднена, но беспомощность ее уже продемонстрирована. «Да, мы все еще умираем прежней смертью, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — но не остаемся в ней; а это не значит умирать. Власть смерти и истинная смерть есть та, когда умерший уже не имеет возможности возвратиться к жизни; если же после смерти он оживет, и притом лучшей жизнью, то это не смерть, а успение» (In Hebr., hom. 17, 2). Или, по выражению свт. Афанасия, «наподобие семян, ввергаемых в землю, мы разрешаясь не погибаем, но как посеянные воскреснем» (De incarn., 21). Произошло исцеление и обновление человеческой «природы», а поэтому восстанут все, все будут воскрешены и всем возвратится полнота их естества, хотя и в преображенном виде. Отныне всякое развоплощение временно. Мрачная юдоль ада уничтожена силой животворящего Креста. Первый Адам своим непослушанием раскрыл и реализовал врожденную способность к смерти. Второй Адам послушанием и непорочностью реализовал способность к бессмертию, причем настолько полно, что смерть стала невозможной. Подобную аналогию проводит уже сщмч. Ириней. Вера во Христа была бы тщетной и бесполезной без надежды на Всеобщее Воскресение. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). Христово Воскресение есть новое начало. Оно — «новое творение». Можно даже сказать, эсхатологическое начало, последний шаг на историческом пути Спасения ( [119]). Но нам всё–таки следует ясно различать исцеление природы и исцеление воли. «Природа» исцелена и возрождена как бы принудительно, могучей властью всесильного и всепобеждающего Божиего милосердия. Здравие, так сказать, «навязано» человеческой природе. Ибо во Христе вся человеческая природа («семя Адама») окончательно очищена от несовершенства и смертности. Обретенное совершенство обязательно сыграет свою роль, обязательно проявится в полной мере в надлежащие сроки — во Всеобщем Воскресении, воскресении всех: и праведных, и грешных. И, что касается природы, никто не сможет уклониться от царского указа Христа, никто не сможет воспротивиться всепроникающей мощи воскресения. Однако волю человека нельзя исцелить приказом. Человеческая воля должна сама устремиться к Богу. Должно возникнуть добровольное и искреннее чувство ответной любви и преклонения, должно произойти «свободное обращение». Только в «таинстве свободы» возможно исцеление воли человека. Только таким, свободным, усилием входит человек в новую вечную жизнь, явленную Христом Иисусом. Духовное возрождение происходит только в условиях абсолютной свободы, через самоотвержение и посвящение себя Богу во Христе. На это различие настойчиво указывал Николай Кавасила в своем превосходном сочинении «О жизни во Христе». Воскресение есть «восстановление естества», и Бог дает его даром. Царство же Небесное, и созерцание Бога, и соединение со Христом есть наслаждение желания, а значит доступно только восхотевшим, и возлюбившим, и возжелавшим. Бессмертие получат все, подобно тому как во всех действует Божий промысл. От нас не зависит, воскреснем мы после смерти или нет, равно как не зависело от нас наше рождение. Христовы смерть и воскресение приносят бессмертие и нетление всем в одинаковой степени, ибо всякий человек имеет то же естество, какое и Человек Христос Иисус. Но никого нельзя принудить к желанию. Таким образом, воскресение — всеобщий дар, а блаженство приимут лишь некоторые (De vita in Christo II, 86–96). И вновь дорога жизни предстает стезёй самоотречения и смирения, самопожертвования и самозаклания. Следует умереть для себя, чтобы жить во Христе. Каждый должен сам совершить личный и свободный акт соединения со Христом, Господом, Спасителем и Искупителем — через исповедание веры, через выбор любви, через мистическую клятву верности. Кто не умрет со Христом, не сможет жить с Ним. «Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас» (сщмч. Игнатий Богоносец, Magnes., 5; здесь явно Павлов слог). Это не только аскетическое или нравственное указание или просто угроза. Это — онтологический закон духовной жизни, закон самого бытия. Ведь возвращение здравия человеку обретает смысл исключительно в причастии Богу и жизни во Христе. Для находящихся в беспросветной тьме, для нарочно отрезавших себя от Бога даже само Воскресение должно казаться безосновательным и излишним. Но оно придет — придет как «воскресение осуждения» (Ин. 5, 29). И им завершится трагедия человеческой свободы. Мы воистину на пороге таинственного и непостижимого. Апокатaстасис [восстановление] природы не исключает свободу воли — воля изнутри должна быть движима любовью. Это ясно осознавал свт. Григорий Нисский. Он вполне допускает что–то вроде всеобщего обращения душ в загробном мире, когда Правда Божия откроется и предстанет с абсолютной и неотразимой очевидностью. Именно здесь проявляется ограниченность эллинистического мироощущения. Для него очевидность решающим образом влияет на волю, то есть «грех» — просто «неведение». Сознание эллинов должно было пройти долгий и тяжкий путь аскетизма, аскетического хранения и испытания себя, чтобы избавиться от интеллектуалистических заблуждений и наивности и обнаружить бездны мрака в падших душах. Лишь через несколько веков аскетических трудов, у преп. Максима, мы находим новую, переосмысленную и углубленную, трактовку апокатастасиса. Преп. Максим не верил в неизбежное обращение упрямых душ. Он учил о природном апокатастасисе, то есть о восстановлении каждого человека в полноте своей природы, о вселенском явлении Божественной Жизни, которая станет очевидна всем. Однако те, кто во время земной жизни коснел в угождении плотским страстям, жил «противоестественно», не смогут вкушать это вечное блаженство. Слово Божие есть Свет, просвещающий умы верных, но судным огнем попаляющий тех, которые по любви к своей плоти обитают в ночной тьме этой жизни. Разница здесь между. «Признавать» не значит «соучаствовать». Бог действительно будет во всех, но только в святых Он будет пребывать «милостиво», в нечестивых же — «немилостиво» . И грешники будут отчуждены от Бога отсутствием решительной воли к добру ( [120]). Мы вновь имеем дело с разделением природы и воли. Воскресением вся тварь будет возрождена, то есть приведена к совершенству и абсолютному нетлению. Однако грех и зло коренятся в воле. Эллинистическое мышление заключает отсюда, что зло неустойчиво и неизбежно должно исчезнуть само по себе, ибо ничто обойденное Божией волей не вечно. Вывод христианства прямо противоположен: бывает инертная и упрямая воля, и такое упрямство не может вылечить даже «всеобщее Исцеление». Бог никогда не совершает насилия над человеком, а значит, причастие Богу нельзя навязать упрямцу. По выражению преп. Максима, «не рождает Дух воли не хотящей, но Он лишь желающую (волю) преобразует для обoжения» (Quaest. ad Thalass., 6). Мы живем в другом мире — он стал другим после искупительного Христова Воскресения. Жизнь явлена, Жизнь восторжествует. Воплотившийся Господь — Второй Адам в полном смысле этого слова, и в Его лице было положено начало новому человечеству. Теперь несомненно не только окончательное «выживание» человека, но и осуществление в нем Божией цели Творения. Человек сделан бессмертным. Он не может совершить «метафизическое самоубийство» и вычеркнуть себя из бытия. Однако даже победа Христа не навязывает «Вечную Жизнь» противящимся существам. Как говорит блаж. Августин, для твари «быть не то же, что жить» (De Genesi ad litt. I, 5).
VI
«И жизнь вечная»
В христианском мировоззрении неизбежно напряжение между «данным» и «ожидаемым». Христиане чают «Жизни будущего века», но им известна и Жизнь, чаяние уже сбывшееся: «ибо Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную Жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1, 2). Это не только временнoе напряжение между прошлым, настоящим и будущим. Это напряжение между предрешением и решением. Можно сказать, что Жизнь Вечная предложена человеку, но его дело — принять ее. Увенчается ли успехом божественное «предрешение» по отношению к конкретной личности, зависит от ее «решимости верить», состоящей не в том, чтобы «признавать», а в том, чтобы искренне «соучаствовать». Начало христианской жизни — новое рождение водой и Духом. И прежде всего нужно «покаяние», metаnoia, — внутреннее изменение, сокровенное, но полное. Символика Святого Крещения сложна и многопланова. Однако в первую очередь это символика смерти и воскресения Христа (Рим. 6, 3–4). Это таинство воскресения со Христом через соучастие в Его смерти, восстание с Ним и в Нем к новой и вечной жизни (Кол. 2, 12; Флп. 3, 10). Только пройдя погребение, христиане совоскресают Христу: «если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим. 2, 11). Христос воистину Второй Адам, но люди должны родиться заново и соединиться с Ним, чтобы наследовать Его новую жизнь. Апостол Павел говорил о «подобии» смерти Христа (Рим. 6, 5). Однако «подобие» здесь нечто много большее, чем внешнее сходство. Оно не просто символ или воспоминание. Для самого апостола подобие заключалось в том, что Христос может и должен «изобразиться» в каждом из нас (Гал. 4, 19). Христос — Глава, все верующие — Его члены, и в них обитает Его жизнь. Это тайна Всего Христа — «totus Christus, Caput et Corpus» [весь Христос: Глава и Тело]. Все призваны и каждый способен верить и питаться верой и крещением с тем, чтобы жить в Нем. Поэтому крещение есть «возрождение», новое и благодатное рождение в Духе. По слову Кавасилы, крещение есть начало именно блаженной жизни во Христе, а не просто жизни (De vita in Christo II, 95). Свт. Кирилл Иерусалимский исчерпывающе объясняет истинную сущность всей крещальной символики. Это правда, говорит он, что в крестильной купели мы только «уподобляемся» смерти и погребению и, переживая их «символически», di¦ sumbOlou, не восстаем из настоящей могилы. Однако «уподобление бывает в образе, а спасение в самой вещи». Ибо Христос был подлинно распят, подлинно погребен и подлинно воскрес. «В самой вещи» — перевод греческого Ontwj, слова, которое даже сильнее, чем просто, «на самом деле». Оно подчеркивает исключительное значение смерти и воскресения Христа, явившихся абсолютно новым достижением. Теперь Он дал нам возможность, «подражательно» соучаствуя в Его страстях , «в действительности» получить спасение. Это не только «подражание», но и «подобие». «Христа распяли и погребли в действительности, но тебе даровано испытать распятие, погребение и воскресение с Ним в подобии». Иными словами, в крещении человек «таинственно» нисходит в смертный мрак, но всё–таки восстает с Воскресшим Господом и переступает из смерти в жизнь. «И всё над вами совершено в образе, потому что вы образ Христов», — заключает свт. Кирилл. То есть все соединены Христом и во Христе, отсюда — сама возможность «подобия» в таинстве (Mystag. II, 4–5, 7; III, 1). Свт. Григорий Нисский также подробно останавливается на этой теме. В крещении есть два аспекта: рождения и смерти. Плотское рождение есть начало смертного существования, конец которого — тление. Надо найти второе, новое рождение, ведущее в вечную жизнь. Во время крещения «присутствие Божественной силы возводит к нетлению рожденное в тленной природе» (Orat. cat., 33). Это происходит через подражание и уподобление во исполнение завещанного Господом. Только идя вослед Христа можно пройти лабиринт жизни и найти выход. «Ибо я сравню путь страждущего человечества под вечно бдящей стражей смерти со странствиями в лабиринте». Христос вырвался из него после трехдневной смерти. В крещальной купели «совершается полное подобие того, что сделал Он». Смерть «изображена» водной стихией. И как Христос воскресением вернулся к жизни, так и крещающийся, связанный с Ним по телесной природе, «подражает воскресению на третий день». Это только «подражание», m…mhsij, а не «тождественность». В крещении человек не воскресает на самом деле, но лишь освобождается от природной поврежденности и неизбежности смерти. В крещающемся разрывается «дурная бесконечность порока». Он не может воскреснуть, потому что не умирает и всё время таинства пребывает в этой жизни. Крещение — лишь тень грядущего воскресения, и, проходя обряд, человек лишь предвкушает благодать всеобщего восстания из мертвых. Крещение — начало, ?rc», а воскресение — конец и совершение, psraj; и всё, что происходит в Великом Воскресении, имеет свои зародыши в крещении. Можно сказать, что крещение — это «подобие воскресения» (Orat. cat., 35). Заметим, что свт. Григорий особенно подчеркивал необходимость сохранять и тщательно оберегать благодать, полученную в крещении. Ибо ею изменяется и преображается не только природа, но и воля, которая тем не менее остается абсолютно свободной. И если душу не очищать и не охранять свободным усилием воли, то крещение не принесет плода. Преображение не осуществится до конца, а новая жизнь не воспримется вполне. Это не подчиняет крещальную благодать санкции человека — Благодать нисходит всегда. Она, однако, не может быть навязана никому, кто сотворен свободным по образу Бога, — ей требуется согласие и отклик синергийной любви и воли. Благодать не согревает и не животворит замкнувшиеся и упрямые, по–настоящему «мертвые» души. Необходимы встречное движение и соработничество (Orat. cat., 40). Причина этого как раз в том, что крещение есть таинственная смерть со Христом, причастие Его вольным страданиям и Его жертвенной любви, которое может произойти только свободно. Таким образом крещение, будто живая священная икона, отражает и изображает Крестную смерть Христа. Крещение одновременно смерть и рождение, погребение и «баня пакибытия». «Время умирать, и время рождаться», по выражению свт. Кирилла Иерусалимского (Mystag. II, 4). То же самое справедливо в отношении всех таинств. Все таинства установлены именно для того, чтобы дать возможность верным «соучаствовать» в искупительной Христовой смерти и этим получить благодать Его воскресения. Таинствами подчеркивается и демонстрируется необычайное, вселенское значение жертвы и победы Христа. Это явилось основной мыслью труда Николая Кавасилы «О жизни во Христе», в котором было превосходно обобщено всё учение о таинствах Восточной Церкви. «Затем и крестимся мы, чтобы умереть Его смертью, и воскреснуть Его воскресением; помазываемся же, дабы соделаться с Ним общниками в царском помазании обожения. Когда же питаемся священнейшим Хлебом и пием Божественную чашу, сообщаемся той самой плоти и той самой крови, которые восприняты Спасителем, и таким образом соединяемся с Воплотившимся за нас, и Обоженным, и Умершим, и Воскресшим… Крещение есть рождение, миро бывает в нас причиной действования и движения, а хлеб жизни и чаша благодарения есть пища и истинное питие» (De vita in Christo II, 3–4, 6). Все церковные таинства содержат разнообразные символы, которыми «уподобляются» и изображаются Крест и Воскресение. Символика эта реалистична. Символы не просто напоминают нам о чем–то, имевшем место «в прошлом» и давно ушедшем. То, что случилось «во время oно», дало начало «Вечному». Все священные символы являют собой и в себе истинную Реальность, которую абсолютно адекватно раскрывают и передают. Эту священную символику венчает великая Тайна, совершающаяся во Святом Алтаре. Евхаристия — сердце Церкви. Она — Таинство Искупления в его высочайшем смысле. Она больше, чем «уподобление» или простое «воспоминание». Она — сама Реальность, одновременно скрытая и явленная в Таинстве. Евхаристия есть «совершенное и последнее Таинство , — говорит Кавасила, — нельзя и простираться далее, нельзя приложить большего». Это «предел жизни» . «После же евхаристии нет уже ничего такого, к чему бы нам стремиться, но, остановившись здесь, должны мы стараться узнать то, как до конца сохранить сие сокровище» (De vita in Christo IV, 1, 4, 15). Евхаристия есть сама Тайная Вечеря, происходящая, можно сказать, вновь и вновь, но, несмотря на это, не повторяющаяся. Ибо, творя ее всякий раз, мы не просто «изображаем», но на самом деле присоединяемся к той же «Тайной Трапезе», сотворенной единожды (и вовеки) Самим Божественным Первосвященником как преддверие и начало вольной Крестной Жертвы. И истинный Священник каждой Евхаристии — непременно Сам Христос. Свт. Иоанн Златоуст неоднократно повторял это: «Итак, веруйте, что и ныне совершается та же вечеря, на которой сам Он возлежал. Одна от другой ничем не отличается» (In Matt., hom. 50, 3). «Действия этого таинства совершаются не человеческой силой. Тот, Кто совершил их тогда, на той вечери, и ныне совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары сам Христос… Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек; ту и другую совершает сам Христос. Это место есть та самая горница, где Он был с учениками» (hom. 82, 5). Это вопрос первостепенной важности. Тайная Вечеря была принесением жертвы — Крестной жертвы. Жертвоприношение продолжает длиться до сих пор. Христос до сих пор является Первосвященником Своей Церкви. Таинство — то же, Священник — тот же, и Трапеза — та же. Еще раз обратимся к творениям Кавасилы: «Принеся и пожертвовав Себя единожды за всех, Он не прекращает Своего вечного служения, совершая его ради нас, и всегда будет в нем нашим ходатаем пред Богом» (Explan. div. liturg., 23). Воскрешающая мощь Христовой смерти в полную силу проявляется в Евхаристии, которая есть «врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Иисусе Христе» по слову сщмч. Игнатия (Ephes. XX, 2). Это «небесный Хлеб и Чаша жизни». Это страшное Таинство становится для верных «обручением Жизни Вечной», и именно потому, что сама смерть Христа уже была Торжеством и Воскресением. В Евхаристии соединены начало и конец: воспоминания евангельских событий и пророчества Апокалипсиса. Она — sacramentum futuri [таинство будущего], потому что она — воспоминание Креста. Евхаристия суть таинство предчувствия и предвкушения Воскресения, «образ Воскресения» (выражение молитвы на потребление Св. Даров литургии свт. Василия Великого). Только «образ» не потому, что она простой символ, а потому, что история Спасения продолжается и надо ожидать, чаять жизни будущего века.
VII
Христиане, будучи христианами, не должны верить философским теориям бессмертия. Они должны верить во Всеобщее Воскресение. Человек — тварь. Самим своим существованием он обязан Богу. Человеческое бытие не необходимо. Оно — милость Божия. Но Бог сотворил человека для бытия, то есть для вечности. Достичь же вечности и обрести ее можно только в единении с Богом. Нарушение этого единства подрывает, хотя и не обрывает, человеческое бытие. Человеческие смерть и смертность свидетельствуют о нарушенном единстве, об одиночестве человека, о его отчужденности от источника и цели своего бытия. Однако действие творящего fiat продолжается: единство восстанавливается Воплощением. В смертной тени вновь явлена Жизнь. Воплотившийся — Жизнь и Воскресение. Воплотившийся — Покоритель смерти и ада. Он — Первенец Нового Творения, Первенец из умерших. Физическая смерть человека — не отдельное «природное явление», а, скорее, зловещее клеймо изначальной трагедии. «Бессмертие» бестелесных «душ» не решает человеческую проблему. А «бессмертие» в мире, лишенном Бога, «бессмертие» без Бога или «вне Бога» тотчас превращается в вечную муку. Христиане, будучи христианами, стремятся получить нечто более великое, чем «природное» бессмертие. Они стремятся к бесконечному единению с Богом, то есть, по удивительному выражению ранних Отцов, к обожению (theosis). Ничего «натуралистического» или пантеистического в этом нет. Обожением называют тесное, сокровенное причастие человеческих личностей Живому Богу. Быть с Богом — значит пребывать в Нем, становясь причастником Его совершенства. «Так что Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался Сыном Божиим» (сщмч. Ириней Лионский, Adv. haeres. III, 10, 2). В Нем человек навеки соединен с Богом. В Нем — наша Жизнь Вечная. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18). И в конце времен вся тварь войдет в Благословенную Субботу, в самый настоящий «День упокоения», таинственный «Осмый день творения», когда наступят Всеобщее Воскресение и Грядущий Век.
Вселенское Предание и славянская идея
И не думайте говорить в себе:
Отец наш — Авраам; ибо говорю вам,
что Бог может из камней сих
воздвигнуть детей Аврааму.
Мф. 3, 9.
В своих замечательных «Историко–философских чтениях» Гегель с большим подъемом говорил о рождении философии из народного духа. «Философия вообще» есть призрачное ens Imaginationis. В своем историческом существовании философская жизнь связана лишь с немногими народами и только с некоторыми эпохами. Есть как бы свои сроки и места для философских рождений и вспышек духа. Но при этом не просто наступает время «философствовать вообще»: нет, у определенного народа возникает определенная философия. В ней раскрывается его дух, его жизнь, его идея. В процессе органического роста дозревает народная жизнь до философской рефлексии. В муках и сомнении преодолевает созревающая мысль безразличный покой «естественного существования» и вступает в мир «понимания». Так начинается философская жизнь у каждого народа. — Такое распадение «внутреннего стремления» с «внешнею действительностью», с «субстанциональным образом существования» переживало русское общественное сознание на рубеже двадцатых и тридцатых годов прошлого века, почти сто лет тому назад.
Эти десятилетия справедливо были названы «замечательными». «Люди тридцатых годов» резко и заметно отличаются и от своих отцов, и даже от своих старших братьев всем существом своего умственного и нравственного склада, темпом и стилем своей внутренней жизни. Они точно охвачены какою–то горячкой, тревожным беспокойством, каким–то священным платоническим «безумием», восторгом и возбуждением. В их душевной жизни господствуют героические аффекты, восторженно–ликующие или безотрадно–скорбные, — но всегда неистовые и неукротимые. Это, подлинно, — «ледоход русской жизни». «Люди тридцатых жуткой. Они словно больны внутренним раздвоением, лермонтовской грустью и «рефлексией». И это щемящее переживание разрешается то бескрылым влечением к духовной цельности, тягою к природе, культом патриархального быта, то грустными воспоминаниями о героических этапах невозвратимого прошлого. «Болезнь напряженности нравственной распространялась, как зараза», — выразился об этом времени впоследствии Ап. Григорьев. «Паника усиливается в мысли». Это была эпоха «пробуждающегося сознания», выходящего из привычной спаянности с бытом. В новом поколении, по выражению Герцена, «ошеломленная Россия приходила в себя». Отсюда такая боль, такое томление, и вместе с тем такая радость жизни, такое умиление. Нет, это не была расплывчатая, романтическая Sehnsucht[121]. Это была предметная тоска. «Тридцатые годы», верно заметил Достоевский, это — эпоха, «впервые сознательно на себя взглянувшая», когда «чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом».
«Нам необходима философия, все развитие нашего ума требует ее, — писал Ив. Киреевский в 1830 году. — Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество строгости. Но откуда придет она?.. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия». И действительно, из жизни родилась русская философская мысль, — сперва под видами литературной критики и историософических рассуждений, в пылу культурно–патриотических упований и споров. Никогда с метафизического парения не начинается философская жизнь. На спекулятивные высоты умудренная историческим опытом мысль подымается впервые лишь тогда, когда достигнуты какие–то бытовые пределы, когда повседневные загадки, «затрудняющие» и «изумляющие» обыденное сознание, сгущаются и сублимируются в философские проблемы, когда, словом, есть на что глядеть с высоты. И созерцают с высоты свою близкую и родную жизнь. В тридцатые годы в русское сознание неотразимо врезалась загадка России. И это стало необходимо и возможно после Отечественной войны «священной памяти двенадцатого года» с ее «всенародным опытом», после «Истории Государства Российского», после Жуковского и Пушкина… С неодолимою силой обращается мысль к вопросам о русском «лице», о «русской судьбе», о «русском призвании»; с неизбежностью назревают «славянофильские проблемы».
Было бы грубой ошибкой преувеличивать значение и роль германского идеализма в возникновении этой национально–философской тревоги. Западные идеи служили скорее «гипотезою оформления», нежели «бродильным ферментом». Беспокойство рождалось из жизни. Аполлон Григорьев писал впоследствии очень верно: «Всякое веяние переходило, так сказать, в религию, то есть в связанное, цельное бытие идеала и действительности, мысли и жизни… Книги для нас не просто книги, предметы изучения или развлечения: книги переходили и переходят у нас непосредственно в жизнь, в плоть и кровь, изменяли и изменяют часто всю сущность нашего нравственного мира»… Но это не значит, что чужие книги принимаются на веру: из немецкой философии русская мысль заимствовала не столько готовые решения, сколько вечные вопросы и очередные задания, которые сразу наполнились новым, своим, живым и выстраданным содержанием. Философия прошлого становилась для русской мысли задачею и проблемой во всей своей вековой совокупности. И так как это была философия «европейская», то «Европа», «Запад» превращались вместе с тем тоже в объект философского раздумья, — с тем большей неизбежностью, чем больше вырисовывалось различие «Запада» и России. Отсюда — «борьба с Западом», наполняющая всю историю общественного сознания прошлого века: борьба не в смысле обособления во что бы то ни стало, но как ответственная оценка его начал и достижений. Ибо в Западе всегда невольно виделась «вторая родина» русская. И там некогда, по слову Хомякова, «веры огнь живой потоки света лил», и только современный Запад весь «задернут мертвенным покровом». И русская проблема понималась как вопрос о смене отзвонившему звонарю, как вопрос о наследовании.
При первом погружении в родную стихию русского наблюдателя обступали волнительные загадки, и чем глубже проникал взор, тем нагляднее раскрывалось русское своеобразие и резкая противоположность России и Запада. Со всею силой и остротою выразилось это историософическое изумление уже в первом «философическом письме» Чаадаева. Эта антитеза врезывается в русское внимание и образует живое средоточие философского раздумья вплоть до наших дней. Ее можно было истолковать по–разному. Всего проще было понять ее как различие исторических возрастов: такое понимание легло в основу так называемого «западнического» направления. Но сразу же наметилось и другое понимание, — явилась мысль о двух духовных типах. Даже Чаадаев ясно видел, что причина особенностей русской исторической судьбы лежит в наследии древней Византии. Его унылый и зловещий пессимизм опирался именно на сознание русского своеобразия. И впоследствии, оставаясь при тех же основных воззрениях, он стал видеть в России «Божий народ будущего». Но с особою силою было почувствовано это своеобразие теми «людьми тридцатых годов», которых позже стали называть «славянофилами». Это были братья Киреевские, Иван и Петр, Хомяков, Юрий Самарин, братья Аксаковы, Иван и Константин. Наряду с ними нужно назвать имя своеобразного «западника» и «русского социалиста» Герцена. Раздумье над русской судьбой шло параллельно размышлению о судьбах Европы. И наряду с безотрадным отречением Чаадаева от России нужно упомянуть о разочарованных пророчествах князя В.Ф. Одоевского, после ряда намеков, выкристаллизовавшихся в эпилоге к его замечательным «Русским ночам». Еще в 1833 году писал он: «Какой тайный голос говорит Европе, что Россия висит над нею как туча?» Не пророчество ли это? И Одоевский патетически восклицает: «Россия, матушка! Тебя ожидает или великая судьба, или великое падение! С твоей победой соединена победа всех возвышенных чувств человека, с твоим падением — падение всей Европы, такое падение, которое, вероятно, постигло те бесчисленные народы, которых остатки гаснут в степях Нового Света». «Запад ожидает еще Петра, который бы привил к нему стихии Славянские; оттого страдает Запад, ибо тогда только образуется полнота человеческой жизни… Европейцы чуют приближение Русского ума, как сомнамбулы приближение магнетизера… Будет русское завоевание Европы, но духовное, ибо один Русский ум может соединить хаос европейской учености»… «Соедини же в себе опытность старца с силою юноши», — взывает Одоевский в эпилоге «Русских ночей» к «новому поколению». «Не щадя сил, вынося сокровища науки из–под колеблющихся развалин Европы, и, вперя глаза свои в последние судорожные движения подыхающей, углубись внутрь себя! В себе, в собственном чувстве ищи вдохновения, изведи в мир свою собственную, не прививную деятельность и в святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились отцы твои. Девятнадцатый век принадлежит России!..» Эти зовы и афоризмы — первая формулировка идеи о русском призвании в Европе и первая схватка в «борьбе с Западом».
Почувствованную и осознанную противоположность России и «Европы» можно было объяснять по–разному: или сводить к противоположности религиозных начал, или к различию общественно–бытовых типов, или ограничивать различием этнографических носителей. Так складывалась тройственная антитеза православного Востока и латино–протестантского Запада, мира общинного и «социального» и мира «политического» или государственного, мира славянского и мира романо–германского. Между этими антитетическими парами была внутренняя связь и зависимость. Этнографическая характеристика неизбежно требует восполнения — нужно указать ту идею, во имя которой народ или племя имеет право не только на физическую наличность, но и на достойное историческое и действенное существование, указать те начала, в действотворении и воплощении которых заключается национальное призвание и дело. И в этом отношении еще недостаточна одна ссылка на историческую молодость славянства и России, на запасы и избыток еще нетронутых и нерастраченных сил, на отсутствие тяготящих воспоминаний и обременительного наследия перенесенных неудач, словом, на «юный пластицизм». Эту ссылку мы встречаем и у кн. Одоевского, и у Чаадаева, и в особенности у Герцена. Молодость, конечно, предвещает годы дальнейшей жизни. Но одного возраста еще мало для обеспечения творческих достижений, деяний и подвигов. И если этой ссылке на возраст часто придавалось решающее значение, то потому, что за молодостью виделась какая–то тайна, предчувствовалось и презиралось какое–то новое слово. И при всех своих расхождениях при всем разнообразии оттенков и ударений, все почти люди «замечательных десятилетий» были убеждены, что России на челе славянства суждено и предначертано сказать миру «таинство свободы», слово «примирения», братства и всеобъемлющей, всечеловеческой любви. В этом чаянии сходились православные славянофилы, социалист Герцен, Достоевский, Тютчев. На разные основания опиралось такое упование, но все согласно ждали не только новых, но и лучших времен.
Через весь истекший век пронесли эту надежду и эту веру в высокое историческое предназначение славянского мира и славянской России русские мыслители. И не разбиты они и сейчас силою рокового крушения родной страны. Но по–прежнему таинственна и загадочна русская и славянская судьба и по–прежнему вызывает она споры. И главная, и основная трудность вопроса заключается в том, как понимать самый смысл национальной идеи и национального своеобразия. Здесь ясно наметилось одно решительное расхождение, два разных уклона. Всего проще было отождествить призвание с врожденным характером народа, и свести все существо своеобразия к неповторимой индивидуальности. Тогда центр тяжести переносился на этнографический субстрат, и, действительно, весь вопрос сводился к возрасту. Народ приравнивался к организму, и последнее оправдание своеобразия и самобытности отыскивалось во множественности «культурно–исторических типов», аналогичной множественности видов биологических. Такова была точка зрения Герцена с изумительным блеском развитая им в особенности в «Концах и Началах». На ней же стоял Данилевский, и под его и Герцена внушением — гениальный Леонтьев. Получала биологический оборот и «борьба с Западом». Ударение делалось на его старости, и Леонтьев старательно высчитывал, что истекла уже для «Европы» роковая и сакраментальная чреда — 1200 лет, — долее не проживает ни одно государство. О характере и причинах «старости» и дряхления с этой точки зрения, в сущности, нечего было спрашивать: и самые «грехи Запада» относились за счет возраста. И вместе с тем, с точки зрения возрождаемой таким образом теории «постоянства видов» совершенно и принципиально отклонялся вопрос о каком им то ни было нормативном значении «романо–германского» Запада для иного и чуждого славянского (или греко–славянского, или восточного) «культурно–исторического типа». Вопрос о национальном творчестве сводился, в последнем счете, к требованию «быть самим собой», быть верным голосу крови, и развивать свои прирожденные склонности и задатки. Общечеловеческие начала выразительно отметались во имя свободы физиологического самоопределения видов.
Не так понимали национальную идею ранние русские славянофилы, как ни был силен и у них соблазн бытового и физиологического уединения и обособления. Для них, это не была некая «врожденная идея», не кровный зародыш, но призвание. И в этом случае национальное самооправдание восходит к исповеданию безусловной, общезначимой и единой Правды, которою должно (не принудительно, но нормативно) освящаться всякое человеческое делание и пред лицом которой оно оправдывается или осуждается, независимо от своего соответствия народному духу и племенному характеру; народы при этом, как и индивиды, рассматриваются именно как свободные носители некоторых самодовлеющих ценностей, — или как отрицатели и разрушители этих ценностей, — как служители идеалов или идолов. «Культура», стало быть, есть нечто качественно и генерически иное, нежели «быт», нежели простое осуществление врожденных и неотъемлемых задатков. Это есть именно служение, стремление и воплощение, овладевание. Для Хомякова и Самарина, для Ив. Киреевского Россия была дорога и священна не только по силе кровной связи с родиной, но еще более как историческое дело православия […] И Запад «отталкивал» их вовсе не своим гниением, не своею дряхлостью: и даже он вовсе их не отталкивал, а тянул и манил, как больной и страдающий брат; а значительности его приобретений они никогда не отрицали. Но их пугала преждевременная, болезненная, противоестественная «старость» Запада, и они видели ее причину во лжи и недостаточности начал его жизни, в подмене и подделке идеалов — идолами, «отвлеченными началами». Пафос вечного и вселенского давал им право суда и оценки. Они осуждали Запад за отпадение от Вселенской Церкви, и Вл.Соловьев был верным учеником ранних славянофилов, когда называл разделение церквей главным и роковым событием христианской истории и в его преодолении видел единственный путь к разрешению «Великого Спора» — Востока и Запада. И вместе с тем, вся историческая значительность и своеобразие русской духовной жизни определяется именно восточно–православным ее происхождением и преемством. Как «живая наследница Восточного православия» Россия и есть особый мир. И то же должно сказать о славянстве в целом; именно потому с такою трагическою болью переживали Юрий Самарин и Тютчев страдания одноплеменной, но иноверной Польши, потому так тревожила Тютчева судьба Чехии и ее безрелигиозного возрождения. Но, вместе с тем, именно наследие подлинной и потому вселенской истины обязывает к преодолению замкнутости, к преодолению того, что Вл.Соловьев удачно назвал «протестантизмом местного предания». По меткому слову Достоевского, Древняя Русь «готовилась быть неправа», отклоняя от себя задачу вселенской проповеди вверенной ей Христовой истины. И в этом смысле была необходима «Петровская реформа», как ни мало удачен был этот насильственный и революционный опыт частичного воссоединения разделенных Востока и Запада, Рима первого и Рима второго. И вперед уже вполне и сознательно должна Россия на челе славянства становиться Востоко–Западом или Западо–Востоком, продолжая и исполняя европейскую историю, ибо, как говорил еще Ив. Киреевский, «начала русской основной образованности только потому особенны от западных, что они высшая их ступень, а не потому, чтобы были совершенно особенны». Знаменитая формула Достоевского о русском всечеловеческом призвании положить конец «европейской тоске», внести «примирение» в европейские противоречия «уже окончательно» — была предвосхищена не только Киреевским, но и Одоевским. «Православие есть вселенское сокровище, сокровище для всего мира, и как священный залог вручено оно России: и должна же, наконец, православная Церковь явиться во всей красоте и благолепии как в одержании Востока, так и в очах западного человека», — писал замечательный, хотя и малоизвестный, русский богослов и мыслитель, архимандрит Феодор (Бухарев). В эту […] мечту о явлении Православия миру, о создании православной культуры, как нового и живого синтеза древних отеческих преданий и неудачных опытов Запада, — упирается вся национальная надежда и весь пафос раннего русского славянофильства. В их вселенском, общечеловеческом пафосе не было никакой опасности для самобытности и своеобразия: ибо речь идет не о субстанциональном единстве человечества, не об единстве естественного типа развития и не о принудительном единообразии форм быта, но об единстве интернациональном, если можно так выразиться, об единстве устремления и цели, тяги и порыва, не исключающим многообразия, но уже свободно–индивидуальных, а не принудительно–особенных форм. К единой цели, к одному и тому же средоточию призван всякого рода и всякого времени человек, но каждому подобает идти по своему радиусу. И речь идет не о смене одного «народа» другим, одной «особенности» другою столь же ограниченною особенностью, но и о творческом собирании и объединении всего драгоценного наследия, накопленного в страдальческом историческом опыте единокровного человечества.
И только при такой постановке вопроса мы достигаем подлинной и надлежащей высоты исторического понимания, когда отпадают уже мелкие злободневные пристрастия. Национальная воля и творческий размах достигают своего исполнения только чрез акт своеобразного самоотречения, только чрез молитвенное сознание: не вам, не нам, но имени Твоему даждь славу! Народ есть только носитель, и не биологическое самоутверждение, но волнительное сознание безусловной ценности врученного славянству вселенского дара православной веры дает право на существование своей, особой восточно–православной культуры. Только тогда история есть ответственный подвиг осуществления Правды Божией, а не один только стихийный процесс борьбы за выживание вида. Не на славянской, а на православной особенности лежит центр тяжести. Но православие не есть особенность, наряду с другими, а полнота, от которой другие действительные «особенности» отпали. Поэтому–то и ждал Достоевский от России «всечеловеческого» слова «примирения». Но отсюда родится долг — в полном самообладании поднять на себя всю сложность и тяготу неудач и ошибок «западной мудрости», оценить все «чудеса старого Божьего мира», — пусть лукавого и грешного, но Богом Любви созданного и Крестом искупленного, — оценить весь «трудный подвиг Европы»; долг понять трагедию Запада, возвести ее к ее началу, к так называемому «разделению церквей»… Надлежит в сочувственном, воскрешающем воспоминании пройти через все исторические пласты вплоть до сияющих времен «древней неразделенной Церкви», пережить муки скорби за братьев павших и отторгнутых. Славянству должно вспомнить о своей исторической матери, о православной Византии, о своих первоучителях, равноапостольных братьях. Надо почувствовать свою духовную связь с культурой православного древнего мира и подхватить повисшие в воздухе нити святоотеческого преемства. В православии были истоки и силы славной культуры югославянской, старой Болгарии и старой Сербии. Не о новых изобретениях и не о новых синтезах можно говорить, — не о том, чего не бывало. Но именно о возврате, — о возврате, — о возврате и возвращении к покинутому или забытому единому стаду Православной Церкви. В этом единственный залог славянского единения и братства. И будем верить, в томительные дни исторических содроганий грешного мира, что силою Вышнего, и Его одного, могут дела человеческие процвести паче, нежели жезл Ааронов. Ибо «не от Востока и не от Запада, и не от пустыни возвышение, — но Бог есть судия», и даже из камней он силен восставить детей Аврааму.
Praha 1924. XII.11–24.
Печатается по первой публикации:
«Юбилейна книга на славянски дружество в Болгарии». София, 1925, с. 25–33.
Евразийский соблазн
Евразийство основали… весьма разные по подходам и научным интересам люди. Объединившиеся в своем первом сборнике «Исход к Востоку» (1921) молодые ученые видели свою цель в нащупывании и прокладывании путей для некоторого нового направления, которое они обозначили… термином «евразийство»; …общее настроение, пронизывающее это и последующие евразийские издания, можно характеризовать как антизападничество. Резко сформулировал эту позицию П. Савицкий: «евразийцы…понимают, что сущность, которая Россией… была воспринята и последовательно проведена в жизнь, в своем истоке, духовном происхождении не есть сущность русская…».
Большая часть критики «евразийского соблазна», содержащаяся в публикуемой статье Г. Флоровского, относится к мировоззрению Льва Карсавина, главного идеолога основанной в 1928 году газеты «Евразия», в которой евразийство рассматривалось как особый вид марксистского ревизионизма.
Жизнь… развела этих выдающихся мыслителей по разным полюсам евразийского движения, в котором они оба участвовали, и показала, где лежит сокровище каждого из них.
Полностью вступительную статью
А.В.Соболева «Полюса евразийства» см.:
«Новый мир», 1991, №1 с.180–182
Дни правды дороже воинственных дней… [122]
Судьба евразийства — история духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но нужно сразу и прямо сказать, это — правда вопросов, не правда ответов, — правда проблем, а не решений. Так случилось, что евразийцам первым удалось увидеть больше других, удалось не столько поставить, сколько расслышать живые и острые вопросы творимого дня. Справиться с ними, четко на них ответить они не сумели и не смогли. Ответили призрачным кружевом соблазнительных грез. Грезы всегда соблазнительны и опасны, когда их выдают и принимают за явь. В евразийских грезах малая правда сочетается с великим самообманом. «В них рассказ убедительно–лживый развивал невозможную повесть. И змеиного цвета отливы волновали и мучили совесть» [123]… Первоначальное евразийство хотело быть призывом к духовному пробуждению. Но сами евразийцы, если и проснулись, то для того, чтобы грезить наяву… Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. Он никуда не ведет. Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути.
1
Революция всех застала врасплох, и тех, кто ждал ее и готовил, и тех, кто ее боялся. В своей страшной неотвратимости и необратимости свершившееся оказалось непосильным и внутренний смысл и действительная размерность происходившего оставались загадочны и непонятны. И нелегко дается мужество видеть и постигать.
Есть и была вечная и простая правда в белом деле и в белой борьбе. Это — правда наивного и прямого нравственного противления, правда волевого неприятия и отрицания мятежного зла. Но на нравственное противление нужно иметь духовно оправданное право. И духовную силу, собираемую во внутреннем искусе и бдении, нельзя заменить ни пафосом благородного негодования, ни жаждой мести. Белый порыв распался в страстной торопливости, отравленной ядами «междоусобной брани». Нравственное негодование не перегорело в смирении, не просветлело в вещей зоркости трезвенной думы. Среди грохота исторических обвалов казалось странным и неуместным задуматься, сосредоточиться, уйти в себя. Это казалось превратным безделием и бездействием, внутренней сдачею и отказом от борьбы. Максимализм бездумного, мстительного гнева разряжался в кровяное нетерпение внешнего действия и внешнего конца. В такой торопливости нет подлинной силы и действенной правды. Ибо нет воли к покаянию. И нет зоркости. Ненависть выжигает любовь, а только в любви духовная зоркость. Легко было поддаться опьянению нравственного ригоризма и пред лицом зла и злобы, творимой на русской земле ее теперешней антихристовой властью, духовно ослепнуть и оглохнуть и к родине самой, и потерять всякий исторический слух и зоркость. Точно нет России и до конца и без остатка выгорела она в большевистском пожаре, — и в будущем нам, бездомным погорельцам, предстоит строиться на диком поле, на месте пустом. В таком поспешном отчаянии много самомнения и самодовольства, сужение любви и кругозора. За советской стеною скрывается от взоров страждущая и в страдании перегорающая Россия. Забывается ее творимая судьба. И нужно прямо и твердо понять: революция и разруха, обман и отрава не убили Россию; и она живет и жива, жива в безумии и озорстве, жива в буйном хмеле и злобе, жива в молчаливом противлении, жива в незримом преображении своем. Среди бесовского маскарада, под мерзостной маскою есть творимая Россия, и проходит она по мытарствам огненного испытания. И с нею должна быть наша любовь, любовь сочувствия и любовь противления, двоящаяся и строгая любовь. Наша душа должна внутренне обратиться к России, в любви отождествиться с нею. И приять ее роковую судьбу, как свою судьбу, и перестрадать ее покаянный искус. Не всё в любимой России должны мы принять и благословить. Но всё должны понять и разгадать, как тайну Божия гнева, как правду Божия суда. Аще забуду тебе, Иерусалиме, да будет забвена десница моя… [124]
Нужно понять и признать: русская разруха имеет глубокое духовное корнесловие, есть итог и финал давнего и застарелого духовного кризиса, болезненного внутреннего распада. Исторический обвал подготовлялся давно и постепенно. В глубинах русского бытия давно бушевала смута, сотрясавшая русскую почву, прорывавшаяся на историческую поверхность и в политических, и в социальных, и в идеологических судорогах и корчах. Сейчас и кризис, и развязка, и расплата. В своих корнях и истоках русская смута есть, прежде всего, духовный обман и помрачение, заблуждение народной волн. И в этом грех и вина. Только в подвиге покаяния, в строгом искусе духовного трезвения, может открыться и открывается подлинный выход из водоворотов ликующего зла. На духовный срыв нужно ответить подвигом очищения, внутреннего делания и собирания. Только в бдении и аскезе, только в молитвенном безмолвии накопляется и собирается подлинная сила, — в молчаливом искусе светлеет и преображается душа, куется и закаляется творческая воля. Только в этом подвиге совершится воскресение и воскрешение России, восстановление и оживление ее разбитого и поруганного державного тела. Это трудный н суровый путь. Но нет легких и скорых путей для победы над злом, и в делах покаяния дерзко требовать легкости. Предельный ужас революции был в нашем бессилии — в том, что в грозный час исторического испытания нечего было противопоставить раскованным стихиям зла, что в этот час открылось великое оскудение и немочь русской души. В революции открылась жуткая и жестокая правда о России. В революции обнажаются глубины, обнажается страшная бездна русского отпадения и неверности — «и всякой мерзости полна»… [125] Нечего бояться и стыдиться таких признаний, нечего тешить себя малодушной грезой о прежнем благополучии и перелагать все на чужую вину. В раскаянии нет ни отступничества, ни хулы. И только в нем полнота патриотического дерзновения, мужества и мощи.
В таких исторических признаниях, в остром и живом чувстве сверхполитической и лжедуховной природы русской революции, и в призыве к зоркому культурно–патриотическому бдению и раздумью, — в этом была правда и историческое дело начального евразийства. И эта правда оказалась жестокой для самих евразийцев. Они тоже соблазнились о терпении и увлеклись исканием легких и скорых путей. В своем внутреннем развитии, или, сказать правду, разложении евразийство отравилось тем самым соблазном лжедейственной торопливости, с раскрытия и обличения которого оно началось, — отравилось вожделением быстрой и внешней удачи. Верные, но беглые наблюдения разрослись в торопливый и мечтательный синтез, и обманная, хотя и розовая греза заволокла и окутала историческую быль.
2
В самом восприятии и в толковании переживаемой современности евразийцы не сумели и не смогли соблюсти строгой внутренней меры, не сумели сочетать свободу исторического внимания со свободою высшего и духовного, оценочного разбора и суда. Евразийцы точно зачарованы историческими видениями, развертывающимися вокруг «в обстановке величайшего социально–практического переустройства и возбуждения» [126]. Они подавлены исторической необходимостью, мощной поступью неотразимых событий. Для них «жизнь есть конкретность идеи», единой, единственной, и потому «истинной». Истину они хотят найти и расслышать в исторической действительности, в эмпирическом бывании, как его скрытую, но непреложную тему. И потому в их сознании правило исторической чуткости превращается в требование «слушаться» истории, — именно слушаться, не только слушать. Исторический учет и признание косвенно перерождаются в покорное и даже угодливое приятие творимой новизны. Евразийцы не допускают возможности неправедной истории. При всей неизбежности эмпирической неполноты и несовершенства, в истории для них всегда раскрывается, осуществляется и овеществляется правда. И отсюда у них болезненный страх исторической отсталости, страх не попасть в ритм событий. В бессильном испуге рождается торопливая готовность уступить зову времен. Евразийцы как–то веруют в непогрешимость истории, в благодетельную ритмику органических процессов. Они приемлют суд времени как окончательный и неопровержимый суд. И отказываются от суда над историей, как от безумной тяжбы со вселенской и премудрой стихией, властью, проявляющей себя в роке исторической судьбы. В оценочном суде над историей им чудится состав гордости и насилия, чудится мечтательная отвлеченность, гордость неудачников, отброшенных «естественно–органическим» процессом развития и брюзжащих в обиженном сознании своей ненужности и обреченности. Евразийцы готовы подсмеиваться над каждым, кто не поддается с покорностью органическому насилию стихий, как над близоруким изгоем всемощной жизни. И точно, бывают безнадежно опоздавшие и отсталые люди, ослепшие и оскудевшие безвременно и безвозвратно. Но евразийцы забывают, что судить и осуждать, и отвергать историческую новизну можно не только во имя старого, но и во имя вечного, во вдохновении подлинных святынь. В евразийстве оживает «пресловутое змеиное положение» о разумности действительного и действительности разумного, какой–то огрубелый и опрощенный «панлогизм». В испуге отвлеченности евразийцы и не замечают и не хотят заметить греховного и грешного расхождения и несоответствия «истинной идеи» и… самой жизни. Это расхождение не только по степени. То правда, что в жизни, во всех ее изворотах и сращениях, раскрываются и осуществляются «идеи». Но не во всякой жизни воплощается одна и та же, «истинная» идея. Мало и недостаточно уловить «смысл происходящего». Может оказаться, что события текут в бездну отпадения — и в этом их «смысл». Подобает ли тогда радоваться, подобает ли разрушительные идеи возводить в мерило и идеалы, как бы ни были они пестры и многоцветны, как бы «органически» ни были они сращены с жизнью… Бывает злая жизнь. И ей надлежит противиться, без примирения и уступок. В таком противлении нет никакой отвлеченности, нет гордости и отщепенства. Напротив, только в праведном противлении осуществляется подлинное смирение, — смирение пред голосом Божией правды, не пред слепым роком. Только в нем преодолевается человеческая гордыня, овеществившая себя в злом направлении исторических событий. Только в нем проявляется высший и подлинный реализм, учитывающий не только извивы исторического бывания, но и гораздо более действительные, хотя в исторической эмпирии и не осуществленные Божественные меры бытия, — Божию волю о мире. Этого высшего и духовного реализма вовсе нет в евразийстве. Евразийцы приемлют случившееся и свершившееся, как неотвратимый факт, — не как знамение и суд Божий, не как грозный призыв к человеческой свободе.
В евразийстве есть воля и вкус к совершившейся революции, и евразийцы приемлют ее как обновление застоявшейся жизни. Они правы, революция есть «глубокий и существенный процесс», не «историческое недоразумение». В русской современности динамически интегрирована и интегрируется длительная и сложная предыстория. Правильно и своевременно говорить сейчас о противоречиях и неувязках старой, петербургской России, в которых зачиналась, и готовилась, и созревала смута. В известном смысле, конечно, революция есть «саморазложение Императорской России», бурный конец петербургского периода. Но смысл этого исторического обрыва евразийцы толкуют узко и превратно, в скудных терминах натуралистической морфологии. Весь смысл трагедии старой России сводится для них к некоему «псевдоморфозу», к «разрыву» правительства с «народом», к правительственному насилию над народной массой, втесняемой в чужеродные и тем самым ложные рамки «европеизма». И торопливое примирение с «новой Россией», рождающейся в кровавой пене революции, для евразийцев вполне оправдывается совершившимся обнажением материка, освобожденного от насильственных наслоений.
Любовь к отечеству — сложное и запутанное чувство: голос крови и голос совести соединяются в нем. чаще перебивая и заглушая друг друга, редко сливаясь в мирном созвучии. И до этой меры патриотическая любовь должна возрастать в суровом внутреннем искусе. Этого искуса нет в евразийстве. В нем недостает строгости к себе, недостает страха Божия, нравственной чуткости, духовного смирения и простоты. В евразийском патриотизме слышится только голос крови и голос страсти, буйной и хмельной. Патриотизм для евразийцев есть «пенящийся и хмельной напиток», не зов долга и не воля к подвигу. Евразийцам кажется, будто сейчас приходится делать выбор между интеллигентскою хилостью и новой «народной» силой и выбирают вторую. Они не понимают, что выбор предстоит между греховным самоутверждением и творческим самоотречением, в покаянной покорности Богу. Не от Духа, а от плоти и от земли хотят набраться они силы. Но нет там подлинной силы, и Божия правда не там. Для евразийцев более чем достаточно ссылки на «органическое рождение» из вихря стихий, из недр инстинктивного самоопределения народного, чтобы приять и оправдать творимую новизну. В евразийстве пробуждается запоздалый романтический пафос стихии, ярой, властной, многоцветной. Евразийцы всюду видят стихию — и любят ее, и веруют в нее, в органические законы естественного роста. В самих себе они с удовлетворением ощущают «веяние необыкновенного стихийного подъема сил», выбивающихся и вырывающихся из–под развалин обреченного прошлого. История для них, прежде всего, мощный силовой процесс, явление силы, не духа, — развитие, а не творчество и не подвиг. После великих исторических потрясений поломанные и искалеченные в них люди от обратного, от усталости и бессилия, начинают грезить о силе и мощи в каком–то надрывном подобострастии пред стихией. В пафосе стихии стираются категорические грани добра и зла как какая–то моралистическая условность, как придирка слишком субъективной рефлексии, несоизмеримой с высшей правдой и мудростью исторического сверхличного бытия. Не по нравственным и духовным мерилам определяется тогда и оценивается достоинство людей и событий, но по потенциалу заряжающей их и в них воплощающейся стихийной энергии и мощи. Так слагается культ «сильных» людей, не то «героев», не то «разбойников»; и в нем получает лжерелигиозное оправдание право на страсть и волю, с забвением о единственном действительном и возможном пути к Богу через крест и любовь. Есть что–то от этого романтического перегара в теперешнем евразийстве. В каком–то смысле евразийцев зачаровали «новые русские люди», ражие, мускулистые молодцы в кожаных куртках, с душой авантюристов, с той бесшабашной удалью и вольностью, которые вызревали в оргии войны, мятежа и расправы. Точно от неожиданности, что в пленной и окованной России оказались «живые» люди, евразийцы загляделись на них; и все кажется в них мило и право уже по тому одному, что они — в России, сидят на родной земле, «естественно–органически вырастают из народного материка». Пусть эти новые люди, этот «новый правящий слой» собрался и скристаллизовался вокруг «воров», бездумных и скудоумных, — «выбора у народа не было», решают евразийцы; по нашей скудости и хилости на «ворах» русский свет клином сошелся. В этих «ворах» евразийцы увидели «воплощение государственной стихии». Их загипнотизировал большевистский пафос «народоводительства», волевой пафос коммунистической партии, пусть скудной и ложной в своей идеологии, но «властной до тираничности». В своей практической работе коммунисты невольно отобрали «здоровых и приспособленных» и властно обратили их на осуществление действительных, хотя и бессознательно угаданных народно–государственных целей. «Как–никак, давно уже сознаются евразийские авторы, революция породила несомненных героев зла и разрушения… ” Теперь они подчеркивают — не только разрушения. Ибо во властном пафосе коммунистического интернационала народная стихия «почувствовала формальную наличность нужных ей качеств государственности и власти», нашла в нем свой кристаллизационный центр и упор. В действительности коммунисты оказались «бессознательными орудиями вырождавшейся государственности». Они вынесли на себе, хотя помимо своего умысла и воли, «новый народ», новый правящий слой. В известном смысле, по евразийской оценке, большевики как бы спасли Россию — от анархии, во всяком случае. И потому евразийцы сознательно и хотят быть «следственниками современного большевизма», «следственниками советской государственности» — в психологии и типе, в пафосе и внутреннем строе. Они хотят и призывают равняться по большевистскому примеру и типу, только переменив «конструктивный принцип» с безбожного на религиозный. Странным образом они не замечают и не понимают, насколько в формальном «типе» большевистского максимализма отражается и выражается его безбожная бесчеловечная, бесовская сущность, — не чувствуют, что при «полярных» основаниях окажутся необходимыми инородные и инотипные «методы и силы».
У евразийцев сложилось совсем не оправданное представление, будто революция в каком–то смысле уже кончилась и выплавливание новой России завершилось. Заглядевшись на мнимую социальную стройку, завлеченные «современною страстью к твердому устроению и максимализму», евразийцы проглядели самое существо русского процесса. Они странно оглохли к той духовной смуте, которая в действительности и пучит и взрывает историческую поверхность. Евразийское внимание рассеялось по социально–политической поверхности, в евразийском восприятии притупляется и меркнет весь острый и могучий трагизм Русской смуты. Внутри России, в самых недрах русского бытия и духа, все еще продолжается смертельная борьба, борьба разночестных и несовместимых начал, — и, может быть, именно сейчас она в наивысшем разгаре и напряжении. Раскаленная и расплавленная народная масса все еще в огне, вулканические сотрясения не прекратились, и основной кристаллизационный процесс едва еще начался.
Наивная доверчивость к органической работе темных подсознательных сил соединяется в евразийском сознании с жутким, хотя и мечтательным упоением властью. Ибо «только единая и сильная власть способна провести русскую культуру через переходный период, канализировать и направить пафос революции». В этой сильной власти найдет и оформит себя сама народная стихия, в ней воплотится, осуществит себя.
Евразийцы признают, конечно, что «зло, действительно, сильно в мире». Но смутно и наивно представляют они себе и другим пути и приемы борьбы со злом. Они как бы мечтают о самоукрощении мятежной стихии чрез организующую властную волю ею же рожденных и ее воплощающих «сильных» людей. Они недосматривают и недооценивают мотивы злостного бунтарства и одержимого беснования в воспеваемом ими процессе органического вырастания и сложения «нового народа, не менее русского», чем прежний. Они забывают об упрямой инерции зла, всосавшегося в самую духовную конституцию народа, забывают о взошедшем в кровь и дух нигилизме, безбожии и богоборчестве. Конечно, в чистое «зло» ни народы, ни личности никогда не превращаются, они бывают и становятся только «злыми», только носителями зла, — но этого ограничительного «только» не следует преувеличивать. Ибо «зло» не есть что–то внешнее и не в качестве прибавочного груза присоединяется к своим «носителям»; оно становится для них роковым внутренним законом, онтологически разлагает своих «носителей» и может довести их до полного и необратимого распада — в окаменелом нечувствии и нераскаянности. Духовные яды глубоко всосались в русскую жизнь и еще долго будут в ней чадить и смердить. И, конечно, не только «старый правящий слой» изъязвлен и отравлен ядами исторического разложения, но в гораздо большей степени и «новый», рожденный и повитый в буйстве и злобе. И напрасно и наивно надеяться на выцветание и самовыветривание этих ядов, на их самообессиливание и самообезвреживание. От бесспорной лживости исторического материализма и коммунистической идеологии евразийцы слишком поспешно заключают к ее естественному, практическому краху. Разоблаченные заблуждения веками сохраняют свое роковое обаяние и злую власть над людьми, и от их страшного дурмана не в силах без благодатной помощи освободиться греховная человеческая воля, немощная в добром, упорная и упрямая в злом. У евразийцев есть какая–то поспешная готовность отвлечься от зла, в излишней доверчивости к мнимому закону исторической гетерогонии целей. Им кажется, что «потери и жертвы, несомые в период возобладания исторического материализма, могут быть искуплены тем обнаружением сути вещей, которое происходит в этот период…» Они как–то забывают, что это «потери и жертвы» исчисляются в тьмах и тысячах живых душ, замученных, озлобленных и извращенных… Есть что–то от самого тупого просветительства в евразийских представлениях о борьбе с ложью и злом — на корню устарелая помесь толстовства и руссоизма. Точно в самом деле можно весь страшный вопрос духовного очищения и преображения свести к смене идеологий, к замене одной «программы» другой, «ясной и четкой», точно все зависит от додуманности, настойчивости и упорства…
3
Евразийцы приемлют революцию в ее факте и свершении. И вместе с тем, в порядке мнимого закона исторической гетерогонии целей, они подчеркивают несоответствие и несовпадение революционной онтологии и замыслов эмпирических вожаков и совершителей смуты, волевой коммунистической группы. Коммунистическую идеологию, систему «воинствующего экономизма» и исторического материализма евразийцы решительно и резко отвергают и признают, что уже теперь она «стоит перед окончательным крахом», «несомненно и окончательно погибает», разложенная в самих своих исповедниках «сознанием ее неосуществимости и нежизненности». Устойчивости коммунистической идеологии в России евразийцы не допускают еще и потому, что она есть плод чужой «европейской» культуры, последнее слово и завершение «европеизма» и, стало быть, не опасна для самоопределяющейся «евразийской» души. Силой вещей она неизбежно отпадет и уже отпадает, И потому евразийцам становится боязно и страшно за судьбы «нового правящего слоя», сложившегося и скрепленного на коммунистическом «упоре». Ради спасения революции в ее социально–онтологических достижениях и итогах, для закрепления осуществившегося в ней великого народно–государственного сдвига нужно заменить выдыхающуюся коммунистическую идеологию новой, органической системой идей. «Ложной, сатанинской и злой, но огромной идее коммунизма» нужно противопоставить новую идею, «соравную» ей по мировому размаху, по широте и охвату, — нужно найти и противопоставить ей новую «идею–правительницу». Найти ее и подслушать можно и нужно «в недрах общей духовной обстановки момента и эпохи», ибо «семя идеи — сама жизнь». Эта новая идеология должна сразу стать реальной силой — «идеи должны иметь аппарат прямых действий». Новая «идея должна заменить нам государство, средоточие и вождя до тех пор, пока наше государство, средоточие и вождь не будут реально созданы, сделаны идеей». Так говорят евразийцы. И это возможно только чрез создание новой «партии», — правда, партии особого типа и строя. В этом типе и строе евразийцы стараются учесть пример и урок большевизма. Это партия единая и единственная, правительствующая, исключающая самую «партийную систему», т. е. множественность партийных группировок. Эта новая партия слагается и должна слагаться на основах единого и общего, конкретного и всеобъемлющего миросозерцания. Это не простое объединение по частному поводу и для частных целей, хотя бы и политических, — но крепкий и строгий «государственно–идеологический союз», некая «идеологически–политическая лига». Он слагается по началу отбора, но отбора органического, творимого самою жизнью. В свободном, изнутри направляемом развитии и росте «симфонической народной личности», в порядке естественной и необходимой социальной дифференциации, выделяется и слагается в себе своеобразная «соборная личность» второго порядка, «правящий слой», и в нем, как его средоточие и сердцевина, как его живой стержень, выделяется некий «государственный актив», — это и есть «единственная правительствующая партия». Система сплошных и непрерывных органических связей между семи слоями, уровнями и концентрами социального бытия обеспечивает прямое и непосредственное соответствие между ними в мысли и воле. Выражая и утверждая свою мысль и свою волю, правящий слой и правительствующая партия тем самым выражает «бессознательную, стихийную», но твердую всенародную общую волю, которую в себе самих они носят, и знают, и опознают. Они «формулируют народное миросозерцание», в народных массах «лишь неосознанное, хотя и определенное». И мысль, и воля правящего слоя «в нормальных условиях являются в целом и главном лишь индивидуацией и конкретизацией народного сознания», и «существо этого процесса индивидуации и конкретизации— органично». Народная воля органически выражается и осуществляется в сильных людях, в сильном и собранном меньшинстве. В живом и здравом народно–государственном организме не может и не должно быть внутренних противоречий, расхождений и натяжений. И потому властное народоводительство единого и единственного полномочного меньшинства не только не включает в себя элементов насилия и диктатуры, но, напротив, представляет собою последовательное осуществление начала народоправства. «Ведущее» меньшинство органически и непреложно выражает подлинную, хотя и бессознательную волю народа, воплощает и олицетворяет ее, отчеканивает ее в целостную идеологию. Выражая свое миросозерцание и осуществляя свою волю, правительство тем самым выражает и осуществляет народное миросозерцание и народную волю. Грядущая правительствующая партия изображается евразийцами в патетических и героических чертах. «Партия, отвечающая традиции и потребности (евразийского) месторазвития в сильной и собранной власти; партия, железная спайка которой проникнута духом братства; партия со своею символикой и своей мистикой; партия, которая использует и включает в себя потребности и навыки русского сектантства, и обращает их на служение нравственным заповедям Церкви и мирскому государственному делу; партия, строящая культуру как систему…» — Это Партия уже с большой буквы. И уже не pars civitatis, но pars mundi («Не часть общества, но часть света» — лат., — прим. ред. НМ), — «носительница и выразительница потребностей и воли великой «partis mundi» — Евразии»… В избранном и отборном волевом меньшинстве народная жизнь получает и обретает свое единство, обретает свое лицо. Евразийцы оговариваются: «само по себе» государство есть только «форма»; и все же, по их утверждению, «на первое место в иерархии сфер культуры следует поставить сферу государственную, преимущественным выразителем и носителем которой является правящий слой». Ибо в государстве, в государственной организации впервые и вполне осуществляется и выражается единство культурной жизни. В нем и только в нем получает «действительное личное бытие» симфонический «культуро–субъект». И ниоткуда, кроме как из «личной» по преимуществу государственной сферы нельзя получить «личную» организованность и законченность. Поэтому на подчиненных местах оказывается не только сфера «материально–культурная», хозяйственная и техническая, но и «сфера духовного творчества». Правда, обе эти сферы обладают собственным бытием и тяготеют к своим собственным средоточиям, стремятся каждая стать «соборным» субъектом, слагающимся из «соборных» личностей низших порядков. Но государственное верховенство распространится и на них, и притом в формах направляющего и руководящего вмешательства, — ибо, будучи одною из частных сфер, государство есть, вместе с тем, и целое, «соотносится» с другими частными сферами, «как целое со своими частями». «Не должно быть каких–то внегосударственных организаций или объединений», утверждают евразийцы, но «всякая организация должна быть и органом государства». «Правящий слой не такой же субъект, как субъекты хозяйства и духовной культуры; он как бы порождается ими для того, чтобы они чрез него над собою властвовали». Органическое происхождение правительства и правящего слоя в евразийских представлениях устраняет принципиальную опасность насилия. Евразийцы согласны, что в эмпирическом и действительном бывании «государство всегда стремится расширить свою сферу и растворить в себе индивидуальные и частные». Более того, «государственности всегда угрожает разрыв между народом и его правящим слоем, нарушение органического их взаимодействия». Но это относится к области неизбежного эмпирического несовершенства и неполноты. И дело «государственного искусства» находить в каждое время свои здравые меры сохранения должного и надлежащего жизненного равновесия.
Замысел духовного преодоления русской смуты выдохся и измельчал в евразийстве. Евразийцы не поняли, не сумели понять ни его смысла, ни размерности, ни сложности; они и упростили его, подменили его другим, более простым, быть может, но зато и пустым и опасным. Духовное преодоление смуты не может ограничиваться эмоциональным оценочным разбором и судом. Оно должно быть действенным, творческим и трудовым. Должно быть радостным покаянием, бодрым подвигом национального преображения. Это преображение уже совершается, — об этом благодатном возрождении русской души свидетельствует мученическая история Русской Церкви, гонимой и скитающейся, но торжествующей в духе и силе Илии [127]. И вот подлинную творимую Россию евразийцы увидели не там, где есть она, не в твердыне православного духа, а у «воров». Всю жуткую и трагическую проблематику религиозно–культурного перерождения и преображения евразийцы по старой интеллигентской манере свели на задачу создания нового направления, новой партии, единой и единственной, которая должна переслоить выброшенный революционными бурями «новый правящий слой», с тиранической властностью организовать его вокруг себя и стать его основою и направляющей силой. Допустим, в исторической действительности так иногда бывает, приходит «частночеловеческий» или «многочеловеческий» Бонапарт. Решается ли этим проблема культурного возрождения и религиозного восстановления взвихренного в смуте народа?.. Сложную и трудную задачу религиозно–творческого возрождения евразийцы разменяли на суемудрие идеологических упражнений. Допустим выветривается коммунистическая идеология, ничтожная по предельному суду, но разве не оставляет она в душах больного и ядовитого наследия и последствия? И разве выздоровела одержимая ею душа? И исцелят ли ее «идеи»? В сущности, евразийцы стремятся перевести опустошенных людей из одной одержимости в другую, в «подданство» другой, новой, евразийской идее. И. прежде всего, спросим: разве душа — пустой сосуд, в котором легко и по произволу можно менять идеологическое содержимое? Вряд ли. Евразийцы так слепо верят в подсознательные силы русской стихии, что точно ждут, что опустошенная душа сама себя и из себя, без искуса и без подвига, в процессе органического роста наполнит абсолютной идеологией… Евразийцам как бы представляется, что эмпирическая свобода по отношению к истинным целям и заданиям может выражаться только в степени приближения и совершенства, только в степени сознательности и радения, только в делании или не–делании. Они не чувствуют страшной свободы прямого противления, избрания лжи и зла. И потому именно не понимают до конца русской трагедии как творческого искупления греха и вины. Они довольствуются декларацией «абсолютного» значения новой, рождающейся русской культуры. Есть странная и жуткая наивность в евразийских представлениях о смене идеологий и полное забвение острого трагизма религиозно–исторических процессов.
Евразийцы сознают себя «третьим максимализмом» [128]. В действительности, конечно, ни один из этих притязаемых максимализмов подлинным максимализмом не был, — ни черный, ни красный, ни новоявленный черно–красный. Ибо все это «максимализмы» средств, не заданий. И во всех трех случаях тяжелые и томительные задачи действительной жизни снижаются до уровня и пределов внешнего общественного строительства и даже простой организации, при жутком нечувствии трагической проблематики духовно–культурного творчества. Во всех трех случаях сказываются духовное опрощение, оскудение и немочь, прикрываемые распущенностью страстей и произвола. И в этом общее между ними. С этим связана и другая общая черта, — величайшая духовная узость, кружковской дух, дух самопревозношения и полной презрительности к человеку, к человеческой свободе. От внутренней слабости исчезает понимание того, что только свобода есть достаточная и необходимая среда для подлинного творческого самоопределения и творчества. Иссякнувший пафос творчества подменяется пафосом распределения и «водительства» максимализмом власти, не только дерзновенной, но и дерзостной. И в евразийстве, при всех декларациях о «внепартийности», копится и возгревается дух человеконенавистнической нетерпимости, дух властолюбия и порабощения. В них искривляются все перспективы, все кругозоры. Под прикрытием органических ссылок евразийцы откровенно и открыто подчиняют кружковому суду и разбору всю человеческую жизнь. Они куют для нее идеологические цепи. В евразийстве снова оживает худшая и самая опасная черта старой интеллигентской психологии — делить все на «правое» и «левое», на «благонадежное» и «неблагонадежное», под новыми обозначениями «старое» и «новое», «европейское» и «евразийское». Евразийство по своему психологическому складу есть последнее интеллигентское направление, совмещающее в себе все прежние пороки. Вся задача сводится к тому, чтобы пленить в послушание, в «подданство идее». Психологический тип остается прежним, духовная ткань не обновится, переменятся только слепые вожди у слепых по–прежнему масс. Евразийцы здесь переворачивают перспективу. Действительная религиозная «идеология» есть путь или ступень к вере, а не зрелый плод. Она свидетельствует, исповедует, запечатлевает молитвенный опыт, родится из него. Из идей вера не вырастет, и идеями можно задушить душу, заглушить в ней самую возможность веры. Следовало бы вспомнить хотя бы Достоевского, который с гениальной прозорливостью разоблачил обманы и прелести мечтательных идей и идеологий, их опустошительную вампирическую власть над душой…
С евразийской точки зрения человек всегда «выражает», никогда не творит. И потому вся задача общественного устроения сводится к тому, чтобы каждый выражал не самого себя, не свою обособленную самость, но то высшее «соборное» целое, к которому он органически и кровно принадлежит. Каждый должен превратиться в «орган высшей соборной личности». Евразийцы воскрешают старую мечту о некоем обобществлении человека. Для них порядок обращается: не из личных воль слагается и срастается «общая воля», но в них открывается и проявляется, — в каждой по–своему и по–особому, единая в согласном многообразии. И весь процесс определяется сзади, из темных недр народного подсознания. Евразийцы веруют в возможность и действительность общей народной воли. Она для них есть какой–то врожденный инстинкт, «бессознательный, стихийный» и все же «определенный». И остается его расслышать и опознать в самих себе и возвести на ступень разумного познания в четкой и ясной идеологической формулировке. В наивном и жутком нечувствии евразийцы не замечают, что народная воля бывает в колебании и разноречии, что «народный космос» никогда не бывает на одно лицо. Не только потому, что единое лицо проявляется во множественности ликов. В том и трагизм народного духа — и трагизм неизбывный, — что во множественности эмпирических ликов открывается не одно лицо. Ибо не к одному, но ко многим пределам стремятся составляющие сложного и спутанного процесса народно–исторической жизни, множественные личные пути, — и к пределам взаимно несоизмеримым и даже полярным. В столкновениях и борьбе, в разногласии и спорах отражается несводимая множественность человеческих избраний и пристрастий, расходящихся по смыслу и по знаку, часто многогранных, но свободных. Всегда есть множество «народных воль», разнозначных и разночестных, и никогда они органически не сливаются в симфоническое единство. Но в смутном шуме противоречивых мнений всегда слышится и звучит и голос народной правды. Допустим, «новый народ» народился в России и свидетельствует свою волю. Разве не может «народный дух» ослепнуть и «народная воля» заблудиться, впасть в беснование и обман? Конечно, и в революции и в большевизме выразилось и воплотилось нечто «народное» и «органическое», — но какое, однако, благое или лживое? И пьяный хмель злобы и ненависти, и мстительный угар, и насильничество, и одержимость, и буйство — все это в каком–то смысле, действительно, «народно». И если Ленин и прочие «воры», действительно, «кое–что» выражают от народного духа, если новый правящий слой отчасти «в себе, как в микрокосме, выражает народный космос» — не остается излишним спросить, что же они выражают и все ли благополучно в «народном космосе». Евразийцы задумываются над «силою и длительностью» большевизма, угадывают какое–то его молчаливое «приятие» народом, хотя бы на время, — уж не знают ли большевики, в самом деле, какую–то тайну народного духа, не владеют ли они каким–то тайным русским словом?.. Допустим, знают; но не есть ли это колдовское и разбойничье слово, бесовский приворот, манящий и льстящий мятежному подполью больной души?..
В евразийской утопии противоречиво переплетаются и спаиваются мотивы органической теории и самого острого, просвещенского рационализма. Здесь евразийцы повторяют марксизм, во всех его внутренних неувязках, с его сочетанием эволюционного фатализма и революционного пафоса. Странным образом, революционное действие в марксизме обосновывается и оправдывается в последнем счете именно из исторического фатализма, поскольку действенное революционное меньшинство угадывает и опознает «естественные тенденции развития», выражает и творит высшую историческую необходимость. В известном смысле, марксизм, как историческая философия, завершает диалектику протестантской мысли. Реформация началась с испуга пред человеком, с отчаяния пред его немочью и ничтожеством, со страшливой переоценки Божией мощи. И во внутреннем своем раскрытии она обернулась и изошла мирским, безбожным и богоборческим гуманизмом. В протестантских кругозорах совершенно исчезала и исключалась человеческая свобода, но именно поэтому человек оказывался неким медиумом необоримой благодати. Все человеческие действия относились за счет Божией воли и силы. Судьбы мира и истории оказывались путем Божиим, путем Божия самооткровения и самоосуществления. В мире и в человеке Бог впервые становился самим собой. Гегель раскрыл эту тайну протестантизма, и Фейербах договорил ее до конца. В протестантских пределах из этого необоримого фатализма, из этого пленения личности в текстах хитрого рока, «хитрого разума», оставался единственный выход — в формальный субъективизм кантианского типа, разлагающий историческую объективность, угрожающий безвольным ригоризмом уединенного суждения и оценки. Евразийцы на слово поверили, что от этого сектантского и рассудочного индивидуализма с его атомистическим распадом единственное спасение можно найти в «объективном идеализме», вовлекающем идеальные начала в объективный мировой процесс настолько, что стирается и теряет всякий смысл грань между «должным» и «сущим». Ибо «должное» определяется очередным превращением «сущего». Евразийцы запутались в диалектике «европейской» философии, они сами себя завели в тупики протестантизма. Евразийская историософия не перегорела, не очистилась в животворном искусе церковного опыта и раздумья. Она всецело замкнута в порочном кругу реформационного оскудения. И евразийцы повторяют и оживляют запоздалые и устарелые грезы ими же обличаемого «еретического Запада». В евразийском восприятии загадка народного лица, загадка народной стихии, заслоняет великую и жуткую тайну народного призвания. Лицо и призвание, они не совпадают, и не всегда по первому можно разгадать второе. И не только тогда, когда под народным лицом мы разумеем эмпирический облик народа, снятый и запечатленный в том или другом возрасте его исторического существования, но даже и тогда, если в синтетической интуиции мы учтем всю живую совокупность естественных сил и возможностей «народного духа». Ибо народное призвание не исчерпывается самоосуществлением естественного и своеобразного лица. По острому слову Вл. Соловьева. «идея народа есть не то, что он сам думает о себе во времени, но то, что Бог думает о нем в вечности» [129]. Призвание есть зов и задание, поставленное не только в эмпирическом плане, но в горнем и высшем, в Божием замысле и изволении. Оно может быть не узнано, не освоено историческою волею народа, может быть ею отвергнуто, не только не осуществлено. Его могут подменить ложные и лживые избрания, самоизмышленные и грешные задачи. И тогда померкнет и опустошится народная душа, хотя и взорвутся в ней бурным пламенем мятежные страсти. Может быть, наступит час бдения и раскаяния. И в строгом искусе вернется народ к своему призванию, — но вернется не чрез самоутверждение, не чрез гордость хотя бы очень кровной и коренной стихии, но чрез самоотречение, чрез волевой отказ, чрез покаянное освобождение от тяжелого и рокового наследства, от прежних ложных избраний и порожденного ими злого исторического груза превратных пристрастий и пагубной любви. Надолго, навсегда остаются на историческом лице народа трагические рубцы и швы, следы былых грехопадений. И в свете горнего призвания они выступают еще резче. «О, недостойная призвания, ты призвана!» [130] — в этом основное натяжение народно–исторического бытия. Но никогда не бывает исторический путь народов «путем зерна» [131], путем развития. Либо это есть подвиг, подвиг узнания и осуществления высшего зова, либо падение, противление, отступничество, непризнание и неосуществление своего подлинного призвания и задачи.
4
Евразийцы чувствуют и определяют себя как «осознателей русского культурного своеобразия». И с большой настойчивостью и упорством подбирают и накопляют признаки и свидетельства этого своеобразия. В этой регистрации проявляется немалая наблюдательность. Но со своими реестрами евразийцы плохо справляются и смутно понимают их действительный смысл. Своеобразие они открывают всюду, начиная от «месторазвития» и вплоть до религиозной области. С большим вниманием они изображают в подробностях «географические особенности России», подчеркивают своеобразие этнического состава, не забывая даже об особенности расового коэффициента гемагглютинации народов евразийского материка. Они заняты морфологией России–Евразии и на это уходит все их внимание. Географическое единство и своеобразие «евразийской» территории настолько поражает их, что в их представлениях подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория, — даже не народы. Поэтому история русского народа и растворяется для них в истории Евразии как своеобразной среды и «месторазвития». Правда, сама территория изменяется в историческом бывании, под «психическим и физическим давлением» населяющих ее народов. Но вместе с тем именно территория является основным фактом и фактором исторического процесса. Евразийцы не отрицают наличности и действительности «начал внеместных», но эти начала неизбежно преломляются через «месторазвития», облекаются в «местные одежды». Это относится даже к «религиозным принципам». Здесь, по евразийскому суждению, пред нами такое же общее начало, как начало «жизни». И подобно тому, как «общее начало жизни» осуществляется во множественности видов и «местных» типов, и только в них, так и «религиозные принципы» получают по «месторазвитиям» многообразное выражение и только в совокупности этих «местных» выражений могут осуществиться. «Религиозные начала» таким образом вводятся в состав культурно–типового своеобразия, в множественности «местных одежд», в каждом типе в своей. И в охранении этого своеобразия евразийцы опасаются трогать и менять эти «одежды». В этом есть острый привкус религиозного релятивизма. Точно можно в самом деле все исторические религии и религиозные формы рассматривать как равноправные «индивидуации» или воплощения общей религиозной стихии, одних и тех же «религиозных начал».
Евразийская историософия отлилась по морфологическому типу. Евразийцы остаются морфологами, начиная с давних рассуждений о «Европе и человечестве» и кончая новейшими «основами политики». С морфологической точки зрения Россия есть особый и особенный, самостоятельный, живой организм, «своеобразная культуро–личность». С этой точки зрения всякий действительный субъект исторического процесса есть некая «симфоническая личность», от рождения и даже от вечности одаренная особыми и определенными задатками и строем, которые должны раскрыться и в историческом бывании органически раскрываются в системе народно–культурного бытия, — всегда с непреодолимой неполнотой и несовершенством, не в одном, но во многих, чередующихся воплощениях, из которых каждое в своем месте и в свое время закономерно и необходимо, как закономерна и необходима и вся совокупность последовательных воплощений. Проблемы своеобразия, самобытности, органической верности врожденному или данному типу, — эти морфологические или социологические проблемы занимают полностью весь евразийский кругозор. И при этом кажется, что историческая морфология исчерпывает до дна смысл и содержание культурно–исторической проблемы.
Морфологическое понимание русской самобытности мы впервые, но с полной отчетливостью встречаем у кн. Вл. Одоевского. Народы и все человеческие общества в его представлении суть «живые организмы», и организмы замкнутые и непроницаемые друг для друга. И каждый из них слагается по своему типу и в нем проходит свою историческую судьбу, от младенчества до старческого конца. Из сочетания и смены таких разнообразных и неповторимых народных судеб слагается история человечества. В судьбе современной Европы Одоевский видит все следы старческого разложения, иссякания силы и воли, органический распад и разлад отдельных сфер жизни. На смену умирающему подрастает новый, свежий и юный народ, полный сил, «непричастный преступлениям старого мира». Историософические схемы Одоевского как бы продолжает Герцен. Но у Герцена они наполняются обильным фактическим содержанием, получают логический блеск и чекан. Смысл остается тот же. В чередовании времен сменяют друг друга народы, народные организмы, несродные и несходные друг с другом, как несродны и несходны между собою отдельные животные виды. И каждый проходит свой путь, свой круг развития, от зарождения до смерти. Каждая народная жизнь очерчена и ограничена в своих возможностях врожденным составом сил и задатков — и только в бессильной грезе может разорвать этот роковой круг. Запад умирает после долгих веков славной жизни и после бесславной старости, бессильный осуществить свою последнюю мечту и думу — «социализм». И вот на исторической сцене появляется новое племя, новый народ, без грузного прошлого, с избытком мощи и воли к силе, — славяне и Россия. Есть тайное счастье в том, что органическое сложение славянского племени в точности соответствует западному заветному идеалу, который роковым образом расходится с западным европейским органическим типом. И потому предоставленная самой себе, верная своему своеобразию, своему жизненному типу, Россия с неизбежностью пройдет свой особенный путь, непохожий и отличный от европейского; и в органическом развитии своем осуществит социалистическую мечту. Ибо так сложился, так уродился ее живой организм. В понимании Герцена всемирная история, история «человечества», слагается из замкнутых и множественных циклов, совпадающих во времени или сменяющих друг друга. В сущности, это старая биологическая теория постоянства множественных видов, перенесенная в историческую область. Так слагается теория культурно–исторических типов. Странно сказать, но именно Герцена договаривает в своей книге Данилевский, и за скучноватым Данилевским блестящий Леонтьев [132]. Для Леонтьева история есть человеческая биология. Откровенно и открыто он подчиняет жизнь народов и человеческих обществ общим и непреложным законам органической эмбриологии. Из биологии ведут свое начало исторические понятия и представления и Данилевского, и Леонтьева. Есть множественность культурно–исторических типов, в своей жизни и развитии замкнутых друг от друга и ограниченных в своих врожденных характерах, но сталкивающихся в борьбе за существование. У каждого все свое. У каждого свои задачи, ибо они поставлены в прирожденном типе, и сводятся к полноте и многоцветности проявления своего лица. У каждого свой роковой предел жизни. Смысл народно–исторического существования в полноте цветения, а затем — вырождение и смерть. Запад уже умирает, о России догадка Леонтьева двоится. Мучительная и страдная религиозная драма самого Леонтьева не должна заслонять от нас того неожиданного факта, что у него не было христианской философии истории, — ее заменяла натуралистическая морфология исторической жизни, невольно перерождавшаяся в нехристианскую философию истории. Весь смысл исторического бытия для Леонтьева в том, чтобы жизнь прожить, от зачатия до неизбежного гроба. И каждый должен прожить ее по–своему и как можно ярче. Острый релятивизм исторических суждений Леонтьева только подчеркивается широтой его эстетических пристрастий, которым он не без цинизма подчиняет все мерила и начала оценки, чтобы не урезать, не оскопить полноты и множественности жизненной игры.
И здесь мы подходим к неожиданному наблюдению. Рожденная и построенная в целях опознания и оправдания национального своеобразия, защиты исторической самобытности от идеи «общечеловеческой цивилизации» теория исторических типов приходит к утверждению человечества как единого существа. Исходный «плюрализм» оборачивается под конец самым острым субстанциальным «монизмом». Это понимал и ясно высказывал сам Данилевский, противопоставляя идее «общечеловеческой» цивилизации идею цивилизации «всечеловеческой». Только совокупность разнородных и разнообразных типов и культур совместно выражает богатую и сложную сущность человечества, но именно ее — сущность человечества. «Для коллективного и все же конечного существа человечества», по словам Данилевского, «нет иного назначения, другой задачи, кроме разновременного и разноместного (т. е. разноплеменного) выражения разнообразных сторон и направлении жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно–историческом типе развития» [133]. Это рассуждение невольно напоминает и предвосхищает мысль Бергсона о веерообразном раскрытии жизненного порыва, во многообразии расходящихся навсегда путей осуществляющего иначе не осуществимую полноту своих изначальных потенций. Во множественности и только в исчерпывающей совокупности типов развития воплощается и осуществляется идея человечества, и каждый тип нужен и неизбежен в свое время и на своем месте, и именно в своем своеобразии, не ради чего тогда, как ради блага или жизненной полноты всевеликого и многоликого Существа. Освобождаемые от гнета и рабства «общечеловеческим идеалам» народы в итоге морфологического толкования оказываются «отданными в кабалу до рождения» роковому процессу всечеловеческого развития и роста. Они живут для себя только по видимости, — в последнем счете они служат, и притом бессознательно и невольно, «прогрессу кораллового рифа». В таком скудном итоге последняя мудрость исторической морфологии. И в ней не только снимаются оценки, они делаются невозможными. Типы уравниваются по ценности и смыслу, ибо все мерила поглощаются в мериле «всечеловеческой» надобности и пользы.
В евразийской морфологии исторических типов теряется проблема христианской философии истории. Схемы и типы заслоняют конкретную и трагическую судьбу. Евразийцы не пережили до конца тех старых уже русских дум о России, в которых превзойдена узость морфологизма и учтена его правда. Была скрытая, но вещая правда в том, что проблема русского своеобразия была поставлена сразу в виде антитезы России и Европы. Это случилось не только потому, что силой исторических превратностей Россия была брошена в душные объятия Европы, что внутри самой России сложилась своя внутренняя «Европа», и русский исторический лик двоился. Смысл встречи России и Европы нельзя свести только на «тактическую» необходимость. Напротив, в таком толковании и заключалась основная опасность извращенного «европеизма». При «тактической» встрече душа, духовная природа Европы остается неузнанной и непонятой, — подлинная встреча не осуществляется, и потому не удается найти творческую меру соотношения с Европой. «Поворот» к Европе был нужен и оправдывался не техническими потребностями, но единством религиозного задания и происхождения. В этом живом чувстве религиозной связанности и сопринадлежности России и Европы, как двух частей, как Востока и Запада, единого «христианского материка», была вещая правда старшего славянофильства, впоследствии с такою трагической силой и яркостью пережитая и выраженная Достоевским. В таком признании не только не стирается, но впервые четко проводится твердая и ясная грань между православной Россией и неправославной Европой, — проводится не морфологическая только грань, но конкретная, религиозно–историческая с ясным сознанием, насколько в «морфологии» раскрывается внутренняя, свободно–духовная жизнь народов, насколько народы творчески ответственны за свою «морфологию», за свои строй и судьбу. Правда и непроходящая ценность славянофильской философии истории состоит в ее ярком Христоцентрализме, в чуткой восприимчивости к подлинной исторической динамике, к динамике не только органических круговращений, но и творческого делания и греховного распада. Старшие славянофилы знали и чувствовали трагедию Запада, и болели ею и никогда не могли бы сказать, что Запад нам чужой, даже в его грехе и падении. И именно трагедии Запада евразийцы не замечают. Со спутанным и косным набором понятий подошли они к страдной проблеме России и Европы. И не смогли четко поставить проблему ее. Морфологический мотив своеобразия невнятно сплетается у них с мотивом религиозной оценки. И остается до конца неясным, в чем для евразийства корень западноевропейской лжи, в национальной ограниченности или в уклонении злой воли. Иначе сказать, есть ли тот соблазн, о который в своем пути бесспорно преткнулся Европейский Запад, есть ли он исключительно западный соблазн, от которого по самому органическому сложению своему застрахован и предохранен Евразийский Восток; или это общий, хотя и многовидный соблазн, заложенный в самой динамике греховно–естественного человеческого строя и только подчеркнутый на Западе условиями времени и места… Евразийцы склоняются к первому ответу. Они признают наличность на Западе, даже под покровом ереси, абсолютно ценных аспектов христианства; но эти «аспекты», по их толкованию, остаются «чуждыми православным народам и могут быть раскрыты только народами романо–германскими и жизненно важны именно для них. Под условием отречения от своего горделивого уединения и от ереси Запад мог бы взаимно дополнять Россию в объемлющем симфоническом единстве, но и в своем православии он остался бы чуждым Востоку, замкнутым от него, в своем «аспекте»”. Евразийцы не понимают до конца трагической судьбы Запада, не понимают вселенского смысла его падения и заблуждения, вселенского смысла «уроков отреченной веры». В небратском отчуждении евразийцы не видят, не чувствуют и не слышат живых, ищущих и страждущих западных людей, пусть слепых и даже злобных, но уже коснувшихся ризы Христовой, уже помазанных Его благодатью. Евразийцы предоставляют их свободе. В евразийстве нет чувства живой и конкретной религиозно–исторической круговой поруки, нет чувства ответственности за врученную России правду Православия. Ересь и раскол вызывают в них отвращение, гнев и злобу, вместо жалости, боли и любви, все долготерпяшей. Они довольствуются сухим и как бы самодовольным требованием «покаяния». Есть здесь какая–то неправедная самозамыкающаяся радость о счастливом обладании. Великая правда старших славянофилов была в их остром чувстве русской религиозно–культурной ответственности пред Западом. Россия должна и призвана ответить на западные вопросы. Русская мысль должна перестрадать западные соблазны, ибо это человеческие соблазны, соблазны призванного в Церковь человечества. Нельзя их обойти. Без искуса не закалится мысль. И соблазны снова придут, с незащищенной стороны. Есть некая тайна в том, что именно те, а не иные народы прияли христианство, хотя и не соблюли, не сохранили его. Не все земли открыли христианскому благовестию свое духовное лоно. Нельзя уменьшать ответственность каменистых душ. Но не следует впадать в самодовольство о чужой неправде…
Россия не Европа, говорит Данилевский и повторяют евразийцы. Допустим и согласимся. Да, Россия не Европа, но по какому мерилу «не Европа»? В евразийском определении смешиваются географические, этнические, социологические, религиозные мотивы без ясного сознания их разнородности. «Россия не Европа», допустим и в известном смысле согласимся. Географически и биологически не так трудно провести западную границу России, и может быть. даже выстроить на ней стену. Вряд ли так же легко и просто, разделить Россию и Европу в духовно–исторической динамике; и вряд ли это нужно. Нужно твердо помнить, имя Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было оно искажено и даже поругано на Западе. Есть глубокая и не снятая религиозная грань между Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико–метафизической их сопряженности и круговой христианской поруки. Россия, как живая преемница Византии, останется православным Востоком для неправославного, но христианского Запада внутри единого культурно–исторического цикла.
Россия есть Евразия. Согласимся, но потребуем твердого и ясного определения этого удачного, но смутного имени. В нем есть двусмысленность, и сами евразийцы вкладывают в него разные смыслы. Евразия — это значит: ни Европа, ни Азия, — третий мир. Евразия это — и Европа и Азия, помесь или синтез двух с преобладанием последнего. Между этими пониманиями евразийцы колеблются. Геософически они довольно легко проводят обе границы, и западную, и восточную. Но в дальнейших планах восточная граница оставляется расплывчатой, и в пределы Евразии вводится слишком много Азии. Всегда есть нарост отвращения к Европе и крен в Азию. О родстве с Азией, и кровном и духовном, евразийцы говорят всегда с подъемом и даже упоением, и в этом подъеме тонут и русские и православные черты. В советской современности, из–под интернационалистической декорации, евразийцы впервые увидели «стихийное национальное своеобразие и неевропейское, полуазиатское лицо России–Евразии», увидели и «Россию подлинную, историческую, древнюю, не выдуманную «славянскую» или «варяжско–славянскую», а настоящую русско–туранскую Россию–Евразию, преемницу великого наследия Чингисхана». «Заговорили на своих признанных теперь официальных языках разные туранские народы, татары, киргизы, башкиры, чуваши, якуты, буряты, монголы стали участвовать наравне с русскими в общегосударственном строительстве, и на самих русских физиономиях ранее казавшихся чисто–славянскими, теперь замечаешь что–то тоже туранское; в самом русском языке зазвучали какие–то новые звукосочетания, тоже «варварские», тоже туранские. Словно по всей России опять, как семьсот лет тому назад, запахло жженым кизяком, конским потом, верблюжьей шерстью — туранским, кочевым… И встает над Россией тень великого Чингисхана, объединителя Евразии…» Наше отношение к Азии интимнее и теплее, ибо мы друг другу родственнее», — утверждают евразийцы. Евразийская культура именно «в Азии у себя дома», ей ближе всего «азиатские культуры», и «для ее будущего необходимо… совершить органический поворот к Азии». Смысл и содержание этого поворота остается неясным. Исторические взаимодействия России с Азией не приходится отрицать, и верно, что до сих пор мы это мало знали. Русскую Азию до сих пор мало изучали — и мало чувствовали и понимали русские задачи в Азии. И в этом отношении есть известная правда у евразийцев. Свою русскую Азию, Азию в России, географическую и этническую, необходимо узнать и освоить, понять ее государственный смысл и вес, — но это должно в последнем счете вести к оформлению и укреплению восточной границы России. Верно, в своем народно–государственном сложении и бытии Россия не вмещается в географическую Европу, и «азиатская (зауральская) Россия» не есть колониальный придаток, но живой член единого тела. Однако, все это имеет государственный и экономический, но не религиозно–культурный смысл. Евразийцы переходят в этом направлении внутренние меры и расшатывают восточную границу Евразии. Они слишком увлекаются природными, географическими и этническими признаками и забывают, что единственная четкая грань, определяющая без колебания и спора действительные культурно–естественные границы Евразии–России, как исторического «третьего мира (не только как «части света», материка или «континента–океана»), заключается в Православии. Как Православный мир, Россия отлична от латино–протестантской Европы не более, чем от вовсе нехристианской Азии, причем в равной мере в народно–государственном теле России имеются островки и оазисы и Европы, и Азии. Правда, евразийцы пытаются утвердить и некое религиозное единство Евразии, странным образом без снятия граней по вере. Они не останавливаются на правиле веротерпимости. Они торопятся под него подвести не только религиозно–нравственное, но религиозно–мистическое основание. Так слагается соблазнительная и лживая теория «потенциального Православия» [134]. В евразийстве сложилась некая розовая сказка об язычестве, и в ней к тому же совершенно забыто коренное различие между «язычеством» дохристианским и «язычеством» послехристианским. Здесь ведь не одно хронологическое различие: в сохранении своего «языческого» облика после Христа исторические субъекты не только мистико–метафизически, но и эмпирически проявляют и упражняют бесспорное противление истине. Никакими историческими справками нельзя подтвердить евразийского заявления, будто «не будучи сознательно упорным отречением от Православия и горделивым пребыванием в своей отъединенности, язычество скорее и легче поддается призывам Православия, чем западно–христианский мир, и не относится к Православию с такою же враждебностью». Знакомство с историей православной миссии в «евразийском» мире открыла бы евразийцам нечто иное. И на эту историю нельзя возражать интеллигентской легендою о фальшивых приемах и формах русского миссионерства, вроде того исправника мусульманина, получившего Владимира в петлицу за обращение магометан в православие, о котором еще рассказывал Герцен. Нужно вспомнить имена святителя Иннокентия Иркутского, митрополита Иннокентия Московского, Нила, архиепископа Ярославского, архимандрита Макария Глухарева, архиепископа Иркутского Вениамина, Казанского архиепископа Владимира, приснопамятного святителя японского Николая [135]. Все они пламенели духом чистого апостольства. И сталкивались с упорным противлением не верующего во Христа мира. Надо вспомнить их опыт. И тогда рухнет до основания евразийская декламация об язычестве, как не очень стойком, «смутном и начальном опознании истины», декламация о том, что, если «языческий» мир свободно устремится к саморазвитию, свободное его саморазвитие будет его развитием к православию и приведет к созданию специфических его форм». Евразийцы чересчур «ценят своеобразие и будущее» евразийского «потенциально–православного мира» и во имя этого своеобразия готовы заградить уста благовестникам истины в расчете на саморазвитие «наивного» язычества. Странным образом, под общее и расплывчатое понятие этого будто бы «наивного» язычества подводится и буддизм (ламаизм), и даже ислам. В русской исторической действительности даже недавнего прошлого именно татаро–мусульманская и монголо–ламайская стихии оказывали бурное противление духу Святой Руси, — не русификации, но духу Православия и церковности. Евразийский рассказ о буддизме и исламе поражает смесью действительной наивности и кощунства. Думается, в прежних суждениях о «религии Индии и христианстве» евразийские авторы были ближе даже к объективно–исторической правде [136], чем в теперешних заявлениях о «предчувствии» Богочеловечества в теории «бодисатв». В перемене евразийского отношения к буддизму есть логика тактики: буддисты оказались не только в Индии и в Европе (под именем теософов), но и в Евразии, и стало необходимо и их как–то ввести в состав евразийского «единства в многообразии»… Об опасностях русского ламаизма евразийцы не то забывают, не то просто не знают. И то же надо сказать об исламе. Опять–таки не приходится говорить и здесь о «нестойкости» и невинности. Религиозное нечувствие евразийцев к языческим ядам, если оно происходит не от приспособительного легкомыслия, является логическим завершением их общего исторического морфологизма, который требует признания, приятия и оправдания всех эмпирически подмечаемых черт «своеобразия». Религиозные характеристики попадают в общий счет. И в конце концов, и на Православие евразийцы смотрят и должны смотреть, как на культурно–бытовую подробность, как на историческое достояние России. Евразийцы чувствуют православную стихию, переживают и понимают православие как историко–бытовой факт, как подсознательный «центр тяготения» евразийского мира, как его (именно его) потенцию. И вместе с тем, конкретно–практические задачи Евразии они определяют совсем не по этому «центру», не из живого православно–культурного самосознания, но из размышлений теософического, этнического, государственно–организационного порядка. Для них именно «монголы формулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического строя». И потому Россия превращается в их сознании в «Наследие Чингисхана» [137]. Россия есть переродившийся «московский улус», и евразийцы даже как бы скорбят о «неосуществившейся исторической возможности» окончательной организации Евразии вокруг Сарая, о неоправдавшемся «предположении» перехода сарайских ханов в православие. Не то не хватило у ханов «свободы самоопределения из себя», не то, вопреки евразийскому мечтанию, «потенциальное православие» татар оказалось мнимым. Соблазнительный и опасный, хотя, может быть, неясный и самим евразийцам смысл превращения России в «улус» и «наследие Чингисхана» заключается в сознательно–волевом выключении России из перспективы истории христианского, крещеного мира и перенесения ее в рамки судеб не–христианской, «басурманской» Азии. В историософическом «развитии по Чингисхану» есть двоякая ложь: и крен в Азию, и еще более опасное сужение русских судеб до пределов государственного строительства. При всей правде державного самосознания, оно не должно поглощать в себе культурной воли, воли к духовной свободе. В евразийском толковании русская судьба снова превращается в историю государства, только не российского, а евразийского, и весь смысл русского исторического бытия сводится к «освоению месторазвития» и к его государственному оформлению: «монгольское наследство, евразийская государственность» заслоняет в евразийских схемах «византийское наследство, православную государственность». И при этом евразийцы не чувствуют, что вовсе не один «строй идей» получила Россия от Византии, но богатство Церковной жизни. Это и дар, и задание, и призвание. Этим даром задается и определяется «историческая миссия» России, в перспективах культурного бытия, не евразийской «плотью» и не враждебным лицом.
Странное дело, чрез меру словоохотливые на рассуждения о Православии и о Церкви в отвлечённо–метафизическом плане, евразийцы умолкают в плане «феноменологическом», при разборе, толковании и учете действительных, жизненных сил и отношений. В евразийской «феноменологии» русской современности для Церкви места нет. Вместо этого евразийцы рассуждают о русском «мистическом рационализме», о религиозных инстинктах, о «потребностях и навыках» русского сектантства. И призывают совершить какой–то «сектантский исход», — неясно, откуда и куда. По новейшему евразийскому утверждению — «до тех пор, пока в самой сердцевине интеллигенции и народа не зародятся вновь внутренние таинственные процессы сектантского исхода, которые вскружат, поднимут и организуют новых современных людей, до тех пор можно с решительностью сказать, что у русских коммунистов противников нет». В сектантстве евразийцы увидели теперь «метафизический пафос подлинной русской религиозности». Есть большая двусмысленность в евразийском отношении к Церкви. С одной стороны, государство как бы отделяется от Церкви, сохраняя, впрочем, в своей полномочной юрисдикции и власти «представителей Церкви», и, более того, сохраняя за собой право и свободу «раскрывать религиозную свою природу и руководствоваться определенными им самим, а не диктуемыми «Церковью» религиозными конкретными заданиями». Правда, евразийцы поясняют эту мысль как будто успокоительными примерами. Государство «может, например, взять на себя именно в данный момент необходимую защиту» Православия от воинствующего католичества и организовать религиозное воспитание и обучение в своих школах, предложив Церкви принять в нем под контролем государства добровольное участие»… Но ведь нетрудно угадать и другие возможности «религиозного» самоопределения и самоуправления евразийского государства. Сами евразийцы намекают, что государство может, в видах охранения свободы и самобытности развития нехристианских исповеданий, воспретить всякую Православную миссию и благовестие среди иноверцев и сектантов, и потребовать молчания Церкви о своих действиях в пользу ислама или буддизма как некоего «потенциального Православия». Не будет ли «религиозная природа» такого государства носить очень соблазнительный характер?..
Нужно сказать больше, в евразийском «государственном максимализме» заложен острый и кощунственный соблазн. В евразийском толковании все время остается неясным, что есть культура (или «культуро–субъект»), — становящаяся Церковь или становящееся государство. Евразийцы колеблются между ответами. С одной стороны, «весь мир (есть) единая соборная вселенская Церковь, как единая совершенная личность», с другой, только в государстве и именно в нем «симфонический народный субъект» получает свое лицо. И притом нужно помнить, «сфера духовного творчества», потенциально и по заданию объединяемая в Церкви, занимает, по евразийской схеме, место всецело подчиненное руководящей воле «государственного актива», обладающего ею на началах «безусловного господства». Следует вспомнить, что этот «актив», или Партия с большой буквы, имеет «свою символику и свою мистику». Не превращается же она в какую–то самозванную «церковь» над Церковью — самозаконная, самодовлеющая, властная… по категорическому разъяснению евразийских авторов, тварные субъекты свое лицо и «личность» вообще получают только и впервые во Христе, чрез причастие единственной подлинной Личности и ипостаси Богочеловека. Не приходится ли, по силе евразийской последовательности, признать, что именно в государстве и только в нем и народы, и составляющие их низшие «соборные» личности приобщаются и соединяются Христу? Такое допущение зловещим, но действительным призраком встает над евразийством, как тень Великого Зверя… В последнем счете, для евразийцев Церковь в государстве, не государство в Церкви, — ecclesia in re publica, не res publica in ecclesia. Из этих формул, наметившихся во всей остроте еще во времена Равноапостольного Константина, евразийцы выбирают во внутренней воле первую. И с этим связана последняя неувязка их религиозно–исторической философии культуры.
В евразийском толковании путь личности к Богу опосредствован всею сложною системою тех естественных, кровных и мирских социальных концентров, к которым индивидуум принадлежит. Воссоединяется с «религиозною сущностью мира» личность только в составе объемлющих ее «симфонических» целых. И здесь сказывается острое смещение разноприродных планов, перекрещивающихся, но не сливающихся в историческом становлении. Церковь — «не от мира сего». Конечно, вместе с тем, в последнем. религиозно–метафизическом счете, Церковь есть идеальная цель и призвание мира. Но это — цель, миру сему, в его кровном и естественном строе, запредельная. Мир «становится» Церковью только в своем пресуществлении, переставая в известном смысле быть самим собою. В этом «становлении» мир перерождается и преображается, как бы перестраивается по иным. сверхтварным началам. Все кровные связи надрываются и отменяются, и слагаются новые, иные, благодатные, по усыновлению Богу через Христа. В Церкви все становится новым. Потому и требуется от оглашаемого в предкрещальном исповедании отречение от мира, от порядка плоти и крови, и только чрез это отречение становится возможным крещальное рождение от Духа Святого. Христианство требует разрыва самых крепких и дорогих кровных связей: «ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее; и враги человеку домашние его» (Матф. 10:35–36). И этот разрыв родовых и кровных связей требуется не только для подвига личного религиозно–нравственного восхождения, но и для подвига мирского, общественного устроения. «Зане уды есмы тела Его, от плоти Его и от костей Его. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину. Тайна сия велика есть; аз же глаголю во Христа и во Церковь» (Еф. 5:30–32). Семья не есть кровная ячейка или «биологически обоснованный микрокосмос культуры». Нет, христианская семья слагается в разрыве кровных связей, и чрез вольное избрание и свободную любовь, по образу таинственного обручения и брака Христа–Агнца с Церковью. И семья, как некая церковь, есть прообраз и мера всех высших общественных союзов и соединений, когда они устрояются по мере Христовой. Органическая неволя в церковной семье преображается в духовную свободу, чрез «благодать чистого единодушия». Церковь есть полнота бытия. Церковь объемлет и должна объять все благое в твари и достойное благодатного увековечения, но объемлет не в порядке дорастания эмпирии до Церкви, не в порядке развития мира в Церковь, но в порядке его приложения в нее, как в Тело Христово, по новому закону Духа и свободы. Церковь не созидается и не осуществляется в процессе мирского культурного строительства. Культура не есть ступень Церковного сложения, хотя бы в качестве «начально организованного материала собственного своего церковного бытия». Не все входит в Церковь, многое и слишком многое остается за ее порогом, и не только по греху, но и потому, что не все призвано к наследию вечной жизни, — не по несовершенству только, но по инородности небесной жизни. И потому более чем неосторожно сказать, что «Православная русская Церковь эмпирически и есть русская культура, становящаяся Церковью». Евразийцы слишком нагружают Церковь миром и мирским. Плоть и кровь не наследуют вечной жизни. Это не отрывает христианства от земли, не «выпаривает» его из жизни. Но Церковь всегда остается в странствии на исторической земле, всегда чуждая духу века сего, собирая в духовном рождении чад своих из всякого народа. Евразийцы не чувствуют, что нет и не может быть в падшем человечестве вообще ни одного народа, для которого христианство было бы своим и родным в порядке естественного рождения. И даже для рожденных в православии, т. е. от крещенных отцов и матерей, оно остается чужим, до усвоения его в «купели усыновления», до крещального второго рождения; нельзя ссылаться на то, что человеческая душа «по природе» христианка [138], — вернее сказать, христианка по призванию, по той идеальной «природе», которая никогда не была осуществлена и, более того, была отвергнута в вольном человеческом грехопадении, и так и осталась заданием и призванием, и притом неосуществимым чисто человеческими силами в их новом разбитом состоянии не только без помощи Божией, но и без «нового творения», без нового акта Божественного снисхождения в тварную жизнь. В грехопадении осуществилась чисто–человеческая обезбоженная «природа», «неестественная» в отношении к Божию призванию, и даже противоестественная, но как бы «естественная» в рамках замкнувшейся от Бога твари. И для такой греховной «природы» христианство всегда есть «насилие», «Царствие Божие нудится, и нуждицы восхищают е»… [139] «Развиться» во христианство и до христианства такое человечество само из себя не могло и не может, оно должно переродиться, обновиться в своем естестве. В евразийском изображении этот процесс теряет свою трудность — у евразийцев есть явный уклон в устарелое пелагианство [140]. Воцерковление людей и еще более народов всегда остается незаконченным не в силу одной только эмпирической ограниченности исторического бывания, но и по греховной инертности и «немощи» грешно–естественной среды, сковывающей члены, пленяющей волю. О христианских народах, о Православной России, в частности, можно сказать, что они имеют христианское происхождение. Но это происхождение в духе и благодати приходится охранять и сохранять, блюсти и непрестанно воссозидать в неуклонном подвиге и восхождении: это — динамический процесс, всегда в какой–то мере над бездною отпадения. Христианство не может всосаться в кровь и держаться силою одной исторической, бытовой инерции. Это — творческий процесс, всегда требующий ответственного напряжения. Противоположность «природы» и «благодати» в этом смысле данности и заданности, а не только неполноты и полноты, потенции и акта, всегда остается неснятой и внутри церковно–исторического бытия. Всегда остаются два плана. Конечно, в известном смысле, во всяком подлинном воцерковлении побеждается «естества чин» [141]. Но не все человеческое перегорает и просветляется в этом процессе. Ибо Царствие Божие не есть «всеединство» в том смысле, что в него войдет нумерическое «все», да еще во многообразии своих колеблющихся превращений (а не простых ступеней роста, как представляется иным евразийцам). Кое–что, во всяком случае, достигается на долю «тьмы кромешной». А многое останется просто за порогом вечности, как принадлежность одного только времени, — так, например, все формы земной, народно–государственной и хозяйственной организации, остающиеся и даже освящаемые в оцерковленном бывании, но снимаемые и преодолеваемые в самой Церкви, как таинственном Теле Христовом. Вряд ли и народы, как кровные организмы, войдут в Царствие, — конечно, печать принадлежности к данному народу и эпохе как конституционный элемент духовного строя сохранится, как сохранится в воскресшем теле и личный облик плоти, но самые эмпирические и земные формы не войдут в вечное Царство Славы, когда и времени уже не будет, как не входят они и сейчас в Царство Благодати, в эпоху времени и смены. Ибо здесь уже снята грань между варваром и скифом, рабом и свободным, хотя и остается она еще в оцерковленном и околоцерковном мире. Идея симфонического многообразия во единстве слепит евразийцев, — их внимание рассеивается по множественности, они подчеркивают различения, и в итоге само православие распадается у них на «многие исповедания», национальные по типу. В этой мысли есть доля правды: каждый верует по–своему, ибо процветающая делами вера есть со своей субъективной стороны неповторимый и незаменимый личный путь и подвиг; неужели же следует говорить и о «личных исповеданиях». О них все же скорее, чем о народных. И, главное, весь смысл и ценность не в том, что разное, но в том. что едино, во Христе, и Он, по апостольскому слову, тот же, и днесь, и до века…
5
Россия в развалинах. Разбито и растерзано ее державное тело. Взбудоражена, и отравлена, и потрясена русская душа, и проходит по мытарствам огненного испытания, — и в них перегорает, переплавляется. Видно, не исполнилась еще внутренняя мера, не истекли, не свершились еще тайные времена и сроки. И вспоминаются мудрые слова одного из наших владык. «Доколе, Господи! — спрашиваем и не понимаем, что в нашей это воле, от нас зависит, от нашего подвига и смирения. Вот открылись на Руси дивные знаки Божия промышления — знамения, чудеса… И никто не расслышал, не понял их вещего смысла, — что бдит Господь о России… И знамения сокрылись… Еще рано… Еще не прозрела, не готова наша душа»… Ибо только в ответе на дерзновение взыскующей веры, в ответе на подвиг духовного стяжания откроется Нечаянная Радость, — «сверлом Божией воли».
Есть соблазн тонкого маловерия в тоске нетерпеливого ожидания, — и в нем прикрывается лукавая уклончивость немощной воли. В русской смуте открылась снова и поставлена перед нами великая и жуткая задача духовного созидания и воссозидания.
Соблазн слепых мирских пристрастий победил и обессилил и в евразийстве его нечаянную правду. Евразийцы духовно ушиблены нашим «рассеянием», утомлены географической разлукой с родиной. И есть бесспорная правда в живом пафосе родной территории, — дорога и священна родимая земля, и не оторваться от нее в памяти и любви. Но не в крови и почве подлинное и вечное родство. И географическое удаление не нарушает его, если сильны и крепки высшие духовные связи. И за рубежом есть и творится Россия, и в нас, по плоти от нее удаленных, но в воле и духе крепких ей, может и должна созидаться и созидается она. И мы можем и должны быть не только сторонними зрителями, но и творческими соучастниками и совершителями русских судеб и русской судьбы, — не в порядке внешнего вмешательства, не в грезах о вторжении и насилии, но в творческом со–переживании, со–страдании и преодолении трагизма русской души, в со–чувственном духовном делании и собирании, в устроении себя в живые камни родного дома. Конечно, по родной территории проходит магистраль родной судьбы. Но и нам доступно духовное со–пребывание с Россией и в России, творческое, действительное и живое. Евразийцы поспешно поверили в наш отрыв от России и в увлечении спором с близорукими эмигрантскими доктринерами преждевременно сами себя убедили, что Зарубежная Россия совсем не Россия и нет в ней и не может быть творческого русского дела. Отсюда какая–то рабская внимательность к советской действительности, какая–то болезненная торопливость сесть на землю, наивное ожидание чудес от земли. В этом дурном кровяном почвенничестве отражается внутренняя бездомность и беспочвенность, психология людей, связанных с родиной только через территорию. Но подлинная связь через любовь и подвиг… В их избрании и воле Восток Ксеркса победил Восток Христа [142], «Восток свыше»… Не смогли и не сумели они понять и разгадать вещий смысл русского искуса, русской судьбы. Не Божий суд и судное испытание распознали они в русской смуте, но откровение стихий. И в стихийном эросе, в вожделении водительства и власти погасла воля к очищению и подвигу. Мечтательный и страстный пафос плоти подавил дух творческой свободы. И жуткие кругозоры русского горя закрыл образ нового Левиафана. В этих грезах нет исхода, нет правды.
Но знаем и верим, пробуждается русская душа. и в творческом самоотречении от своего дома прилепляется к Дому Божию. И не в умствованиях, и не в надрыве, но в бдении и подвиге восстанавливает его. Верим и знаем, Великая Россия воскреснет и восстановится тогда, и только тогда, когда воскреснем и восстанем мы в молитвенной силе. Ибо Россия, это — мы, каждый и все, хотя и больше она каждого и всех. Ибо каждый из нас в своем подвиге собирает и созидает Россию и в своей косности и падении разоряет и бесчестит ее. Ибо каждое падение разлагает творимый народный дух, и в личных возрастаниях святится он и просветляется священнотайно. О семи праведниках миру стояние, и о семи злодеях приходит погибель ему. В самих себе, каждый и все в круговом общении и поруке, должны мы напряжением творческой воли строить и созидать новую Россию, не осуществленную по нашей немощи и небрежению Святую и праведную Русь… И тогда воздвигнутся стены Иерусалимские! [143]
Печатается по: «Современные записки» (Париж), 1928, №34, стр. 312–346.
ЕВХАРИСТИЯ И СОБОРНОСТЬ
Никто же да рыдает убожества, явися бо общее царство…
(Из Пасхального огласительного слова).
Святая Евхаристия совершается в память о Христе. И прежде всего — в воспоминание о Тайной Вечери, когда Господь установил и Сам впервые совершил святейшее таинство Нового Завета со ученики Своими и дал заповедь: сие творите в Мое воспоминание… Но это не только воспоминание. Вспоминают о бывшем и прошедшем, о том, что некогда случилось и чего уже нет. А Тайная Вечеря не только была единожды совершена, но таинственно продолжается и до века, — «дондеже приидет»… Это исповедуем мы каждый раз, приступая к Евхаристической чаше: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими… Продолжается, не повторяется. Ибо едина жертва, едино приношение, един Иерей, «приносящий и приносимый»… «И ныне предстоит тот же Христос; Кто приготовил ту трапезу, Тот же приготовляет и эту теперь», говорит Златоуст. И прибавляет: «та трапеза, за которой было установлено таинство, ничем не полнее каждой последующей, потому что и днесь совершающий вся и преподающий есть Он, как и тогда». В этом открывается тайна соборности, тайна Церкви. Апостол таинственно говорил о Церкви, как о «полноте» или «исполнении» Христа (Еф. 7. 23). И Златоуст объяснял, что «полнота», значит дополнение, — Церковь, есть некое восполнение Христа, Который есть лишь Глава в Своем Теле. «И значит: тогда только исполнится глава, когда устроится совершенное тело»… Тело Христово, Церковь, становится, исполняется во времени. Подобным образом, и каждая Евхаристия есть некое исполнение Тайной Вечери, ее осуществление и раскрытие в мире и во времени. Каждая евхаристическая служба есть всецелое отображение единой великой Евхаристии, совершенной Спасителем в навечерии Его вольных страданий на Тайной Вечери. Как говорил Златоуст, каждая Евхаристия есть жертва всецелая, — «ее приносим и мы теперь, тогда принесенную и никогда не оскудевающую»… Всегда и везде единый Христос, «и там всецелый, и здесь всецелый»…
Перепечатывается из журнала «Путь», № 19, 1929.
29
Как Вечный Первосященник, Спаситель «непрестанно совершает для нас сию службу», говорит проникновенный византийский литургист Николай Кавасила. Не так, что снова Он сходит на землю и воплощается или вселяется в освящаемых Дарах, — «не так, что вознесшееся Тело нисходит с неба»… В Вознесении Своем Христос, селящий оттоле одесную Отца, не отлучается и от земли и «пребывает неотступно» — в Церкви Своей. Как говорил Златоуст, «Христос и нам оставил плоть Свою, и с нею же вознесся». В том смысле страшного и неисповедимого евхаристического преложения, что таинственным действием Святого Духа, ниспосланного в мир Сыном от Отца, неизреченно исполняется Пречистое Тело Христово. И в этом таинство. Не повторяется жертва, не повторяется заколение… Эта жертва, — говорит Кавасила об Евхаристии,… «совершается не чрез заколение в то время Агнца, но чрез преложение хлеба в закланного Агнца». По силе молитвенного призывания Церкви наитием Духа предложенные Дары освящаются, — Его благодатной силою изъемлются из тленного круговорота естественной жизни. Честные Дары приемлются в пренебесный жертвенник Божий и становятся истинною плотию и кровию Христа; и чрез это воспринимаются в единство Ипостаси Бога Слова. Это — тело Богочеловека, рожденное от Девы, пострадавшее, воскресшее, вознесенное, прославленное. Это — сам Христос, — во двою естеству неслитно познаваемый»… «Он сказал в начале: да произведет земля былие травное», объясняет Дамаскин: «и даже доныне она по орошении дождем производит свои прозябания, возбуждаемая и укрепляемая божественным повелением. Так и здесь Бог сказал: «сие есть тело Мое, и сия есть кровь Моя, и сие творите в Мое воспоминание; и по Его всесильному повелению так и бывает, пока Он не придет… И чрез призывание является дождь для этого нового земледелия, — осеняющая сила Святого Духа». Это «новое земледелие», по дерзновенному выражению Дамаскина, есть некое космическое таинство, освящение природы — в предварение и предначатие того грядущего и великого обновления, когда Бог будет всем во всем. Это — начатой нового неба и новой земли. Во святой Евхаристии земля уже ныне становится небом: ибо «теперь возможно видеть на земле тело Царя небес», замечает Златоуст. И, однако, это не есть самодовлеющее физическое, природное чудо, не есть только преображение вещества. Ибо совершается евхаристическое чудо ради человека, и совершается чрез человеческое естество Воплотившегося Слова. Евхаристия есть «врачевство бессмертия», по выра30
жению еще св. Игнатия Антиохийского, — «врачевство жизни», «врачевство нетления»… Это нетленная и бессмертная пища для человека. Евхаристия совершается ради вкушения. Это, прежде всего, — трапеза. И принимая телесно Евхаристические Дары, мы преискренно соединяемся со Христом, со Христом–Богочеловеком. Ибо Плоть Господа, одушевленная и живая, чрез единство Ипостаси Воплощенного Слова, уже обожена, есть «тело сущего над всеми Бога», по выражению Златоуста. По силе неизменного и нераздельного единства двух естеств в лице Богочеловека, чрез Евхаристическое вкушение, «чрез смешение плоти и крови», как выражается Дамаскин, «мы становимся причастниками Божества Иисусова». И для телесно духовного существа, каким создан человек, нет иного пути и средства к соединению с Богом, — как то открыл нам Сам Господь: «если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». (Ио. VI. 53). Созидая Церковь Свою, в таинственном предварении Своих спасительных страданий, Господь устанавливает на Тайной Вечери святейшее таинство Нового Завета, и раскрывает ученикам, что это есть таинство единства и любви. О любви учит и назидает апостолов Спаситель в ту ночь. И говорит о любви, как о силе соединяющей. Он говорит о Себе, как о Новом и Втором Адаме, — как Новый Адам, Господь есть Путь для человеков, в Нем и чрез Него приходящих к Отцу. И таинственный Дом Отца, в котором обители многи суть, это — сам Господь, в Теле Которого, в Церкви, верующие в Него благодатною силой любви соединяются в таинственной сотелесности с Ним и между собою. И соединяются чрез таинство Плоти и Крови, — по Его собственному слову: «ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и Я в нем». (Ио. VI. 56). Апостольское учение о Церкви, как о Теле Христовом, передает прежде всего литургический опыт, выражает евхаристическую действительность: «Един хлеб, и мы многие единое тело, ибо все причащаемся от единого хлебы» (I Кор. X. 17). Златоуст объясняет: «Мы — самое то тело. Ибо что такое хлеб? Тело Христово… Чем делаются причащающиеся? Телом Христа… Не много тел, но одно тело»… В святой Евхаристии верующие становятся Телом Христовым. И потому Евхаристия есть таинство Церкви, «таинство собрания», «таинство общения». Евхаристическое общение не есть только духовное, или нравственное единство, не только единство переживания, воли и чувства. Это и реальное и онтологическое единство, осуществление единой органической жизни во Христе. Са31
мый образ Тела указывает на органическую непрерывность жизни. В верующих, в силу и в меру их соединения со Христом, открывается единая Богочеловеческая жизнь — в общении таинства, в единстве животворящего Духа. Древние отцы не колебались говорить о «естественном» и «физическом» общении, реалистически объясняли евангельский образ Лозы виноградной. «Сотелесными и единокровными Христу» называет св. Кирилл Иерусалимский причастников евхаристической трапезы. В едином Теле Своем, говорил св. Кирилл Александрийский, посредством таинственного благословения Христос делает верующих во–истину со–телесными Себе и между собою, «чтобы и сами мы сходились и смешивались в единство с Богом и между собою, хотя и отделяясь каждый от другого душами и телами в особую личность»… «Для того Он смесил Себя с нами и растворил тело Свое в нас», говорит Златоуст, «чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с главою. 'И это есть знак самой сильной любви… Я восхотел быть высшим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови. И эти плоть и кровь, через которые Я сделался сокровенным с вами, я опять преподаю вам» — В Евхаристии снимается человеческая непроницаемость и исключительность. Верующие становятся «сочленами» во Христе, и чрез это — сочленами друг другу. Созидается новое, кафолическое человечество, — род христианский. «Все — один Христос, как единое тело из многих членов», говорит преп. Симеон. Евхаристия есть кафолическое таинство, таинство мира и любви, и потому единства. Таинство мира и единства нашего, по выражению блаж. Августина. Это — вечеря любви. Как воистину Вечерею любви была Тайная Вечеря, когда Господь открыл и показал ученикам «превосходнейший путь» любви совершенной, — по образу Его любви: «как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ио. XIII. 34). И более того, — по образу Троической любви: «как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас: пребудьте в любви Моей» (Ио. XV. 9). Заповедь любви Господь возводит к тайне Троического единства, — ибо эта тайна есть любовь «и это имя угодно Богу паче всякого другого имени», замечает св. Григорий Богослов. Заключая Свою прощальную беседу в Первосвященнической молитве Спаситель молится о соединении и единстве верующих в Него: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, да будут и они в Нас едино… Я в них и Ты во Мне; да будут совершены во едино» (Ио. XVII. 21, 23). Для нас, разделенных и обособленных, это соединение по образу Троицы, Единосущной и Нераздельной, возможно только во Хри32
сте, в Его любви, в единстве Его Тела, в общении Его чаши. В единстве кафолической Церкви таинственно отображается Троическое единосущее; и по образу Троического единосущия и круговращения Божественной жизни у множества верующих оказывается одна душа и одно сердце (срв. Деян. IV. 32). И это единство свое и соборность Церковь узнает и осуществляет прежде всего в Евхаристическом тайноденствии. Можно сказать, Церковь есть в твари образ Пресвятой Троицы, — потому и связано откровение Троичности с основанием Церкви. И Евхаристическое общение есть исполнение и вершина Церковного единства.
2.
Евхаристическое тайнодействие есть прежде всего общая и соборная молитва. «Публика эт коммунис орацио», говорил св. Киприан Карфагенский, —«и когда мы молимся, то молимся не за одного, но за весь народ, потому что мы, весь народ, есмы одно»… Молимся за весь народ, и молится весь народ… Это сказывается уже во внешней форме молитвословий: мы молимся… «Молитвы благодарения также суть общие», замечает Златоуст. Их приносит тайнодействующий священнослужитель, но приносит их от всего народа, от Церкви, от собрания верных. От лица Церкви, от лица всего церковного народа приносит он святое возношение; и молится не от себя, но от народа — как от народа приносится и предлежащие на алтаре Дары. «Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и умоляем: ниспосли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сии»… И народ скрепляет это «таинственное» (скорее, чем… тайное») моление и призывание своим согласием: «Тебя поем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе, Боже наш»… Это не пассивное согласие, не молитвенный аккомпанемент, — это свидетельство нераздельного единодушия и тожества в молитве. Церковь говорит устами священнослужителя. Но только священник смеет возносить молитву народа, потому что только он Божественною благодатию облечен правом и дерзновением говорить за всех. Это право и этот дар имеет и получает он не от народа, но от Духа Святого, в порядке преемственного священноначалия; но получает его для народа, как некий корифей церковного хора, — имеет его, как дар служения, как один из даров во многообразии церковных дарований. Молитвенное «мы» означает не только множественное число. Но прежде всего — духовное единство предстоящей Церкви,
33
нераздельную соборность молитвенного обращения. «Иже общия сии и согласныя даровавый нам молитвы», обращается Церковь в одной из евхаристических молитв. Ибо молитва верных должна быть «симфонической» молитвой, должна приноситься «едиными усты и единым сердцем». И не так, чтобы просто слагались между собою частные, личные и обособленные молитвы. Но так, чтобы уже и каждая слагающая молитва освобождался от личной ограниченности, переставала быть только личною и становилась общей и соборной. То есть, чтобы каждый молился не по себе, но именно как член Церкви, ощущая и сознавая себя сочленом церковного тела. Это дается в мире и любви. Потому и предваряется в литургическом чине молитва возношения призывом к любви и молитвой целования: Возлюбим друг друга… И разумеется при этом не немощная и исключительная только человеческая любовь, но та новая любовь, о которой учил Спаситель, — любовь о Христе и во Христе, и любовь Христа ради. Не естественное влечение, но благодатная сила, изливаемая в сердца наши Духом Святым (Рим. V. 5). В Церкви любовь преображается, получает онтологическую полноту и реальность. Потому и становится возможным «любить близких, как самого себя», — так любить возможно только во Христе, которого верующий взор открывает и в каждом ближнем, в «едином из малых сих», и только силою жертвенной любви Христовой. Эта любовь не терпит ограничения и предела, не может и не хочет быть замкнутой, одинокой. Перестает быть желанным и сладким всякое личное благо. И это есть подобие любви Христовой, никого не отсекающей от своей полноты. С силою говорил об этом Златоуст, объясняя молитву Господню. Да будет воля Твоя как на небеси и на земли! Это значит: «как на небе, говорим мы, нет ни одного грешника, так и на земле пусть не будет ни одного; но во всех, говорим мы, укорени страх Твой и всех людей сделай ангелами, хотя они и наши враги и супостаты»… С такою любовию надлежит приступать к страшному Евхаристическому тайнодействию. «Ибо предлежит общая для всего мира очистительная жертва», замечает Златоуст. И открылось общее царство… Есть кафолический размах и дерзновение в литургической молитве. «Еще приносим Тебе словесную сию службу о вселенной», молится Церковь. И литургические прошения объемлют весь мир, как уже получивший благословение Божие. В молитвах Церковь стремится к поименному перечислению всего своего состава, прославленного и немощного, живых и усопших. И в этом именовании всех тех, за кого церковный народ должен и хочет помомолится, освящается и утверждается начало личности. Евхаристическое наименование живых и усопших означает утверждение каждой индивидуальности в едином и соборном теле Церкви. «И даждь им место и пребывание в царствии Твоем», по выражению древней александрийской литургии. И мы просим Бога восполнить немощь и пробелы нашей памяти: «и тех, кого мы не помянули по неведению или по забвению, или по множеству имен, Сам помяни, Боже, ведый возраст и звания каждого, знающий каждого от чрева матери Его»… И общею молитвою о «всякой душе христианской» и о всех усопших в надежде воскресения к жизни вечной мы свидетельствуем и скрепляем свою волю ко всеобъемлющей, безызъятной молитве. И мало того, евхаристическая молитва с любовным вниманием охватывает всю полноту и всю сложность жизненных положений и состояний, всю сложность земной судьбы. На всю жизнь призывается благословение и милость Божия, ибо все объемлется и объято любовию Христовой: «Сам буди всем для всех, ведый каждого, и прошение его, и дом и нужду его»… Вся жизнь созерцается во Христе. И Церковь молится: «помяни, Господи, принесших Тебе сии дары и тех, о ком, и через кого, и за кого они принесли их. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и помнящих об убогих… Помяни, Господи, благочестивейших и благоверных царей… Помяни всякое начальство и власть… Помяни предстоящий народ и неприсутствующих по благословным причинам, и помилуй их и нас по множеству милости Твоей: сокровищницы их наполни всяким добром, супружества их сохрани в мире и единомыслии, младенцев воспитай, юность наставь, малодушных утешь, рассеянных собери, заблудших обрати…, мучимых духами нечистыми освободи. Сопровождай плавающих, сопутствуй путешествующим, покровительствуй вдовам, защити сирот, избави пленных, исцели больных. Помяни, Боже, находящихся на суде и в ссылках, и в рудниках, и во всякой скорби и нужде и беде и всех нуждающихся в великом Твоем милосердии, — и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойным молиться за них. И весь народ Твой, Господи Боже наш, помяни и на всех излей богатую Твою милость… Эта молитва возносится по освящении Даров, пред лицем самого Христа. И завершается это любовное поминовение прошением об единодушии и о мире, о мире всего мира: «Прекрати раздоры церквей, останови смятение народов, разруши силою Святого Твоего Духа восстание ересей. Приими нас всех во Царствие Твое и, показав нас сынами света и сынами дня, даруй нам мир Твой и любовь Твою… И даждь нам едиными усты
34
35
и единым сердцем славить и воспевать всечтимое и великолепное имя Твое»… — Так молится весь народ, и .молится за весь народ. И это не только единство молитвы. В Евхаристии незримо, но действительно открывается полнота Церкви. Каждая литургия совершается в связи со всею Церковию и как бы от ее лица, не только от лица предстоящего народа, — как и полномочие тайно–действовать священнослужитель имеет в силу апостольского преемства и тем самым от апостолов и от всей Церкви, и постольку от самого Христа. Ибо каждая… «малая Церковь» есть не только часть, но и стяженный образ всей Церкви, неотлучный от ее единства и полноты. И потому во всякой литургии таинственно, но реально соприсутствует и соучаствует вся Церковь. Литургическое священнодействие есть некое обновляющееся Богоявление. И в нем мы созерцаем Богочеловека Христа, как Основателя и Главу Церкви, — и с ним всю Церковь. В евхаристической молитве Церковь созерцает и сознает себя единым и всецелым Телом Христовым. Внешним знаком этого созерцаемого единства являются частицы, полагаемые во время проскомидии на святом дискосе окрест св. Агнца, приготовленного для освящения. «В сем божественном образе и действия священной проскомидии», объясняет Симеон Солунский, «мы видим некоторым образом самого Иисуса, созерцаем и всю единую Церковь Его. В средоточии всего видим Его, истинный свет, вечную жизнь… Ибо Сам Он присутствует здесь под образом хлеба, посредине. Частицею с правой стороны изображается Матерь Его, с левой — святые и ангелы; и внизу — благочестивое собрание всех уверовавших в Него. Здесь великая тайна… Бог посреди людей и Бог посреди богов, получивших обожение от исконного по естеству Бога, воплотившегося ради нас. Здесь будущее царство и откровение вечной жизни. И это не только образ, не только священный символизм. Литургическое поминовение имеет тайнодейственную силу, — потому совершается оно только о верных, о членах Церкви (хотя молится Церковь и о «внешних», об отступивших и не ищущих Бога, но — не в святом возношении). Ибо, продолжает Симеон Солунский, «частица, принесенная за кого–либо, лежа близ божественного хлеба в то время, как он священнодействуется и прелагается причастною освящения; и быв положена в потир, она соединяется с кровию. Поэтому и на душу, за которую принесена, низводит благодать. Здесь как бы совершается мысленное приобщение; и если человек благочестив, или если грешен, но покаялся, то он невидимо душою принимает общение Духа»… И таким образом в Евхаристическом поминовении укрепляется
онтологическое сростание верных во Христе. Это не магическое действие, это — действие спасительной благодати Крестной, приемлемой и усвояемой каждым в меру чистоты и достоинства. Ибо может быть причащение св. Тайн и во осуждение. Только любовь человека усваивает любовь снисходящего Бога. И Христос преподает Себя не только тем, кто телесно причащается Плоти и Крови Его из рук священства. Чрез Евхаристическое тайнодействие Он преподает Себя и отсутствующим, — «как Сам знает». Это и есть духовное или «мысленное» приобщение. Ибо смысл приобщения — в соединении с Богочеловеком чрез плоть Его; и в соединении не только телесном, но и душевном, и духовном. Обратно, всякое соединение со Христом есть некое приобщение и тем самым прикосновение Его пречистого и прославленного Тела. «Всякий покой душ и всякая награда за добродетель, и великая, и малая», говорит Кавасила, «есть не что иное, как сей хлеб и сия чаша, которой равно причащается и род живых, и род мертвых, — каждый соответственным для себя образом». И таким образом, в Евхаристии снимается грань смерти, грань смертного разлучения, — усопшие соединяются с живущими в Евхаристическом единстве, в единстве трапезы Христовой. Евхаристическое поминовение не есть только воспоминание, но — видение, созерцание апостольского общения во Христе. Потому и приносится молитва о всех, что «этою священною жертвою все вместе и ангелы, и святые люди, и соединились со Христом, и освятились в Нем, и чрез Него соедияются с нами», говорит Симеон Солунский. И каждый раз, совершая евхаристическую службу, мы созерцаем и переживаем это совершенное единство и молимся от лица всего призванного и спасенного человечества. Молимся, как Церковь, — молится вся Церковь,, Евхаристия есть некое онтологическое откровение о Христе и о Церкви, — о Христе в Церкви. «Тайны означают и Церковь», говорит Кавасила, «так как она есть тело Христово и члены отчасти (I Кор. XII, 27)». И продолжает: «И указуется Церковь Тайнами не как символами, но как сердцем указуются члены, как корнями дерева ветви и, по слову Господа, как виноградною лозою указуются отрасли; ибо здесь не одинаковость только имени, и не сходство подобия, но тождество дела… Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем другим, как только телом Господним… Ибо верные, через сию кровь, уже живут жизнью во Христе, истиною соединены с тою Главою и облечены сим телом».
за
37
Евхаристия скорее гимн, нежели молитва, — отсюда и самое имя: «благодарение». Конечно, это — Голгофа, и на престоле предлежит Агнец закланный, Тело ломимое и Кровь изливаемая. Но и Голгофа есть таинство радости, не страха, таинство любви и славы… Ныне прославися Сын Человеческий (Ио. XIII, 31). И если по недостоинству трепещем пред Крестом, то трепещем от благоговения, изумевая перед несказуемой полнотою Божественной любви. Ибо «начало, и средина, и конец креста Христова — все одна любовь Божия», говорил митр. Филарет. Се бо явися крестом радость всему миру… И во грехах наших трепещем, но радуемся и песнославим, и воспеваем победную песнь, песнь хвалы и благодарение: «за все, что знаем и чего не знаем, за явные и неявные благодеяния, совершившиеся на нас». Во всем литургическом тайнодействии, во всех молитвословиях звучат победные и благодарственные тона. Это вход Царя Славы… Мы созерцаем и вспоминаем не только Голгофу, но «и все совершившееся ради нас, — крест, гроб, тридневное воскресение, восшествие на небеса, сидение одесную, еще второе и славное пришествие»… Мы созерцаем не только распятого и страждущего Христа, но и Христа воскресшего и взошедшего в премирную славу, — Начальника жизни, Победителя смерти. Евхаристия есть знамние победы, знамение совершившегося спасения от тления, победы над смертию. Это таинство примирения, — любви, а не скорби, прощения, а не суда. Христос пострадал, но воскрес; и смертию своею смерть разрушил… Воскрес после вольной страсти, и на прославленном теле Господа остались «язвы гвоздинные», которые осязал Фома. Но воскрес Христос и взошел во славу. И смерть Его стала для нас воскресением. Об этом радуемся и благодарим. «Благодарим Тебя и за службу сию, которую Ты сподобил принять от рук наших»… Ибо в этой страшной службе мы соединяемся со Христом и приемлем Его жизнь и Его крестную победу. По выражению Кавасилы, «все тайноводство есть как бы одно некое тело истории», «единый образ единого царства Спасителя». Евхаристия есть образ божественного смотрения. Потому благодарственное воспоминание охватывает полноту творения, всю полноту дел Божественной Премудрости и Любви. Литургическое созерцание преисполнено космическим пафосом, ибо во Христе, в Воплощении Слова и в Воскресении Богочеловека, исполнилось и завершилось предвечное изволение Бога о мире. В Воплощении Слова совершилось освящение вещества, и мы приносим начатки вещества, от злаков и от плода лозного, для Евхаристического освящения. В нем восстановился образ и
38
подобие Божие в человеке, и мы созерцаем в праведниках и святых обетованное и чаемое «обожение» человека, как свершившееся, и о нем радуемся и благодарим. В святых Церковь созерцает свое исполнение, видит Царствие Божие, пришедшее в силе. И радуется о них, как о величайшем из даров Бога человеку. Это — ее члены, в подвиге добром достигшие Христова покоя и взошедшие в радость Господа своего. «Мы все одно тело, хотя одни члены светлее других», замечает Златоуст. И прежде всего и особенно вспоминает Церковь Богоматерь, «корень сей божественной жертвы» — по человечеству. В Евхаристии мы причащаемся Плоти, от Нее рожденной, — в некотором смысле, и Ее плоти; и чрез то таинственно становимся Ее сынами, и Она — Матерью Церкви, как Матерь Христа, Главы Церкви. «Слово сие истине», дерзновенно свидетельствует преп. Симеон Новый Богослов, — «ибо плоть Господа есть плоть Богородицы»… В Воплощении Слова воссоединился мир земной, человеческий, с миром горним, ангельским; и в литургии мы молимся и песнославим купно с небесными силами, «иже херувимы тайно образующе», — хор человеческий вместе с собором ангельским… И приносим и повторяем немолчную серафимскую песнь, — «потому что чрез Христа Церковь ангелов и человеков сделалась единою», объясняет Симеон Солунский. Ангельские силы сослужат земному тайнодействию, «желают приникнуть в таинстве Церкви»… — Так в Евхаристии смыкаются и пересекаются все планы бытия: космический, человеческий, серафимский. В ней мир открывается, как подлинный космос, единый и объединенный, собранный и соборный. Мысль восходит к началу мира и следит его судьбу. «Ты привел нас из небытия в бытие, и павших снова восставил, и не перестал совершать все, пока не возвел нас на небо и даровал нам будущее царство», — молится Церковь. И открывается во Христе для всех путь «к полноте Царства». В Евхаристии соединяются начало и конец, Евангельские воспоминания и Апокалиптические пророчества, — вся полнота Нового Завета. В Апокалипсисе есть много литургического, — Вечеря Агнца. И в литургическом чине уже горят краски будущего века. Это начинающееся преображение мира, начинающееся воскресение его к жизни вечной; и, обратно, можно сказать, Воскресение жизни и будет вселенской Евхаристией, трапезой, вкушением жизни. «Потому и назвал Господь наслаждением святых в будущем веке трапезой», объясняет Кавасила, «чтобы показать, что там нет ничего более этой трапезы». «И Иисус совершеннейшая жертва», говорит Симеон Солунский, «будет среди всех Святых своих, для всех мир и единение, священник и
39
священнодействуемый, объединяющий всех и со всеми соединяющийся». В Евхаристии предваряется исполнение или полнота Церкви, то совершенное единство человечества, которого мы чаем и ждем в жизни будущего века, — хотя и тогда будет оно умалено и ограничено зловольным противление твари… Евхаристия есть предварение и начаток воскресения, — по обетованию Спасителя: «ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ио. VI, 54). Это — надежда и залог воскресения, «обручение будущей жизни и царствия». В Евхаристии мы касаемся преображенного мира, входим в небеса, касаемся будущей жизни. «Приобщающиеся этой крови», говорил Златоуст, «стоят вместе с ангелами, архангелами и горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал самого великого: они бывают облечены в самого Царя»… Это совершается внутри эмпирического мира, в истории; и вместе с тем это конец и отмена истории, победа над разделяющим и убегающим временем. По объяснению преп. Максима, все в литургии есть образ будущего века и означает «конец этого мира». С особою силой и дерзновением говорил об этом Николай Кавасила. «Хлеб жизни, Евхаристия, сам жив, и ради него живы те, кому он преподается… Хлеб жизни сам движет питаемого, и изменяет, и прелагает его в Самого Себя… Когда изливается в нас Христос и соединяет с нами Самого Себя, Он пременяет и преобразует нас в Себя, как малую каплю воды, влитую в беспредельное море мира… Когда Христос приводит к трапезе и дает вкушать Свое Тело, Он всецело изменяет получившего таинство и преобразует в собственное свойство; и персть, приняв царский вид, бывает уже не перстию, но телом Царя, блаженнее чего нельзя и подмелить… Лучшее одерживает верх над слабейшим, и божественное овладевает человеческим, и как говорит Павел о воскресении: пожерто бывает мертвенное жизнью (2 Кор. V. 4)… Это — последнее таинство. Нельзя простираться далее, нельзя приложить большего»… И с тем большей силой чувствуем мы грань и разрыв между преображенным и непреображенным, между священным и мирским, — острое противоречие между тишиною предельного таинства и раздором окружающего мира. В храме веет тишина вечной любви. А вокруг храма бушует мирское море. Церковь остается все еще только островом в «воздвигаемом житейском море». Это сияющий, лучезарный остров; и над ним сияет и горит Божественное Солнце Любви, Sol Salutis. Но мир остается без любви и вне любви; и как бы не хочет и не приемлет истинной любви.
_ Ив душе христианской вскрывается горькое раздвоение. В литургическом опыте есть пафос молчания, жажда тишины, жажда уединенных созерцаний. Всякое ныне житейское отложим попечение… И в этой потаенности есть непреложная правда. Путь к Евхаристической чаше ведет через суровое самоиспытание, через затвор наедине со своею совестью пред лицем Божиим. И благоговение стремится оградить святыню от суеты мира сего, — не бо врагом Твоим тайну повем… Как на горе Преображения, в литургическом опыте так много Божественного света, что не хочется возвращаться и уходить назад в суету мира. И вместе с тем, любовь не терпит бездействия; и пафос единения и единства, собранный в литургическом бдении, не может не изливаться в делах. Дела любви продолжают богослужение, ибо и они в собственном смысле суть богослужение, служение и хвала Богу — Любви. Потому из Евхаристии открывается путь к житейскому подвигу, к исканию мира для мира, — «Исполнение Церкви Твоей сохрани…, мир мирови Твоему даруй», с таким прошением «в мире» исходим мы из храма, как с миром должны и входить в него… С волею, чтобы стал весь мир Божиим миром, сияющим исполнением всеблагой воли Всеблаженного Бога. И служение мира становится задачей для причастников Чаши мира. Раздор мира не может не тревожить и не ранить христианского сердца, — и особенно раздор мира о Христе, разлад христианского мира, разделение в Евхаристической трапезе. В этом раздоре и разделении есть скорбная тайна, тайна человеческой измены и противления. Это страшная тайна, ибо раздирается нетленный хитон Господень, Его Тело. Побеждает этот разлад только любовь, любовь Христова, действуемая в нас Духом мира. То правда, что, сколь бы много ни делали мы для «соединения всех», всегда оказывается мало. И путь в Церковь рассыпается на множество путей, и кончается он за пределами исторического горизонта, в невечернем царствии будущего века. Странствие оканчивается тогда, когда приидет Царь и откроется торжество. И дотоле с тоскою будет звучать молитва Церкви об исполнении. Как звучит она с первых дней: «Как этот хлеб, некогда рассеянный по горам, был собран и стал единым, собери Церковь Твою от концов земли во Царствие Твое!» Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя, якоже на небеси, и на земли!
1929. Ш.11/24. Неделя Православия.
40
41
Вестник РХД №130. Париж, 1979. С. 29–41
ЖИЛ ЛИ ХРИСТОС?
И блажен кто не соблаз-
нится обо мне…Мф ХI. 6.
Ко всей христианской истории относятся эти горькие и жуткие слова, сказанные евангелистом о Христе: «Пришел к своим, и свои не приняли Его» (Ин.1.11). Спаситель был встречен в мире сомнением, недоверием и прямой злобой. Он был отвергнут, предан, поруган и убит. И своим ученикам Он предсказал в мире скорбь, ненависть и гонение. Начиная с первых дней апостольского благовестия, сбывается это пророчество. Церковь странствует по земле, среди вражды и противления. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин.3.19)… И в наши дни открывается снова восстание мира против Христа. Если еще совсем недавно многие этого не видели и не понимали, то только потому, что не хотели или боялись видеть. Теперь еще страшнее не видеть, теперь нельзя уже не видеть и не смотреть. Наступило время, когда от каждого требуется прямой ответ об его уповании, требуется исповедание и твердый выбор. Противохристианское движение прорвалось силой на историческую поверхность и оказалось у власти. Неверие стало открытым и откровенным. И перед этим воинствующим и уже ничем не прикрытым наступлением многие колеблются и теряются, чувствуют себя беспомощными и безоружными, не знают, что и как ответить, не умеют ответить даже самим себе. В этой растерянности сказывается духовная незрелость и маловерие. И маловерие безответно перед натиском неверия. Но слабость верующих еще не свидетельствует о слабости самой веры.
Неверие выступает под именем науки, выдает себя за единственное действительное знание, за его высшую ступень. И слишком часто, и слишком многие готовы с этим согласиться и уступить. У иных упорное нежелание сдаться и отступить оборачивается только подозрительностью и испугом перед знанием, чем только прикрывается смутная мысль, что, действительно, для знания неизбежно разрушать и разлагать веру. В действительности на имя знания неверие притязает облыжно и без всякого права. В действительности неверие есть «обратная вера», и «вера» слепая и пристрастная. В неверии совсем нет подлинной воли к знанию, нет той внутренней осторожности и свободы, которыми именно и живет, и движется подлинное знание. В неверии всегда дышит недобрая страсть. Обычно неверие проистекает именно из неведения и нечувствия, — и всегда из неведения о своем неведении, а потому из неумения и нежелания удостовериться. В основании неверия всегда лежит сужение духовного кругозора, притупление внутреннего зрения. Неверие опирается на предвзятые мнения, необоснованность которых прикрывается желанием, чтобы они были основательны. Еще бл. Августин чутко отметил, что отрицание Бога всегда опирается на тайное желание, чтобы Бога не было… В неверии есть своя кажущаяся убедительность; доводы неверия иногда представляются сильными, — представляются сильными для тех, кто слаб… Противостоять этому мнимому и лжеименному знанию может только тот, кто умеет ему противопоставить твердое и действительное знание, — и оно раскрывает истину веры. В прямой и непосредственной очевидности веры — бесспорное свидетельство против неверия. Для того, кто прямо и твердо из живого опыта удостоверен в истинности определенного суждения о предмете, тем самым обличается призрачность и ложность противных мнений. Вера есть опыт, и очевидность верующего опыта исключает самую возможность сомнения — в очевидном не сомневаются… Верующий не нуждается в обосновании, оправдании или доказательствах своей веры. Он не нуждается и в опровержении возражений и доводов против нее. В самой своей вере он имеет прямое свидетельство истины. И его уверенность не зависит от опровержения противных мнений. Об этом хорошо говорил еще Ориген в предисловии к своей защитительно книге «Против Цельса». «Гораздо лучше поступит тот, кто, прочитав случайно книгу Цельса, вообще не будет чувствовать никакой нужды в опровержении этой книги, — говорит Ориген. И ссылается на пример самого Господа. «Когда против Него лжесвидетельствовали, Он молчал: и когда Его обвиняли, не давал никакого ответа. Он был убежден, что вся его жизнь и дела, совершенные среди иудеев, сильнее речи, сказанной в обличение ложных свидетельств, сильнее слов, высказанных в опровержение обвинений… На Иисуса постоянно лжесвидетельствовуют, и при существующей злобе среди людей не бывает момента, когда бы его не обвиняли. И Он однако и доныне отвечает на все это молчанием, не возвышает голоса в ответ»… Таким вступлением к своей обширной защитительной книге Ориген хочет предостеречь от того, чтобы веру ставить в зависимость от доказательств и доводов. Защита имеет условный и ограниченный смысл. Он снимает осаду с истины, раскрывает призрачность и неубедительность возражений. Но этого еще мало для действительной веры. К ней ведет другой путь, путь прямого, а не косвенного удостоверения. И только в нем и сама защита получает последний и нерушимый устой. Побеждается сомнение не доводами, а верой — видением веры, опытом истины.
Христианство открылось в мире, как великая радость, и вместе с тем, как проповедь покаяния. Для нового евангельского вина требовались новые мехи, — требовался подвиг и духовное обновление. И этому воспротивилась упрямая и стропотная человеческая воля. Христианская проповедь раздалась впервые в умиравшем и старческом мире. Чем больше и лучше узнаем мы теперь жизнь той эпохи, тем яснее открывается все богатство и сложность апостольского выражения: исполнение, полнота времен (Гал. IV. 4)… Христианское благовестие было современно и своевременно: в нем насыщались все жгучие и томительные искания древнего человека. Эта современность и своевременность христианской «благой вести», ее соответствие «духу времени» настолько велики, что у многих является соблазн и самое христианство понять и представить как одну из естественных, языческих религий, исторически выросших в то время. Но при этом от внимания ускользает оборотная сторона. Как ни близки, казалось, были и еврейскому, и эллинскому сознанию и сердцу истины христианского благовестия, оно встречало здесь какой–то упрямый, стихийный отпор, воспринималось как что–то чужое, загадочное, неслыханное, непонятное и враждебное. И дело здесь не столько в гонениях со стороны государственной власти. Гораздо выразительнее то глухое общественное противление, которое сказывалось и во взрывах народной ненависти, и в клеветнических изветах на христианские общины, и в полемической борьбе с христианским учением. Все это свидетельствует о трудности для старого, иудейского и языческого сознания усвоить и воспринять церковное учение, которое в чем–то основном и главном оказывалось совершенно новым, небывалым и непривычным и потому требовало решительного обновления, «рождения свыше». Это смутное сознание совершенной новизны Евангельского откровения сквозит во всей борьбе мира с Церковью, и в формах прямого отрицания, и в опытах искажающего приспособления евангельского благовестия к старым и привычным религиозным представлениям. В этой новизне христианства свидетельство его божественного происхождения — не от человека, но от Бога. Противится этой новизне строптивое сознание, и вместо того, чтобы подвергнуть себя испытанию нового божественного откровения, стремится его подчинить своему собственному суду. В этом начало и корень лжеучений. Начиная с самой ранней поры, христианские ереси всегда были попытками приспособить христианство к естественному и дохристианскому сознанию: в этом смысле ереси всегда «реакционны», выражают упрямую косность и отсталость мысли, не могущей и не желающей вполне оторваться от прошлого и переродиться вполне. И в своем содержании ереси всегда представляют некое урезывание и усечение исконного церковного учения и веры, растеривание изначального богатства, борьбу с открывшейся в Христе полнотой. Через всю христианскую историю проходит эта борьба — замолчанное неприятие «благой вести», неприятие в формах искажения или подмены.
К нашему времени вокруг образа и лика Христова накопилось великое множество лжесвидетельств, сомнений и отрицаний. Отвергается Его божественное достоинство. Берется под сомнение вся Евангельская история и ее историческая достоверность. И делаются попытки объяснить христианство без Христа. В последние годы делается попытка отвергнуть вовсе историческое существование Христа и превратить Евангелие в миф, не опирающийся ни на какие действительные события. С особенной резкостью и силой это лжетолкование проведено в книге немецкого профессора А. Древса, которой автор дал вполне откровенное заглавие: «Миф о Христе» (первое немецкое издание вышло в 1909 г.). Недавно эта книга издана в русском переводе в лике безбожной и богоборческой пропаганды. Автор притязает говорить от имени науки, а его русские переводчики и издатели выдают его книгу за последнее достижение свободного знания; впрочем, их мало интересует собственное мировоззрение Древса, они просто пользуются его книгой для своих целей, учитывают ее как агитационное средство. Древс и сам, в сущности, агитатор. В своей книге он не только исследует, сколько проповедует новую, философскую религию. Во имя этой новой религии он и отвергает христианство: Древс совсем не безбожник и в материализме видит злейшего и опасного врага. Он ищет новые религиозные формы и новую веру. Он совсем не ученый и не историк, а именно проповедник, взбудораженный и одержимый грезой о новом религиозном, и именно религиозном перевороте. Именно как агитатор Древс и выступал долгое время в Германии от имени так называемого «Союза монистов», своеобразной мниморелигиозной общины. Он совсем не исследователь, который ищет и обосновывает истину, взвешивая и испытывая доводы. Он проводит свою предвзятую мниморелигиозную идею и старается подкрепить ее причудливым и безответным подбором всевозможных ссылок и сопоставлений, которые могут создать впечатление достоверности. И нужно сказать, в науке выступление Древса было встречено негодованием, и его книга была заклеймлена стыдом и позором. Даже очень вольнодумные противники христианства, стоящие, однако, на почве научного знания, с отвращением и недоумением говорят о том беззастенчивом произволе, с которым Древс и его сторонники подбирают и подделывают свидетельства и факты, видят здесь только «плохую шутку», «смесь смутных мыслей и ребячества». Древса выдвинутые против него возражения и упреки не смутили и не вразумили, — не потому, что они неудачны или слабы, но потому, что он не умеет и не хочет их услышать и в них разобраться. У него не хватает честности и терпения для самопроверки и исследования. В его книге дышит страсть и одержимость, ненависть и злоба против христианства. И против этой одержимости и беснования доводы разума бессильны. Успех и удачу проповедь Древса имеет среди недоученной и темной массы, в той среде, где острое и кощунственное слово ценится дороже твердого и веского довода. И массы зажигает она зловещим возбуждением.
Это нужно запомнить прежде всего: книга Древса совсем не отражает действительного состояния науки, совсем не передает тех выводов, к которым приводит спокойное и беспристрастное научно–историческое исследование. И поэтому прежде всего она подлежит обличению и опровержению с научной точки зрения, с точки зрения научно–исторического метода, самые элементарные правила которого она попирает и нарушает. Именно поэтому она и была встречена единодушным негодованием со стороны ученых самых различных религиозных и философских настроений и убеждений. Древс не столько доказывает, сколько утверждает. Место доказательств у него занимают натянутые сближения, произвольные домыслы и догадки, в которых спутываются все времена и сроки. Возможное и действительное Древс плохо различает; трезвому историческому восприятию у него мешает беспокойное и игривое воображение. У него очень слабое чутье исторической действительности. И вместе с тем не любовь или хотя бы бескорыстный интерес к истине движет им, но вражда, — вражда и ненависть к Христу и к христианству. В этом и разгадка его относительного успеха.
Основную мысль мифологической теории Древса можно выразить очень коротко. Христа не было никогда. Евангелие ни в каком смысле не есть история, но миф, в котором скрещиваются и переплетаются разнообразные легендарно–мифические сказания, иудейские и языческие, о божественных спасителях. И только впоследствии этот миф был принят за историю, за исторический рассказ о действительных событиях. Почитание небесного Бога Иисуса существовало и в дохристианскую эпоху в некоторых иудейских сектах, и с этим культом связано богословие ап. Павла, ничего не знавшего и не говорившего об историческом Иисусе. Нужно прямо сказать: ни одно из этих положений даже приблизительно не обосновано Древсом. И прежде всего решительно ничем не доказано существование какого–то дохристианского культа Иисуса, о котором Древс говорит на основании совершенно фантастического перетолкования библейского рассказа об Иисусе Навине и неясных позднейших свидетельств о сектах уже христианского времени. Разбирать — или, вернее, разоблачать — доводы и доказательства Древса было бы напрасным трудом. ОНИ РАСПАДАЮТСЯ САМИ СОБОЙ, как только мы поставим предварительный вопрос: можно ли без прямого и вопиющего противоречия с бесспорными историческими свидетельствами сомневаться в историческом существовании Христа? Так спрашивать себя, это значит ставить вопрос прямо и по существу. Все построения Древса теряют точку опоры, если показано, что исторические свидетельства о Христе имеют характер непосредственного отражения действительности. Все мифологические построения Древса рушатся перед лицом бесспорных показаний самовидцев, в которых ясно сказывается живое соприкосновение с личность Иисуса. Древс отрицает все такие исторические свидетельства, отводит или устраняет их. Но в эти отводах нет никакой убедительности, они совершенно произвольны и, прежде всего, совершенно неправдоподобны. В действительности, даже с точки зрения самой придирчивой исторической критики. Оснований сомневаться в историческом существовании Иисуса Христа не больше, чем для того, чтобы заподозрить действительность любого исторического лица, даже из совсем близкого прошлого. Основное положение Древса исторически неправдоподобно, и это прежде всего следует показать. Вопрос этим еще не исчерпывается до конца. По отношению к каждой черте евангельского образ Христа, каждому событию Его жизни вопрос возникает снова. Но самое жало мифологической теории уже будет притуплено и стерто. Конечно, вопрос веры еще не решен. И не доводами исторического порядка его решать. Бесспорность исторического существования Христа еще не предрешает вопрос, Кто был Он? И на этот вопрос колебались еще собеседники и совопросники Спасителя; и не плоть и кровь, но Отец Небесный открывал самим апостолам истинное ведение о Его лице (срв. Мф.16.17). И по свидетельству ап. Павла, «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор.12.3). Узнать Христа может только вера. Но веру для сомневающихся может облегчить и укрепить и ясное сознание, что перед лицом исторических свидетельств невероятно и неправдоподобно сомневаться, был ли Христос, — что такое сомнение есть насилие над здравым историческим восприятием, и питаться может только пристрастием и упрямством воли.
1. Свидетельство апостольской проповеди.
Апостольская проповедь, как она закреплена в книге Деяний и в посланиях, с самого начала была проповедью и благовестием об «историческом Иисусе», исходила из факта и событий Его действительной жизни и на этом основывалась. Все ударение здесь лежало именно на определенном единичном историческом событии, все внимание было обращено к живой личности Христа Иисуса. Такой же реалистический характер имеют послания ап. Павла, закрепляющие в письменах основные черты его устного благовестия. Тот же характер исторического повествования и исторического изображения имеет Четвероевангелие, «четырехобразное Евангелие», как его называли уже в древности. Это именно рассказ о жизни, проповеди, делах и чудесах, о смерти и воскресении Спасителя Господа Иисуса Христа, и совершенно справедливо говорит один из самых известных современных историков Церкви Ад. Гарнак: «Кто на основании того, что дают первые Евангелия, даже если мы подвергнем их самой строгой исторической критике, не чувствует, что в них открывается могучая, покоряющая сердца Личность, которую нельзя выдумать, тот не способен по источникам воспринимать историческую и личную жизнь и отличать ее от вымысла»… Ибо в Евангелии и есть прежде всего живой образ Христа, обвеянный и согретый личным воспоминанием и преданной любовью. С Евангелием и совпадало в основном содержание первоапостольской проповеди. Личное отношение ко Христу, память о жизни и обращении с Ним определяли весь ее тон и содержание. Это была проповедь очевидцев. И самое имя апостолов первоначально ограничивалось кругом самовидцев Господа, которые были его спутниками и слушателями во время Его земного пути, от Крещения Иоанова до дней Крестной смерти и Воскресения и в Его личном призвании и посольстве, от Него имели основание и опору своих благовестнических полномочий (срв. Деян.1. 21–22). Апостолы исходят всегда из конкретных исторических фактов и событий и затем раскрывают и объясняют смысл свершившегося и происшедшего и его спасительную силу. Они оживляют в сознании своих слушателей, воспроизводят перед их благочестивым взором образ Христа и затем раскрывают, Кто был Он. И вся неповторимость и чрезвычайность этого исторического образа заключается в том, что Он, видимый и воспринимаемый как человек, был не только человек, но Сын Божий и Спаситель мира. Потому и не вмещается образ Христа в земные, только человеческие рамки, перерастает их, и в исторических гранях открывается нечто сверхисторическое и сверхземное. Но сами эти грани никогда не стираются и не расплываются, никогда не меркнут исторические, человеческие черты. В том весь и пафос и смысл апостольской проповеди, что она есть рассказ, рассказ о виденном и слышанном, — «что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши» (1 Ин.1.1). Рассказ — о том, что сбылось и случилось, и что произошло в определенных условиях времени и места. И случилось небывалое: Слово плоть бысть (Ин.1.14), — Сын Божий стал Сыном человеческим, «и образом обретеся яко человек» (Фил.2.7). Сын Божий стал и был человеком, — в этом средоточие евангельской проповеди. И лик вочеловечившегося Господа прежде всего и начертан апостольской рукой в Евангелии. Это лик человеческий, но не только человеческий, ибо Иисус, которого многие видели и слышали, ходили за Ним и обращались с Ним, был не только человек, но и Бог. Но Он был и действительный человек. Человек вполне и не только человек, — в сочетании обоих утверждений весь смысл, вся тайна Евангелия и проповеди апостольской.
Первая апостольская проповедь, записанная на страницах книги Деяний, проповедь ап. Петра в самый День Пятидесятницы, опирается на исторические факты: «Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили… Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели… Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли» (Деян.2.22–23,32,36). И о том же и так же проповедует апостол снова при исцелении хромого: «Бог Авраама. Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его» (Деян.3.13 и след.; срв. 4.10,27; 5.30). И снова в доме Корнелия сотника, в Кесарии, ап. Петр проповедует так: «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним; и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме и что, наконец, Его убили, повесив на древе» (Деян.10.37–39 и дальше)… Время, когда записаны деяния апостолов, приблизительно определить нетрудно. Это было до разрушения Иерусалима (Веспасианом в 70 году), о чем нет и намеков в книге, — этим определяется низший хронологический предел, позже которого было бы неправдоподобно отодвигать ее написание. Рассказ книги Деяний обрывается на прибытии ап. Павла в Рим, и можно думать, что книга писана именно в первые годы его римских уз, и до его мученической кончины. В книге Деяний, таким образом, перед нами свидетельство Церкви шестидесятых годов. И это свидетельство об «историческом Иисусе», об Иисусе Назорете, распятом и воскресшем.
К тому же времени относится и свидетельство ап. Павла. Он не был прямым учеником Спасителя во время Его земной жизни и проповедывал языкам, жившим вдали от Палестины, куда весть о Христе проходила через чужое посредство. И с тем большей силой бросается в глаза, что ап. Павел проповедует Христа и о Христе, а не только передает Его проповеди и учение. Нетрудно собрать воедино все исторические черты и упоминания, в изобилии разъясненные в апостольских посланиях Павла, и они сливаются в реалистический образ живого лица. Нужно помнить, что послания ап. Павла обращены к уже сложившимся христианским общинам. Это не первое оглашение, не первое слово к ним о Христе. Это повторение и дополнение уже переданного и проповеданного, и поэтому о многом апостол только напоминает. Он не раз ссылается на свою прежнюю проповедь: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились» (1 Кор.15.1). И это было Евангелие об «историческом Христе» — «ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, — что Христос умер за грехи наши, по Писанию; и что Он был погребен и что воскрес в третий день, по Писанию» (ст. 3–4)… В посланиях ап. Павла напрасно было бы искать полную и связную Евангельскую историю, — это не входило в их задачу, это предполагалось известным из устного апостольского оглашения и проповеди. Только об отдельных чертах и событиях говорит здесь апостол: «Во исполнение времени, в недавние дни Бог послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону» (Гал.4.4). Он стал и был человеком, подобным нам, «и по виду стал, как человек», принадлежал к роду Авраамову и роду Давидову, был от Израильтян по плоти (Фил.2.7; Римл.1.3; 9.5; Гал.3.16). Его братьев, и среди них Иакова, ап. Павел называет не раз (см. 1 Кор.9.5; Гал.1.19; 2.9). Этим достаточно очерчена реально — историческая рамка. С особенным ударением апостол говорит о крестной смерти и воскресении Христа, и в этих событиях полагает существо всего дела Христова и основание всего христианского упования и веры. До своего обращения Павел–Савл был рьяным иудаистом, «неумеренным ревнителем отеческих преданий», по его собственному позднейшему признанию, «жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее», «дышал убийствами и угрозами на учеников Господа» (Гал.1.13–14; Деян.8.3; 9.1 и др.). Можно думать, что его смущал и возбуждал тогда "«соблазн Креста»” тот самый «соблазн», в котором он впоследствии видел и указывал главное препятствие для обращения иудеев и эллинов (1 Кор.1.18,23; срв.Гал.5.11). Перед Распятием возмущалось его фарисейское сердце тогда как перед знаком проклятия и позора. Перед распятием благоговела его душа впоследствии, когда он писал в Коринфе: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор.2.2). Перед его духовным взором всегда был предначертан Иисус Христос, распятый (срв.Гал.3.1) и восставший из мертвых. Постоянно в своих посланиях апостол говорит о Кресте и Крестной смерти, о «Крови Креста Его», излитой во искупление грехов и в жертву умилостивления (Кол.1.20; Римл.3.25), о страданиях Христа, которого убили иудеи, о Его погребении (Гал.3.13; Римл.8.17; Фил.3.10; 2 Кор.13.4; 1.Сол.2.15; 1 Кор.15.4). И для него — это воспоминание и напоминание о недавних и действительных событиях. С такой же настойчивостью говорит он и о воскресении. «Иисуса и воскресение» благовествовал он в Афинах (Деян.17.18). На вере в воскресение Христа, «восставшего для оправдания нашего» (Римл.4.25), основывается вся проповедь ап. Павла… «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, как первенец из умерших» (1 Кор.15.14,20). Вера в действительное воскресение Христа, распятого, была живым средоточием всей первохристианской жизни. И снова полный и совершенный религиозно–исторический реализм превышает, перерастает грани обыденного опыта. Воскресший Христос сидит одесную Отца и ходатайствует о нас. Но и в своем прославлении Он остается и не перестает быть человеком, подобным нам, как не был он только человеком, и не переставал быть Богом и Сыном Божьим «во дни плоти своей». В этом «подобии» вся сила искупительного дела Христа. И при этом ударение апостол делает не на родовом сходстве природы, но на живом отношении и подражании Господу Иисусу Христу. Христос умер за грехи наши, был погребен и воскрес в третий день, являлся Петру, двенадцати и более чем пятиста братьям, «из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили» (1 Кор.15.3–8). «А после всех явился и мне», — добавляет апостол. Очень выразительно, что ап. Павел прямо сопоставляет себя с прочими апостолами и подчеркивает, что он видел Иисуса Христа. Господа Нашего (1 Кор.9.1). Дамасское видение было не видением, но явлением Господа во славе и свете. Оно имеет не менее реалистический характер, чем и вся уничиженная жизнь Господа на земле. Воскресение и вознесение Христа не разрывает связи с Ним. В восприятии и в изображении ап. Павла Христос один и тот же и «во дни плоти своей», и ныне, когда Он во славе. С этим единым образом, с живым Христом связано все благочестие назидаемых апостолом общин, средоточием которого является Евхаристическая трапеза, совершаемая «в воспоминание» Христа и Его смерти (срв.1 Кор.11.23 и след.). В воскресении Христа апостол утверждает надежду на всеобщее воскресение мертвых, всех мертвых (1 Кор.15.12 и след.), — и в этом сопоставлении снова подчеркивается реальное человечество Христа, почему именно Он и является первенцем, начатком умирающих людей, с которыми Он нерасторжимо связан. В средоточии проповеди ап. Павла стоит исторический образ Христа, жившего среди иудеев, обращавшегося на земле среди людей, из которых многие еще в живых, учившего, пострадавшего за грехи и от грехов человеческих, распятого и погребенного и восставшего во славе. Христос — первенец умерших, прообраз и пример для людей, с которым надлежит сообразоваться и согласовать свою жизнь. Апостол не останавливается на воспоминании и воспроизведении обстоятельств земной жизни Спасителя, не ограничивается этим. В своих наставлениях он ведет верующих, которых он «родил благовествованием», от видимого человечества к сокрытому Божеству Христа. Но все его богословие остается раскрытием и толкованием исторического образа Иисуса, Его исторического дела. В апостольском изображении есть бесспорное двойство: Христос и человек, и больше человек. Но это двойство приведено к единству, его нельзя рассекать. В этом нераздельном двуединстве весь смысл лица Христова. С этим двуединством связана вся сила искупительного дела, совершенного Христом на земле. Страдал на Кресте не простой человек, но Сын Божий, смиривший Себя до рабского зрака. И воссел горе Сын Божий, ставший единым среди людей. С особенной четкостью раскрывается эта мысль в послании к Евреям. Это послание — не исторический рассказ, но богословское толкование искупительного дела Христова, но именно исторического и единичного дела, совершившегося «в последние дни сии» (Евр.1.2), — и на его отдельные черты здесь постоянно делаются ссылки. И самые ссылки на пророчества Ветхого Завета усиливают исторический колорит. Пророчества изрекались о будущем, о том, что некогда действительно случится. И ныне это случилось, сбылось, свершилось. Христом снято покрывало с Ветхого Завета (срв.2 Кор.3.14). То, что по времени для праведников Ветхого Завета было впереди, как предмет надежды и упования, теперь уже в прошлом и настоящем. Как исполнение и завершение пророчеств и преобразований, образ Христа выдвигается в историческую и хронологическую перспективу. Всюду и везде апостол говорит об «историческом Иисусе», о том, что было и произошло.
Образ Христа, сохраненный и переданный миру в апостольской проповеди, запечатлен и закреплен в Евангелии. Евангелие есть исторический рассказ и вместе с тем больше, чем только исторический рассказ не только потому, что писано оно не по побуждениям простой исторической любознательности и не только для запоминания о прошлом, но прежде всего потому, что в нем описываются и изображаются несравнимые и непреходящие события, которые больше, чем простые события, чем только события. В четырех канонических засвидетельствованных Церковью Евангелиях начертывается со всей полнотой исторического реализма образ Богочеловека. И в этом изображении с предельной выразительностью передана неповторимая и единственная историческая обстановка. Исторический образ Богочеловека вычерчен и вырисован на действительном фоне тогдашней жизни. Его ученики, совопросники и враги встают перед нами, как живые. Это рассказ о том, что было, изображение действительных событий, встреч, бесед. Евангельская история и была прежде всего содержанием первохристианского благовестия и оглашения. Ее прежде всего рассказывали апостолы и благовестники, выступая, по слову Учителя, как «свидетели» о Нем. Они прежде всего воспроизводили то, что было, начертывали образ Христа как Учителя и Чудотворца, как обличителя и судьи, передавали Его слова, рассказывали о Его делах и знамениях. Но не только рассказывали и вспоминали, но и объясняли, толковали бывшее, раскрывали смысл происходившего. Сквозь историческую видимость все время просвечивает то, что видимо только для взора веры, что при жизни Спасителя видели и узнавали немногие и, может быть, увидели и узнали позже, когда восстал Христос, разверз ум и очи и открыл тайны Царствия. Евангелие есть прежде всего рассказ, но рассказ о Богочеловеке. Именно потому, что это рассказ и историческое свидетельство, в нем есть известная недосказанность. Евангелие требует объяснения и раскрытия. Ибо вера не исчерпывается памятью, но исполняется только в творческом и живом усвоении виденного и узнанного, в живом узнавании и общении с Христом. Исторический образ Богочеловека, родившегося на земле, жившего и учившего среди людей, — таково содержание Евангельской истории, и в этом ее таинственное своеобразие. В Евангелии дан целостный и единый образ — в нашем восприятии очень часто он двоится и распадается, как, может быть двоился он и в сознании тех, кто чувственными очами созерцал самого Христа, — пока не прозрело сердце верой. В Евангелиях все говорится об Одном; и к Тому же относится и величественной начало Четвертого, «духовного» Евангелия, и все повествования об уничижении, скорбях, лишениях, страданиях и смерти. И только тот, кто схватит единым взором это целостное и живое единство, поймет Евангелие до конца и увидит именно то, что в Евангелиях начертывали их списатели. Именно этот единый образ, сразу и исторический, и Божественный, образ Бога, ставшего человеком, и человека, бывшего Богом, неизменно хранила и хранит Церковь со времен апостольской проповеди как апостольское предание, предание самовидцев. Эта живая память о бывшем, происшедшем, но не прошедшем.
Евангелие есть рассказ и запись очевидцев, начертание образа, запечатлевшегося и хранимого в памяти. Если не все четыре евангелиста были в собственном и точном смысле слова самовидцами земной жизни Спасителя, то и те, кто ими не был, опирались именно на рассказ и память самовидцев. По древнему свидетельству (Папия Иерапольского, II в.), евангелист Марк, «толмач Петра», в своем повествовании опирался именно на рассказы и проповедь ап. Петра, хотя «сам не слушал Господа и не сопутствовал ему». Евангелист Лука прямо ссылается на «очевидцев»: «Так как многие уже начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать» (Лк. I. 1–3)… И вместе с тем Евангелие в своем четверообразном составе есть запись апостольской проповеди, — писанному Евангелию предшествовало «евангелие», благовестие устное. В этом смысле Евангелие есть апостольское свидетельство о Христе, «воспоминания апостолов» или «памятные записи», как выражался о Евангелиях св. Иустин мученик (II в.). В известном смысле Евангелие уже апостольской проповеди, в нем написано, по прямому свидетельству самого евангелиста Иоанна, не все то, что «сотворил Иисус», и, конечно, не все то, что хранила в себе апостольская память (срв. Io. ХХI. 25; ХХ. 30). В задачу евангелистов не входило дать исторический полный рассказ о жизни Христа, как бы по дням и годам. Они начертывали Его образ и повествовали для того, чтобы описать Его лик. Это не летопись, но благовестие. Но в качестве благовестников евангелисты тем самым были историками, ибо они старались запечатлеть в памяти и в душе верующих и оглашаемых, и даже неверующих реальный образ Христа в основных событиях и положениях Его земной жизни. Изобразительная задача не требовала ни летописной строгости, ни летописной полноты. Исторического характера и реализма изображение от этого нисколько не теряет. То же нужно сказать и о передаче и воспроизведении бесед и слов Спасителя. Евангелие можно назвать исторической иконой, и притом — это икона Богочеловека. Точнее сказать, четыре иконы — некая четверовидная икона. И эти четыре иконы или образа не вполне совпадают между собой, — даже при поверхностном наблюдении нетрудно заметить «разногласия евангелистов». Но нужно припомнить, как относилась к ним христианская древность: никогда не пробовала и не пыталась она стереть или хотя бы смягчить эти видимые «противоречия»; история евангельского текста не знает ничего о таких «предвзятых поправках». Это говорит о мнимом характере этих разноречий и разногласий, о действительном согласии евангельских изображений, которое только ускользает от близорукого и поверхностного наблюдения и открывается при большой чуткости восприятия. Согласуются и совпадают евангельские изображения в тождестве изображаемого, и единстве Богочеловеческого лика. И нужно прибавить, в Церкви не имел успех опыт евангельского свода, хотя очень рано и был сделан такой опыт — составить единый последовательный рассказ «по четырем» (так называемый Диатессарон Татиана, вторая половина II в.). Исторический образ Христа хранится в Церкви в четырех отражениях. И во всех одно Лицо, единый Лик.
Евангелие есть история земной жизни Человека, который не был только человеком. И эта история развертывается в живой земной и исторической рамке, которую для евангельских иконописцев не было надобности выписывать с особенной тщательностью и подробностью, но которая всегда реальна и реалистична, ибо писана с натуры и по памяти. В сущности, это более чем рамка, ибо живой образ Христа неотделим от нее: на этом фоне Его видели, и от Его богочеловеческого лика раз навсегда упал благодатный отсвет на ту землю, по которой Он ходил, на тех людей, которые к нему приближались. Так было. Во множественности отдельных воспоминаний оживает незабываемый образ Иисуса Христа. Земной план евангельской истории не раз прорезывается и пронизывается небесным. Точнее сказать, он всегда таинственно прозрачен, сквозь историческую очевидность всегда просвечивает Божественная действительность. Правда, не всем это видно, как не видели этого и тогда… С другой стороны, неверующих и сомневающихся это смущает, удерживает их признать историческую достоверность евангельского рассказа и описания. Им кажется, не может быть снято или списано с натуры то, что так непохоже на обычную действительность. Отсюда родится соблазн «поправить» евангельское изображение и рассказать, сделать его более обычным. В этом сказывается скрытое и предвзятое отрицание Евангельского чуда и Евангельской тайны, тайны и чуда Богочеловечества. Никакими доводами нельзя сломить такое отрицание, раз восстает оно и против евангельской очевидности. Здесь, в Евангелии, предвзятое мнение сталкивается с фактом, которого оно не желает видеть и признать, и потому просто отрицает его действительность как невозможность. Наперед взято под сомнение или совсем отвергнуто божественное достоинство и Богочеловечество Христа, и поэтому кажется невозможным и неправдоподобным в его земной истории все то, чего не бывает, что необычно и невозможно в истории обыкновенных людей. Но Евангелие не есть история человека. И, однако, все же история, описание того, что было. Было особенное и небывалое, единственное и неповторимое: Бог явился во плоти, и образом обретеся, Яко человек… И потому Евангелие сразу и Евангелие Сына Божьего, и история Сына Давидова. В жизни Богочеловека наперед следует ожидать необычного, не похожего и отличного от жизни только людей, предвидеть разрыв и снятие обыденных человеческих граней. Евангельской очевидности сомнение противопоставляет только предвзятое отрицание возможности Богочеловечества и Боговоплощения вообще. Из того, что Иисус был человек, поспешно и не основательно заключать, что Он был только человек и не был Богом, и на основании такого мнимого и торопливого вывода отрицать, заподозривать или перетолковывать все то, что в повествовании о Нем не может относиться к обыкновенному, хотя бы и замечательному человеку. При таком рассечении евангельского рассказа его историческая достоверность, действительно, расплывается, теряется, ибо он целостен, ибо Христос не был простым человеком. История Иисуса из Назарета, рассказанная в пределах одного человечества, совсем не есть история, но вымысел, ибо не соответствует изображаемой действительности. И столь же неверно и ошибочно на том основании, что все в Евангелии запечатлено и озарено Божественным светом изображаемого в нем Христа, заподозривать его исторический и реалистический характер, отрицать в нем всякое историческое содержание, принимать его за миф, за символическое изображение небывавшего и небывшего. Если Христос, изображаемый в Евангелии, изображается, как Бог, Он не был человеком, Его вовсе не было в истории, в земной действительности… Подобный «мифологический» вывод столь же предвзят и порочен, как и противоположная крайность «чистого историзма»: если человек, то не Бог. Это два противоположных, но сопряженных отрицания Евангельской тайны или, лучше сказать, Евангельского факта. Предвзятое отрицание действительности ради притязаемой невозможности… Или Бог, или человек… Этому ложному противопоставлению возражает Евангельская действительность: и Бог, и человек… Слово плоть бысть…
Можно разбить Евангельское изображение, и оно рассыплется в мертвенные осколки. Но нужно помнить: Евангелие есть икона Богочеловека. Не миф, и не «чистая история». Так было оно написано, ибо так было, — было то, что описано евангелистами. Начертан виденный и узнанный лик Богочеловека. В сиянии Божественного достоинства не исчезают и не расплываются человеческие черты. Они сохраняют всю свою четкость и полноту. В этом таинственное своеобразие Евангельского изображения, передающего своеобразие самого чудесного Христова лика. Полнота человечества, — именно поэтому Христа можно было принимать за «только человека», ибо не для всех вразумительны знамения божества. Для иных они были поводом к горшему соблазну. «Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». И даже «ближние Его» хотели взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя (Мк.3.22,21 и след.: Мф.9.34; Лк.11.15 и след. Ин.8.48). «И пришед в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это? И соблазнялись о нем» (Мф.13.54–57; Мк.6.2–3)… Из Евангелия мы знаем, что все почти принимали Иисуса за простого человека — и не только враги Его, книжники и старцы, архиереи, Ирод и Пилат, но и ближние Его, и ученики — до времени… Полнота человечества, — отсюда бесспорная четкость и живость изобразительного рисунка в Евангелии. Евангелие полно живых людей, зарисованных в полноте их личного своеобразия, которое часто дается понять и почувствовать немногими словами. Евангельские лица выступают перед нами так ясно и ярко, что только с натуры, с действительности можно снять такое изображение. И образ Захарии и Предтечи, и образ Пречистой Девы и образы часто безымянных верующих и исцеленных, притекавших к Иисусу, — все они в самих себе несут свидетельство своей подлинности, своей жизненной действительности. Они взяты из жизни. Конечно, сама наглядность и изобразительность рассказа еще не вполне обеспечивает его историческую достоверность. Но в Евангельском рассказе есть нечто большее, чем одна только живая наглядность. Есть бескорыстная, свободная непосредственность рассказа, прямо свидетельствующая о его действительности. Доказать это трудно, но еще труднее в этом сомневаться, если только нет предвзятой воли к сомнению. Прямо чувствуется, что все евангельские события рассказаны по живой памяти и живому впечатлению. Приводить примеры это значило бы пересказать все Четвероевангелие. Достаточно немногих припоминаний. Уже упоминалось пребывание Христа в Назарете, соблазн и сомнение Его ближних. Не раз в Евангелии рассказывается о недоумениях и сомнениях Его учеников. Ярким реализмом запечатлена беседа Господа по пути в страны Кесарии Филипповой, торжественное исповедание и сряду же несмысленное прекословие ап. Петра (Мф.15.13–23; Мк.8.27–33). Или рассказ о том, как приступила к Иисусу мать сыновей Заведеевых просить, чтобы Он дал им сесть рядом с Собой во славе Царствия Своего (Мф.20.20–24; Мк.10.35–41). Или рассказ о воскрешении Лазаря (Ин.11.1–46). С бесспорными реалистическими подробностями описаны последние дни Господа. «Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк.14.51–52). «И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его» (Мк.15.21; Мф.27.32; Лк.23.26). «Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали» (Мк.15.47; Мф.27.61). Все эти мелкие штрихи уместны только в историческом повествовании, в «памятных записях» очевидцев. Непосредственное самосвидетельство евангельских рассказов подкрепляется отдельными реалистическими внешними чертами, именами, прозвищами, названиями городов. «После сего проходил Он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему именем своим» (Лк.8.1–3). Сухое историческое сопоставление внешних подробностей Евангельской истории с другими источниками по истории и быту тогдашней Палестины в общем и основном с полной убедительностью показывает историческую и бытовую точность Евангельского изображения. Конечно, все это касается внешней рамки, и внутреннее содержание и самый образ Христов превышает этот уровень и эту рамку. И тем более выступает исторический и реалистический характер Евангельского рассказа. То же нужно сказать и о речах Христа. Он говорил как иудей, языком и образами своего времени и народа. На Его словах лежит яркий исторический колорит. По содержанию и смыслу Его проповедь, безусловно, превышала даже ветхозаветную меру; она смущала не только слепых блюстителей буквы законной, но и таких благочестивых «учителей Израилевых», как Никодим, — и вместе с тем в ней было исполнение Закона и пророков. В известном смысле сам Иисус был одним из учителей Израилевых. И эта черта есть в Его евангельском образе, конечно, не только это одно. Можно в известном смысле все Евангелие назвать историческим рассказом из жизни народа еврейского. Это — полуправда, которая легко может выродиться в опасную ложь и обман. Но и эта черта входит в состав Евангельской правды. Христос покорился Закону, жил по Закону и в навечерие своей Крестной смерти совершил по Закону Пасхальную вечерю с учениками Своими.
В яркой и четкой исторической рамке, при Ироде, царе иудейском, при Понтии Пилате, в Иудее и Галилее протекает земная жизнь Спасителя, которого многие принимали только за человека и немногие признали за Христа, за Мессию. И не плоть и кровь, но Отец небесный открыл, что Он есть Сын Бога живого, ап. Петру (Мф.16.16–17). Он был не только человеком и не только Мессией, но и Богом. Но и н только Богом, но и человеком. «Слово плоть бысть, и вселися в ны…» (Ин.1.14). По древнему преданию, Четвертое Евангелие было написано последним, в дополнение и как бы в истолкование первых трех. Это — «духовное» Евангелие, в отличие от «плотских» повествований синоптиков. В действительности, конечно, все Евангелия — «духовны», и нет ни одного «плотского». И Евангелие от Марка — «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия» (Мк.1.1). Вместе с тем и «духовное» созерцание евангелиста Иоанна развертывается в четких гранях конкретной истории, и исторический , иудейский колорит изображения в Четвертом Евангелии, быть может, еще резче и ярче, чем у синоптиков. Ни в одном Евангелии не говорится о «только человеке» и ни в одном только о Боге, но повсюду о Богочеловеке. Во всех ярко и реально описана и изображена земная жизнь, в исторической плоти которой открылась Божественная слава, истина, путь в жизнь. И не просто открылась или проявилась, но соединилась в нерасторжимом и совершенном единстве. «Слово плоть бысть»… Об этом факте, событии и вместе чуде и тайне и повествуют Евангелия. В них изобразительно представлено и только отчасти названо словом то. что впоследствии Церковь выразила в догматических определениях.
Иначе и не определить сущность и содержание апостольского благовестия — историческое свидетельство о Богочеловеке Христе. С известной точки зрения весь смысл Евангелия — в его историзме, в указании на единственное и единичное событие, на единственную и неповторимую, живую и историческую личность Христа. С самого начала все ударение лежало на историчности. Историческим пафосом дышит весь Новый Завет, — было и сбылось… Но это не историчность в себе замкнутого и заключенного, только земного и естественного потока событий. Это — повесть о бывшем и случившемся, и не образная или символическая, но реалистическая повесть. Ибо было и случилось — встреча неба с землей, Бога и человека. Встреча и соединение… «Слово плоть бысть»…
2. Свидетельство внешних.
Христос пришел неузнанным. Немногие из его современников и даже из слушавших Его поняли, кто Он. Не сразу и далеко не для многих раскрылся смысл Его проповеди и значение Его дела. Кто узнал Его, тот уверовал; и свидетельство верующих сохранено в книгах Нового Завета. Неузнавшие не имели основания придавать большое значение Его жизни и делу, не имели побуждений много говорить о Нем. Поэтому наперед можно сказать, что было бы напрасно искать подробных свидетельств о Христе в писаниях людей, чуждых Церкви, в первые десятилетия христианской истории. К тому же эллины и римляне не имели поводов касаться событий, происходивших в далекой Палестине; в их глазах это была глухая провинция, судьбами которой они мало интересовались. О христианстве языческий мир узнал только тогда, когда апостольская проповедь вышла за пределы Палестины и обошла все земли. Но и тогда долгое время в языческом восприятии христиане мало отличались от иудеев. Только у иудейских современников можно искать ранних упоминаний о Христе. Впрочем, и здесь следует сделать оговорку. Народ еврейский тоже не узнал Его. В глазах неверовавших иудеев Он был только одним из многочисленных учителей и проповедников, и у них не было оснований выделять Его из общего числа. В книге «Деяний апостольских» передается речь одного из фарисейских законоучителей, Гамалиила, в синедрионе. Он удерживал от суровых мер против благовестников христианства. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого–то великого, и к нему пристало около четырехсот человек: но он был убит, и все, кто слушался его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа; но он погиб, и все, кто слушался его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится» (Деян.5.34–38)… Эта речь очень характерна для первых лет христианской истории. Рано начались кровавые гонения на Церковь Божию со стороны иудаистов. Но внутреннего внимания к христианству в еврейской среде было мало. Впоследствии, когда христианская проповедь усилилась и окрепла, у еврейских писателей явились основания умалчивать о ней, набрасывать тень забвения и на Христа, и на Церковь. Вот почему не только не приходится удивляться скудости «внешних» известий о Христе в эти первые десятилетия нашего летоисчисления, но этой скудости мы должны ожидать как явления совершенно естественного.
В I веке нашей эры судьбу и жизнь еврейского народа описывал знаменитый иудейский историк Иосиф Флавий. Он родился около 37 г. и умер в Риме около 100 г. Свою «Иудейскую археологию» он писал в Риме, в годы своей старости, и окончил ее около 93 — 94 гг. В этой книге он трижды касается событий и лиц евангельской истории. Одно свидетельство относится к Иоанну Крестителю. Иосиф говорит о нем как о «добродетельном муже», побуждавшем иудеев стремиться к добродетели, чтобы они, соблюдая во взаимных отношениях справедливость, а к Богу должное благоговение, приступали к крещению». Народ стекался к нему, число слушателей его было велико. Опасаясь его влияния на народ, опасаясь народного восстания, Ирод велел схватить и заточить Иоанна, а затем предал его смерти (ХVIII. 5). Подлинность и достоверность этого сообщения Иосифа Флавия не вызывала и не вызывает никаких сомнений. И то же нужно сказать об упоминании Иосифом о смерти Иакова, «брата Иисуса, называемого Христом», и других, побитых камнями за нарушение закона по приговору Синедриона при первосвященнике Анане (ХХ. 9). Это было в 62 году. Иосиф в это время жил в Иерусалиме и говорит, очевидно, по личным воспоминаниям. Иакову он дает то имя, под которым тот был известен. В этих обоих известиях чувствуется внешний наблюдатель, отмечающий факты, которым особого значения он не придает. К тому же он передает их как события политические. Иосиф писал по–гречески, не для своих соотечественников, но для римлян, и всюду избегал говорить о том, что могло бы набросить тень политической неблагонадежности на его народ в глазах римской власти. Поэтому он замалчивал мессианские чаяния своего народа и старался дать об иудеях представление как о спокойных и добродушных гражданах, чуждых всяких мятежных замыслов. Перед римской властью он заискивал. И по той же причине ему было естественно избегать говорить о христианстве, которое к концу I века начало привлекать неблагоприятное внимание властей как какой–то мятежный заговор. Тем не менее у Иосифа есть прямое свидетельство о Христе. Вокруг него давно уже ведутся споры и высказывается сомнение, мог ли так говорить о Христе неверующий иудей. Рассказывая о времени Понтия Пилата, Иосиф говорит, между прочим, так: «В это же время жил Иисус, мудрый человек, если, впрочем его следует называть человеком, ибо он был совершителем удивительных дел, учителем людей, с удовольствием принимающих истину. Он привлек к себе многих как из иудеев. так и из эллинов. Это был Христос (Мессия). И когда Пилат, по жалобе знатных людей наших, осудил его на крестную смерть, те, которые ранее полюбили его, не отступились от Него (не перестали любить его). Ибо Он явился им на третий день снова живым, как предсказали божественные пророки об этом и о многом другом чудесном относительно Него. Еще и теперь не прекратилось поколение христиан, названных по его имени» (ХVIII. 3). В целом виде это свидетельство трудно признать подлинным и принадлежащим Иосифу. Признать Иисуса Мессией, признать Его воскресение, конечно, он не мог. Вряд ли, однако, следует вообще отрицать, что Иосиф упоминал о Христе. Вернее допустить, что его первоначальное сообщение подверглось переделке и вставкам впоследствии, — во всяком случае, довольно рано, так как уже в начале IV века в теперешнем виде его приводит тогдашний историк Евсевий Кесарийский в своей «Церковной истории». Во всяком случае, во всех сохранившихся рукописях «Археологии» Иосифа Флавия читается спорное место о Христе. И нужно сознаться, что подчеркнутые в приведенной выдержке слова Иосиф Флавий вполне мог написать. Может быть, в таком первоначальном виде читал известие Иосифа Ориген, упрекавший его за то, что он не уверовал в Иисуса как в Мессию, «не признал его Мессией», и удивлявшийся, что все–таки он засвидетельствовал о великой праведности Иакова. Как будто бы Ориген имеет в виду какое–то прямое непризнание Иосифа. В одном сирийском памятнике, вероятно V века, излагающем споры при дворе Сассанидов между эллином, иудеем и христианином, Иосифу Флавию усваивается свидетельство о Христе как о «муже праведном и добром, засвидетельствованном от божественной благодати знамениями и облагодетельствовавшего многих чудесами». Вероятно, подобным кратким упоминанием и ограничивалось первоначальное чтение известия у Иосифа. Очень многие из современных исследователей признают, что Иосиф говорил о Христе, хотя в теперешнем виде его известие не может быть усвоено ему. Впрочем, даже полное молчание Иосифа совсем не означало бы, что он не знал о Христе. Не говорить можно не только от незнания, но и от невнимания и нежелания сказать. У Иосифа было немало оснований для намеренного умолчания. Он писал не историю, но апологию своего народа, не стремился к полноте, но всегда считал дозволительным умалчивать о том, что могло бы обеспокоить римскую подозрительность. Столь же понятно неупоминание О Христе у другого иудейского историка I в., Юста из Тивериады. И он писал не историю в собственном смысле слова. Но исторический памфлет против Иосифа, и всего больше старался о том, чтобы доказать его измену заветам и интересам родного народа. Ему не было нужды говорить о Христе. Да и вообще он был очень краток и о многом совсем не говорил. Книга Юста до нас вообще не дошла, и только со слов константинопольского патриарха Фотия (IХ в.), который еще читал ее, мы знаем, что Юст не упоминал в своей летописи о Христе.
«Археология» Иосифа Флавия вообще единственный иудейский памятник I века, в котором можно было бы искать свидетельства о христианстве. Другой знаменитый иудейский писатель I в., писавший по–гречески, Филон Александрийский, умер слишком рано (вскоре после 40 года), чтобы поспеть заговорить о Христе, тем более, что он жил в Палестине и о тамошних делах должен был узнавать из вторых рук. Раввинской литературы I века мы вообще не знаем. Все дошедшие до нас раввинистические источники не старше второй половины II века, и на них лежит печать уже другого времени, нежели новозаветное время, время Христа. В Талмуде немало известий о Христе, но все они позднейшего происхождения и представляют собой явное искажение и кощунственную переделку евангельских текстов. По самой задаче и содержанию Талмуда в нем не было места для исторического рассказа о Христе. Здесь речь идет об обрядах и нравственных или юридических постановлениях, передаются мнения и изречения отдельных учителей. Это вообще совсем не историческая книга. Большинство упоминаний Талмуда о христианах вызвано полемическими мотивами. С самого начала евреи были ненавистниками христианства и первыми возбудителями гонений. И, кажется, древнейшим еврейским свидетельством о христианстве является проклятие назареев и «еретиков» («минов», minim) в каждодневной молитве Шмоне Езре, относящейся к самому концу I века (80–100 гг.). Талмуд избегает называть Иисуса по имени, обозначает Его неопределенно: «тот человек», «некий». В глазах иудаистов христиане — опасные мечтатели, верующие в «кого–то», в «какого–то». Может быть, в двух — трех местах сквозь общую ненависть просвечивает более мягкое и более древнее отношение к личности самого Христа. Но в общем преобладает дух вражды. Из этой ненависти и вражды рождается иудейский пасквиль на Христа. О нем упоминает уже Иустин Философ (во II в.), им пользовался, по–видимому, Цельс в своей книге против христианства (тоже во II в.), на которую Ориген написал свое знаменитое опровержение (в первой половине III в.). Цельс собрал в своей книге все, что злобствующее иудейство и недоумевающее язычество знало о христианстве и вменяло ему в вину. Исторической правды в этих изветах было бы напрасно искать. Но тем более характерно и выразительно при этой напряженности клеветы и изветов полное отсутствие какого то ни было сомнения в исторической действительности самого Иисуса. Для проклинавших и гнавших христианство раввинов и иудеев Иисус был историческим лицом, и к историческому образу обращена их ненависть и злоба. Они рассказывали о Христе позорные и грязные басни, но никогда не отрицали, что он жил. И сквозь мутную пелену ненавистнических изветов все же просвечивают и некоторые исторические черты евангельского образа, и, прежде всего, память о чудесах Христовых. Иудеи помнят и знают, что Он творил чудеса, но толкуют это по–своему, называют Иисуса чародеем и прельстителем народа, фокусником и некромантом. Так это и в Талмуде, и у тех обличителей христианства, о которых мы узнаем от древних христианских апологетов. Среди этих памятников древней христианской полемики против иудеев самым замечательным является «Разговор с Трифоном Иудеем» св. Иустина мученика (середины II в.). Спор с иудеями сводился к вопросу о личности Христа. Может ли Христос быть Мессией, обетованным и предсказанным пророками, не бросает ли на Его личность и на Его дело тени Его позорная смерть на кресте — в этом был соблазн иудеев. Это все тот же прежний «соблазн креста». «Вы не соблюдаете ни праздников, ни суббот, не имеете обрезания, а полагаете свое упование на человека распятого и, однако, надеетесь получить благо от Бога, не исполняя Его заповедей», — вот главный упрек Трифона иудея (Разговор, 10). «Этот у вас называемый Христос был бесславен и обесчещен, так что подвергся самому крайнему проклятию, какое полагается в законе Божьем, был распят на кресте» (32). В этом и был соблазн Иудеев. Никаких следов их сомнения в историчности Христа мы не встречаем. Иустин мученик рассказывает всю земную жизнь Иисуса, и его иудейский собеседник только по–иному толкует ее, но против самых фактов не возражает. И так же поступает и иудей у Цельса, к тому же прямо ссылающийся на «писание» и «евангелие» христиан, без всякого намека на их недостоверность, кроме, конечно, рассказа о воскресении. — Иудейские враги христианства знали о Христе, и скудость иудейских известий о его жизни носит характер умышленного умолчания о Нем. И об ап. Павле Талмуд не говорит, а между тем в нем постоянно слышится прямая и обдуманная полемика с учением и проповедью апостола. О запрете спорить с христианами прямо говорит собеседник св. Иустина: «Было бы лучше последовать совету раввинов, положивших не спорить ни с кем из вас; не следовало и нам затевать беседу с тобой» (38). Не отзвуки ли это Гамалиилова совета?
В Риме узнали о Христе, когда встретились с христианами. Историк Светоний (писал около 120 г. В жизнеописании Нерона упоминает о гонении на христиан как не род новых и проклятых суеверов (О жизни цезарей, ХVI, 2)). В жизнеописании имп. Клавдия (41–45) он говорит об изгнании из Рима «иудеев, постоянно волновавшихся под влиянием Хреста» (Chresto impulsore, — ХХV. 3). Может возникнуть вопрос, к христианам ли относится последнее известие. Нужно вспомнить, что и Тацит пишет: хрестиане. Пример Тертуллиана показывает, что на Западе и до начала III века греческое chrystianoi читали и произносили через е, chrestiani, а не через i. У апологетов II века мы встречаемся с игрой слов по этому поводу: chrystos по–гречески значит полезный, и св. Иустин говорит, что если судить только по имени, за которое нас обвиняют, «мы — самые полезные люди». Поэтому непривычное для нас написание имени у Светония вполне согласуется с тогдашним словоупотреблением. Хрест есть именно Христос. И то обстоятельство, что Светоний не прибавляет к этому имени «какой–то» или «некто», показывает, что он предполагал это имя известным. Смешать христиан с евреями он легко мог. Из его слов совсем не видно, будто бы называемый им Хрест жил в Риме. Он только связывает римское волнение иудеев с его личностью. Из слов Светония можно заключить, что, при первом явлении христиан на римской сцене, их ставили в связь с исторической личностью Христа. Вряд ли Светоний интересовался дальнейшими подробностями. Вернее, что он проявлял такое же равнодушное невнимание к христианам, как и его друг Плиний Младший, который в качестве правителя областей Вифнии и Понта около 110–113 гг. встретился там с христианами. Донося о них имп. Траяну, он отмечает между прочим, что на своих собраниях они «поют песнь Христу как Богу». Здесь одно только имя, без всяких пояснений. Плиний прибавляет, что «действительных христиан» нельзя склонить ни к участию в языческом культе, ни к тому, чтобы они «прокляли Христа». О самих христианах Плиний отзывается мягко, но считает их грубыми суеверами (письма, Х. 96). Его не интересовало, видимо, исследовать это суеверие более подробно. И римскую власть христиане интересовали тогда только с точки зрения общественного порядка. Приблизительно к тому же времени относятся «Летописи» (Анналы) знаменитого Тацита (писаны около 110 –117 гг.). Он упоминает о Христе по поводу гонения Нерона. Подлинность этого рассказа Тацита должна быть признана доказанной бесспорно. По рассказу Тацита, чтобы отклонить от себя подозрение в поджоге Рима, Нерон обвинил в нем «людей, которых народ и без того ненавидел за их пороки и называл хрестианами (chrestianos)». Это имя происходит от Христа, который в «царствование Траяна был наказан прокуратором Понтием Пилатом». «Это нечестивое суеверие, подавленное на время, вспыхнуло вновь и не только в Иудее, где начало этого зла, но и в Городе, куда стекается и где совершается все гнусное и постыдное» (ХV. 44). Свидетельство Тацита удостоверяет историческую действительность Христа, «распятого при Понтийском Пилате», для неверующего язычника на рубеже I и II вв. У Тацита проявляется то же презрительное отношение к христианам, о котором так много говорят христианские писатели II и даже III века, опровергавшие языческие сплетни и клеветы. Можно поставить вопрос об источниках сообщения Тацита о Христе. Несомненно, это не еврейский источник, так как еврей не назвал бы Иисуса Христом (т. е. Мессией). Столь же несомненно, что это и не христианский источник. Остается признать источник римский. Вряд ли можно видеть здесь официальные акты императорского архива; по свидетельству Тацита, он и для него был недоступен. В этом архиве, действительно, должны были храниться донесения правителей провинций, но вряд ли они были доступны частным лицам. Св. Иустин мученик в своей Апологии, поданной около 150 г. имп. Антонину Пию, в подтверждение действительности крестной смерти Христа и Его чудотворений приглашает проверить свои слова по «актам при Понтии Пилате» (35 и 48); Тертуллиан в своей Апологии (около 197 г.) упоминает о донесении Пилата Тивердию (гл. 5). В действительности, конечно, это не ссылки на доступный источник, но призыв к проверке. И в нем сказывается бесспорная уверенность в исторической достоверности истории Христа. Дошедшие до нас «Акты Пилата» и письмо Пилата имп. Клавдию безусловно неподлинны и принадлежат позднейшему времени.
К этим беглым известиям можно присоединить еще сохранившееся в одной сирийской рукописи VI в. письмо неизвестного сирийского стоика Мары к сыну Серапиону (вероятно, 73–160 гг.). В подтверждение своих советов пренебрегать богатством и бренной славой мира сего и уклоняться от его страстей и суеты Мара ссылается на печальную судьбу мудрецов. Что приобрели Афины от смерти Сократа, или Самосцы от сожжения Пифагора, или иудеи от низложения их мудрого царя, — ведь с той поры у них отнято царство (срв.Мф.27.37) и они рассеяны повсюду из своей земли. Все понесли наказание. А умерщвленные мудрецы не мертвы: жив и мудрый царь иудеев, — «ради нового закона, который он дал». Здесь глухая и неясная память о Христе.
В общем, мы узнаем очень и очень мало о Христе от «внешних». В этом нет ничего удивительного. Древние писали со своей точки зрения, у них были свои мерила важности и интереса. Иудеи относились к христианству с раздражением, эллины и римляне — с презрением, «иудейское ослепление» и «языческое нечестие» встречались между собой. Никто из «внешних» не ставил себе прямой и специальной задачей рассказ о Христе и христианах в эти ранние годы, и в этом ничего странного нет. Исторической будущности христианства они не предчувствовали и не допускали, для большинства это было пустым и ничтожным суеверием. Только позже языческий мир узнал и почувствовал в Церкви опасного врага. Тогда языческие писатели с гневом обрушились на христиан и на их веру. Но снова никто и никогда не высказывал ни малейшего сомнения в действительном существовании Того, по Чьему имени и прозваны так христиане. Это молчание гораздо красноречивее и убедительнее того мнимого молчания, о котором противники историчности Христа торопливо умозаключают от скудости «внешних» известий. Мало того, в вину христианам вменялось больше всего и прежде всего почитание человека и при том распятого. В этом их обвиняли иудеи. Как то мы знаем от св. Иустина. В этом их обвиняли и язычники. Стоик Фронтон, как мы узнаем из защитительного диалога Минуция Феликса (около 180–200 гг.), обвинял христиан, что они поклоняются человеку, наказанному за злодеяния страшным наказанием, и преклоняются перед древом Креста (Октавий, гл. IХ). Лукиан Самосатский в своей книге «О смерти Перигрина» так и говорит о христианах: «Они еще и теперь высоко почитают распятого в Палестине человека», «поклоняются распятому софисту», своему законодателю (гл. ХIII; писано около 170 г.). И, наконец, приблизительно в то же время уже не раз названный выше Цельс в своей обширной книге против христиан прежде всего нападает на почитание уничиженного человека. В жизни Христа он не находит ничего героического и великого. «Как могли мы признавать за Бога того, кто не исполнил ничего из того, что, по носившимся в народе слухам, он обещал? А когда мы обличили его и признали достойным казни, то он ищет скрыться и бежать постыднейшим образом, но предается одним из тех, кого он называл своими учениками»… Цельс вкладывает свои слова в уста иудея, ибо иудеи были главным его источником. Он пересказывает с глумлением евангельскую историю. Почитание Иисуса Христа его возмущает и злит. И ни слова, ни намека на недостоверность… И для нас понятно, почему древние христианские писатели не останавливались на защите исторической действительности Христа, — в том никто и никогда не сомневался, это было вне сомнений и спора. Для языческого мира христианство было почитанием «исторического Христа».
3. Свидетельство первохристианина.
Кто был Иисус Христос? Вокруг этого вопроса с апостольских времен шли споры. Не в Церкви, ибо с изначала она содержала непреложную веру в Христа как Богочеловека, Сына Божьего, ставшего «человеком между человеками». Но вокруг Церкви, в кругах, тронутых евангельским благовестием, но не принявших апостольского проповедания в чистоте и простоту веры. Эти споры никогда не касались самого существования Христа. Разделения возникали по вопросу, Кто был Он. И, опять–таки, самые мнения, отвергаемые и опровергаемые Церковью, показывают всеобщую убежденность в историческом существовании Христа. Коротко сказать, ложные толкования тяготели к двум противоположным пределам. Для одних (это были иудео–христиане) Иисус был только великим учителем и пророком, — тем самым Он был для них исторической личностью. Другие соблазнялись именно историческим реализмом обстоятельств и событий Его земной жизни, они по–своему толковали их, утверждая только видимость Его страданий и смерти. Этот «докетизм» (от греч. dokeomai — кажусь) во всей своей настойчивости становится понятен именно в противопоставлении историческому реализму евангельских повествований и апостольской проповеди. Докетизм — это не историческая, а богословская теория. И докеты не отрицали нисколько, что то, о чем рассказано в Евангелиях, действительно происходило в определенное время и в определенных обстоятельствах. И могло быть увидено и описано. Они полагали, что Христос не был, но только казался человеком, являлся, как человек. В историческом достоинстве и достоверности евангельской истории и они не сомневались, хотя и занимались мнимым исправлением евангельского текста, урезывая и изменяя его. Но они по–своему толковали смысл евангельской истории, смысл Боговоплощения и Богоявления. Тот ранний, твердый и решительный отпор, который докетические соблазны встретили в Церкви, еще раз подтверждает бесспорность и изначальность христианского реалистического реализма. Древняя Церковь со всей силой, на основании Нового Завета, утверждала полноту и действительность человечества во Христе, но никогда не допускала, будто он был только человек. Исповеданием, что Христос есть Бог, нисколько не расплывался Его реальный, исторический, евангельский образ. Исторической действительности в христианском понимании с самого начала придается исключительная, решающая важность. Весь смысл изначального, древнего восприятия Христа в том и заключается, что в живом и индивидуальном человеческом образе явился Бог, — не только знамения Божьи, но и полнота Божества телесно. Христианская древность не была ни словоохотлива, ни многоглаголива. Она не искала дополнений к Евангелиям, и даже отсекала их, когда беспокойное любопытство их делало, быть может, на основе смутных преданий и воспоминаний, — об этом свидетельствует история рано сложившегося новозаветного канона и отстранение апокрифов, «отреченных книг». Впрочем, и в них все полно исторического, хотя не всегда вместе с тем и богословского реализма, и несмотря на сдержанную часто игру воображения, и в них чувствуется твердая историческая основа. Церковь хранила и созерцала законченный и целостный лик живого и действительного Христа в едином «четверообразном Евангелии». Хранила и объясняла. В первохристианских памятниках напрасно искать подробного исторического повествования, — они предполагают известную Евангельскую историю, известную не только из Писания, но еще и из неумолкшего устного благовестия. Первохристианские памятники коротки и сжаты. Это — письма и послания, составленные по случаю. И в них не следует искать исчерпывающего и систематического изложения веры. Но в них со всей силой и яркостью сказывается живое историческое чувство Христова Лика. Позже, во II веке, появляются уже более обширные христианские труды и тоже писанные по случаю, для защиты от внешних и от лжебратии. Постепенно складывается и развивается христианская литература. Но прежний дух дышит и в ней. Достаточно немногих примеров.
Послания св. Игнатия Антиохийского относятся к самой грани I и II веков нашей эры (107 — 117 гг.). В этой дате не может быть серьезных сомнений. Это — письма с пути к малоазийским Церквам, с мученического пути — в Рим, чтобы там стать жертвой уже состоявшегося приговора. Эти письма запечатлены духом живого исторического реализма, который нисколько не ослабляется жаждой мученического венца и разлуки с внешним миром, которая в предчувствии и воле уже совершилась. Безо всяких ограничений св. Игнатий исповедует Иисуса Христа Богом и дерзновенно говорит о «крове Бога», о «страданиях Бога» — но не «Бога, открывшегося в виде человеческом» и «ставшего плотью». Христос есть Бог, «совершенно сделавшийся человеком», родился от Марии и Духа Святого — «сразу и сын человека и сын Бога». Его земная жизнь не была только явлением. Против докетов св. Игнатий со всей силой подчеркивает реальность и полноту человеческой жизни Христа. Он происходил от семени Давида, родился от Девы, принял крещение от Иоанна, был пронзен за нас на кресте при Понтийском Пилате и Ироде четверовластнике и воскрес . Его страдания спасительны, и Он действительно, а не только видимо, страдал. В действительности его страданий — вся их спасительная сила. Отрицать действительность воплощения — значит совершенно отрицать Иисуса Христа, и это значит быть смертоносцами. И воскрес Христос в действительной плоти, осязаемой руками, не какой–нибудь «демон бестелесный», и пил и ел с учениками. Настойчиво повторяет св. Игнатий эту хронологическую ссылку — «при Понтийском Пилате». Он всячески хочет подчеркнуть историческую конкретность образа и жизни Христа. В этом — все его упование, он живет историческим образом Христа. В посланиях св. Игнатия то же, что в Новом Завете, — никакого различия в духе и восприятии. Со св. Игнатием совпадает и его друг, св. Поликарп Смирнский. Та же вера в Богочеловека и то же исповедание реального воплощения. Оба они борются с докетизмом. Но в их возражениях нигде не чувствуется, чтобы кто–нибудь в это время сомневался в действительном существовании Христа, — были сомневавшиеся в том, что Христос был, а не только казался, человеком, но не в то, что Он существовал.
В середине II века св. Иустин мученик, как мы знаем уже, беседовал с Трифоном иудеем. Есть ли его «Разговор» запись действительной беседы или это только диалогическое изображение типического, примерного спора, не так важно. Важна постановка вопросов и их освещение. Иудею христианин должен был доказывать, что Иисус Христос был и Бог, а не только человек. Тем не менее св. Иустин со всей определенностью подчеркивает и полноту человечества во Христе. Он постоянно ссылается на отдельные события земной жизни Спасителя и объясняет их смысл и значение. С особенным вниманием он останавливается на происхождении Христа из дома Давидова, из колена Иудова, из рода Авраамова. Христос родился от Девы Марии, во время Квириниевой переписи, в Вифлееме. Говорит св. Иустин о явлении звезды и поклонении волхвов. Рассказывает о Крестителе. Передает евангельские рассказы о проповеди и чудесах Христа. Описывает последние дни, Тайную вечерю, Гефсиманское моление, взятие в саду, суд Пилата, распятие, явления по воскресении. Св. Иустин воспроизводит Евангельский образ Христа, и именно как реальный исторический образ. Христос–Мессия, пришедший во исполнение пророчеств. Ссылка на пророчества имеет вес именно исторического довода. Мессианское достоинство Христа есть тоже историческая черта. Христос стал и был человек, родился, возрастал, хотя и был от века как Бог. Вся его жизнь свидетельствует полноту и действительность его человечества, и в особенности его страдания, — все эти указания св. Иустина получают тем большую силу, что именно это смущало его собеседников. Перед иудеями он начертывает образ страждущего Мессии, который для них соблазнителен и неприемлем. Он доказывает перед ними для них совершенно парадоксальное положение. И вместе с утверждением действительного человечества раскрывает Божественное достоинство Христа. То же свидетельствует он и перед язычниками в своих Апологиях. Весь смысл и содержание христианской веры в исповедании Иустина мученика полагается в живом образе Христа как воплощенного Сына Божия и в Его действительном деле, значение которого при том выходит за ограниченные исторические грани.
Ко второй же половине II века относятся творения св. Иринея епископа Лионского, западного учителя по месту своей деятельности и восточного по своему происхождению и первоначальным связям. Он был учеником и слушателем Поликарпа в Смирне и навсегда запомнил его уроки. А Поликарп был учеником апостольским и в особенности ап. Иоанна, обращался со многими, видевшим Христа. И в своих беседах рассказывал о них, «припоминал слова их, как и что слышал от них о Господе, пересказывал о Его чудесах и учении, о чем получил предание от людей, которые сами видели Слово Жизни»… Поликарп воспринимает предание о Христе от самовидцев, и образ Христа и в его памяти сохраняет всю живость первоначального непосредственного живого восприятия. В этой же непосредственной живописи запоминает его св. Ириней. Эта связь с самовидцами для Иринея имеет решающее значение, о ней он всегда вспоминает. И в его творениях еще продолжает звучать живой голос первоначального видения. Неизменность апостольского предания — эта одна из самых основных мыслей св. Иринея, и, прежде всего, она распространяется на образ Христа. Сравнительно недавно сделалось для нас доступным полупотерянное, полузабытое сочинение св. Иринея «Доказательство апостольской проповеди» — опыт краткого, огласительного и назидательного изложения основных положений христианской веры. Основная мысль этой книги — исполнение пророчеств. Христос есть Бог, об этом св. Ириней говорит ясно и подробно. И в последние дни Он стал истинным человеком и жил между людьми, проповедуя и исцеляя. Был поруган, мучим и умерщвлен, распят на кресте. И воскрес. Св. Ириней передает Евангельские подробности. Подобно св. Иустину, он доказывает, что все эти события были предсказаны пророками. И во всем составе этого доказательства чувствуется, что он исходит из непосредственного Евангельского образа и к нему подыскивает ветхозаветные параллели. При этом он идет, в сущности, по линии наибольшего сопротивления. Он доказывает трудное положение, трудное для сомневающихся. И вся убедительность доказательства связана с непосредственной яркостью и достоверностью Евангельского образа Христова. Лжеучители II века, гностики, с которыми св. Ириней много боролся и спорил, облегчали эту задачу для себя отрицанием реальной полноты исторического существования Христа, допущением призрачности его человечества. Такое представление легче всего укладывается в рамки привычных языческих воззрений. Они разлагали Евангельский образ. Св. Ириней защищает древний образ и опирается прежде всего на неизменную историческую память, исходящую от живого видения. Это — апостольское видение исторического Христа Иисуса. Но апостолы видели не простого человека, но человека и Бога, Бога, ставшего человеком, и человека, который был Богом. Этот образ ярко стоит в сознании св. Иринея. Он подчеркивает обе стороны: и божество, и человечество. Вся ценность лика и дела Христова в том, что истинный Бог стал истинным человеком, «принял от человека существо плоти», «сделался тем, чем были мы». Он действительно родился, хотя от Девы, возрастал, вкушал и алкал, плакал и скорбел, действительно пострадал и умер, распятый на кресте. В жизни Христа пройден во всей полноте человеческий путь, и потому эта жизнь получает для каждого характер прообраза и примера. И вместе с тем в жизни Христа, как сразу и Бога и человека, осуществилось реальное воссоединение человека с Богом. В этом реализме весь пафос св. Иринея, и его он опознает как апостольское предание. Этой ссылки на апостольское предание не оспаривали и противники св. Иринея, и это дает новый исторический довод: именно реализм и историзм имел за собой доказательство древности. О том же свидетельствуют и творения младшего современника св. Иринея, Карфагенского пресвитера Тертуллиана. И его мировоззрение всецело определяется реальным историческим образом Христа.
Нет нужды продолжать историческое исследование дальше. Последующие века с совершенной верностью хранят историческое предание прошлого и в Евангельском образе Христа утверждают свое исповедание. Ни у кого не появляется сомнения в историческом существования Спасителя даже среди самых злых ненавистников христианской веры. И самая ненависть направляется на самую личность Христа, и в этом новое доказательство всей бесспорности, с которой тогдашние люди воспринимали Его образ. В особенности выразительно и убедительно то, что подобные сомнения вообще никогда не поднимались. Самые защитники современного мифологизма не отрицают, что с начала II века христианские писатели (те самые, свидетельство которых мы только что приводили) бесспорно исповедуют «человечество», т. е. историческую действительность Христа, но в этом они видят нововведение, не опирающееся ни на какую историческую память или знание, «выдумку, продиктованную политическими и практическими потребностями молодой христианской Церкви в ее борьбе за существование», в борьбе с гнозисом, который будто бы продолжал то идейное движение, которым порождены «синоптические» Евангелия. В этом утверждении нет никакого согласия с действительными историческими соотношениями, как они устанавливаются трезвым и совершенно свободным критическим исследованием. В действительности никакого разрыва в церковном восприятии и сознании не было. И об этом прежде всего говорит тот факт, что церковное сознание неизменно и настойчиво утверждалось на евангельском повествовании, воспринимало его именно как историческое свидетельство, и именно в Церкви Четвероевангелие было утверждено в своем каноническом достоинстве. Напротив, именно гностицизм, ослаблявший (но вовсе не отрицавший) историческую действительность Христова образа своим брезгливым к плоти докетизмом, отвергал и изменял Евангельское предание. Вне Церкви гнушались Евангельским реализмом и потому урезывали Евангельский рассказ. Непрерывность именно здесь нарушалась. И сразу чувствуется, что здесь ведется борьба с установившимся преданием. Предполагаемый мифологистами перерыв вообще не существовал, ничем не проявлялся.
Христос пришел в мир неузнанным. «Внешние» просто не заметили Его в свое время, — отсюда скудость внехристианских древних свидетельств о Нем. Его образ запомнили и сохранили те, кого озарила Его Божественная Личность. Его проповедь и дела. И свое видение они закрепили в слове, — это первое историческое свидетельство о Нем, обвеянное всей живостью непосредственного личного общения. Это же видение они передавали в устной речи. Все первохристианство собирается вокруг живого исторического образа Иисуса из Назарета, Христа, Сына Божия. И согласным хором свидетельствуют о Нем. Против этого свидетельства, восходящего к очевидцам и к живому общению, остается бессильным всякое сомнение, опирающееся только на предвзятую мысль о невозможности Богочеловека.
Печатается по изданию:
YMCA PRESS PARIS
Издательство «Добро»
Варшава, 1929
К ИСТОРИИ ЭФЕССКОГО СОБОРА
D’Ales опирается на новое издание, и в этом первое достоинство его интересной, хотя и слишком краткой книги. Это запись его специального курса, читанного этой весной в Парижском Institut ctholique… — Однако, задача историка еще не исчерпана, когда он расскажет, «что собственно случилось»… Историк должен еще вскрыть и показать смысл случившегося или происшедшего. И это все труднее в истории Эфесского собора. История собора есть история раскола. Собравшиеся в Эфесе для рассуждения о Нестории отцы разделились. В Эфесе заседало два собора, взаимно отлучившие [73]
друг друга. Правда, истинным и «вселенским» был только один из них, собор Кирилла Александрийского и Мнемона Эфесского, к которому примкнули и римские легаты; а второй собор или соборик (conciliabulum), собор «восточных» был и оказался «отступническим соборищем». Но при этом и на этом «соборище» преобладающее большинство было бесспорно православным. Историк должен, прежде всего, показать и объяснить, как и почему был возможен и в известном смысле даже неизбежен этот раскол или разделение православного епископата. Предварительный ответ довольно прост и легок: это было разделение и столкновение двух богословских школ или направлений, Александрийского и Антиохийского. И с этим связана очень модная в последнее время попытка исторической и даже догматической реабилитации Нестория. Возникает вопрос, справедливо ли был он осужден, и не вменили ли ему в действительности его враги таких лжеучений, которых он на деле не проповедывал и не разделял… Острота вопроса в том, что Нестория исторически поддержал почти весь православный «Восток», т. е. Антиохийская или Мало–азийская церковь, и здесь отреклись от Нестория в сущности скорее канонически, чем догматически… В последнем счете, вопрос о Нестории есть вопрос о Диодоре и Феодоре Мопсусетийском), вопрос о блаж. Феодорите. Так этот вопрос и был поставлен на V–м Вселенском соборе, когда Феодор был осужден, а из творений блаж. Феодорита иные были анафематствованы. И здесь снова возникает сомнение, не были ли пристрастными и торопливыми эти посмертные анафематствования. Если за Нестория в современном богословии вступаются все же немногие, то не защиту Антиохийцев встает вряд ли не большинство… И вот, большой и бесспорной заслугой о. д’Алеса нужно признать, что он вполне свободен от этих модных увлечений. Это свидетельствует не только о его трезвом богословском консерватизме, но еще о его большой богословской наблюдательности. В последней главе своей книги он ставит общий вопрос: Несторий и Кирилл Александрийский; и делает попытку восстановить учение Нестория, прежде всего, на основании тех бесспорных отрывков из проповедей Нестория, присланных им самим в Рим, которые и послужили поводом к его осуждению и в Риме, и в Александрии, еще до Эфесского собора… При всей осторожности и бережливости, при всех оговорках и поправках, приходится признать здесь у Нестория опасную и обманную богословскую тенденцию, — тенденцию к чрезмерному обособлению человеческого естества во Христе… И эта [74]
тенденция, действительно, была общей всему Антиохийскому богословию. Нельзя говорить, что это было «адопцианское» богословие, но соблазн «адопцианства» не был здесь преодолен и обезпложен… Напротив, св. Кирилл, пр всех своих обмолвках, был непоколебимым исповедником Воплощенного Слова… Своего анализа о. д’Алес не доволит до конца. Но более внимательный и подробный анализ может только подтвердить его характеристику… На Эфесском соборе, действительно, вскрылось «недоразумение». Но это недоразумение заключалось не в том, что, грубо говоря, «своя своих не познаша», и православные в запальчивости анафематствовали друг друга, как еретиков, — но в том, что часть православных оказалась богословски близорукой… В этой близорукости и были повинны антиохийцы, «восточные». Для них призрак Аполлинария заслонил реальный образ Нестория, — как в свое время, после Никейского собора, для многих призрак Савеллия заслонил образ Ария. Тогда спорили с мнимым савеллианством св. Афанасия и каппадикийцев, теперь с мнимым аоллинаризмом св. Кирилла. Правды Афанасия не умаляет позднейшее рождение монофизитов из духа «египетского» благочестия, как бы ни притязали монофизиты на наследие св. Кирилла… И близорукость антиохийцев определялась не только их философскими навыками или интеллектуальными предпосылками. Она органически связана с их религиознам идеалом, — нужно сказать, с их антропологическим идеалом, с их учением о призвании и назначении человека. В антропологии коренится главная слабость антиохийского богословия. Столкновение Александрийского и Антиохийского богословия уже на Эфесском соборе было столкновением двух антропологических интуиций, двух антропологических идеалов. Историю христианских споров V–VIII веков вообще можно до конца понять только из антропологических предпосылок. Ведь весь спор шел именно об антропологическом факте, — после победы над арианством уже не спорили о Божестве Христа, Воплощенного Слова; спорили только о Его человеческом естестве. И спорили при этом с сотериологической точки зрения. Богословие антиохийцев можно определить, прежде всего, как своеобразный антропологический максимализм, как преувеличенную самооценку человеческого достоинства. Этот максимализм теоретически обострился, вероятно, в спорах с Аполлинарием, — в противоборстве против аполлинаристического минимализма в антропологии, с его брезгливостью и гнушением человеком, что вело Аполлинария к обрезанию, [75]
к усечению человеческого естества во Христе. В аполлинаризме сказывалось преждевременное и чрезмерное самонедоверие человека, преждевременное самоотречение и чрезмерная безнадежность. Человеческое казалось слишком немощным и низменным, чтобы быть достойным «обожения». Но антиохийская реакция против этого неправедного антропологического самоуничижения питалась непреображенным гуманистическим оптимизмом, вероятно, стоического происхождения. Не без основания несторианство уже в древности сопоставляли с пелагианством (срв. к Мария Меркатора). Здесь есть несомненное психологическое сродство, если и не генетическая связь. Из такого самочувствия легко было сделать сотериологические выводы. С одной стороны, «спасение» сводилось к простому освобождению человеческого естества, к его восстановлению в естественных, имманентных мерах и силах, in puris naturalibus, — антиохийцы редко говорили об «обожении»… С другой, спасение казалось осуществимым «естественными» силами человека, — отсюда так ярко в Антиохийском богословии развивается учение о человеческом подвиге и возрастании Христа. И Христос открывался для «восточных», как Подвижник, и в этом смысле, как «простой человек». Эти антропологические предпосылки мешали «восточным» с точностью разглядеть и описать единство Богочеловеческого лика. Во всяком случае, они склонялись, так сказать, к симметрическому представлению «двух природ» во Христе, и с торопливой подозрительностью считали всякую асимметрию еретическим «слиянием». Между тем, именно ассиметрический диофизитизм есть православная истина. Соблазн «Востока» не в «разделении» естества, но именно в их симметрическом уравнивании, что и приводит к двоению Божественного лика, — к «двоице Сынов»… Парадоксальная ассиметрия Богочеловеческого лика заключается в том, что человеческое естество в Богочеловеческом единстве не имеет своего «лица», своей «ипостаси», что оно воспринято в ипостась Бога Слова, — почему нужно говорить: Воплощенное Слово, и нельзя сказать: Богоносный человек. Этого антиохийцы не могли понять… Православный ассиметрический диофизитизм тесно связан с сотериологической идеей «обожения», как преображения или «оживотворения» человека, что вполне ясно у св. Кирилла. Это нисколько не усекает человеческой полноты, но, без всякого принижения человеческого достоинства, означает, что человеку предлежит сверх–человеческая цель и предел, что он должен превзойти человеческую меру или «меру естества», — в преображении, в соединении с Богом… Полнота человеческого естества, не превращающегося в иное, [76]
но размыкающегося в «обожении», — этого не могли понять и признать минималисты в антропологии, — аполлинаристы и монофизиты. Они не умели мыслить это «размыкание» человеческой самодостаточности иначе, как «превращение», как выпадение из мер естества, своего рода (греч.). Они преувеличивали несоизмеримость человеческого во Христе с человеческим в нас, в «простых людях»… По другим мотивам не могли понять и принять «ипостасного» единства антропологические максималисты, — как и «обожение», оно означало для них слишком много, больше, чем того требовал и допускал их религиозно–сотериологический идеал… В Эфесе не было совершено ни несправедливости, ни ошибки. Несторий был осужден и низложен с основанием, и его осуждение было трагическим предупреждением об имманентных опасностях «восточного» богословия. История «восточного» богословия собственно и оканчивается на блаж. Феодорите. Историческая нить обрывается. Путь оказался тупиком… И если после Эфесского собора разделившиеся епископы воссоединились на основах догматической формулы, изложенной в терминах «восточного» богословия (как впоследствии и Халкидонский орос), это не означало ни победы, ни «реабилитации» Антиохийской школы. Ибо смысл формулы определяется ее истолкованием. И это истолкование, данное Церковью, вполне исключает «восточный» максимализм. — Книга о. д’Алеса только вводит в историю этих болезненных и тревожных споров. Но в новейшей литературе это, быть может, одна из лучших книг по истории христологических движений в древней Церкви.
1931.8.10.
О ГРАНИЦАХ ЦЕРКВИ
Очень нелегко дать точное и твердое определение раскола или схизмы (различаю «богословское определение» от простого «канонического описания»). Ибо раскол в Церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и загадка. Ибо Церковь есть единство. И все бытие ее в этом единстве и единении, о Христе и во Христе. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело (1 Кор. 12: 13). И прообраз этого единства есть Троическое Единосущие. Мера этого единства есть кафоличность (или соборность), когда непроницаемость личных сознаний смягчается и даже снимается в совершенном единомыслии и единодушии и у множества верующих бывает единое сердце и одна душа (ср.: Деян. 4:32).
Раскол, напротив, есть уединение, обособление, утрата и отрицание соборности. Дух раскола есть прямая противоположность церковности… Вопрос о природе и смысле церковных разделений и расколов был поставлен во всей остроте уже в памятных крещальных спорах III века. И святой Киприан Карфагенский с неустрашимой последовательностью развил тогда учение о совершенной безблагодатности всякого раскола, и именно как раскола. Весь смысл и весь логический упор его рассуждений был в том убеждении, что таинства установлены в Церкви. Стало быть, только в Церкви и совершаются, и могут совершаться, — в общении и в соборности. И потому всякое нарушение соборности и единства тем самым сразу же выводит за последнюю ограду, в некое решительное «вне».
Всякая схизма для святого Киприана есть уход из Церкви, из той священной и святой земли, где только и бьет крещальный источник, ключ спасительной воды. Учение святого Киприана о безблагодатности расколов есть только обратная сторона его учения о единстве и соборности… Здесь не место и не время припоминать и еще раз пересказывать доводы и доказательства Киприана. Каждый их помнит и знает, должен знать, должен был запомнить. Они не утратили своего значения до сих пор… Историческое влияние Киприана было длительным и сильным. И, строго говоря, в своих богословских предпосылках учение святого Киприана никогда не было опровергнуто. Даже Августин не так далек от Киприана. Спорил он с донатистами, не с самим Киприаном, не Киприана опровергал, — да и спорил он больше о практических мерах и выводах. В своих рассуждениях о церковном единстве, о единстве любви как о необходимом и решающем условии спасительного действия таинств Августин собственно только повторяет Киприана в новых словах… Практические выводы Киприана не были приняты и удержаны церковным сознанием. И спрашивается: как это было возможно, если не были оспорены или отведены предпосылки…
Нет надобности вдаваться в подробности довольно неясной и запутанной истории канонических отношений Церкви к раскольникам и еретикам. Достаточно установить, что есть случаи, когда самим образом действия Церковь дает понять, что таинства значимы и в расколах, даже у еретиков, — что таинства могут совершаться и вне собственных канонических пределов Церкви. Приходящих из расколов и даже из ересей Церковь приемлет обычно не через крещение. Очевидно, подразумевая или предполагая, что они уже были действительно окрещены раньше, в своих расколах и ересях. Во многих случаях Церковь приемлет присоединяющихся и без миропомазания, а клириков нередко и «в сущем сане», что тем более приходится понимать и толковать в смысле признания значимости или реальности соответственных священнодействий, совершенных над ними «вне Церкви». Но если таинства совершаются, то только Духом Святым…
Канонические правила устанавливают или вскрывают некий мистический парадокс. Образом своих действий Церковь как бы свидетельствует, что и за каноническим порогом еще простирается ее мистическая территория, еще не сразу начинается «внешний мир»…
Святой Киприан был прав: таинства совершаются только в Церкви. Но это «в» он определял поспешно и слишком тесно. И не приходится ли заключать скорее в обратном порядке: где совершаются таинства, там Церковь?.. Святой Киприан исходил из молчаливого предположения, что каноническая граница Церкви есть всегда, и тем самым граница харизматическая.
И вот это недоказанное отождествление не было подтверждено соборным самосознанием. Церковь, как мистический организм, как таинственное Тело Христово, не может быть описана адекватно в одних только канонических терминах или категориях. И подлинные границы Церкви нельзя установить или распознать по одним только каноническим признакам или вехам. Очень часто каноническая грань указует и харизматическую, — и связуемое на земле затягивается неразрешимым узлом и в Небесах. Но не всегда. Еще чаще не сразу.
В своем сакраментальном или мистериальном бытии Церковь вообще превышает канонические меры. Потому канонический разрыв еще не означает сразу же мистического опустошения и оскудения… Все, что Киприан говорил о единстве Церкви и Таинстве, может быть и должно быть принято. Но не следует вместе с ним обводить последний контур церковного тела по одним только каноническим точкам…
И здесь возникает общий вопрос и сомнение. Подлежат ли эти канонические правила и действия богословскому обобщению? Можно ли предполагать за ними богословские или догматические мотивы и основания? Или в них сказывается скорее только пастырское усмотрение и снисхождение? Не следует ли понимать канонический образ действий скорее в смысле снисходящего умолчания о безблагодатности, чем в смысле признания реальности или значимости схизматических священнодействий? И потому вряд ли осторожно привлекать или вводить канонические факты в богословскую аргументацию… Это возражение связано с теорией так называемой «икономии»… В обычном церковном словоупотреблении oikonomia есть термин очень многозначный. В самом широком смысле «икономия» охватывает и означает все дело спасения (ср.: Кол. 1:25; Еф. 1:10; 3, 2, 9). Вульгата передает обычно: dispensatio. В каноническом языке «икономия» не стало термином. Это скорее описательное слово, некая общая характеристика: «икономия» противопоставляется «акривии» как некое смягчение церковной дисциплины, как некое «изъятие» или исключение из «строгого права» или из под общего правила. И движущий мотив «икономии» есть именно «филантропия», пастырское усмотрение, педагогический расчет, — всегда довод от рабочей полезности.
«Икономия» есть скорее педагогический принцип, нежели канонический. «Икономия» есть пастырский корректив канонического сознания. И упражнять «икономию» может и должен уже каждый отдельный пастырь в своем приходе, еще более епископ и собор епископов. Ибо «икономия» и есть пастырство, и пастырство есть «икономия»… В этом вся сила и жизненность «икономического» принципа. Но в этом и его ограниченность. Не всякий вопрос может быть поставлен и решен в порядке «икономии»… И вот спрашивается: можно ли ставить вопрос о раскольниках и еретиках как вопрос одной только «икономии»?..
Конечно, поскольку речь идет о приобретении заблудших душ для кафолической истины, о методах их приведения «в разум истины», все действование должно быть «икономическим», то есть пастырским, сораспинающимся, любовным. Подобает оставить девяносто девять и искать заблудшую овцу… Но тем более требуется при этом полная искренность и прямота… И не только в области догматов требуется эта недвусмысленная точность, строгость и ясность, то есть именно «акривия», ибо как иначе достигнуть единомыслия. Точность и ясность необходимы прежде всего в мистическом диагнозе. Именно поэтому вопрос о священнодействиях раскольников и еретиков должен быть поставлен и обсужден в порядке самой строгой «акривии» Ибо здесь не столько quaestimo juris, сколько quaestimo facti, — и вопрос о мистическом факте, о сакраментальной реальности. Речь идет не столько о «признании», сколько именно о диагнозе, — нужно именно узнать или распознать…
Именно с радикальной точки зрения святого Киприана всего менее совместима «икономия» в данном вопросе. Если за каноническими границами Церкви сразу же начинается безблагодатная пустота, и схизматики вообще и крещены не были и все еще пребывают в докрещальном мраке, тем более необходима в действиях и суждениях Церкви совершенная ясность, строгость, настойчивость. И никакое «снисхождение» здесь неуместно и просто невозможно, и никакие уступки непозволительны… Можно ли допустить, в самом деле, что Церковь принимает тех или иных раскольников, и даже еретиков, в свой состав не через крещение только для того, чтобы облегчить им их решительный шаг?.. Во всяком случае, это была бы очень опасная и опрометчивая уступчивость. Это было бы скорее потворство человеческой слабости самолюбию и маловерию, и потворство тем более опасное, что оно создает всю видимость церковного признания схизматических таинств или священнодействий значимыми, и не только в восприятии схизматиков или внешних, но и в сознании самого церковного большинства, и даже властей церковных. И более того, этот образ действия потому и применяется, что он создает эту видимость… Если бы действительно Церковь была уверена до конца, что в расколах и ересях крещение не совершается, с какою бы целью воссоединяла она схизматиков без крещения?.. Неужели же только для того, чтобы таким образом избавить их от ложного стыда в открытом признании, что они не были еще крещены?..
Неужели же можно такой мотив признать достойным, убедительным и благословенным?.. Неужели же это к пользе новоначальных — воссоединять их через двусмысленность и умолчание?.. На справедливое недоумение: нельзя ли по аналогии присоединять к Церкви без крещения и евреев, и магометан, «по икономии», митрополит Волынский Антоний отвечал с полной откровенностью: «Ведь все такие неофиты, а равно и крещенные во имя Монтана и Прискиллы, и сами не будут претендовать на вступление в Церковь без погружения с произнесением слов: Во имя Отца и прочее.
Такую претензию по неясному пониманию церковной благодати могут иметь только те раскольники и еретики, которых крещение, богослужение и иерархический строй по внешности мало отличается от церковного: им очень обидно при обращении в церковь становиться на одну доску с язычниками и иудеями. Вот поэтому Церковь, снисходя к их немощи, не исполняла над ними внешнего действия крещения, воздавая им эту ,благодать, во «втором таинстве»
Переписываю эту тираду с горестным недоумением. Из доводов митрополита Антония, по здравому смыслу, следовало бы сделать вывод как раз обратный его выводу. Чтобы привести немощных и неразумных «неофитов» к недостающему им «ясному пониманию церковной благодати», тем более необходимо и уместно «исполнять над ними внешнее действие крещения», вместо того чтобы притворным приспособлением к их «обидчивости» подавать им и многим другим не только повод, но и основание обманываться и впредь тем двусмысленным фактом, что их «крещение, богослужение и иерархический строй по внешности мало отличается от церковного». И спрашивается, кто дал Церкви это право даже не изменять, но попросту отменять «внешнее действие крещения', совершая его в подобных случаях только умственно, подразумевательно или интенционально, во время совершения «второго таинства» (над некрещеным…).
Конечно, в особых и чрезвычайных случаях «внешнее действие» («форма») может быть даже отменяемо — таково мученическое крещение кровию или даже так называемое baptisna flaminis. Однако это допустимо только in casu neseseritas… (в случае необходимости. — Лат.). И вряд ли здесь есть какая–нибудь аналогия с систематическим потворством чужой обидчивости и самообману…
Если «икономия» есть пастырское усмотрение, ведущее к пользе и спасению душ человеческих, то в подобном случае можно было бы говорить только об «икономии» наизнанку». Это было бы нарочитым отступлением в двусмысленность и неясность, и ради внешнего успеха, так как внутреннего воцерковления «неофитов» не может произойти при таком замалчивании. Вряд ли можно вменять Церкви подобную превратную и лукавую интенцию. И, во всяком случае, практический результат этой «икономии» нужно признать вполне неожиданным: в самой Церкви у большинства сложилось убеждение, что таинства и у схизматиков совершаются, что и в расколах есть значимая [хотя и запрещенная) иерархия. Истинное намерение Церкви в ее действиях и правилах распознавать и различать оказывается слишком трудно. И с этой стороны «икономическое» толкование… этих правил нужно признать неправдоподобным… Еще больше затруднений вызывает это «икономическое» толкование… со стороны своих общих богословских предпосылок. Вряд ли можно усваивать Церкви власть и право как бы вменять небывшее в бывшее, «превращать ничтожное в значимое»" — «в порядке икономии»… Особенно острым оказывается тогда вопрос о возможности принятия схизматических клириков «в сущем сане».
В Русской Церкви приходящие из римского католицизма или из несторианства и тому подобные принимаются в общение «чрез отречение от ересей», то есть в Таинстве Покаяния. Клирикам отпущение дает епископ и тем самым снимает лежащее на схизматическом клирике запрещение. Спрашивается: можно ли допустить, что в этом разрешении и отпущении грехов молчаливо (и даже потаенно) совершается вместе крещение, конфирмация и рукоположение, диаконское или священническое, иногда и епископское, притом без всякой «формы» или ясного и отличительного «внешнего действия», которое бы помогло заметить и сообразить, какие же таинства совершаются? Здесь двоякая неясность: и со стороны мотивов, и со стороны самого факта. Можно ли, в самом деле, совершать таинства силой одной только «интенции», без видимого действия? Вряд ли. И не потому, что «форме» принадлежит какое–то самодовлеющее или «магическое» действие. Но именно потому, что в тайнодействии «внешние действия» и наитие благодати существенно нераздельны и неразрывны…
Конечно, Церковь есть сокровищница благодати, и ей дана власть блюсти и преподавать эти благодатные дары… Но власть Церкви не распространяется на самые основоположения христианского бытия… И вряд ли возможно думать, что Церковь вправе, «в порядке икономии», допускать к священнослужению без рукоположения глаголемых клириков схизматических исповеданий, даже не сохранивших «апостольского преемства», восполняя даже не изъяны, но именно полную безблагодатность только в порядке власти, намерения и признания, к тому же недосказанного…
Не оказывается ли в подобном истолковании и весь вообще сакраментальный строй Церкви слишком растяжимым и мягким?.. И вряд ли достаточно осторожен был даже А.С. Хомяков, когда в защиту греческой новой практики принимать возобъединяемых латинян через крещение писал В.Пальмеру так: «Все таинства могут окончательно совершаться лишь в недрах Православной Церкви. В какой форме они совершаются — дело второстепенное. Примирением (с Церковью) таинство возобновляется или довершается в силу примирения; несовершенный еретический обряд получает полноту и совершенство православного таинства.
В сама факте или обряде примирения заключается в сущности повторение предшествовавших таинств. Следовательно, видимое повторение Крещения или Миропомазания, хотя и ненужное, не имеет характера заблуждения, оно свидетельствует о различии в обряде, но не в понятиях».. Здесь мысль двоится. «Повторение» таинства не только излишне, но и непозволительно. Если же «таинства» не было, но был выполнен раньше «несовершенный еретический обряд», то таинство необходимо совершить впервые, и притом с полной откровенностью и очевидностью. Кафолические таинства, во всяком случае, не только обряды, и можно ли с таким дисциплинарным релятивизмом обращаться с «внешней» стороной тайнодействии?..
«Икономическое» толкование канонов могло бы быть убедительным и правдоподобным только при прямых и совершенно ясных доказательствах. Между тем обычно оно подкрепляется именно косвенными данными, и всего больше домыслами и заключениями. «Икономическое» толкование не есть учение Церкви. Это есть только частное «богословское мнение», очень позднее и спорное, возникшее в период богословской растерянности и упадка, в торопливом стремлении как можно резче размежеваться с римским богословием…
Римское богословие допускает и признает, что и в расколах остается значимая иерархия и даже, в известном смысле, сохраняется «апостольское преемство», так что таинства, при известных условиях, могут совершаться и действительно совершаются у схизматиков, и даже у еретиков. Основные предпосылки этого сакраментального богословия были с достаточной определенностью установлены еще блаженным Августином. И православный богослов имеет все основания учесть богословие Августина в своем доктринальном синтезе…
Первое, что у Августина привлекает внимание, — вопрос о значимости таинств Августин органически связывает с общим учением о Церкви. Действительность таинств, совершаемых у схизматиков, означает для Августина непрерванность с Церковью. Он прямо утверждает, что в таинствах раскольников действует Церковь: одних она рождает у себя, других рождает вне, — и именно потому значимо схизматическое крещение, что совершает его Церковь (см.: S. Augustin., De bapt.1, 15, 23). Значимо в расколах то, что в них из Церкви, что и в их руках остается достоянием и святыней Церкви и через что и они еще с Церковью, in qubistam rebus nobiscum sunt… Единство Церкви созидается двоякой связью: единством Духа и союзом мира (ср.: Еф. 4:3).
И вот союз мира разрывается и расторгается в расколе и разделении, но единство Духа в таинствах еще не прекращается. В этом своеобразный парадокс раскольнического бытия: раскол остается соединенным с Церковью в благодати таинств, это обращается в осуждение, раз иссякает любовь и соборная взаимность. И с этим связано второе основное различение блаженного Августина — различение «значимости» (или «действительности», реальности) и «действенности» таинств.
Таинства схизматиков значимы, то есть подлинно суть таинства. Но эти таинства недейственны (non–afficacia) в силу самого раскола или отделения. Ибо в расколе и разделении иссякает любовь, но вне любви спасение невозможно… В спасении две стороны: объективное действие благодати и субъективный подвиг или верность.
В расколах еще дышит Дух Святой и освящающий. Но в упорстве и немощи схизмы исцеление не исполняется. Неверно сказать, что в схизматических священнодействиях ничто вообще не совершается, ибо, если признать в них пустые действия и слова, лишенные благодати, тем самым они не только пусты, но превращаются в некую профанацию и подлог. Если священнодействия схизматиков не суть таинства, они есть кощунственная карикатура. И тогда невозможно ни «икономическое» умолчание, ни «икономическое» покрытие греха.
Сакраментальный обряд не может быть только обрядом, пустым, но невинным. Таинство совершается действительно… Но нельзя сказать и того, чтобы таинства «пользовали» в расколах. Именно потому, что таинства не суть «магические акты»… Ведь и принимать Евхаристию можно также и «в суд и во осуждение». Но это не опровергает реальности или «значимости» самого Евхаристического тайнодействия… И то же может быть сказано даже о крещении: крещальная благодать должна быть обновляема в непрестанном подвиге и служении, иначе она останется именно «бездейственной». С этой точки зрения святой Григорий Нисский с большой энергией обличал привычку откладывать крещение до смертного часа или до преклонных лет, по крайней мере, чтобы не загрязнять крещальных риз. Он переносит ударение: крещение есть не только конец грешного бытия, но всего более начало.
И крещальная благодать есть не только оставление грехов, но и дар или залог подвига. Имя занесено в воинские списки. Но честь воина в его подвигах, не в одном только звании. И что значит крещение без подвигов?.. Не иное что хочет сказать и Августин своим различением «характера» и «благодати». И во всяком случае на всяком окрещенном остается некий «знак», или «печать», даже если он отпадет и отступит, и об этом «знаке», или залоге, каждый будет истязан в Судный день. Окрещеные отличаются от некрещеных даже тогда, когда крещальная благодать и не расцвела в их подвиге и делах, если всю жизнь свою они растлили и растратили втуне. Это есть нестираемый след Божественного прикосновения…
Для всего сакраментального богословия блаженного Августина характерно это ясное различение двух неразделенных факторов сакраментального бытия: благодать Божия и любовь человека. Но совершается таинство благодатию, а не любовию. Однако спасается человек в свободе, а не в насилии, и потому вне соборности и любви благодать как–то не разгорается животворным пламенем… Остается неясным: как же продолжается действие Духа за канонической оградой Церкви? Как значимы таинства вне общения?.. Похищенные таинства, таинства в руках похитителей… Позднейшее римское богословие отвечает на этот вопрос учением о действительности таинств ex opere operato (в противоположении: ex opere operantis). У Августина этого различения нет. Но понимал он значимость таинств вне канонического единства в том же смысле. Ведь и opus operantum означает прежде всего независимость таинства от личного действия священнослужителя–совершает таинства Церковь, и в ней Христос — Первосвященник.
Таинства совершаются по молитве и действием Церкви — ex opere orantis et operatis. Ecclesiae И в таком смысле учение о значимости ex opere operato должно быть принято… Для Августина не так было важно, что у схизматиков таинства «незаконны» и «не дозволены» (licita), — гораздо важнее, что схизма есть расточение любви… Однако любовь Божия перекрывает и превозмогает нелюбовь человеческую. И в самих расколах (и даже у еретиков) Церковь продолжает творить свое спасающее и освящающее действие… Может быть, и не следует говорить, что схизматики еще в Церкви, — это, во всяком случае, не очень точно и звучит двусмысленно. Вернее сказать: в схизмах продолжает действовать Церковь, — в ожидании таинственного часа, когда растопится упорствующее сердце в тепле «предваряющей благодати», — и вспыхнет и разгорится воля или жажда соборности и единства…
«Значимость» таинств у схизматиков есть таинственный залог их возвращения в кафолическую полноту и единство… Сакраментальное богословие блаженного Августина не было воспринято и византийским богословием не потому, что в нем видели или подозревали что–нибудь чуждое или излишнее. Августина вообще не очень знали на Востоке… В новейшее время на православном Востоке и в России нередко учение о таинствах излагали с римского образца — и это не было еще творческим усвоением августиновской концепции…
Современное православное богословие должно осознать и истолковать традиционную каноническую практику Церкви в отношении к еретикам и раскольникам на основе тех общих предпосылок, которые были установлены еще Августином…
Нужно твердо запомнить: утверждая «значимость» таинств и самой иерархии в расколах, блаженный Августин нисколько не смягчал и не стирал грани, разграничивающей раскол и соборность. Это не столько каноническая, сколько духовная грань, — соборная любовь в Церкви или сепаратизм и отчуждение в схизмах. И это для Августина — грань спасения…
Ибо ведь благодать действует, но не спасает вне соборности… (Кстати заметить, и здесь Августин близко следует за Киприаном, утверждавшим, что не в Церкви и самое мученичество за Христа не пользует…) Вот почему при всей «реальности» и «значимости» схизматической иерархии нельзя говорить в строгом смысле о сохранении «апостольского преемства» за пределами канонической соборности. Этот вопрос с исчерпывающей полнотой и с большим проникновением исследован в замечательной статье покойного К. Г. Тернера «Apostolic Succession».
И отсюда с несомненностью следует, что не может быть принята так называемая Church–branch–theory. Эта теория слишком благодушно и благополучно изображает раскол христианского мира. Сторонний наблюдатель, может быть, и не сразу различит «схизматические» ветви от самого «кафолического» ствола. И, однако, в существе своем «схизма» не есть только ветвь. Есть еще и воля к схизме… Есть таинственная и даже загадочная' область за канонической границей Церкви, где еще совершаются таинства, где сердца так часто горят и пламенеют и в вере, и в любви, и в подвиге… Это нужно признать, но нужно помнить и то, что граница реальна, что единения нет…
А.С.Хомяков говорил, кажется, именно об этом. «Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые сами от нее отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня».
И в том же смысле митрополит Филарет Московский решался говорить о Церквах «не чисто истинных». «Знай же — никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложною. Христианская церковь может быть токмо либо чисто истинная, исповедующая истинное и спасительное Божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо не чисто истинная, примешивающая к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие». «Ты ожидаешь теперь, как я буду судить о другой половине нынешнего христианства, — говорит митрополит Филарет в заключительном разговоре. — Но я только просто смотрю на нее. Отчасти усматриваю, как Глава и Господь Церкви врачует многие и глубокие уязвления древнего змия во всех частях и членах сего тела, прилагая то кроткие, то сильные врачевства, и даже огнь и железо, дабы смягчить ожесточение, дабы извлечь яд, дабы очистить раны, дабы отделить дикие наросты, дабы обновить дух и жизнь в полумертвых и онемевших составах. И таким образом я утверждаюсь в веровании тому, что сила Божия наконец очевидно восторжествует над немощами человеческими, благо над злом, единство над разделением, жизнь над смертию»
Это есть только задание или общая характеристика. В ней не все ясно и досказано. Но верно поставлен вопрос. Есть много связей, еще не прерванных, которыми схизмы удерживаются в некоем единстве: И все внимание и вся воля должна быть собрана и обращена к тому, чтобы истощилось упорство раздора. «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (Слова святого Григория Богослова).
О ПОЧИТАНИИ СОФИИ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ, В ВИЗАНТИИ И НА РУСИ
I
Первый храм во имя Премудрости Божией был воздвигнут в Константинополе самим Константином. Но освящен он был только при Константанции, в 360 г. Не видно, кто дал имя храму. Сократ, наш древнейший свидетель, выражается неясно: «теперь называемая София» — etis Sophia men prosagoreuetai nun (Hist. Eccl. II, 16). Во всяком случае во времена Сократа этот храм назывался Софией. И нетрудно сказать, как понимали это имя христиане того времени. Это было имя Христа, сына Божия, под именем предвозвещенного в Ветхом Завете (прежде всего в книге Притч); это библейское имя повторяет и апостол Павел (1 Кор. 1, 24). В IV в. много говорили и спорили о Божественной Премудрости. В особенности в связи с знаменитым стихом Притч. 8, 22 «созда мя в начало путей своих…» Это была основная экзегетическая тема в спорах православных и ариан; и обе спорящие стороны были согласны. что Божественная Премудрость, о которой говорится в библейской книге, есть Сын Божий. Такова была богословская традиция. Еще Ориген резко подчеркивал, что только имя Премудрости есть первичное и собственное имя сына (см. Comm. in Iohann. I, 22)
В известном символе Григория Чудотворца Христос называется словом и премудростью и Силой… вряд ли можно сомневаться, что воздвигнутый в V в. храм премудрости был посвящен Христу, Воплощенному Слову. И напрасно догадываться, не посвящали ли тогда храмов отвлеченным идеям… У Юстиниана не было поводов изменять посвящение, когда вместо сгоревшего старого храма он воздвиг новый. В его время, во время напряженных христологических споров, опять–таки всего уместнее было посвятить «великую церковь» именно Христу, премудрости и Слову. Во всяком случае. впоследствии в Византии всегда и неизменно считали константинопольскую Софию храмом Слова. в этом отношении особенно характерно выражает как раз ходячее, общепринятое сказание о построении Юстинианова храма. оно выражает как раз ходячее, общепринятое понимание. здесь рассказывается о явлении Ангела, «стража храма», который клялся именем Софии, — «и потому получил храм именование Святая София, что значит: Слово Божие». Kai ektote elabe ten prosegorian go naos: «Agia Sophia», o Logos tu Theu germineomenos (Ed. Preger, p. 74)… Не следует спрашивать, в какой день совершался «престольный праздник» в Юстиниановой Софии. и много позже Юстиниана еще не существовало престольных и храмовых праздников в современном смысле. Самое посвящение храмов не было еще строго разграничено, в особенности посвящение господских и Богородичных храмов.
Они посвящались Христу или Богоматери, но при этом еще не выделялся какой–нибудь один определенный праздничный день из общего годичного круга, разве для того оказывались поводы в каких–нибудь исторических воспоминаниях или текущих событиях, например, в знамениях или чудесах. Вообще же годичный праздник каждого храма совершался в день «отверзения врат», в годовщину освещения или «обновления» храма, en tois enkainiois, — такой порядок сохранялся еще во времена Симеона Солунского. В Константинопольской Софии праздник обновления совершался в канун Рождественского сочельника, 23 декабря, — так как храм был освящен впервые 25 декабря (537 г.) и обновлен после восстановления купола 24 декабря (563 г.). Рождественские дни для этих празднеств были выбраны вряд ли случайно. в службе на день обновления по Типику Великой Церкви Х в., изданному А. Дмитриевским, мы не находим никаких особенностей, которые указывали бы именно на Софийский храм, на определенное его посвящение. Служба совершается скорее о покровении царствующего града вообще. С течением времени в Византии как бы забывают об особенном посвящении Великого Храма, который стал национальным святилищем и святыней. Он стал для византийцев Храмом вообще, Храмом по преимуществу, средоточением всех молитвенных памятей и воспоминаний. И вместе с тем стал символом царственного достоинства и власти, — «мать нашего царства», говорил о Софии уже Юстиниан… По примеру царствующего града Софийские храмы воздвигались во многих местах. И замечательно, почти всегда Софийскими оказываются великие, соборные или митрополичьи церкви. Исключение представляет только Софийская церковь в Иерусалиме. Достаточно припомнить: София в Солуни, Никее, в Сердике (или в Софии), в Орхиде, в Трапезунте, в Мистре, в Арте, в Сливене. в Визе… Может быть, и быть и в Корсуни, или Херсонесе. Особо нужно отметить Софийский храм в Беневенте, конца VIII в. В Никосии на Кипре Софийский собор был построен уже при, в конце XII в. Наконец, нужно назвать Софийские храмы в древней Руси: в Киеве, в Новгороде, в Полоцке… В известном смысле имя «Софии» становится как бы нарицательным для обозначения «великих» или главных церквей. Нужно думать, что часто Софийские храмы воздвигались скорее по национальным или политическим, нежели по собственно религиозным мотивам, — в свидетельство национальной или церковной независимости. При этом не изменялось богословское понимание имени: вплоть до XV в. под именем премудрости разумели в Византии Христа, Слово Божие (ср., например, Патр. Филофей. Три речи к епископу Игнатию с объяснением изречения Притчей: Премудрость созда себе дом… Изд. епископа Арсения. Новгород, 1898). С таким же пониманием мы встречаемся и у западных авторов, часто оставляющих без перевода греческое имя: Sophia.
II
В русских Софийских храмах издавна престольный праздник совершается в Богородичные дни: в Киеве в день Рождества Богородицы, в Новгороде в день Успения. Спрашивается, как и когда установился такой обычай. Трудно допустить, что в домонгольском Киеве или Новгороде в день Успения. Спрашивается, как и когда установился такой обычай. трудно допустить, что в домонгольском Киеве или в Новгороде сознательно отступили от византийского примера. Напротив, здесь стремились к сохранению и воспроизведению богослужебных порядков Великой Церкви. И на Руси хорошо знали, что константинопольская София есть храм Слова, — «иже есть премудрость Присносущное слово», замечает Антоний новгородский, бывший в Константинополе в начале XIII в. По древним русским месяцесловам мы знаем, что долгое время в софийских храмах по византийскому правилу праздновалась годовщина освещения: в Новгороде 5 августа, в Киеве 4 ноября (см. месяцеслов при Мстиславом Евангелии). В древнейших русских памятниках мы не раз встречаемся с традиционным объяснением: Премудрость есть Христос… По счастливой случайности мы можем точно определить. когда установилось в Новгороде торжественное празднование Успеньева дня. Еще Г. Д. Филимонов издал по рукописи XVI в. два любопытных сказания: «Сказание известно, что есть Софей Премудрость Божия» и непосредственно связанное с ним другое сказание; «которыя ради вины причтен бысть праздник Успения святыя Богородицы в двунадесят Владычных праздников» (Вестник общества древнерусского искусства при Московском публичном Музее. Т. 1, 1874–1876 гг.). В рукописях нет имени автора. есть предположение, что эти сказания составлены в первой половине XVI в. И автор пишет с большим подъемом и силой. Особенно интересно второе сказание. На тематический вопрос автор отвечает кратко: «се последнее Христа видеша апостоли, не разрещшеся от телес своих». Иначе сказать, праздник Успения есть праздник Богоявления и потому «Владычний» праздник, — автор опирается на известное сказание о явлении Христа при Успении. И затем он продолжает: «Генадий же архиепископ премысли один от двоюнадесят праздников праждноватости, повеле успение Богородицы. прежде же сего вси двенадесят владычных праздников по древнему преданию в храм святыя Софии многочисленным схождением совершашеся светле, и сия убо слышах в Новеграде от мужей состаревшихся, якоже и в киеве от начала и до ныне по уставам древле преданным, совершают. сия довольно есть имеющим ум много указание о сем. Престаните, братие, уже глаголати, — яко неведаем есть толк Софеи Премудрости Божией». Пред нами свидетельство исключительной важности. Мы узнаем, что до Геннадия, ставшего Новгородским архиепископом из Чудовских архимандритов в 1484 г.) в Новгородской Софии «по древнему обычаю» совершалось только общее празднование двенадцати владычних праздников despotiki eorti; иными словами, не было особого престольного дня. И только Геннадий установил особое празднование Успеньева дня. Этот новый порядок породил недоумение и толки: «что есть Софей Премудрость Божия, и в чие имя сия церковь поставлена. и в которых похвалу освятится»… возникла мысль, не освящена ли София «во имя пречистыя Богородицы»… Иные отказывались от объяснения: «яка несть зде имени сему в руси ведомо, ниже мудрости сие мощно толку ведати»… Автор решительно отвечает: «вси благослови умыслиша постаси Сына: Софей, рекше премудрость, Логос, сиречь слово, Силу Божию и сим подобное… Божии же матери имян никакоже приложиша»… и затем напоминает известное сказание о построении юстинианова храма… Мы не узнаем, по каким мотивам генадий установил Успенский праздник. вероятнеее всего видеть здесь отражение новых греческих порядков, в связи с общим переходом на иерусалимский устав. В Евергатидском Типике (XII в.) праздник Успения резко выделен: [eorti gar eorton kai panigiris ton panigirion estai] Генадий вообще заботился об упорядочении богослужения, собирал отовсюду литургический материал… Можно допустить и прямое подражание Москве с её соборной церковью Успения, — Генадий был Московским ставленником… однако всё это еще не объясняет тех выводов, которые делали в Новгороде. ибо празднование Успения в Византии вовсе не было связано с именем Софии. Эту связь устанавливают только в Новгороде. И устанавливают очень прочно. В XVI строятся новые Софийские храмы на севере: в Волгограде (заложен в 1568 г.) и в Тобольске (заложен в 1587 г.). Оба храма оказываются успенскими. Здесь, конечно, сказывается прямое влияние родом, а в Тобольске первые владыки были из новгородцев. Позже и, очевидно, по Тобольскому примеру во имя Св. Софии, Премудрости Божией, была устроена первая русская церковь для русских полонеников в Пекине. освященная в 1695 г.; впрочем. её назвали обычно Никольской. по чтимому в ней образу св. Николая. и вскоре её заменяют успенским храмом 9 в (1732 г.) В Киеве совершенно независимо устанавливается обычай праздновать день Рождества Богородицы. Когда, сказать точно не можем. но вряд ли не только со времен Петра Могилы, когда Киевская София была восстановлена после долгого запустения. Во всяком случае, именно при Могиле праздник Рождества Богородицы был установлен как престольный праздник в десятинной Церкви.
III
В византийской иконографии можно различить два независимых друг от друга сюжета. Во–первых, — Христос, Премудрость и Слово, под видом «Ангела великого совета» («по Исаину пророчеству», Ис. 9, 6). И во–вторых, олицетворение премудрости. Божественной или человеческой, по типу античных олицетворений. в женском образе… к первой теме относится прежде всего известная фреска в александрийских катакомбах в Кармузе (прибл. V–VII вв.). Здесь был изображен в натуральный рост крылатый ангел с нимбом. Надпись: SOPHIA IS HS. Это есть изображение Христа в ветхозаветном подобии. Ветхозаветным праведникам и патриархам Бог являлся часто в образе ангела (например Аврааму, у дуба Мамврийского). И по древнехристианскому толкованию, являлся именно Бог–Слово, Сын Божий. Поэтому древние писатели и отцы Церкви обычно называют Христа между прочим и Ангелом или Архангелом, и даже Архистратигом, как вестника воли Божией. Уже автор книги «Пастырь» созерцает Сына Божия как «славного Ангела», go angelos endoxos(конец II в.); любопытно, что он почти что отожествляет Сына Божия с Архангелом Михаилом. Имя Ангела ко Христу прилагают и отцы IV в.; и даже позже автор Ареопагитик, на которого так часто ссылаются поздние византийские иконописцы, подчеркивает, что Христос как Бог откровения именуется Ангелом великого совета (de coel. hier., cap. IV eis ekfantorikin elilethos taxin Angelos megalis Bulis anigoreutai). Таким образом, изображение Сына Божия в ангельском облике вполне объясняется из древнехристианских представлений. Однако в иконографии эта тема не могла получить широкого развития. ветхозаветные и символические образы не соответствовали основной тенденции византийской иконописи, как она развивалась со времен иконоборческой смуты. Слагается и утверждается исторический (или. лучше сказать. историко–иерархический) тип Христа. В византийской иконографии преобладает преображенный евангельский реализм.
В этом отношении очень характерно известное правило Трулльского собора, предлагавшее изображать Христа «в его Человеческом облике» (kata ton antropinan haraktira), — «в напоминании о его жизни во плоти», pros mnemin tis en en sarki politias. И «евангельскую истину» собор противопоставлял уже упраздненным ветхозаветным «символам» и «типам» (Трулл. 82). Это правило очень понятно после пережитой христологической борьбы, когда приходилось защищать и объяснять полноту и единосущие человеческой природы во Христе. Вместе с тем изображение Христа в ангельском образе могло возбуждать двусмысленные догадки: не был ли Христос ангелом (не только по служению, но и по природе). Подобные мысли были у некоторых гностиков; впоследствии Зигавин обличает богомилов, что они отожествляют Сына Божия с Арх. Михаилом, именно как ангела великого совета (Panopl., tit XXVII, cap. 8). Конечно, у богомилов это был архаический мотив. Во всяком случае, вполне понятно, почему в ранних византийских памятниках изображения Ангела великого совета очень редки. такие изображения существовали, но они вызвали соблазн, их считали противными преданию Церкви (ср. Преп. Феодор Студит. Письма, I, 15). Поэтому вряд ли можно видеть Ангела великого совета в известной фреске Константинопольской Софии. Скорее всего, здесь был изображен тот Архангел, «страж храма», о явлении которого рассказывается в известном сказании. Ниоткуда не видно, что «стражем храма» назывался у византийцев тот, кому храм был посвящаем; во всяком случае, это вряд ли возможно по отношению к Господским храмам… в миниатюрах мы встречаем иногда изображение Премудрости в ангельском образе, но тоже не часто (см. любопытную миниатюру в Лествице, рукоп. Синайского мон., №418, XII в., из более поздних памятников ср. Лицевую славянскую Псалтырь 1397 г., в собрании общества Сиенского Евангелиария; ср. интересную миниатюру Барбериновой Псалтыри, № 202, XII в.: (basilia ton hristianon)… Образ Ангела великого совета оживает в иконографии только в поздне–византийскую эпоху, во времена Палеологов, когда вообще в иконописи усиливается символическая струя. к этому времени относится интересная фреска в церкви Св. Стефана в руке чаша, вероятно, евхаристическая (может быть. в связи с Притч. 9, 2, обычно относим к Евхаристии; ср. канон Косьмы маюмского в Великий Четверок). надпись HAG SOPHIA O LOGOS. Это изображение входит в сложную комбинацию. в которой явно сказываются западные влияния: изображение так называемого «Апостольского символа», не принятого на Востоке, на свитках апостолов… Роспись поздняя, конца XIV в. … Эта фреска есть, по–видимому, единственный бесспорный случай изображения премудрости–Ангела в это время. Правда, изображения Ангела великого совета вообще становятся частыми и обычными, — см., например, в Афонских росписях. И впоследствии Дионисий Фунрнаграфиот указывает писать их а аспиде бокового придела или в боковом куполе. однако не следует в каждом изображении Ангела великого совета видеть образ премудрости. Вряд ли правильно думать, что Христос под видом Ангела изображается как Премудрость. Имя Премудрости называется и пишется скорее просто как одно из имен Второй Ипостаси, и потому всегда вместе с именем Слова… От этой библейской темы нужно отличать другую, античную тему, — олицетворение мудрости. Прежде всего, нужно отметить изображение росписи терм в Газе, VI в., известное нам только по современному описанию Иоанна Газскаго. Атлант несет пламенеющий шар, восходящее солнце. Его поддерживаютдве девы: Sophia и Arete. София в серебристом одеянии, как богиня луны(Selene)… Со сходным изображением мудрости мы встречаемся впоследствиив миниатюрах к Псалтири: Давид среди двух дев, Sophia и Prophetia. (cм.в Парижской псалтири, X в., №139, и в других; изображение восходит, повидимому к более раннему образцу)… К античному мотиву впоследствии присоединяется библейский. В этом отношении очень любопытное видение Константина Философа. Он видел во сне много дев и среди них приметил и избрал одну, «прекраснейшую всех, с лицем светящимся, украшенную многими золотыми монистами, и жемчугом, и украшениями»… «Имя ей было: София», то есть мудрость… Ср. Прем. 8, 2 «я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее»… К подобному, но несколько отличному типу олицетворений относится спорная женская фигура в изображениях евангелистов. впервые такое изображение мы встречаем в россанском пурпурном списке Евангелия. при евангелисте Марке: женская фигура с нимбом стоит перед евангелистом и указывает на его свиток. Всего вернее видеть в ней олицетворение вдохновения или мудрости, по аналогии с подобными изображениями в рукописях античных авторов. Ср., например. известную миниатюру в венской рукописи Диоскорида. где предстоящая автору женская фигура надписана: euresis [открытие] — любопытно. что позднейший средневековый реставратор сделал на поле пояснительную отметку: [sophia]… Христианские миниатюристы понимали «вдохновение» как дар «духа премудрости и разума» (Ис. 11, 2). В позднейших славянских (сербских) Евангелиях XIV–XV вв. женская фигура изображается уже при всех евангелистах. В Афонохландарском Евангелии № 572 есть и надпись: Премудрость… В то же время подобные изображения встречаем и в росписи (Раваницкая церковь в Сербии, 1381 г.; Успенская на Волотовом поле в Новгороде)… наконец, нужно отметить знаменитую мозаику в росписи собора в монтреале. Здесь премудрость изображена, как оранта, в царской столе и в венце поверх покрывала, с распростертыми руками. Надпись: Sapientia Dei… Это изображение входит в цикл дней творения; очевидно в связи с Притч. 8, 30 «тогда я была при нем художнецею» (ср. Прем. 7, 21 «Премудрость, художница всего…»)… Аналогичные изображения мы встречаем и в западных памятниках. особо нужно отметить изображение мудрости и семи искусств (например в известной лионской рукописи Пруденция: «Sancta Sophia и septem artes»)… Вряд ли можно разгадать за этими олицетворениями определенную религиозную идею.
IV
Известная Новгородская икона Св. Софии есть своеобразный Деисис: огнезрачный Ангел на престоле с предстоящими, Богоматерью и Предтечей. Над главою Ангела в медальоне погрудное изображение Спасителя. Вверху этимасия. Ангел облечен в царские одежды, на главе, в руках жезл и свиток. Престол укреплен на семи столпах… В огнезрачном ангеле нужно видеть Ангела великого совета, Сына Божия, — здесь оживает древний иконографический сюжет. Но он осложняется новыми, апокалиптическими чертами. тайно–зритель видел Сына Божия, «облаченного в подир и по персям опоясонного золотым поясом» (Откр. 1, 13); «очи Его, как пламень огненный, и на голове Его много диадим» (19, 12); «и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (1, 16). Ср. также видение Даниила (гл. 10)… Такому толкованию не мешает наличие второго изображения Христа. Подобная диттография нередка в символических композициях. В данном случае удвоение образа могло означать двойство природ во Христе (так объясняли его впоследствии братья Лихуды). Иногда предстоящие изображаются тоже скрылами: Предтеча, очевидно, в связи с пророчеством Малахии (см. 3, 1),отнесенным в Евангелиях к Крестителю:" Се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим» (Мф. 11,10; Мк. 1, 2; Лк. 7, 27); Богоматерь как апокалиптическая жена, по Откр. 12, 14 «и даны были жене два крыла большого орла»… Вообще нужно заметить, что Деисис есть эсхатологическая композиция, — «художественная синекдоха Страшного Суда», по удачному замечанию Висковатого приводили свидетельство неких святогорских старцев об иконе Софии в Пантелеимоновском монастыре на Афоне; но мы совершенно не знаем, что это была за икона. Вряд ли Новгородской деисис. Скорее отдельный образ Ангела. Первое упоминание о новгородской иконе мы встречаем в IV Новгородской летописи под 1510 (7018) г.: вел. князь Василий III, проезжая чрез Новгород, «велел свещу негасимую пред Софиею Премудростию Божией день и нощщь, по старине, как была прежде» (ПСРЛ, VI, 286). Вероятно это относится к иконе Св. Софии в иконостасе Новгородского собора, почитаемой за чудотворную. Но иконостас («деисус») поставлен был только в 1509 г. (ПСРЛ, IV, 136). Перед какой иконой теплилась негасимая свеча прежде, не знаем. Иконостасная икона носит следы позднейшего поновления. Роспись алтаря, в которой на горнем месте изображена София, относится тоже только к XVI в. Кстати заметить. роспись конхи явно апокалиптического содержания, на текст Откр. 11, 15, который и выписан на уступе свода: «Бысть царство мира Господа нашего и Христа Его, и воцарится во веки веков»… На наружной стене, над западными вратами образ Софии написан только в 1528 г., при арх. Макарии;" а прежде сего было же написано на том же месте, но токмо един образ Вседержителя до пояса» (ПСРЛ, VI, 286)… В Новгородских росписях XIV–XV вв. образа Софии не встречаем, затоон обычен, начиная с XVI в. В Москве он становится известен только со времени обновления Кремлевских соборов после пожаров 50–х гг., при Грозном, когда здесь работалиновгородские и псковские иконники. большинство известных списков новгородскойиконы относится даже к XVII в. И не старше самого конца XVI в. русскийиконописный подлинник, в котором Новгородская композиция описывается подробно…Пред нами, несомненно, сравнительно новая композиция. Очень любопытно,что в русских памятниках. начиная с XVI в., вообще становится частым изображение Господа Вседержителя с крыльями (прежде всего в изображениях творения мира — в миниатюрах и в росписях); против этого резко возражал диак Висковатый. Особо нужно назвать очень запутанную композицию: «Ты еси иерей во век»… Против этой иконы возражали Максим Грек, Зиновий Отенский. Дьяк Висковатый видел в ней» латинское мудрование». Во всяком случае, это западная композиция. В ней два бесспорных западных мотива, неизвестных в византийской иконографии. Во–первых, Распятие в дланях Отчих (собственно образ Троицы, так называемый Gnadenstuhl), — типично западная композиция, в особенности частая в XV в. в Германии (ср. у Христос на кресте в образе белого серафима («душа Иисусова», по объяснению псковских иконников); невольно вспоминается видение Франциска Ассизского на горе стигматов. Christus subspecie seraph, — постоянная тема западных мастеров, начиная от Джотто, и тоже частая в гравюрах XV в. (см. и Дюрера)… Здесь был новый поводизображать Христа под ангельским образом… Новгородская икона св. Софиипринадлежит к числу тех новых символических композиций, которые становятсяобычными в русской иконописи с середины XVI в. В известном смысле это преобладание символизма означало распад иконного письма. икона становится слишком литературной, начинает изображать не только лики, сколько идеи. Икона становится слишком часто своеобразной иллюстрацией к литературным текстам, иногда библейским, иногда житийным и апокрифическим. В этом новом литературном символизме очень сильны западные мотивы; прямое влияние западных (немецких и фламандских) гравюр не подлежит спору — в XVII в. целые церкви расписывают по известной Библии Пискатора. Среди библейских тем очень часты темы из книги Притч, из Премудрости Соломоновой… Этот перелом в иконописании верно почувствовал диак Висковатый:" и аз увидел, что иконы по человеческому образу Христа Бога нашего сняли, а которых письма есми не видал, те поставили, велми ужасся есми и убоялся льсти и всякого злокознства»… Возражения пишут в Ангельском образе «по Исаиину пророчеству» и два крыла багряны описуются по великому Дионисию. Ибо пророчества исполнилисьв Евангелии. и нужно писать Христа по евангельской истине. а не по пророческимпредварениям," да не умалится слава плотскогообразования Господа нашего Иисуса Христа». Возражения Висковатого открывают нам религиозныйсмысл русских споров о новых иконах. Здесь сталкивалось два религиозныхмировоззрения: традиционный христологический реализм и возбужденное религиозноевоображение. Именно против игры воображения и направлялись требования писать» с мастерских образцов», — это требование имело не только технический, но и религиозный смысл. Максима Грека «а кто де и захочет, емлючи строки от писания, да писати образцы, и он бесчисленныи образы может составити»… Из комбинации текстов и возникали по большей части русские символические иконы XVI в. Сюда же относятся и иконы Премудрости… Очень характерно, что, хотя Новгородская икона Св. Софии становится одной из самых распространенных в XVII в., споры о ней не прекращаются. Против нее резко возражает уже в конце XVII в. известный справщик, чудовский инок Ефимий, — и по тем же основаниям, что были у Висковатого. Он требует историзма, возражает против «вымышленных подобий»… «Но приличнее мнтся писати Святую Софию, рекше Мудрость, Воплощенного Христа Бога, якоже и пишется муж совершен, яков бе» — «и святых угодников Его… якоже кийждо хождаше на земли» (вопросы и ответы инока Евфимия. Изд. Филимоновым в «Вестнике общества древнерусского искусства» т. 1) Особая служба на Успеньев день с каноном св. Софии является только в начале XVII века; составил ее князь Семен Шаховской.
V
В иконописных подлинниках есть особая статья о Новгородской иконе. Это «сказание о образе Софии, Премудрости Божией» встречается и отдельно. в различных сборниках смешанного содержания XVI–XVII вв., в частности в Толковых Апокалипсисах, что очень характерно. Любопытно. что оно вставлено (с явным нарушением связи речи) в пространную редакцию послания патр. Луки Хризоверга к Андрею Боголюбскому (по никоновской летописи). Вообще это «сказание» встречается в рукописях очень часто. К сожалению, отдельные списки не были до сих пор сопоставлены, и литературная история «сказания» остается неясной. По–видимому. оно было составлено в объяснение вновь написанной иконы — всего скорее в Новгороде. Это есть именно «толкование» иконы… Икона Софии объясняется, как образ девства. «Образ премудрости Божии, Софии, проявляет собою пресвятыя Богородицы неизглаголанного девства чистоту; имать же девство лице девиче огненно»… «Сказание» видит в Ангеле символ девства. — «яко житие девственное со ангелы равно есть»… «Лице огненное являет, яко девство сподобляется Богу вместилище быти; огнь бо есть Бог»… предстоящие являют примеры девства, и прежде всего Богоматерь. Якоже бо та породи Сына Слова Божия, тако и держащии девство рождают словеса детельна, сиречь и иных учаще к добродетели»… Еще Буслаев удачно назвал это сказание» поэмой о девственном житии»… Возникает вопрос об источниках этого сказания. С большим основанием можно предполагать здесь западное влияние. апофеозу девства можно связывать с тем своеобразным аскетико–эротическим движением. которое с особой силой вспыхивает в немецкой мистике XVI в. Во всяком случае, очень показательно. что это движение было связано с символом или образом Премудрости. Здесь прежде всего нужно назвать Сузо, одного из самых замечательных мистиков позднегосредневековья, имевшего исключительно сильное влияние в свое время. Сузо основал» братство Премудрости» и составил для него особое молитвенное правило; он составил затем особую службу премудрости. Премудрость для Сузо он получает особую остроту. Сузо называют» последним минзингером». И, действительно. в его мистике повторяется вся эротика миннезанга. нежно говорит премудрость к человеческому сердцу. чтобы привлечь его к себе в женском образе, und redet zartlich im frowlichen bilde… Для Сузо символы становятся видениями. свое первое видение Сузо так описывал в своем житии: «Она парила в высоте над ним, восседаяна троне в облаках. Она сила, как утренняя звезда. Она была подобна солнцуво всем его блеске. она имела вечность своим венцом… и то казалось ему,что видит он пред собою Прекрасную деву, то это был благородный юноша…So er iez wande haben ein schon jungfrowen, geschwind van er einen stolzenjungherren… То говорила она с ним, как мудрая наставница, то как возлюбленная»…Сузо зарисовывал свои видения. еще в молодости он сделал на пергаменте изображениепремудрости» в нежной красоте и возлюбленном образе» (in minnenklicher Schonheit und lieplicher Gestalt), и никогда не расставался с этим образом. Впоследствии он украшает миниатюрами рукопись своей автобиографии. Эти миниатюры повторяются в списках его жития и переходят в первые печатные издания его творений (см. Аугсбургские издания 1432. Аnt. Sorg. и 1512 Hans Othmar); они известны и в отдельных гравюрах. он изображает премудрость в царских одеждах и в венце. в реках держава, на груди сияют звезды… Иногда в виде ангела… образ Премудрости у Иисусова. Он вырезает у себя на груди это священное имя: IHS, и с радостью носит эти язвы любви. Кстати заметить, и Сузо видел Христа в образе распятого серафима. Он видел свою душу в объятияхХриста. Он прочел на главе Богомладенца сладостное имя: Herzetrut, «друг сердца»… И вместе с тем он весь охвачен восторгом пред «нежной Царицей небес». Особенно торжественно он празднует день Успения. — «тогда бывает особая радость при небесном дворе»… Образ премудрости становится для Сузо символом чистоты и девства, символом бесплотного и девственного брака, символом» любящей души» («minnende Seele»)… Книги Вениамин («родом славянин. а верою латинянин») в роли главного справщика библейских книг. Библейский текст в Новгороде в это время правят по Вульгате. В тоже время и несколько позже здесь появляется ряд переводов с латинского 9 и с немецкого), — и сделаны они были «в дому архиепископли» и по владычному повелению. Переводил и толковую Псалтырь Брунона Вюрцбургского, и Rationale divinorum officiorum Вильгельма Дурантия, и полемические «против богоотметных жидов» сочинения Николая Де–Лира иСамуила Евреянина. Во всяком случае, западная книга не была здесь ни редкой. ни непривычной… Поэтому вряд ли насильственным является сближение новгородского «сказания» о Софии с западной мистикой. новое толкование ложится поверх старого. Традиционный образ Ангела великого совета открывается в новом свете. Возникает спор, «что есть Софей, Премудрость Божия»… В Новгороде, в конце XV в., после московского разорения, настроение было очень повышенным и беспокойным. К тому же кончалась «седьмая тысяча» лет, и ждали Второго Пришествия. Это было время очень благоприятное для апокалиптических видений. не случайно с этих пор Апокалипсис становится почти настольной книгой в русском обиходе.
Религиозная мысль выходит из четких граней византийского догматизма в область восторженных и возбужденных прозрений и созерцаний… И нужно прибавить, тема о девстве была тоже апокалиптического происхождения; ср. видения 14 главы Откровения (14, 4): «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей. как первенцы Богу и Агнцу»… С этим апокалиптическим мотивом вполне совпала западная мистика «любящей души»…
VI
Киевская икона Св. Софии имеет явные западные черты. Она не старше самого конца XVII в. Во всяком случае, Павел Алеппский,проезжавший через киев в 1654 г., еще не видал теперешней иконы. В иконостасебыла другая икона Премудрости:" в середине иконы церковь с колонами <…> над церковью Христос, и Его Дух Святый нисходит на нее в сиянии…» Нынешняя икона написана и поставлена, очевидно, только при последнем восстановлении Киевской Софии. при митрополитах Гедеоне Варлааме Ясинском, в конце 80–х и даже 90–х гг. К тому же времени относится относится и Тобольская икона св. Софии. Это — иконы Богоматери. Богоматерь изображена здесь под видом Апокалиптической Жены, с крыльями орла великого. она стоит на облаках, на серповидной луне. В руках крест и жезл. В Тобольской же иконе еще и венчик из 12 звезд. Два ангела держат над главою венец (ср. Откр. 12, 1)… Это характерный западный сюжет, совершенно чуждый восточной иконографии. на Западе он становится известен с конца XIV в. И очень рано получает определенный смысл. становится символическим образом непорочного Зачатия, Immaculata Conceptio. Это богословское мнение. возведенное в римской церкви на степень догмата только в XIX в., уже с XIV в. настойчиво проповедуется францисканскими богословами. одобряется на базельском соборе и впоследствии с особенной ревностью распространяется иезуитами. Литература XVI и XVII вв., посвященная этой теме, с трудом обозрима. Однако она довольно однообразна. и постоянно мы встречает в этих марианских книгах образ Апокалиптической Жены, обычно в очень запутанных символических композициях. Этот образ становится символом предвечного девства. И когда после тридентского собора возник вопрос, можно ли «писать таинство непорочного зачатия» и как должно его изображать, обыкновенно отвечали указанием на образ Жены. облеченной солнцем, венчаемой и почитаемой ангелами (ср. напр. Molani J. De historia imaginum et picturarum. Ed. princ. Lovanii, 1570; Card. F. K. Borromacus. de pictura sacra. Ed. princ., 1634). Как на образец обычно указывали на заглавную гравюру в книге Сlihtovii J. De puritate Sanctae Virginis. Editio princeps, 1513. Уже в XV в. подобное изображение обычно в рукописях и затем переходит в гравюру. Очень любопытно, что нередко в этих изображениях делается ссылка на Притч. 8, 22, — стих о Премудрости (уже в 1492 г. у К. Гривелли, в лондонской National Gallery, 906 (The Virgin in Ecstasy), — «ut in mente Dei ab initio concepta fui, ita et facta sum»; ср. гравюру в Heures a l'usage du diocese d'Angers, par Simin Vostre, 1510, надпись «Nec dum erant abyssi, et ego concepta eram»…) Это было связано, конечно, с тем, что очень рано (может быть уже с XII) на службе в день Зачатия Богородицы, 8 декабря, полагалось «чтение» именно из книги Притч. 8, 22–30… Это предрасполагало видеть в Премудрости именно Богоматерь, — «окончательную цель вечного совета», termino fisso d'eterno consiglio, как выразился Данте (Paradiso, 33, 3).Еще Лютер возмущался, как насилуют библейский текст, когда тексты о Премудрости относят к Богоматери. Богословы в таком толковании видели обычно только «применение» библейских текстов (adaptatio или accomodatio). но мистики и проповедники были смелее. В XVI и XVII вв. такое объяснение становится почти что всеобщим. Достаточно назвать П. Канизия и Корнелия а Лапиде, который в своих толкованиях на Священное Писание подводит итоги всей предшествующей экзегетики… Из этих ходячих католических представлений вполне понятно, как символическая икона Непорочного Зачатия могла оказаться иконою Софии… Хорошо известно, насколько общепринятым было католическое мнение о Непорочном Зачатии девы Марии у киевских богословов XVII в. Его защищает и развивает Антоний Радивиловский в своем» Огородике Богоматери» (ср. Hortulus reginae Имеффрета), Ианникий Галятовский в «Небе Новом», — на заглавном месте первого, Черниговского издания этой книги (1677 г.) изображена Богоматерь, окруженная ангелами, на звездном небе… нужно назвать не токмо без греха действительно смертельного или простительного, но и без первородного есть»… Все это заставляет думать, что киевская икона св. Софии есть ничто иное, как изображение Непорочного Зачатия. Любопытно, что Сковорода в одном из своих стихотворений икону,подобную Киевской (в» богословской школе» в Харькове), прямо называет «образом зачатия Пречистыя Богородицы» и заключает: «Победи сия! Христос в тебе вселится. Будь, как дева чист: мудрость в сластях не месится», — vivere in impuro corde Sophia nequit…
Впервые в сборнике: Труды V съезда русских академических организаций за границей. Ч. 1. София, сс. 485–500. Перепечатано в Альфа и Омега. № 4 (1995), сс. 145–161.
ПРИСНОДЕВА БОГОРОДИЦА
Всё догматическое учение о Владычице нашей выражено в двух Ее именах: Богородица и Приснодева. Оба имени получили кафолическое признание, оба приняты Вселенской Церковью. О девственном Рождении Спасителя прямо говорит Новый Завет; этот догмат — неотъемлемая часть церковного Предания. «Воплотившийся от Духа Свята и Марии Девы» (или «рожденный от Марии Девы»), — говорится в Символе веры. И это не просто утверждение исторического факта. Это вероучительное утверждение, исповедание веры. Имя «Приснодева» формально принято на Пятом Вселенском Соборе (553 г.). А «Богородица» — нечто большее, чем имя или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове. Даже до Эфесского собора (431 г.) имя Богородицы было критерием истинной веры, отличительным знаком Православия. Уже свт. Григорий Богослов предупреждает Клидония: «Кто не исповедует Марию Богородицей, тот чужд Богу» (Epist. 101). Это имя широко употребляют Отцы четвертого и, может быть, даже третьего века, например, Ориген — если верить Сократу Схоластику (Hist. Eccl. VII, 32) и отрывкам, сохранившимся в катенах (In Luc. hom. 6 и 7). Несторий и его сторонники отвергали и порочили уже утвердившуюся традицию. Слово «Богородица» не встречается в Писании — так же, как не встречается там слово «Единосущный». Однако ни в Никее, ни в Эфесе Церковь не вводила какого–то невиданного новшества. «Новые», «небиблейские» слова были избраны именно ради выражения и сохранения древней веры Церкви. Верно, что Третий Вселенский Собор, занятый прежде всего христологией, не выработал специального мариологического учения. И поэтому тем более замечательно, что отличительной чертой, своеобразным паролем православной христологии стало именно мариологическое понятие. «Богородица» — ключевое слово христологии. «В этом имени, — говорит преп. Иоанн Дамаскин, — заключена вся тайна Воплощения» (De fide orth. III, 12; PG 94, 1029). По удачной формулировке Петавия: «Quem in Trinitatis explicando dogmate ?moous…ou vox, eumdem hoc in nostro Incarnationis usum ac principatum obtinet TheotOkou nomen» [Сколь употребительно и значимо при изъяснении догмата Троицы слово «Единосущный», столь при нашем изъяснении Воплощения — слово «Богородица»] (De incarnatione V, 15). В чем причина такого пристального внимания вполне понятно. Христологическое учение, из которого изъята догма о Матери Христа, не поддается точному и правильному изложению. Все мариологические ошибки и споры нынешних времен коренятся в потере христологической ориентации, открывая острый «христологический конфликт». В «усеченной христологии» нет места Матери Божией. Протестантским богословам нечего сказать о Ней. Однако не замечать Матери — значит не понимать Сына. И обратно, приблизиться к пониманию личности Преблагословенной Девы, начать правильно говорить о Ней можно лишь в христологическом контексте. Мариология — не самостоятельное учение, а лишь глава в трактате о Воплощении. Но, конечно, не случайная глава, не приложение, без которого можно обойтись. Она входит в самую сущность учения. Тайна Воплощения немыслима без Матери Воплощенного. Однако эта христологическая перспектива порой затемняется неумеренным преклонением, духовно нетрезвыми восторгами. Благочестие всегда должно следовать за догматом. Есть мариологический раздел и в учении о Церкви. Но ведь сам догмат о Церкви является «распространенной христологией», учением о «totus Christus, caput et corpus» [всём Христе — Главе и Теле].
Имя «Богородица» подчеркивает, что Рожденный от Марии — не «простой человек», не человеческая личность, а Единородный Сын Божий, Один из Святой Троицы. Это — краеугольный камень христианской веры. Вспомним халкидонскую формулу: «Затем, следуя святым Отцам, мы исповедуем Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа… прежде всех век рожденным от Отца по Божеству, а в последние дни Его же Самого нас ради и нашего спасения рожденного по человечеству от Марии Девы Богородицы». Итак, ударение ставится на полном тождестве личности: «Того же», «Его же Самого», «unus idemque» [Одного и Того же] у свт. Льва Великого. Здесь мы видим и двоякое происхождение Слова (но не двух сыновей: это — несторианское искажение). Сын только Один: Рожденный от Девы Марии есть в самом полном и точном смысле слова Сын Божий. По словам преп. Иоанна Дамаскина, Святая Дева носила «не простого человека, но Бога истинного», однако Бога «не обнаженного, но воплощенного» . Тот же, Кто рожден в вечности от Отца, «в последние дни сии» рождается «без изменения» от Девы (De fide orth. III, 12; PG 94, 1028). Но здесь мы не найдем смешения двух природ. «Второе рождение» и есть Воплощение. Не новая личность появилась на свет от Девы Марии, но Предвечный Сын Божий стал человеком. В этом и заключается тайна Богоматеринства Девы Марии. Материнство, несомненно, личное отношение, отношение между двумя личностями. А Сын Марии — воистину Божественная Личность. Имя Богородицы неизбежно следует из имени Богочеловека. Одно невозможно без другого. Учение об ипостасном единстве включает в себя и концепцию Богоматеринства. К величайшему сожалению, в наше время тайна Воплощения слишком часто толкуется отвлеченно, словно абстрактная метафизическая проблема или диалектическая головоломка. Богослов, говорящий о Воплощении, с необычной легкостью соскальзывает в лабиринты рассуждений о конечном и бесконечном, о вечном и временном, обозначая этими понятиями лишь логические или метафизические отношения — и, увлекшись диалектикой, забывает о главном. Он забывает, что прежде всего Воплощение — деяние Живого Бога, Его личностное вторжение в тварное бытие, «нисхождение» Божественной Личности, личного Бога. Во многих нынешних попытках изложить веру Предания современным языком чувствуется тонкий, но явственный душок докетизма. Современные богословы так энергично подчеркивают Божественность Воплощенного, что Его земная жизнь уходит куда–то в тень, превращаясь в «Инкогнито Сына Божия». Очевидно, что для этих авторов не существует абсолютного тождества Сына Божия и исторического Христа. Всё Воплощение сводится к символам: Господь Воплотившийся рассматривается как инкарнация какого–либо Божественного принципа или идеи (будь то Гнев Божий или Любовь, Кара или Милость, Суд или Прощение), но не как Живая Личность. Личностный аспект ускользает или намеренно игнорируется, ведь идея — даже идея Любви и Милосердия — не может воспринять человека в сыновство Богу: это возможно только Воплощенному Господу. Что–то реальное и очень важное произошло с человеком и для человека, когда Слово Божие «стало плотию и обитало с нами», или точнее даже «вселися в ны» по живописному выражению апостола Иоанна (Ин. 1, 14).
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены» (Гал. 4, 4). Так подтверждает Писание ту истину, за которую боролись Отцы Церкви в Халкидоне. Но каково точное значение и смысл этих слов: «Родился от жены»? Материнство — даже чисто человеческое — не исчерпывается одним фактом физического рождения. Лишь пребывающий в абсолютной слепоте может не замечать его духовного значения. Само рождение устанавливает между матерью и ребенком особую духовную связь. Связь эта уникальна и неповторима: основа ее — привязанность и любовь. Можем ли мы, говоря, что Господь наш «рожден от Девы Марии», забыть об этой любви? В данном вопросе, как и в христологии вообще, непозволителен никакой докетический уклон. Разумеется, Иисус был (и остается) Вечным Богом; однако Он воплотился, и Мария — Его мать в полном смысле слова. Иначе Воплощение было бы ложью. Но это означает, что одно человеческое существо связано с Господом особыми и очень тесными отношениями: говоря прямо, для этого человека Иисус — не только Господь и Спаситель, но и Сын. С другой стороны, Мария была истинной Матерью своего Ребенка, и то, что Она — Мать человека, не менее важно чем то, что Она — Мать Бога. Ребенок Марии был Богом. Однако исключительность ситуации не умалила духовную сторону Ее материнства, так же как Божество Иисуса не мешало Ему быть истинным человеком и испытывать сыновние чувства в ответ на Ее материнскую любовь. И это не бессмысленные рассуждения. Недопустимо вторгаться в священную тайну уникальных, неизреченных отношений Матери и Ее Божественного Сына. Но еще менее допустимо обходить эту тайну совершенным молчанием. Так или иначе, жалким убожеством было бы видеть в Матери Господа лишь физический инструмент для облечения Его плотью. Такой взгляд не только узок и кощунствен — он с самых древних времен формально отвергнут Церковью. Богоматерь — не «канал», по которому появился на свет Господь, но истинная Мать, от Которой Он берет Свою человеческую природу. Преп. Иоанн Дамаскин так и формулирует учение Церкви: Иисус не прошел «как бы через канал», но воспринял от Нее, единосущную с нами плоть (De fide orth. III, 12; PG 94, 1028).
Мария «обрела благодать у Бога» (Лк. 1, 30). Она была избрана послужить тайне Воплощения. Этим предвечным выбором и предназначением Она была в какой–то мере отделена от человечества, выделена из творения. Можно сказать, что Она поставлена превыше всей твари. Она является представительницей рода человеческого, но в то же время превосходит его. В этом Божественном избрании заключено противоречие. Мария выделена из человечества. Еще до Воплощения, как будущая Мать Воплотившегося Господа, Она находится в особых и неповторимых отношениях с Богом, со Святой Троицей, ибо то, что происходит с Ней — не просто историческое событие, но исполнение предвечного решения Божия. В Божественной икономии Спасения у Нее Свое особое место. Через Воплощение человек вновь обретает единство с Богом, разорванное и уничтоженное грехопадением. Освященное человечество Иисуса стало мостом через пучину греха. А человечество дала Ему Дева Мария. Само Воплощение открыло для человечества новый путь, дало начало новому человеку. В Воплощении рожден «Последний Адам» — Человек воистину, но больше, чем просто человек: «Второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15, 47). И Мария, как Мать этого «Второго Человека», непосредственно участвует в таинстве искупительного ново–творения мира. Разумеется, Она входит в число искупленных, Она в первую очередь обретает Спасение. Ее Сын — Ее Искупитель и Спаситель, как и Искупитель всего мира. Однако лишь для Девы Марии Искупитель мира — Ее Сын, Ребенок, которого Она выносила и родила. Иисус рожден «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога» (Ин. 1, 13 — этот стих относится и к Воплощению, и к перерождению человека в крещении) — и тем не менее Он в самом прямом смысле «плод чрева» Марии. Его сверхприродное рождение — образ и источник нового бытия, нового, духовного рождения всех верующих, которое есть не что иное, как усыновление Богу — причастие освященному человечеству, «Второму Человеку», «Последнему Адаму». Мать «Второго Человека», несомненно, входит в новую жизнь Своим, особым путем. И не будет слишком смелым сказать, что для Нее Искупление было некоторым образом предвосхищено в самом Воплощении. «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 35). Это истинное «богоявление» в полноте Духа и благодати. «Осенение» — теофаническое выражение и теофанический символ. И Мария поистине благодатна, полна благодати — gratia plena. Благовещение для Нее — предвосхищение Пятидесятницы. Непостижимая логика Божественного избрания подталкивает нас к этому смелому сопоставлению. Не можем же мы рассматривать Воплощение лишь как некий метафизический трюк, не оказавший никакого влияния на судьбу людей, так или иначе в нем участвовавших. Бог никогда не использует человека, как мастер свое орудие. Каждый человек — живая личность. Святая Дева не превратилась в «инструмент», когда была «осенена силой Всевышнего». Разумеется, особое положение Святой Девы не Ее личное «достижение», не награда за «заслуги» и не «аванс» в предвидении Ее будущих заслуг и добродетелей. Это свободный дар Божий, в прямом смысле gratia gratis data. Этот выбор предвечен и абсолютен, хотя и не безусловен — он обусловлен тайной Воплощения. Мария занимает особое место в мироздании не просто как Дева, но как Девоматерь — parqenom»thr, будущая Мать Господа. Ее роль в Воплощении двойственна. С одной стороны, Она обеспечивает непрерывность человеческого рода. Ее Сын по Своему «второму рождению» — Сын Давидов, Сын Авраама и всех «праотцев» (это подчеркнуто в обоих вариантах родословия). По словам сщмч. Иринея Лионского, Иисус «возглавил Собой длинный список человечества» (Adv. haeres. III, 18, 1: «longam hominum expositionem in se ipso recapitulavit»), «собрал в Себе все народы, распространившиеся от Адама» (III, 22, 3) и «воспринял в Себя древнее создание» (IV, 23, 4). Но, с другой стороны, Он «показал новое рождение» (V, 1, 3). Он стал Новым Адамом. В непрерывности рода человеческого произошел резкий разрыв, истинный переворот самой сути бытия. И начинается этот переворот с самого Воплощения, с Рождества «Второго Человека». Сщмч. Ириней говорит об обращении назад — от Марии к Еве (III, 22, 4). Как Матерь Нового Человека, Мария предвосхищает всеобщее обновление. Конечно, Иисус Христос — единственный Господь и Спаситель. Но Мария — Его Мать. Она — «Звезда, являющая Солнце», предвещающая восход «Солнца Спасения». Она — «заря таинственного дня», (оба выражения — из Акафиста Пресвятой Богородице). И даже Рождество Самой Богородицы в какой–то мере принадлежит к тайне спасения. «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш» (Тропарь праздника Рождества Богородицы). Христианская мысль всегда движется в пространстве не обобщенных идей, но личностей. Для Нее тайна Воплощения является тайной Матери и Сына. Материнство Богородицы — страж евангельской конкретности, от лица которого бежит всякий докетизм. На традиционной восточной иконе Богородицы мы всегда видим Деву с Младенцем: это икона Воплощения. И, разумеется, никакая икона, никакой образ Воплощения невозможен без Богоматери.
Итак, Благовещение есть «спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует» (Тропарь праздника Благовещения). Архангел объявил и провозгласил Божественную волю. Но Дева не молчит в ответ. Она отвечает на призыв Бога, отвечает с верой и смирением. «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Она приняла решение Бога и откликнулась на Его зов. Этот ответ человека Богу чрезвычайно важен. Послушание Марии уравновешивает непослушание Евы. В этом смысле Мария называется Второй Евой, как Сын Ее — Вторым Адамом. Эта параллель прослеживается с самых ранних времен. Впервые — у св. Иустина (Dial. cum Tryph., 100). У сщмч. Иринея мы находим уже разработанную концепцию, органически связанную с его основной идеей «возглавления». «Как Ева по слову ангела пала и бежала от Бога, преступив Его заповедь, так Мария, из речи ангела приняв благое обетование, что родится от Нее Бог, была послушна этому слову. И, хотя одна ослушалась Бога, другая Ему повиновалась: так Дева Мария стала заступницей за деву Еву. И, как через деву род человеческий подвергся смерти, так через Деву он спасается, потому что непослушание одной девы уравновешено послушанием другой» (Adv. haeres. V, 19, 1). Или в другом месте: «Итак, узел непослушания Евы развязан послушанием Марии; ибо что дева Ева связала неверием, то Дева Мария разрешила верою» (III, 22, 4). Это сопоставление традиционно и для Востока, и для Запада — особенно в огласительных беседах. «Вот великое таинство (magnum sacramentum): как через женщину смерть стала нашим уделом, так и жизнь рождена для нас женщиной», — говорит блаж. Августин (De agone Christ., 24 — в другом месте он просто цитирует сщмч. Иринея). «Смерть через Еву, жизнь через Марию», — афористически провозглашает блаж. Иероним (Epist. 22: mors per Evam, vita per Mariam; PL 22, 408). Процитируем также восхитительный отрывок из проповеди митрополита Филарета Московского (1782–1867): «Во дни творения мира, когда Бог изрекал Свое живое и мощное: да будет, — слово Творца производило в мир твари; но в сей беспримерный в бытии мира день, когда Божественная Мариам изрекла Свое кроткое и послушное буди, — едва дерзаю выговорить, что тогда соделалось, — слово твари низводит в мир Творца. И здесь Бог изрекает Свое слово: Зачнеши во чреве и родиши Сына… Сей будет велий… Воцарится в дому Иаковли во веки. Но — что опять дивно и непостижимо — самое Слово Божие медлит действовать, удерживаясь словом Марии: Како будет сие? Потребно было Ее смиренное: буди, чтобы воздействовало Божие величественное: да будет. Что же за сокровенная сила заключается в сих простых словах: Се раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему, и производит столь необычайное действие? — Сия чудная сила есть чистейшая и совершенная преданность Марии Богу, волею, мыслию, душою, всем существом, всякой способностью, всяким действием, всякой надеждой и ожиданием» (Слово в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 1822 г.). Воплощение — свободное деяние Божие, однако оно открывает не только всемогущество Бога, но и, прежде всего, Его отеческую любовь. Бог еще раз взывает к человеческой свободе — как воззвал к ней в начале времен, сотворив разумные существа. Инициатива, разумеется, принадлежит Богу. Однако, поскольку средство спасения, избранное Богом, состоит в соединении Божественной Личности и человеческой природы, человек не может оставаться пассивным наблюдателем в этом таинстве. Устами Марии, представительницы человечества, весь род человеческий откликнулся на искупительное решение Божественной любви. Ибо в Себе, в Своей личности, Мария представляла всё человечество. Покорное и радостное принятие Искупления, так прекрасно выраженное в «Песни Богородицы», было свободным. Разумеется, эта свобода не предполагает инициативы — однако это подлинная свобода, свобода любви и поклонения, смирения и доверия, свобода соработничества (ср. сщмч. Ириней Лионский, Adv. haeres. III, 21, 7: «Мария, соработница домостроительства Спасения») — это и есть человеческая свобода. Благодать Божия не может быть, так сказать, механически наложена на человека. Она должна быть свободно принята в смирении и послушании.
Мария избрана для того, чтобы стать Матерью Воплотившегося Господа. Мы должны предположить, что Она была готова к этому необыкновенному служению — подготовлена Самим Богом. Можем ли мы определить, в чем суть и характер этого приготовления? Здесь мы стоим перед антиномией, о которой уже упоминали. Пресвятая Дева — представительница всего человеческого рода, то есть человечества падшего, «Ветхого Адама». Но Она же — «Вторая Ева»; с Нее начинается новое поколение. Предвечным советом Божиим Она выделена из человечества, но это «выделение» не разрывает Ее сущностной связи с человеческим родом. Можно ли уложить это таинственное противоречие в логическую схему? Римо–католический догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии представляет собой смелую и благородную попытку решения. Но такое решение имеет смысл лишь в контексте особого и в корне неверного понятия о первородном грехе у католиков. Строго говоря, этот «догмат» является лишь ненужным усложнением, а его неудачная терминология затемняет неоспоримую истину кафолической веры. «Привилегия» Богоматеринства зиждется не на «свободе от первородного греха». Поистине, Пресвятой Деве дана полнота благодати, и личная чистота Ее сохранена водительством Святого Духа. Но одно это не избавляет от греха. Грех уничтожен лишь на Древе Крестном, а до Креста он был обычным и всеобщим состоянием человечества, и ни о какой «свободе» от него не могло быть и речи. Грех не был уничтожен даже Воплощением, хотя оно и представляет собой начало нового Творения. Воплощение было лишь основой, «отправной точкой» искупительного деяния Господа. И сам «Второй Человек» входит в полноту славы Своей через врата смерти. Искупление — сложный акт, в котором необходимо различать отдельные элементы, хотя на предвечном совете Божием оно было задумано и решено во всей полноте. Спроецированное на временную ось, единое искупительное деяние распадается на отдельные стадии, которые отражаются друг в друге, а окончательное совершение предвосхищается и прообразуется в каждой из них. У Искупления есть история, и она движется вперед. Мария, как Мать Воплотившегося, обрела благодать Воплощения, но это не абсолютная полнота благодати, так как еще не исполнилось Искупление. Однако личная праведность возможна и в неискупленном мире, а тем более — в мире, где Искупление совершается. Истинная богословская проблема — проблема Богоизбранности. В Воплощении Мать и Дитя неразрывно связаны. Воплощение — поворотный пункт истории, а всякий поворотный пункт неизбежно противоречив: в нем сочетаются ветхое и новое. Дальнейшее — молчанье. Оставим рассуждения и будем в трепете созерцать явление Тайны.
Внутренний опыт Богоматери сокрыт от нас. По самой природе этого опыта он не доступен никому другому. Это — тайна личности Пресвятой Девы. И Церковь, говоря о Марии, избегает догматических определений. Она прибегает к языку молитвенной поэзии, языку антиномичных образов и метафор. Нет ни причины, ни нужды полагать, что Пресвятая Дева сразу реализовала всю полноту, всё богатство благодати, данной Ей от Господа. Нет ни нужды, ни причины считать, что «полнота» благодати в данном случае понимается арифметически и означает собрание всех возможных совершенств и всё многообразие духовных даров. Слово «полнота» относится к Марии: это была полнота для Нее; Она была полна благодати. И это была особая благодать, благодать Матери Божией, Девоматери, «Невесты Неневестной» . Разумеется, у Нее Свой духовный путь, личное возрастание в благодати. Всё значение тайны Спасения открывается для Нее постепенно. И Она участвует в Крестной Жертве: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35). Яркий свет воссиял только в Воскресении. До этого и Христос не был еще прославлен. И после Вознесения мы видим Пресвятую Деву посреди Апостолов, в центре растущей Церкви. Несомненно одно: впечатление (если можно так выразиться) от ангельского посещения, Благовестия о чудесной тайне и исполнения ее Пресвятая Дева всю жизнь хранила в Своем сердце. Да и могло ли быть иначе? Повторим еще раз: суть Ее опыта от нас сокрыта. Но если мы вовсе откажемся от поиска благочестивых догадок, не будет ли это предательством самой тайны? «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк. 2, 19). Вся Ее внутренняя жизнь была сосредоточена вокруг этого события. Ибо тайна Воплощения — несомненно, и тайна Ее личности. Ее положение в этом мире уникально и исключительно, и Своими личными качествами Она должна соответствовать ему. В этом — самая суть Ее особого совершенства, называемого «Приснодевственностью». Мария — Дева. Девство здесь не просто физическое состояние. Это в первую очередь особое внутреннее мирочувствие, без которого телесная девственность не приносит никакой пользы. И имя Приснодевы, конечно же, относится не только и не столько к области физиологии. Оно относится не только к девственному рождению и не означает лишь то, что Она и в дальнейшем сохранилась безмужней (если мы верим в непорочное зачатие и Божественность Иисуса, то последнее не вызывает сомнения). Оно прежде всего отрицает любой «эротический» элемент душевной жизни, любые чувственные и себялюбивые желания и страсти, любое рассеяние ума и сердца. Телесная девственность есть лишь внешний знак духовной целостности и чистоты — ведь только чистые сердцем, сказано, «Бога узрят». Девственность есть свобода от страстей, истинная, составляющая сущность духовной жизни. Свобода от страстей и «влечений» — свобода от власти «помыслов», неудобопревратность ко злу, по выражению преп. Иоанна Дамаскина. Душа Марии подвластна одному Богу, стремится только к Нему. Все Ее помыслы и желания направлены (привлечены, притянуты, по слову преп. Иоанна) к предметам, достойным желания и привязанности. Она не знает страсти. Она хранит девственность ума, души и тела (Hom. 6, in Nativitatem B. V. Mariae 9 et 5; PG 96, 676A et 668C). Это всецелое обращение к Господу, полное посвящение Себя, всей Своей жизни, Богу. Быть подлинно «Рабой Господней» и значит быть Приснодевой, не имеющей плотских стремлений. Духовная девственность есть безгрешность — но всё–таки не «совершенство» и не свобода от соблазна. Даже Господь наш был в каком–то смысле уязвим для искушений — не случайно сатана искушал Его в пустыне… У Владычицы нашей, вероятно, тоже были Свои искушения, но Она побеждала их твердой верой и верностью Богу. И обыкновенная, земная материнская любовь в высшей своей точке превращается в духовное самоотождествление с ребенком — чувство, включающее в себя и самоотречение, и жертву. А Мария любила Своего Сына, конечно, не меньше, чем обычная мать — обычного ребенка. Ее Сын будет велик и назовется Сыном Всевышнего (ср. Лк. 1, 32). Очевидно, это Тот, «Который должен прийти», Мессия (см. Лк. 7, 19). Мария исповедует Свою веру в «Песни Богородицы», гимне мессианской хвалы и благодарения. Мария не могла не понимать смысла всего совершающегося с Ней — но, скорее всего, понимала это постепенно, со временем, слагая таинственные обетования в сердце Своем. Для Нее существовал только один путь. Она была поглощена одной мыслью, одним послушанием Богу, Который «призрел на смирение Рабы Своея» и «сотворил величие» Ей. Апостол Павел так и описывает состояние и красоту девственности: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом» (1 Кор. 7, 34). Вершина этого девственного служения — святость Приснодевы, Пречистой и Пренепорочной.
Кардинал Ньюмен в своем восхитительном «Письме Его преподобию Э. Б. Пьюзи, доктору богословия, по поводу его «Иреникона»” (1865) удачно замечает: «Богословие занимается предметами сверхъестественными, вечно вопрошает о тайнах, которые ни постичь, ни приблизить к себе рассудок не в состоянии. Мысль обрывается, и пытаться продолжить или закончить ее означает нырять в бездну. Блаж. Августин предупреждает, что если мы попробуем найти и связать концы линий, ведущих в бесконечность, то лишь начнем противоречить сами себе…» (Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching, 5th ed., p. 430). Все согласны, что в конечном счете критерием истинности того или иного христианского предания служит догмат. Исторических аргументов — от древности или от умолчания — оказывается здесь мало. Их следует подвергать тщательной богословской проверке в свете всей христианской веры в целом. Вопрос ставится так: храним ли мы веру Писания и Церкви, понимаем ли и исповедуем Символ веры именно в том смысле, в каком он дан нам, правильно ли веруем в истину Воплощения? Процитируем еще раз Ньюмена. «Я хочу сказать, — продолжает он, — что если уж мы свыклись с тем утверждением, что Мария родила, а затем кормила и носила на руках Предвечного, ставшего ребенком, то можно ли чем остановить всё более стремительную лавину мыслей и догадок, вызванных осознанием этого факта? Какой трепет и изумление охватывает нас при мысли, что творение так приблизилось к Сущности Божества!» (Op. cit., p. 431). К счастью, богослов в своих поисках руководствуется не только логикой и эрудицией. Его ведет вера: «credo ut intelligam» [верую, чтобы понимать]. Вера просвещает разум. Знания, память о прошлом, оживают в непрерывном церковном опыте. Кафолическое богословие следует за учительным авторитетом Церкви, за ее живой традицией. Православный богослов сам живет в Церкви, в Теле Христовом. Церковь — то мистическое тело, где, можно сказать, не прекращает действовать Тайна Воплощения, раскрывая всё новые и новые свои грани в таинствах и молитвенном опыте. В Небесной — истинной Соборной и Вселенской — Церкви тайна Нового Человечества предстает как реальное новое бытие. И здесь, в живом единстве мистического Тела Христова, личность Пресвятой Девы является во всём блеске и славе. Здесь Церковь созерцает Ее недосягаемое совершенство. Здесь становится ясно, сколь неразрывно соединена Она с Сыном, с «Седящим одесную Отца». Для Нее уже наступило исполнение того, что только предстоит человечеству. «Преставилася еси к животу, Мати сущи Живота», — поет Церковь. «Богородицу… гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную» (Тропарь и кондак праздника Успения Божией Матери). Повторим: это не столько «награда» за Ее чистоту и добродетель, сколько необходимое следствие Ее служения как Матери Божией, Богородицы. Церковь Торжествующая есть прежде всего Церковь молящаяся, ее бытие — живое участие в служении Христа, в Его заступничестве и искупительной любви. Соединение со Христом, составляющее цель бытия Церкви — да и каждого отдельного христианина — есть прежде всего причастие Его жертвенной любви к человечеству. И здесь огромная роль принадлежит Той, Которая уникальным образом связана с Искупителем — узами материнской любви. Матерь Божия становится Матерью всех живущих, всего христианского рода, каждого рожденного и возрожденного в Духе и истине. Вершина материнской любви — самоотождествление с ребенком — проявляется здесь во всей полноте. Церковь не много говорит в догматах о тайнах своего собственного бытия. А тайна Марии — тайна Церкви. Мать Церковь и Матерь Божия вместе дают рождение новой жизни. И обе они — предстоятельницы. Церковь призывает к себе верующих и помогает им врастать духовно в эти тайны веры, тайны их собственного существования и духовной судьбы. В Церкви они учатся созерцать живого Христа вместе с торжествующим собором, Церковью первенцев, написанных на Небесах (ср. Евр. 12, 23), и поклоняться им. И в этом сияющем славою соборе они различают ослепительный лик Пресвятой Матери Господа и Искупителя, лик, полный благодати и любви, сострадания и милосердия — лик «Честнейшия херувим и Славнейшия без сравнения серафим, без истления Бога Слова Рождшия». В свете этого созерцания и в духе веры должен богослов исполнять свой труд — разъяснять верующим и всем взыскующим истины величественную тайну Воплощения. Тайну эту, начиная от века Отцов, символизируют одним священным именем: Мария Богородица, Мать Воплотившегося Бога.
ПРОБЛЕМАТИКА ХРИСТИАНСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ
Тогда аще кто речет вам: се зде Христос, или онде: не имите веры.
Мф.24.23
1. Церковь едина. И это единство есть самое бытие Церкви. Церковь есть единство, единство во Христе, «единение Духа в союзе мира» (Еф. 4. 3). Церковь создана и созидается в мире именно ради единства и соединения, — «да вси едино будут» (Ин. 17. 21). Церковь есть единое «тело», т. е. организм, и Тело Христово. «Ибо единем Духом мы вси во едино тело крестихом–ся» (1 Кор. 12.13). И только в Церкви и возможно или осуществимо это подлинное и действительное единение и единство, в таинстве любви Христовой, в преображающей силе Духа, по образу и подобию Троицы Единосущной… Так есть и так должно быть. Но это единство не явлено и не раскрыто в истории христианской. И в христианской истории единство остается только неразрешенной задачей, и разрешение ее все передвигается и отодвигается вдаль и вперед, к последнему эсхатологическому пределу. В христианской эмпирии нет единства. Христианский мир пребывает в разделении — и не только в разделении, но и в раздоре, и в смуте, и в борьбе. В христианской истории мы видим не больше единства и согласия, чем в истории внешней, не–христианской. В христианских обществах не только не сняты и не изжиты те разделения, которые разлагают и разрушают «естественный» порядок жизни, — ведь не примирены и не погашены и здесь расовые или национальные антагонизмы (ср. так называемый «филетизм»). Мало того, в самом учении христианском, в самой вере Христовой оказываются поводы и темы для взаимного отчуждения, для разлучения и неприязни, для непримиримых споров, для прямой вражды. Христианский мир разделяется не только о мирском, но и о самом Христе… Нет между христианами, верующими во имя Его, согласия о Нем, о Его делах и о Его деле. Это камень преткновения и соблазна… Церковь едина и неодолима в своем единстве. Но христианский мир разделен и расколот. Христос «той же и во веки» (Евр. 13.8). Но христиане расходятся о Нем, и не только мыслят, но и веруют по–разному. И в разном полагают свою надежду и упования… Да, Церковь не разделяется, не разделялась, не разделилась. Церковь не разделена и нераздельна. И самое слово «Церковь» в строгом и точном словоупотреблении не имеет и не допускает множественного числа, — разве в переносном и несобственном смысле… И, однако, ведь христианский мир весь в раздоре и в разрыве — не приходится ли даже сказать прямо: в распаде… Пусть случившееся не было ни разделением Церкви, ни «разделением церквей». Пусть точнее говорить не о раз–делениях в Церкви, но об от–делениях от Церкви. Но ведь самый факт раздора и раскола остается… И Церковь не останавливает этого раскола и раздробления. Центробежные силы преобладают не только во внешнем мире, но вторгаются и вовнутрь самой Церкви. Церковь в скорби и в гонении. И гонима не только от врагов и сопротивников, но не реже и от лжебратий. «Но приидет час, да всяк, иже убиет вы, возмнится службу приносити Богу» (Ин. 16. 2). Вот в этом основной парадокс христианской истории. И бывают эпохи, когда с обновленной остротой испытывается и переживается вся горечь и вся боль этого парадоксального раскола и распада. Изумевает ум об этой тайне человеческого противления и упорства. Как это возможно, и что это значит… «О, чудесе, что сие еже о нас бысть таинство. Како предахомся тлению, како сопрягохомся смерти»… Кажется, мы вступаем и уже вступили в такую эпоху. И вспыхивает потребность в примирении и единстве. Рождается и крепнет воля к единству. Тема христианского единства и единения становится темой эпохи, темой времени, темой истории… Открывается в стыде и тревоге вся противоестественность разделений, не–примиримости и не–любви о Христе… Но воля к единству не может и не должна оставаться только смутным волнением и трепетом сердца. И сентиментализм о Христе есть прелесть и бессильный самообман. Единство о Христе осуществимо только в трезвости и бдении духовном. Воля к единству должна прозреть и закалиться в покаянном искусе и в подвиге веры.
2. Вряд ли кто станет спорить, что христианский мир должен быть и стать единым. Вряд ли нужно доказывать, что подобает или надлежит соединиться и воссоединиться… Но из этого бесспорного постулата очень мудрено сделать отчетливые и практические выводы. Ведь главная трудность в другом: какможет христианский мир стать единым. То есть: что значит соединиться и быть едино о Христе… В чем смысл этого воссоединения… И где пути или путь в единство… В истории было немало, скорее слишком много, попыток восстановить христианское единство, осуществить некий «вечный мир», хотя бы между христианами. Но нужно сознаться сразу: эти попытки не были удачны. И ничто так не мешает делу подлинного сближения и соединения, как именно эти неудачные попытки, от которых в лучшем случае остается только горечь воспоминаний и усталая безнадежность… Во всяком случае, прежде всего нужно уяснить и установить, в чем смысл и суть этого трагического христианского разделения, чем оно вызвано и вызывается, что собственно подлежит преодолению. С такого покаянного и судного искуса во всяком случае приходится начинать, как бы тягостна и мучительна ни была эта автопсия христианского мира… Первое, что необходимо прочувствовать и понять с самого начала, — вопрос о разделении и соединении нельзя исчерпать и решить в одних только моральных категориях. Это вовсе не есть только вопрос миролюбия или терпимости. Такое втесне–ние «униональной» проблемы в несоответственные моралистические рамки есть ее искажение и опрощение. Историк должен прежде всего протестовать против всякой попытки такой поспешной и односторонней морализации истории. Историю христианских разделений так же мало можно вывести и построить из начала нетерпимости, как и из начала гордости или властолюбия, или плотоугодия, или низости. Конечно, человеческие страсти со всею силой разряжаются и раскрываются и в разделении христианства. Но не в нравственной порочности или слабости человека первый источник этих христианских схизм. Но в заблуждении… Так можно выразить эту мысль. Да, источник разделений — в недостатке любви. Но недостает прежде всего не любви к ближнему своему, но именно любви к Богу, — и потому помрачается духовный взор человека и уже не узнает он Небесного Отца своего, — ведь только чистые сердцем в прозрачности своего сердца видят Бога. А не зная Отца, не знает и не узнает братьев. Иными словами, — источник разделений и расколов — прежде всего в разномыслии об Истине… Разделение христианского мира имеет прежде всего догматический смысл. Это есть всегда разделение в вере, в самом опыте веры, не только в формулах и исповедании. Потому и преодолевается разделение не столько в нежности и братолюбии, сколько в согласии и единомыслии, — в духовном прозрении, в единстве Истины… Следует прямо сказать: единства любви и в любви мало и недостаточно. Любить подобает и врагов, и даже врагов Истины, — и любить их именно как братьев, и томиться об их спасении и причтении к сонму и лику Христову. Однако такая любовь еще не образует подлинного единства. Да вряд ли и возможно подлинное единство любви без единства в вере и веры… И в расколах всегда чувствуется в основах разномыслие и разногласие, разное видение и понимание. Потому и раскол не может быть искренно изжит в одном сентиментальном братолюбии и послушании, но только во внутреннем согласии… В самом «униональном» морализме есть свои «догматические» предпосылки. Молчаливо предполагается, что для разделения не было и нет достаточных оснований, что все разделение есть только какое–то трагическое недоразумение, — что несогласия кажутся непримиримыми только от недостатка любовного внимания друг к другу, не то от неумения, не то от нежелания понять, что при всем различии и несходстве есть достаточное единство и согласие в главном. Вот это выделение «главного» и есть очень спорная предпосылка. И то, в чем нет согласия, предлагается не считать главным, тогда разногласием и можно пренебречь… Таким образом, «морализм» есть всегда некий догматический минимализм, если и не прямой адогматизм. Питается и возникает он именно из некоего догматического нечувствия, или равнодушия, или близорукости. Можно сказать: из противоестественного расторжения и противопоставления Истины и Любви. Но только в Истине есть подлинная и духовная любовь, а не только душевность и томление чувств… Морализм есть, строго говоря, своего рода догматическая установка, особое «исповедание», в котором бедность положительного содержания уравновешивается решительностью отрицательного. И моралист не столько подымается выше и становится над разделениями, сколько просто привыкает смотреть на них свысока. Вряд ли это свидетельствует не то чтобы о братолюбии, но хотя бы о простом уважении к вере ближнего, которая минималистическим перетолкованием снисходительно низводится до уровня частного мнения или личных взглядов, и в таком качестве терпится и приемлется. Здесь нет даже искренности достаточной… «Морализм» есть призыв соединяться в бедности, в обеднении, в неимении, — не согласие, но соглашение в молчании и умолчании. Это есть равнение по неимущему, по самому слабому. Иногда такой выход приемлется из равнодушия: и как познать Истину. Часто берется под сомнение самая возможность общезначимых суждений в догматике и даже в метафизике, и сами догматы разрешаются в моральные или моралистические символы и постулаты. Тогда, конечно, не приходится добиваться единомыслия и согласия в этой области сомнительного и нерешенного. Реже в минимализме укрываются от страха и маловерия, в отчаянии достигнуть бесспорного там, где всего больше было споров и размолвок. Словом, морализм есть воздержание, но не столько в смирении и аскезе, сколько в равнодушии или сомнении. Впрочем, можно ли соединиться в отрицании и сомнении… Соединения и общения нужно искать в богатстве и в полноте, но не в бедности. Это значит: не чрез нисхождение и применение к самому слабому, но чрез восхождение, чрез устремление к самому крепкому. Образ и пример есть и дан только один: Христос Спаситель… Есть спорные вопросы, по которым Церковь не дала и не имеет однозначных и общезначимых ответов. И, однако, так же и здесь вполне исключается скептическая неопределенность, и не уместно и здесь успокоительное: ^погаЫтиз[144]… Ибо ведь вся полнота ведения дана изначально в опыте и сознании Церкви, и должна быть только опознана. Вот в этом опознании нужен максимализм… Итак, единство в вере, не только единство в любви. Но и единство веры еще не исчерпывает единства Церкви. Ибо единство Церкви есть, прежде всего, единство жизни, т. е. единство и общение таинств… Истинное единство может осуществиться только в Истине, — т. е. в полноте и в силе, не в слабости и недостаточности. В тождестве мистического опыта и жизни, в полноте «нераздельной веры», в полноте таинств. Подлинным единством может быть только это единство таинств, принимаемых во всей полноте их иератического и теургического реализма. Ибо это есть единство в Духе, истинное «единение Духа»… В «морализме» есть и еще изъян. В нем слишком много благодушия и оптимизма. Примирение кажется близким, возможным и нетрудным, — ибо нет достаточной серьезности и мужества в самом восприятии и видении разделения. Морализм не достаточно трагичен, и трагизм вообще плохо вмещается в пределы морали, даже и моральный трагизм, это скорее самое ясное свидетельство об ограниченности морали как таковой… Воссоединение возможно только чрез опыт и подвиг решения нерешенных вопросов, а не чрез воздержание или уклонение от них. Здесь есть нечто искомое, что еще предстоит найти и определить. Самое разделение свидетельствует о наличности вопросов. В разделении и расколе есть проблематика. Ее нельзя ни упразднить, ни подменить сентиментализмом. Есть подлинные апории единства о трудности. Путь труден, горний путь… Путь мужества и дерзновения.
3. Задача христианского воссоединения практически приводится, прежде всего, к примирению и преодолению обоих великих западных расколов. Раскола Запада и Востока, Рима и Византии, так называемых «разделения Церквей», во–первых; и Реформации во–вторых. Всего важнее именно это воссоединение христианского Запада. Меньшее и не самостоятельное значение может иметь замирение восточных разделений, возникших однажды в пылу древних христологических смут и споров, но с тех пор длящихся больше по исторической инерции. Давно уже нет в них собственной религиозной проблематики, и держатся они скорее немощью националистической исключительности (так Армянская Церковь, Яковиты, Эфиопская Церковь[145] и др.)… И вот спрашивается теперь, что же значит Рим и что значит Реформация в перспективах искомого христианского соединения… Проще вопрос о Реформации, хотя и не легче. Обычно в Реформации видят самоутверждение и некое самодержавие личности в религиозной жизни, проявление и торжество религиозного индивидуализма. При этом вполне понятным становится преобладание в Протестантизме центробежных, разъединяющих и уединяющих сил. Иначе сказать, Реформация сказывается прямо противоположностью соединения. И, стало быть, воссоединение тем самым оказывается преодолением и даже отрицанием Реформации, оказывается и должно оказаться обращением и возвратом… В такой характеристике много правды. Но не вся правда, и не последняя правда. Ибо совсем не самопревозношение, но именно самоуничижение человека было начальной предпосылкой и движущим духом Реформации. Протестантизм рождается из духа антропологического минимализма. Реформация есть прежде всего это признание и утверждение безысходной греховности и беспомощности человека. И во Христе человек отпускается на свободу, но не преображается. Становится вольноотпущенником, — но откуда взять ему благородство рожденных в свободе… Протестантизм в известном смысле можно определить как гипер–эсхатологизм. Это не то значит, конечно, что реформационное сознание как–то особенно занято или возбуждено эсхатологическими чаяниями и взысканиями. И не склонность или тяготение к хилиазму. Однако Второе Пришествие в протестантском сознании почти что заслоняет Первое. Чувствуется настороженность, как бы не преувеличить смысл уже свершившегося. И преображение мира и человека вполне отодвигается ко Второму Пришествию. Потому реальность Церкви умаляется в предчувствии Грядущего Царствия и «будущего века». Отсюда своеобразный докетизм и чуть ли не иллюзионизм в восприятии и толковании таинств. Таинства оказываются скорее знамениями ожидаемого, символами, а не печатью одержанной победы… И вот именно этот «сакраментальный символизм» и является разобщающей и разъединяющей силой в Протестантизме. Разрыв священноначалия в этом отношении гораздо более был важен и опасен, чем пробуждение своевольного и мятежного «я». Ибо едина и соединяется Церковь именно в «единении Духа», т. е. в непрерывности харизматических токов, в непрерываемом общении таинств. В борьбе и разрыве реформаторов с Римом так случилось, что были прерваны и нарушены связи с самой Пятидесятницей… Вот почему только чрез восстановление Священства, Священноначалия и Священнослужения Протестантизм может возвратиться в Церковь. Нужно сказать именно это слово: возвратиться, — ибо Реформация была объективным выходом из общения таинств. Недостаточно одно взыскание Церкви и жажда церковности, мало даже догматическое восстановление и прозрение. Ведь мало уверовать, но необходимо креститься, — и возрождается человек не силой своей веры, но действием крещальной благодати Божией. И недостаточно даже возлюбить Господа, — обручение вечной жизни преподается не в этой любви и не в одной вере, но только в таинстве Плоти и Крови. Церковь жива и едина именно в Крови Господней, в Евхаристической Крови, — и где не совершается Евхаристия, там нет Церкви… И совершение Евхаристии предполагает сакраментальное Священство, — и тем самым не–поврежденность или восстановление апостольского преемства… Иначе сказать: из Реформации, как из «дальней стороны», подобает вернуться в Церковь, — при–соединиться к Ней. Здесь можно и приходится говорить только о присоединении… Повторим еще раз: единомыслия и единодушия еще мало, еще не достаточно единства в чувствах и в вере, — все это только пред–условие воссоединения; а самое соединение совершается только в единстве и общении таинств. Вот почему немощным и обреченным остается так называемое «Высокоцерковное движение» в современном немецком протестантизме. Романтическое восстановление и ре–поэтизация обряда есть только свидетельство покаяния и обращения души. Но это не больше, чем только сакраментальная обстановка. Если угодно: ожидание Царя и Царского входа… Но Царь не приходит… И бдение у врат. Но врата замкнуты, остаются непроходными… Ничем нельзя заменить реальность таинств и тайнодействий… Протестантизм не на одно лицо — скорее, можно говорить о каком–то калейдоскопе личин и ликов. При всей прямолинейности и радикализме реформационной логики, пути Протестантизма в истории извилисты и вьются. И не без насильственного упрощения можно подвести под единое и общее понятие протестантизм разных стран — особенно ясно чувствуется глубокое расхождение немецкого и англо–саксонского протестантизма. Ведь только в немецком протестантизме играл определяющую роль философский мотив. Правда, это было в значительной мере уже уходом от Реформации. Но и самый уход этот был только последованием реформационным началам, парадоксальным обращением этих начал. Трагическая и пугающая диссолюция, скорее, чем эволюция, немецкого протестантизма «от Реймаруса и до Вреде»[146] есть особая тема и проблема своего рода. Сейчас мы говорим о самой Реформации. Из Реформации нужно вернуться. И даже «евангелический католицизм» есть только робкий и неуверенный шаг. И вот что еще нужно прибавить: возвратиться в Церковь можно только открыто и прямо, не в порядке уступок, соглашений, приспособления и компромиссов. И вот только компромиссом является всякая попытка воскресить в Протестантизме семя и дыхание Священства чрез обращение к побочным и увядающим ветвям Церкви. Противоестественно восстанавливать апостольское преемство в Германии или в Англии чрез Цейлонское или Ма–лабарское рукоположение. Это есть попытка скорее похитить, нежели обрести благодать. И во всяком случае к воссоединению это путь далекий и вряд ли прямой и верный. Ведь в самых предпосылках как бы признан факт разделения и разобщения… Проблема выхода из Реформации неразрывно связана с проблемой Рима. Ибо недостаточно выйти, но надлежит именно вернуться. И вот на Западе всего ближе вернуться именно в Рим. Именно поэтому немногие возвращаются. Не всегда есть только неправда в этом воздержании от возвращения через Рим, то есть собственно в Рим. Ибо «Рим» ведь действительно нуждается в некоей «реформации» — «во главе и в членах». И не подобает осуждать слишком торопливо тех, кто соблазняется о немощах и заблуждениях Рима. Однако Рим безмерно и несоизмеримо богаче Реформации. Реформация есть оставленность, вольно избранная и изволенная. Это дом, оставленный и оставшийся впусте. Это храм опустевший и даже опустошенный. Но Римский храм никак не пуст и не оставлен. Облако славы Божией все еще над скинией. Дух Божий дышит в Римском Католицизме, и этому не могут помешать и все нечистые испарения пагубных страстей и извращений человеческих. Спасительная нить апостольского преемства не прервана. Таинства совершаются. Бескровная жертва приносится и возносится. И кто дерзнет сказать и сделать оговорку: но не приемлется в пренебесный и мысленный Жертвенник, в воню благоухания духовного. Святыня еще во храме. Итак, во всяком случае путь в Рим и через Рим не есть путь мнимый… Немощь и неправда Реформации в том, что это было дело человеческое, только человеческое, слишком человеческое, — хотя бы и состояло оно в самоуничижении и самоотрицании. И неправда Рима есть тоже неправда человеческая, и другой неправды и не бывает, — «Правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина»… Но в Риме есть и правда Божия… Рим не прав в вере и немощен в любви. Но Рим не без благодати, не вне благодати… Как бы то странным ни показалось, раскол Запада и Востока есть раскол и разделение в вере и оскудение в любви, но это не есть раскол в благодати и таинствах, не есть разделение Духа. И Дух Утешитель един и неразделен даже в расколе. Странным образом скрыто осуществлено самое важное: нераздельность благодати, несмотря на то что меньшее и, казалось бы, более легкое, ибо человеческое, не осуществлено. Бог и доныне соединяет то, что распалось в делах и мыслях человеческих… Если для Протестантизма путь соединения в стяжании Священства и восстановлении таинств, то раскол Запада и Востока разрешим в стяжании догматического единомыслия и в братолюбии до нежности… Риму и Востоку подобает и «остается» соединиться в человеческом подвиге… Сказанным нисколько не ослабляется вся реальность разделения с Римом. И может быть именно потому так трудно встречаться с Римом, что вся сила разделения именно в человеческом, в человеческой энергии… В Романизме есть нечто антиномическое и, во всяком случае, парадоксальное. Рим весь в стремлении к единству. Рим есть некий символ единства и соединения. Рим чрез всю историю ищет единства. Именно Рим больше всего ищет и взыскует единства — и во всяком случае, в этом взыскании много справедливого и ревностного. Но ведь именно это настойчиво и торопливое римское взыскание христианского единства и церковного мира больше всего препятствует и мешает воссоединению и единству. Римская торопливость всего более замедляет и задерживает воссоединительный процесс. Ибо не то единство, и не на тех путях ищут в Риме и из Рима. Ведь основная и главная неправда и неправота Рима была и есть именно о единстве церковном. И догмат о папе есть именно лже–догмат о единстве Церкви… Из сказанного первый вывод приходится сделать о крайней необходимости догматического и богословского «объяснения» с Римом. В этом отношении очень показателен и поучителен пример неудавшихся и неудачных богословских встреч православных и старокатоликов сразу же после Ватиканского собора (Боннская конференция 70–х гг.)[147]. В тогдашнем обмене мнениями сразу выяснилось, что главное препятствие к сближению и соединению сосредоточено именно в догматической области, — в том, что в своем догматическом мировоззрении старокатолики оставались ограниченными романистами, слишком западными людьми, и не были способными вместить Восток ни в свое сознание, ни в свою совесть иначе, как в порядке компромисса. Здесь сразу и западническая замкнутость сердца, и погрешность в самых догматических предпосылках. Конечно, и гордость своей западной историей, своей исторической славой и делами, своим христианским героизмом и рыцарством. Но главное именно в догматических предпосылках, в самой изначальной догматической установке. Здесь неправота и неправда в самом догматическом опыте — не только в отдельных и догматических определениях. Поэтому так опасен и бесплоден путь догматического минимализма, когда стараются ограничить догматическое единомыслие и согласие возможно более тесным и узким кругом вполне «необходимых» истин веры, чтобы за их пределами допустить «свободу в сомнительном». Ибо такое различение или разграничение было бы возможно только в том случае, если бы вероучение было неорганической совокупностью или агрегатом обособленных догматических утверждений или положений. Но вера и вероучение есть органическое целое. И упорное разногласие в догматических «подробностях» заставляет усомниться, действительно ли есть полное и искреннее согласие в самом опыте веры, не только в формальных предпосылках и, если уместно так выразиться, в догматических контурах. И совсем не безразлично и не «не–необходимо» то, что внутри контура, что этот контур обводит. Речь идет не столько о постепенности и последовательности в логических дедукциях и развитии, сколько о первичной четкости, «ясности и отчетливости», самого верующего узрения, т. е. самого Откровения. В пояснение достаточно одного примера. Нельзя относить к числу «сомнительного», или «ненеобходимого» такой, казалось бы, внешний догмат, как догмат о св. иконах. Не потому, конечно, что св. иконы, их признание и употребление, «безусловно необходимы для спасения». Но потому, что упорное и несговорчивое стремление сдвинуть учение о св. иконах куда–то под порог догматического сознания свидетельствует о несомненной неясности в разумении уже вполне бесспорных догматов веры, вне которых писание и почитание икон не может быть оправдано. Короче говоря, соблазн об иконах есть всегда в известном смысле соблазн о самом Воплощении, о Богочеловечестве, есть некое гнушение об историческом и чувственном. Во всяком случае, не целесообразно такие вопросы откладывать и замалчивать… Нельзя и не следует обходить и самые бесспорные начатки веры. Ибо и здесь неожиданно может вскрыться глубокое несовпадение и несогласие. И снова достаточно одного примера. В самом общем «понятии» о Боге есть существенная несогласованность между Западом и Востоком. Вспомним споры XIV века о свете Фаворском и, как о предпосылках учения о нем, о различии в Божестве сущности и энергии. Это совсем не был схоластический спор и о не–нужном и неважном. Здесь воистину встретились и столкнулись не только две богословские системы, но и два мировоззрения, два опыта. И встреча была не только на полемической поверхности, но и в больших глубинах. Вскрылось непримиримое и болезненное разногласие. Вопрос поставлен. Не годится обходить его. А нечувствие к его остроте и важности свидетельствовало бы только об общей религиозной нечуткости и нечувствительности… Таким образом, догматическое «объяснение» Востока с Римом должно быть именно целостным и все–объемлющим, органическим прежде всего. Неверно и нецелесообразно формалистически сводить все расхождения к определенным параграфам, о которых только будто и подобает согласиться. Неприемлемо в Риме именно что–то основное и начальное, а не только те или другие положения и теологумены. Ибо ведь прежде всего неприемлемо Папство… Нужно найти основную болезненную точку в римском опыте. Кажется, ее можно разгадать и показать. Снова здесь пред нами известная неожиданность. В римском сознании не вполне укреплено и выражено чувство, что Христос и по восшествии на небеса реально и непосредственно, хотя и невидимо, пребывает и правит в «исторической» и земной Церкви. Как будто в Вознесении он ушел и вышел из истории, до «пару–сии», до возвращения. Как будто история оставлена. Как будто в истории мало что изменилось. Это можно назвать гипер–исто–ризмом. Отсюда потребность и возможность известного замещения Христа в истории — идея «Наместника»… Римское или латинское христианство совсем не однозначно. И нельзя свести все многообразие и всю полноту мистической и богословской жизни в римском христианстве к какой–нибудь одной «идее». И во всяком случае папизмом Рим не исчерпывается. Но вместе с тем именно папизм есть самое своеобразное в западном чувстве Церкви, в западной «церковности». Папизм свидетельствует о нечувствии Христа в истории. С другой стороны, в нем сказывается преувеличение смысла иерархических харизм. Здесь своего рода канонический монтанизм[148]… Во всяком случае «Ватиканский догмат»[149] есть не только определение и формула, но и мистическое признание и свидетельство. Папизм есть не только факт канонический, но и мистический… И потому здесь не так важно каноническое или историко–догматическое опровержение, сколько именно глубочайшее преображение самого чувства Церкви, возвращение к полноте христологического видения… В западном опыте есть большая христологическая неясность. Она связана с общим восприятием истории. Для западного благочестия вообще характерно созерцание Христа в Его евангельском уничижении, в Гефсимании, на Голгофе, в терновом венце. Недостаточно чувствуется Воскресение, победа над тлением и смертью. Самая страсть и смерть Спасителя воспринимается слишком исторически («натуралистически»). И потому Вознесение воспринимается как выход из эмпирии… Здесь главная тема для «объяснения» с Римом… И для Рима путь воссоединения есть путь возврата — возврата к истокам… Это должно быть прежде всего преображением догматического сознания и опыта. И заново должны быть пережиты и передуманы все древние темы, темы эпохи древних Вселенских соборов, которые в свое время не были изжиты на Западе… В римской концепции церковного единства неверно и неприемлемо не только каноническое или юридическое сужение перспектив. Гораздо важнее и опаснее нечувствие всей серьезности раскола и расхождения между Западом и Востоком. Своего рода мистическое нечувствие. Отсюда такой примитивизм и упрощение в униональ–ных замыслах и проектах. Можно сказать: не столько чрезмерная требовательность, но именно чрезмерная мистико–догматическая нетребовательность или снисходительность есть неправда Рима и его униональной тактики… Вот именно проблема христианского воссоединения превращается в проблему и задание церковной тактики или дипломатии, пастырской педагогии или «христианской политики» (как выражался Владимир Соловьев). В частности, этот упрек вполне относится к новейшим и современным опытам «восточного обряда»[150]. Здесь есть роковой самообман. Либо действительно обряд остается только обрядом, — тогда никакого «соединения» не происходит, и самый обряд деформируется, превращается или вырождается в церемониал, выдыхается, обессмысливается. Либо обряд воспринимается во всем своем иератическом реализме, — но тогда неминуемо разрываются грани западного или римского самочувствия. В обоих случаях не получается со–единения. Оказывается, что в действительности Рим совсем не владеет «восточным обрядом». Это совсем не «обряд», но живая реальность иного не–римского христианства… Больше последовательности и чуткости у сторонников простой латинизации. Это более трезвая точка зрения… Раскол Запада и Востока не в обряде и не только в юрисдикции, но именно в вере и опыте.
4. Основная трудность в учении о Христианском Восстановлении есть трудность о пределах или границах Церкви. Это вся проблематика св. Киприана Карфагенского. Основную мысль св. Киприана можно так выразить: каноническая грань Церкви есть тем самым и харизматическая, так что всякая «схизма» тем самым есть полное выпадение из Церкви. Есть уход из той святой земли, из того святого и священного Града, где бьет святой источник, ключ священной воды, мистический Иордан. Потому у схизматиков только «нечестивая вода» во осквернение, а не во омовение скверны. Сразу за каноническим пределом начинается мир безблагодатный, естественный… Практические выводы св. Киприана никогда Церковью приняты не были, и правила церковные о воссоединении раскольников и еретиков молчаливо предполагают, что Дух дышит и в сынах противления… Признание «схизматических» таинств нельзя объяснить одной «икономией» — здесь не может быть никакого двусмысленного «прагматизма», никакого «Als Ob»[151]… Однако вместе с тем, , рассуждение св. Киприана вряд ли можно считать опровергнутым. Конечно, его предпосылки нужно сузить и уточнить. Но самая последовательность мысли остается не нарушенной. И бл. Августин в своей полемике с донатистами[152] в сущности вовсе не так уж далеко уходил от Киприана… Вот почему есть неразрешенное натяжение между догматикой и практикой в данном случае, — натяжение, не противоречие. Церковь свидетельствует, что таинства совершаются и в расколах, и даже у еретиков, — пусть и не во спасение, как разъясняет бл. Августин, но ведь совершаются Духом Святым, который, стало быть, и в схизме остается животворить. Но не объясняет, как это возможно. Не так загадочно, что есть надежда спасения «вне Церкви», extra Ecclesiam, — сколько именно этот факт животворящего пребывания Духа единства в схизме. Это основная антиномия в учении о Церкви. И не годится этот антиномический и парадоксальный факт перетолковывать в духе и смысле известной «теории церковных ветвей», Church–branch–theory[153]. Это будет совсем незакономерной экстраполяцией. «Теория церковных ветвей» слишком оптимистически и благополучно представляет себе раскол христианского мира. Нет равноправных «ветвей». Вернее сказать: заболевшие ветви не сразу засыхают. Именно в этом основной факт. Каноническое обособление, потеря «соборности», т. е. кафолической цельности, потускнение и примрачение догматического сознания, даже прямое заблуждение, — вся эта человеческая неправда и неправота еще не останавливает и не преграждает круговращения Духа. Однако это уже не факт каноники, и не может быть учтен для построения «нормальной» схемы Церкви. Это факт сверхканонического исключения, недоведо–мый пока в истории. Лучше всего сказал об этом Хомяков. «Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, т. е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с Нею узами, которые Бог не изволил Ей открыть, предоставляет Она суду великого дня» («Церковь одна», § 2). Да, есть узы недоведомые, неразрываемые отступлением и расколом… Но тем менее подобает успокаиваться и утешаться об этой недоведомой связи, небречь об этом милосердном даре единства. Но нужно стремиться осуществить, раскрыть и исполнить это единство в полноту Церкви, торжествующей в Духе и истине и на земле и в историческом свидетельстве… С этой точки зрения важнее всякое реальное «общее дело», чем даже прямая постановка вопроса о воссоединении… Ибо всего важнее именно самая реальность единства и верности, хотя и в малом… В этом отношении учено–богословское сотрудничество и взаимность есть несомненно реальный «униональный» акт, поскольку осуществляется солидарность хотя бы в стремлении к истине Христовой… Вопрос о воссоединении всего целесообразнее ставить именно как вопрос истины, — искать Истину, и Она не только освободит, но и соединит, ибо Истина едина и есть единство… Для воссоединения все в эмпирическом христианстве должно перемениться, — скажем иначе: преобразиться. Воссоединение нельзя мыслить, как соединение нынешних эмпирических реальностей. И в понятии при–соединения все же больше точности и четкости, чем в понятии простого со–единения. Здесь остается неясным: кто соединяется. А при–соединение мыслится к Истине… Воссоединение возможно только в Духе и силе, во вдохновении и святости. Потому вряд ли к нему придут на богословских конференциях, на съездах иерархов, вряд ли в Лозанне[154] и не в Стокгольме… И если воссоединению суждено совершиться в истории, то во всяком случае это будет уже в эсхатологических сумерках и в канун Парусин. Ибо это будет уже предварением и предвосхищением потусторонних судеб… Здесь многое неясно и уясняется каждому в его молитвенном бдении и искусе… Этим не ослабляется решительность заповеди: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь пребывающего Града, но взыскуем грядущего» (Евр. 13.13).
Январь 1933
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ ДОСТОЕВСКОГО
В творчестве Достоевского есть внутреннее единство. Одни и те же темы тревожили и занимали его всю жизнь. Достоевский считал и называл себя реалистом — «реалистом в высшем смысле». Неточно называть его психологом. И неверно объяснять его творчество из его душевного опыта, из его переживаний. Достоевский описывал и изображал не душевную, но духовную реальность. Он изображал первореальность человеческого духа, его хтонические глубины, в которых Бог с дьяволом борется, в которых решается человеческая судьба. Неверно говорить, что Достоевский объективировал или воплощал в своих творческих образах свои переживания, свои идеи. Достоевский совсем не замыкался в своих уединенных думах. Правда, в молодости он был «мечтателем». Но этот соблазн «мечтательства» он очень рано творчески преодолел в себе. Его душа открылась всем впечатлениям бытия. Достоевский был до болезненности наблюдателен. Он был взволнованно заинтересован всем происходившим вокруг. Он скорее страдал любопытством, нежели невниманием к жизни. Это было не простое любопытство, но метафизическая любознательность. Достоевский был созерцателем, не визионером. И ему дано было видеть таинственность первоосновы эмпирических событий. Он видел то, о чем рассказывал, — он описывал, что видел. В этом основа его реализма. Его творчество есть не истолкование, но изображение человеческой судьбы.
Очень рано Достоевскому открылась загадочная антиномия человеческой свободы. С одной стороны, весь смысл человеческой жизни он видел в ее свободе, — и притом в ее волевой свободе, в творческом самоизбрании и самоопределении. Ничто не может осуществиться иначе, как через волевую решимость и избрание. Поэтому Достоевский защищал не только своеобразие, но именно «своеволие» человека. Даже смирение и покорность возможны только через «своеволие», — иначе они не имеют цены. Но с другой стороны, никто сильнее и убедительнее, чем Достоевский, не изображал саморазрушительности свободы. Это — одна из самых интимных тем его творчества. Во имя «своеволия» или свободы Достоевский восстает против «всемства», против всякого объективного принуждения, обоснованного только в принудительности и необходимости. И вместе с тем он показывает, как протестант превращается в «подпольного человека», — и начинается мистическое разложение, распад личности. Одинокая свобода оборачивается одержимостью. Упрямый протест разрешается внутренним пленом. И более того, свобода превращается в принуждение и насилие. «Подпольный человек» становится сразу и насильником и одержимым. Свободным быть опасно. Но еще опаснее лишать свободы. Для Достоевского очень характерно, что он не столько моралистически или сентиментально жалеет униженных и угнетенных, сколько показывает метафизическую опасность угнетения для угнетателей. Кто покусится на свободу и на жизнь человека, тот сам погибнет. В этом тайна Раскольникова, в этом тайна «Наполеона». Оказывается безвыходное противоречие. Свобода должна быть внутренне ограничена. Иначе она обращается в свое отрицание. Достоевский видит и изображает этот мистический распад самодовлеющего дерзновения, вырождающегося в дерзость и даже в мистическое озорство. И показывает, как пустая свобода делает личность рабом страсти или идеи.
Антиномия человеческой свободы разрешается только в любви. Но ведь любовь может быть только свободной. Несвободная любовь вырождается в страсть, становится началом порабощения и насилия, — и для любимого, и для влюбленного. И снова Достоевский с жуткой прозорливостью изображает эту трагическую и антиномическую диалектику любви, — не только любви к женщине, но и любви к ближнему. Великий Инквизитор для Достоевского есть прежде всего жертва любви, несвободной любви к ближнему, любви к несвободе, любви через несвободу. Такая любовь выгорает, выжигает воспаленное сердце и сожигает мнимо–любимых, — убивает их обманом. Истинная любовь возможна только в свободе, только как любовь к свободе человека. Здесь открывается нерасторжимая связь: любовь через свободу и свобода через любовь. В этом для Достоевского была тайна соборности, тайна братства, тайна Церкви, — Церкви как братства и любви во Христе.
В своем творчестве Достоевский исходил из проблематики раннего французского социализма. Фурье и Жорж Занд многое ему открыли. И прежде всего — бесплодие и опасность свободы и равенства без братства. Для Достоевского это был не социальный, но метафизический вопрос. Он очень рано убедился, что одной симпатии или жалости недостаточно для братства. И еще более — для него открылась невозможность полюбить человека во имя человека. Это означало бы полюбить человека в его эмпирической смрадности, не в его свободе. И еще опаснее полюбить человека в его только человеческой правде, в его идеальном образе, — здесь всегда неотразима опасность «наклеветать» живому человеку его мнимый идеал, удушить его мечтою, оковать его выдуманной идеей. Из долгого раздумья Достоевский сделал вывод о невозможности гуманистического братства. Но от идеала братства он не отрекся, его правда была для него бесспорна.
От социалистической мечты о братстве Достоевский переходит к органическим теориям общества, перерабатывает славянофильские и романтические темы. Однако и в них он не находит искомого синтеза. Если человек не может и не должен становиться «органным штифтиком» в системе авторитарных отношений, то не может он и не должен становиться и медиумом естественных симпатических чувств. Органическое братство, организованное, пусть изнутри, «хоровым началом», очень мало будет отличаться от «муравейника».
Достоевский был слишком чутким тайнозрителем человеческой души, чтобы остановиться на органическом оптимизме. То правда, что органического соблазна он никогда до конца не преодолел И однако самый замысел органического братства у него преобразился Он понимал и признавал только братство в Христе, — через любовь к Христу — и к ближним в Христе. Достоевский готов был сказать еще больше: только во Христе и есть для нас ближние, только во Христе человек становится и может стать для человека ближним; без Христа и вне Христа люди, дальние друг другу, всегда остаются чужими, — и собственно способны только покушаться друг на друга насиловать и стеснять друг друга взаимной свободою и признанием.
Замысел Достоевского раздваивается. Он не отрекается от надежды на осуществление всечеловеческого братства, вводит этот идеал в свои исторические и публицистические схемы. Он остается утопистом, ждет и жаждет Царства Божия на земле, «надеется», что государство преобразится в Церковь. Но это остается у него только замыслом. Этого он желает, но не видит. Не видит не только потому, что этот идеал еще не свершился в исторической эмпирии. Ведь немногое из того, что видел Достоевский, видимо в эмпирическом плане. И сон Версилова снился в мистическом прозрении, и Великого Инквизитора Достоевский видел в «мире идей». Исторические образы для этих созерцаний были только «тенями» и «праобразами», только историческими символами первореальных событий. Очень характерно, что своих утопических идеалов Достоевский никогда не видел. Никогда перед ним не развертывалось светлое видение «Святой Руси» и «русского социализма». А говорил о них Достоевский часто и много. Напротив, видел он о них иное. Видел он не братство, но святых и праведных. Мечтал Достоевский о «русском социализме», а видел «русского инока». И вот что важно: этот инок и не думал, и не хотел строить ни братства, ни социализма. Ни Макар Иванович, ни старец Зосима, ни Тихон Задонский, которого Достоевский творчески лобызал своим художественным проникновением, — все они не были историческими деятелями и строителями. Но именно они, в восприятии Достоевского, осуществляли и любовь, и свободу, и братство до конца. Так у Достоевского прозрение расходилось с мечтою.
Однако и в своих исторических размышлениях Достоевский оставался метафизиком. И разрешал не социальный вопрос, но вопрос о последней судьбе человека. История открывалась ему как непрерывный Апокалипсис, как решение вопроса о Христе. Это он видел в истории. Видел, как строится Вавилонская башня. Видел, как встретился Христос с Аполлоном, как столкнулась мечта о человекобоге с истиной о Богочеловеке. Видел, как в истории западного человечества осуществилась не только идея, но страстная воля к человекобожию, жажда имманентного апофеоза человечества и окончательного устроения во имя человека. И эта воля открывалась в осуществлении несвободы, в создании «муравейника», в страстных грезах о Хрустальном дворце.
Достоевского больше привлекал западный человек, чем западная культура. Его тревожила западная тоска, противоречия западного и европейского духа. Он прозревал и изображал метафизическую и религиозную, мистическую болезнь этого духа. Смысл этой болезни он видел в соблазне о свободе и потому в соблазне о Боге. Ибо уверовать и принять Бога невозможно иначе, как в свободе.
Метафизическое или мистическое отравление западной жизни Достоевский созерцал в живых человеческих образах. И в них он правдивее и зорче видел и изображал ту метафизическую историю человеческого духа, о которой так скорбело его сердце, нежели в исторических схемах или в публицистических обличениях. Достоевский любил Запад. И не только потому, что многому научился у западных мыслителей и искателей, не только потому, что видел и чувствовал на Западе вторую родину русского духа. И даже не потому, что история неотвратимо сталкивала Россию с Европой, так что иначе и нельзя решить русского или православного вопроса, как чрез разрешение вопроса о Европе. Для Достоевского в этом была не историческая неизбежность, но христианский долг. На Западе не померк образ Спасителя. В самом отречении от Христа, в самой одержимости гуманитарным соблазном Запад оставался для Достоевского христианским миром. И здесь Бог с дьяволом борется, и поле битвы — сердца людей. Достоевского волновала тоска и гибель западного человека. От нее нельзя отвернуться, ибо здесь решается судьба человеческих душ. Снова во имя любви и соборности, во имя всечеловеческого братства Достоевский стремился к вселенскому синтезу, к снятию «европейских противоречий». И в этом сказывалась, прежде всего, его напряженная, исступленная любовь к человеку.
Достоевского часто и до сих пор называют «жестоким талантом». И то верно, что страшное и жуткое рассказывает он о человеке. Всего страшнее его рассказ не тогда, когда он изображает человека в ярости и буйстве, в огненном вихре страстей и искушений, — всего страшнее его рассказ тогда, когда с неподражаемой зоркостью он изображает мертвую зыбь распавшегося духа, опустошение падших людей, когда он показывает страшные образы небытия. Таков Ставрогин. И тихое беснование и немочь страшнее бури. Но и над этим небытием звучит торжественная и всепобеждающая Осанна. В этой Осанне величайшая тайна Достоевского. В ней его сила. Он не соблазнился тайнозрением зла. Совсем не потому, что увидел в злой жизни только кривые пути добра. Напротив, для Достоевского злой мир открывался в своей окончательной замкнутости, — выйти из него можно только скачком или взлетом. И не потому не соблазнялся Достоевский, что верил в Божие всемогущество и в победу Божией силы над черной немочью греха. Он ждал победы не от всемогущества, но от Божественной любви. Но самое главное — он никогда не соблазнялся о человеке. Никогда для него не закрывался образ Божий в человеке. Не закрывался потому, что всюду его открывала любовь. Эта любовь сохраняла Достоевского от пессимизма. Она сохраняла его от испуга и страха. Он веровал от любви, не от страха. Пред духовным взором Достоевского всегда стоял образ Христа. И он свидетельствовал о бесконечности Божественной любви к человеку. Невозможно человеку вступать в спор с Богом и умалять Божественное свидетельство о человеке своим отчаянием или сомнением.
Напрасно Достоевского обвиняли в «розовом христианстве». Его вера была трезвой и мужественной. Он ни от себя, ни от других никогда не скрывал всего ужаса и всего трагизма греховной и падшей жизни. Но истинная вера не может извериться. Она выше отчаяния. Вера рождает надежду. И надежда светится и светит «Спокойствие для человека, источник жизни и спасения от отчаяния всех людей и условие sine qua non для бытия всего мира заключается в трех словах: «Слово плоть бысть». В этом откровении источник силы и веры Достоевского, источник его радости, — радости о Богочеловеке.
Опубликовано: О Достоевском. — М., 1990. — С. 386–390
ХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
С начала IV столетия в жизни Церкви наступает новая эпоха. Империя — в лице «равноапостольного» кесаря — принимает христианство. Для Церкви заканчивается ее вынужденная изоляция, и она принимает под свои священные своды ищущий спасения мир. Но вместе с собой мир приносит свои страхи, свои сомнения и свои искушения. Странная смесь гордыни и отчаяния царила в мире. Церковь была призвана помочь избавиться от отчаяния и смирить гордыню. Во многих отношениях IV век был, скорее, эпилогом, чем зарей нового дня. Это был, скорее, конец обветшавшей эпохи, чем подлинное начало. Однако часто случается так, что из пепла рождается новая цивилизация.
В течение никейского периода для большинства людей «распалась связь времен» и воцарилась — в области культуры — чудовищная дисгармония. Два мира — христианство и эллинизм — противостояли друг другу, вступив друг с другом в конфликт. Современным историкам свойственно недооценивать боль существовавшего тогда напряжения и глубину конфликта. Церковь — в принципе — не отрицала культуру. Уже находилась в процессе становления христианская культура. В каком–то смысле христианство уже внесло свой вклад в сокровищницу эллинистической цивилизации. Александрийская школа оказала значительное влияние на современные ей течения в области философии. Но эллинизм не был готов уступить Церкви что бы то ни было. Отношения между Климентом Александрийским и Оригеном, с одной стороны, и Кельсом (Цельсом) и Порфирием, с другой, были типичны и показательны. Основную роль в этом конфликте играла не внешняя борьба. Гораздо более трудной и трагичной была борьба внутренняя: каждый последователь эллинистической традиции был вынужден в то время пережить и преодолеть внутренний раздор и разлад.
Цивилизация означала не что иное, как эллинизм, со всем его языческим наследием, умственными привычками и эстетическими идеалами. В многочисленных храмах все еще почитались «мертвые боги» эллинизма, и значительное число интеллектуалов все еще поддерживало языческие традиции. Посещать школу в те времена означало посещать языческую школу и изучать языческих писателей и поэтов. Юлиан отступник вовсе не был просто старомодным мечтателем, безнадежно пытавшимся реставрировать умершие идеалы, но был представителем культурного сопротивления, которое не было еще разрушено изнутри. Древний мир перерождался и трансформировался в отчаянной борьбе. Вся внутренняя жизнь эллинистического человека должна была подвергнуться коренным изменениям. Этот процесс протекал медленно и драматично и, наконец, привел к рождению новой цивилизации, которую можно было бы назвать Византийской цивилизацией. Необходимо понять, что в течение многих столетий существовала единая христианская цивилизация, одна и та же для Востока и для Запада, и эта цивилизация родилась и развивалась на Востоке. Специфически западная цивилизация возникла гораздо позже.
Сам Рим был достаточно византийским еще в VIII веке. Византийская эпоха начинается если не с самого Константина, то, во всяком случае, с Феодосия и достигает вершины при Юстиниане. Именно в его время христианская культура начинает строиться сознательно и получает свое завершение как система. Новая культура была грандиозным синтезом, в который вошли и смешались все творческие традиции и движения прошлого. Это был «новый эллинизм,” но эллинизм радикально христианизированный и, так сказать, «воцерковленный.» Многие до сих пор сомневаются в христианской сущности этого нового синтеза. Не был ли этот процесс всего лишь «острой эллинизацией» «библейского христианства,” в которой растворилась и потерялась вся новизна Откровения? Не был ли этот новый синтез просто–напросто замаскированным язычеством, облекшимся в новые одежды? Таково было убежденное мнение Адольфа Гарнака. В настоящее время, в свете беспристрастного научного изучения, мы можем решительно опротестовать такое упрощенное понимание. То, что историки XIX века привыкли описывать как «эллинизацию христианства,” было, скорее, обращением эллинизма. И почему бы эллинизму было не обратиться? Христианское включение в себя эллинизма не было лишь механическим поглощением трудно перевариваемого языческого наследия. Наоборот, происходило подлинное обращение эллинского ума и сердца,
На самом деле происходило следующее. Эллинизм был мощно рассечен мечом христианского Откровения на две взаимоисключающие части. Замкнутый горизонт был взорван. Можно было бы назвать Оригена и Августина «эллинистами.» Но совершенно очевидно, что их эллинизм был совсем иной, в сравнении с Плотином или Юлианом. Из декретов Юлиана самым тяжелым для христиан был декрет, запрещавший христианам преподавать науки и искусства. Фактически это была запоздалая попытка исключить христиан из строительства цивилизации, защитить древнюю культуру от христианского влияния и давления. Именно это сильно задевало каппадокийских Отцов Церкви. И св. Григорий Назианзин в своих проповедях против Юлиана уделяет много внимания этому вопросу. Св. Василий чувствовал себя обязанным писать и обращаться к «молодым людям по поводу того, какую можно извлечь пользу из эллинской литературы.» Два столетия спустя Юстиниан отстранил нехристиан от всякой преподавательской и просветительской деятельности и закрыл языческие школы. Эта мера не была проявлением враждебности к «эллинизму.» Традиция не была прервана. Традиции сохранялись и даже культивировались, но они были вовлечены в процесс христианского переистолкования. В этом состоит сущность Византийской культуры. Были восприняты и подвергнуты переоценке все основные составляющие культуры. Живым символом достигнутого успеха навсегда останется великолепный храм Св. Премудрости, Вечного Слова — великая церковь Св. Софии в Константинополе.
История христианской культуры ни в коем случае не является идиллической. Она протекала в непрестанной борьбе и столкновениях противоположных тенденций. Уже IV век был временем трагических противоречий. Империя стала христианской. Возник шанс преобразовать всю человеческую творческую деятельность. И однако именно из этой христианизированной империи начинается бегство: бегство в пустыню. Правда, отдельные индивидуумы и раньше, во времена преследований, покидали города, с тем чтобы поселиться в пустыне или горных пещерах. В течение долгого времени аскетический идеал находился в процессе становления, и, в частности, великим учителем духовной жизни был Ориген. Однако соответствующее движение возникает только после Константина. Было бы крайне несправедливо подозревать тех, кто оставлял «мир,” в том, что они делали это из–за слишком больших мирских трудностей, из–за нежелания нести их груз, в поисках «легкой жизни.» Непонятно, в каком смысле жизнь в пустыне могла бы считаться «легкой.» Правда, на Западе в то время империя распадалась на части, ей всерьез угрожало нашествие варваров, и апокалиптические страхи и предчувствия, ожидание скорого конца истории были там особенно живы.
В то же время на Востоке христианская империя находилась в процессе созидания. Здесь легче было поддаться искушению историческим оптимизмом, мечтой осуществления Града Божия на земле. И многие на самом деле соблазнились этой мечтой. Если же, тем не менее, на Востоке было много таких, кто предпочел «эмигрировать» в Пустыню, у нас есть все основания полагать, что они убегали не столько от мирских тревог и трудностей, сколько от «мирских привязанностей и суетности,” проявлявшихся даже в христианской цивилизации. Св. Иоанн Златоуст настойчиво предостерегал против опасностей «благосостояния.» По его словам, «безопасность представляет большую угрозу, чем все преследования,” гораздо худшую, чем самое кровавое гонение, исходящее извне. Согласно Златоусту, реальная опасность для подлинного благочестия возникла как раз в результате внешней победы Церкви, когда христианин получил возможность «устроиться» в этом мире со значительной степенью безопасности и даже комфорта и потому забыть о том, что он не имеет в этом мире постоянного Града и обречен на то, чтобы быть странником и пришельцем на земле. Значение монашества прежде всего состоит не в принятии суровых обетов. В ранние века не было особого «монашеского» идеала. Первые монахи просто желали реализовать в полной мере общий христианский идеал, в принципе стоявший перед каждым верующим. Считалось, что эта реализация была практически неосуществима в рамках тогдашнего устройства общества и жизни, даже если оно выступало под именем Христианской Империи. Уход в монашество в IV веке был, прежде всего, уходом от Империи. Аскетическое отречение, прежде всего, предполагает полный отказ от собственности, от владения этим миром, то есть от порядка этого мира, от его социальных связей. Монах должен быть «бездомным,” по слову св. Василия. Аскетизм, как правило, не требовал отрицания Космоса. И Богом созданная красота природы гораздо более живо воспринималась в пустыне, чем на рыночной площади делового города.
Монастыри создавались в живописных местностях; в агиографической литературе присутствует острое чувство космической красоты. Обиталище зла находится не в природе, а в человеческом сердце или в мире злых духов. Христианский уход направлен не против плоти и крови, но «против духов злобы поднебесных» (Еф 6:12). Только в пустыне можно в полной мере реализовать свою всецелую верность единому Небесное Царю, Христу, преданность Которому может быть серьезно ограничена требованиями, предъявляемыми к жителю града, возведенного руками человеческими.
Монашество никогда не носило антисоциальный характер. Оно представляло собой попытку построить иной Град. В каком–то смысле монашество есть «экстерриториальная колония» в этом мире суеты. Даже затворники селились обычно группами или колониями и объединялись под общим руководством своего духовного отца. Но наиболее адекватным воплощением аскетического идеала всегда считалось общежитие. Сама монашеская община есть социальная организация, «тело,” малая Церковь. Монах оставлял мир, для того чтобы строить новое общество, новую общинную жизнь. Таковым было, во всяком случае, намерение св. Василия. Св. Феодор Студит, один из наиболее влиятельных и авторитетных руководителей поздневизантийского монашества, был еще более строг и настойчив в атом отношении. Уже начиная с Юстиниана Империя была озабочена тем, чтобы приручить монашество, включить его в общую политическую и социальную структуру. Частично ей это удалось, что привело только к упадку. Во всяком случае, монастыри всегда остаются в каком–то смысле чужеродными вкраплениями и никогда не растворяются полностью в имперском порядке жизни. Можно предположить, что, с исторической точки зрения, монашество было попыткой уйти от строительства христианской империи. В свое время Ориген утверждал, что христиане не могут участвовать в общей гражданской жизни, потому что они имеют свой собственный отдельный «полис,” свое «иное понятие отечества» (Ориген, Против Цельса, VIII, 75). Они жили по законам, противоположным законам мирского града.
В «христианизированном» граде это противопоставление не было устранено. По–прежнему монашество есть нечто иное, нечто вроде «антиграда,” так как оно есть поистине «иной» град. По своей сути оно всегда остается вне любой мирской системы и часто утверждает свою «экстерриториальность» даже по отношению к общецерковной системе, претендуя на определенную независимость от местной или территориальной юрисдикции. Монашество, в принципе, есть исход из мира, уход от естественного социального порядка, отказ от семьи, определенного социального статуса и даже гражданства. Но это не просто исход из, но также переход в другую социальную плоскость, в иное социальное измерение, В этой социальной «иноприродности» и состоит основная особенность монашества как движения, а также его историческое значение. Аскетические добродетели могут развивать в себе и миряне, и все те, кто остается в мире. Что в монашестве особое, так это его социальная структура. Христианский мир был поляризован. Христианская история разворачивается между противоположными полюсами: Империей и Пустыней. Своей кульминации напряжение между ними достигло в страшном взрыве ожесточения и ярости, которые сопровождали иконоборческие споры.
Из того, что монашество не принимает и отрицает понятие христианской империи, не следует, что оно вообще противоречит всякой культуре. Ситуация гораздо сложнее. И, прежде всего, монашеству удалось гораздо в большей степени, чем Империи, сохранить истинный идеал культуры в его чистоте и свободе. Во всяком случае, духовное творчество питается и черпает свои силы из глубин духовной жизни, «Христианская святость синтезирует в себе все основные и высшие достижения древней философии,” как удачно заметил один русский ученый. «Начиная с Ионии и Великой Греции главный поток великой греческой мысли шел через Афины в Александрию и оттуда в Фиваиду. Скалы, пустыни и пещеры становятся новыми центрами теургической мудрости.» Монашеский вклад в общечеловеческие знания о мире был очень велик в Средние века как на Востоке, так и на Западе.
Монастыри были крупными центрами учености и знания. Не следует также упускать из вида еще одну сторону дела. Монашество было само замечательным явлением культуры. Не случайно в писаниях патристического века аскетические труды неизменно описываются как «философия,” «любовь к мудрости.» И не было случайностью, что великие традиции александрийского богословия возродились и расцвели особенно в монашеских кругах. Не случайно также, что у каппадокийцев IV века столь органически переплетались аскетические и культурные интересы. И позднее св. Максим Исповедник построил грандиозный богословский синтез именно на основе своего аскетического опыта. Наконец, не было случайностью, что в иконоборческий период монахам приходилось быть защитниками искусства, отстаивающими свободу религиозного искусства от давления государства, от «просвещенного» и утилитарно упрощенного подхода.
Все это тесно связано с самой сущностью аскетизма. Аскеза не ограничивает творчества; наоборот, она освобождает его, потому что ставит его своей целью как таковое. Здесь на первом месте — творческая работа над собой, творческое созидание своего «Я.» Творчество освобождается от всех видов утилитаризма только через аскетическую его интерпретацию. Аскеза заключается не в запретах. Это — деятельность, «выработка» своего истинного «Я.» Она динамична. Она содержит в себе стремление к бесконечному, вечный призыв, неуклонное движение вперед. Причина этой неутомимости — двоякая. Задача бесконечна по характеру, ибо путь совершенствования — Божественного совершенствования — бесконечен. Ни одно достижение никогда не может быть соизмеримо с целью. Это задача творческая, ибо должно быть приведено к существованию нечто совершенно новое. Человек созидает себя самого в полном посвящении себя Богу. Он становится самим собой только в этом творческом процессе. Истинная аскеза содержит в себе видимое внутреннее противоречие. Она начинается со смирения, самоотречения, послушания. Творческая свобода невозможна безначального самоотречения. Это закон духовной жизни: семя не прорастает, если оно не умирает. Следствием самоотречения является преодоление личной ограниченности и обособленности, абсолютное отдание себя Истине. Это не значит: сначала самоотречение, потом свобода. Само смирение уже есть свобода. Аскетическое отречение высвобождает дух, освобождает душу. Без свободы любые умерщвления плоти будут тщетны. С другой стороны, благодаря аскетическим трудам изменяется и обновляется само видение мира.
Истинное видение доступно только тому, в ком нет эгоистического начала. Истинный аскетизм вдохновляется не презрением, а стремлением к преобразованию. Миру должна быть возвращена его первоначальная красота, от которой он отпал в грех. Именно поэтому такой аскетизм ведет к действию. Само искупление совершено Богом, но человек призван быть соработником в этом спасительном акте. Ибо искупление состоит как раз в искуплении свободы. Грех есть рабство, а «вышний Иерусалим свободен.» Такая интерпретация аскетических трудов может показаться неожиданной и странной. Разумеется, она не является полной. Мир аскезы — сложный, так как он относится к сфере свободы. Есть много дорог, некоторые из которых могут заканчиваться тупиком. С исторической точки зрения, аскетизм, разумеется, не всегда ведет к творчеству. Однако следует четко различать между равнодушием к творческим задачам и их полным отрицанием. Благодаря аскетической Практике открылось множество новых многообразных проблем культуры, была явлена новая иерархия ценностей и целей. Отсюда видимое безразличие аскетизма ко многим историческим задачам. Это вновь возвращает нас к конфликту между Историей и Апокалипсисом. Основной вопрос — о значении и ценности всего исторического процесса. Во всяком случае, христианская цель выходит за пределы истории, так же как и за пределы культуры. Но Человек был создан для того, чтобы наследовать вечность.
Аскетизм можно определить как «эсхатологию преображения.» Аскетический «максимализм,” главным образом, вдохновляется уверенностью в конце истории. Точнее сказать: не реальным ожиданием, а убеждением. Исчисление времен и дат несущественно и даже представляет опасность и соблазн. Но что важно — это постоянное применение «эсхатологических мерок» в оценке всех вещей и событий. Было бы несправедливо предположить, что ничто на земле не может выдержать этого «эсхатологического» испытания. Не все обречено на исчезновение. Несомненно, в Царстве Небесном нет места ни для политики, ни для экономики. Но, очевидно, в этой жизни есть много ценностей, которые не будут отвергнуты и в «жизни будущего века.» Это, прежде всего, Любовь. Не случайно монашество неизменно принимает форму общин, общежития. Это организация, предназначенная для взаимной заботы и помощи. Любой акт милосердия или даже просто горение сердца из–за чьих–то страданий и нужд не может рассматриваться как нечто незначительное в эсхатологическом измерении. Разве это слишком много — считать, что любая творческая благотворительность войдет в вечность? И не раскрываются ли так некоторые вечные ценности в области знания? Трудно что–либо утверждать с полной уверенностью. И все же, кажется, некоторым критерием мы располагаем. Во всяком случае, человеческая личность выходит за пределы истории.
Личность несет историю в самой себе. Я бы перестал быть самим собой, если бы из меня вычли мой конкретный, то есть исторический, опыт. Поэтому история не исчезнет полностью даже в «жизни будущего века,” если там сохранится конкретность человеческой жизни. Конечно, мы не можем провести четкую демаркационную линию, разделяющую те земные вещи, что могут иметь «эсхатологическое продолжение,” и те, что должны умереть на эсхатологическом пороге, — в реальной жизни они неизбежно тесно переплетены. Разделение зависит от духовного различения, .от духовного ясновидения. С одной стороны, очевидно, существует только «единое на потребу.» С другой стороны, грядущий мир, несомненно, есть мир вечной Памяти, а не вечного забвения. И «благую часть, которая не отнимется,” получит не только Мария, но и Марфа. Все, что допускает преображение, будет преображено. Это преображение, в каком–то смысле, начинается уже по эту сторону эсхатологической границы. «Эсхатологические сокровища» должны быть собраны в этой жизни. В противном случае эта жизнь оказалась бы тщетной. Некоторое реальное предвосхищение конечного грядущего доступно уже сейчас, иначе победа Христа была бы тщетной. «Новое творение» уже началось. Христианская история есть более чем пророческий символ, знак или намек. Мы всегда обладаем, хотя и смутным, предчувствием того, какие вещи не имеют и не могут иметь «вечного намерения,” и мы определяем их как «пустые» и «суетные.» Наш диагноз может оказаться ошибочным. И все же какой–то диагноз неизбежен. Христианство исторично по самой своей сути. История — это священный процесс. С другой стороны, христианство произносит суд над историей и само в себе есть движение к тому, что находится «за пределами истории.» По этой причине христианское отношение к истории и культуре является неизбежно антиномичным. Христиане не должны «раствориться» в истории. Но они не могут сбежать в некое «естественное государство.» Они должны выйти за пределы истории ради того, чего «вместить не могут жизни берега.» Однако эсхатология сама есть всегда Свершение.
Владимир Соловьев указывал на трагический разлад в византийской культуре. «Византия была благочестива в вере и неблагочестива в жизни.» Разумеется, это только яркий образ, а не точное описание. Мы можем, однако, допустить, что в этой формулировке содержится некая доля истины. Идея «воцерковленной» Империи потерпела крушение, Империя распалась на части в кровавых конфликтах, выродилась в фальшь, двусмысленность и насилие. Пустыня имела больше успеха. Она навсегда останется свидетельством творческих усилий ранней Церкви, с ее византийским богословием, благочестием, искусством. Быть может, она останется наиболее живой и священной страницей в таинственной книге человеческой судьбы, написание которой все еще продолжается. Эпилог Византии также был выразителен. И опять та же двойственность и полярность: падение Империи после двусмысленного политического союза («Унии») с Римом (во Флоренции), которая так никогда и не была принята народом. И в самый канун падения «прогнившей Византии» — славное цветение мистического созерцания на Горе Афон и возрождение в искусстве, в философии, отблеск которого ложится и на западное Возрождение. Крушение Империи и исполнение Пустыни.
1952
Опубликовано в книге: Г.В.Флоровский, «Избранные богословские статьи,” издательство «Пробел,” Москва, 2000 год, с.218–227
О СМЕРТИ КРЕСТНОЙ
Мысль мою Твоим смирением сохрани…
(Из вечернего правила).
I
«Слово плоть бысть» — в этом высшая радость христианской веры. В этом — полнота Откровения. И откровения не только о Боге, но и о человеке… В Воплощении Слова открывается и осуществляется смысл человеческого бытия. Во Христе — Богочеловеке явлена мера и высший предел человеческой жизни. Ибо «Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы и человек стал сыном Божиим», как говорил сщмч. Ириней [155]… В воплощении Слова не только восстанавливается первозданная цельность и полнота человеческой природы. И человеческая природа не только возвращается к утраченному Богообщению — но обновляется, воссозидается, новотворится… Первый Адам был до падения духоносным человеком… «Последний Адам» есть Господь с небеси (1 Кор. 15, 47)… И в Воплощении Слова человеческое естество не только помазуется сверхизбыточным излиянием благодати, но приемлется в ипостасное единство со Словом, как «собственное» Ему человечество, уже нераздельно и неразлучно соприсущее Ему в Его собственной ипостаси… В этом восприятии человеческого естества в непреложное общение Божественной жизни древние отцы видели смысл спасения, смысл искупительного дела Христова… «То спасается, что соединяется с Богом», — говорил свт. Григорий Богослов [156]… Это основной мотив богословия сщмч. Иринея, свт. Афанасия, свв. Каппадокийцев, свт. Кирилла Александрийского, преп. Максима Исповедника. Вся история христологического догмата определяется этой основной предпосылкой: Воплощение Слова как Искупление… В Воплощении Слова сбывается человеческая судьба, свершается предвечное Божие изволение о человеке — «еже от века утаенное и ангелом несведомое таинство»… И отныне жизнь человека, по слову апостола, «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3, 3).
Воплощение Слова было абсолютным Богоявлением. И прежде всего — явлением Жизни… Христос есть Слово Жизни, ? lOgoj tAj zwAj… «Ибо Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную Жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1, 1–2) [157]… Воплощение Слова есть оживотворение человека, некое воскрешение человеческого естества. Но Воплощением только начинается Евангельская история Бога Слова… Исполняется она в смерти, и смерти крестной. Жизнь открывается нам через смерть… В этом таинственный парадокс христианской веры: жизнь через смерть как воскресение от вольной смерти — жизнь от гроба и из гроба — таинство живоносного и животворящего гроба… И каждый рождается к подлинной и вечной жизни только через крещальное умирание, через крещальное сопогребение Христу — возрождается со Христом от погребальной купели… В этом непреложный закон истинной жизни… «Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет» (1 Кор. 15, 36).
«Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти» (1 Тим. 3, 16). Но «явился» Бог не затем, чтобы сразу и действием Своего всемогущества пересоздать мир, и не затем, чтобы сиянием Своей славы его сразу просветить и преобразить… Божественное изволение не упраздняет изначального законоположения человеческого «самовластия» (tO aUtexoUsion), не отменяет и не нарушает «древнего закона человеческой свободы»… И в этом сказывается некое самоограничение, некий кенозис Божественной воли… И более того — некий кенозис и самой Божественной любви. Божественная любовь как бы связывает и ограничивает Себя соблюдением тварной свободы… И Божественная жизнь является в уничижении, не в славе… Не многие узнавали под «зраком раба» Господа славы… А кто узнавал — узнавал не силою естественной прозорливости, но по Отчему откровению (ср.: Мф. 16, 17)… Воплощенное Слово является на земле как человек среди человеков… Это было искупительным восприятием всей человеческой полноты — не только человеческой природы, но и всей полноты человеческой жизни… Воплощение должно было раскрыться во всей полноте жизни, в полноте человеческих возрастов — в этом один из аспектов замечательной мысли о «возглавлении» всяческих во Христе, которая вслед за апостолом Павлом с такою силою была развита сщмч. Иринеем [158]… Это было «уничижением» Слова (ср.: Флп. 2, 7). Но не было умалением или «истощанием» Его Божества, которое пребывает в Воплощении неизменным, «кроме вращения» (?neu tropAj). Это было скорее возвышением человека, «обожением» человеческого естества [159]. Нужно подчеркнуть: в Воплощении Словом воспринята первозданная человеческая природа, свободная от первородного греха, кроме греха… Этим не нарушается полнота природы, не нарушается «единосущие» Спасителя по человечеству с нами, грешными людьми. Ибо грех не принадлежит к человеческой природе, есть на ней некий паразитарный и противоестественный нарост — это с большою силою было показано свт. Григорием Нисским и особенно преп. Максимом Исповедником в связи с учением о воле как о седалище греха [160]… В Воплощении Словом воспринимается первозданное человеческое естество, созданное «по образу Божию» — потому в воплощении и «восстанавливается» образ Божий в человеке… И это восприятие не было еще восприятием человеческих страданий, не было восприятием страждущего человечества… Иначе сказать, это было восприятием человеческой жизни, но не смерти… Свобода Спасителя по человечеству от первородного греха означает и Его свободу от смерти как от «оброка греха». Спаситель уже от рождения неповинен тлению и смерти, подобно Первозданному: уже может не умереть (potens non mori), хотя еще и может умереть (potens autem mori). И поэтому смерть Спасителя была и могла быть только вольною — не по необходимости падшего естества, но по свободному изволению и приятию.
Нужно различать: восприятие человеческой природы и взятие греха… Христос есть «Агнец Божий вземляй грех мира» (Ин. 1, 29)… Но не в Воплощении вземлет Он грех мира… Это подвиг воли, не необходимость природы… Спаситель подъемлет и несет грех мира (скорее, чем приемлет или воспринимает) свободным изволением любви — Своей человеческой любви. И несет его так, что он не становится его собственным грехом, не нарушает непорочности Его природы и воли. Несет его вольно — потому и имеет спасительную силу это «взятие» греха как свободное движение сострадания и любви [161]… Это взятие греха не исчерпывается состраданием… В этом мире, который «во зле лежит», самая непорочность и праведность есть уже страдание, источник или причина страдания или тесноты. И потому, что праведное сердце скорбит и болеет о неправде; и потому, что страждет от неправды мира сего… Жизнь Спасителя, как жизнь праведника, как жизнь пречистая и невинная, неизбежно должна была оказаться в этом мире жизнью страждующей и страдальческой… Добро тесно для мира, и мир сей тесен для добра… Мир сей отвергает добро и ненавидит свет. И не приемлет Христа, и ненавидит Его и Отца Его (ср.: Ин. 15, 23–24)… И Спаситель подчиняется порядку этого мира, долготерпит — и самое противление мира покрывает Своей всепрощающей любовью: «не ведят бо, что творят» (Лк. 23, 34)… Вся жизнь Спасителя была единым откровением любви, единым подвигом страждующей любви… Вся жизнь Спасителя есть единый Крест… Но страдание еще не весь Крест… И Крест больше, чем страждующее Добро… Жертва Христова не исчерпывается послушанием, долготерпением, состраданием, всепрощением… Нельзя разрывать на части единое искупительное дело Христово. Земная жизнь Спасителя есть единое органическое целое, и не следует связывать его искупительный подвиг с одним каким–либо отдельным ее моментом. Однако вершина этой жизни — в смерти. И о часе смертном прямо свидетельствовал Господь: «сего ради придох на час сей» (Ин. 12, 27)…
Таинство Креста смущает и мысль и чувство — кажется непонятным и странным это «ужасное смотрение»… Вся священная жизнь Богочеловека была единым великим подвигом долготерпения, милосердия, любви… И вся она озарена присносущным сиянием Божества — правда, незримым для плотского и греховного мира… Но на Голгофе, не на Фаворе, совершается спасение — и Крест следует за Иисусом и на самый Фавор (ср.: Лк. 9, 31)… Христос приходит не только для того, чтобы учить со властию и сказать людям имя Отчее, и не только для дел милосердия. Он приходит пострадать и умереть. Об этом Он сам свидетельствовал не раз — пред смущенными и недоумевающими учениками. И не только пророчествовал о грядущей страсти и смерти, но прямо говорил, что Ему «надлежит», что Ему должно пострадать и быть убиту… Именно «надлежит», не только предстоит… «И начал учить их, что Сыну человеческому много должно пострадать, быть отвергнуту старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и воскреснуть в третий день» (Мк. 8, 31; Мф. 16, 21; Лк. 9, 22; ср. 24, 26)… «Надлежит» не только по закону мира сего, не только по законам ненависти и злобы. Смерть Господа вполне свободна. Никто не отнимает жизни у Него. Он сам полагает душу Свою, по Своей воле и власти — «имею власть», ™xous…an ?cw! (Ин. 10, 18). По катехизическом определению, Он страдал и умер «не потому, что не мог избежать страдания, но потому что восхотел пострадать»… Восхотел не только в смысле вольного долготерпения или непротивления, не в том только смысле, что попустил совершиться на Собою беснованию греха и неправды. Не только попустил, но изволил… Умереть «надлежало» по закону Божию , по закону правды и любви. Это не необходимость греховного мира. Это — необходимость Божественной любви. Таинство крестное начинается в вечности — «в недоступном для твари святилище триипостасного Божества»… И в земном таинстве раскрывается премирная тайна Божией Премудрости и Любви. Потому и говорится о Христе как об Агнце, «предуведенном прежде сложения мира» (1 Пет. 1, 19) и даже — «заколенном от сложения мира» (Откр. 13, 8)… И, как говорил Филарет Московский: «Крест Иисусов, сложенный из вражды иудеев и буйства язычников, есть уже земной образ и тень сего небесного Креста любви» [162]… В эту Божественную необходимость крестной смерти с трудом проникает человеческая мысль.
О Крестной тайне Церковь свидетельствует не в однозначных догматических формулах. И до сих пор Она повторяет богодухновенные слова Нового Завета, слова апостольского проповедания, говорит в образах и описательно. Это значит, что трудно найти слова и речения, которыми удавалось бы точно и до конца выразить «великую тайну благочестия»… И прежде всего нельзя точно и до конца раскрыть смысл Крестного таинства в одних только этических категориях. Моральные и, тем более, правовые понятия остаются здесь всегда только бледными антропоморфизмами. Это относится и к понятию жертвы. Жертву Христову нельзя понимать только как пожертвование… Это не объяснит необходимости смерти. Ибо вся жизнь Богочеловека была бесконечной жертвой. Почему же пречистой Жизни недостаточно для победы над смертью — и смерть побеждается только через смерть… И, к тому же, есть ли смерть для праведника, для Богочеловека, жертва в смысле отказа от доброго и любимого — особенно в предвидении воскресения, в третий день… Не открывает до конца смысл Крестной смерти и идея Божественной справедливости, justicia vindicativa. В понятиях счета и уравнения, возмездия и удовлетворения нельзя исчерпать тайну Крестного отречения и любви. Если ипостасным соединением с Божеством бесконечно усилена значимость смерти Христовой, разве не в той же мере умножены в силе и вся Его жизнь, и все Его дела — дела не только Праведника, но Богочеловека… Разве не покрывают Его дела с избытком и лукавое неделание, и грешные деяния всего падшего человечества… Наконец, в страстях и Крестной смерти нет той справедливой необходимости, определяемой Законом, которая была бы в каждой смерти праведника. Ибо это не страдания и смерть человека, силою внешней помощи усовершившегося в терпении и послушании и тем стяжавшего от Бога большую благодать. Это — страдания Богочеловека, страдания непорочного человеческого естества, уже «обоженного» восприятием в ипостась Слова… Не объясняет этого и идея «заместительного» удовлетворения, satisfactio vicaria схоластики. Не потому, что невозможно «замещение». Но потому, что Бог не ищет страдания твари — Он скорбит о них… Как может карательная смерть пречистого Богочеловека быть упразднением греха, если смерть вообще есть оброк греха — и только в греховном мире и есть смерть… Разве «справедливость» стесняет милосердие и любовь, так чтобы нужна была Крестная смерть для освобождения милующей любви Божией от запретов уравнительного правосудия… Все эти сомнения с дерзновением и силою выразил уже свт. Григорий Богослов в своем знаменитом Пасхальном слове (которое, кстати сказать, по Типикону положено в качестве первого «уставного чтения» за Пасхальной Заутреней, на третьей песне)… «Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь — кровь великая и преславная, кровь Бога, и Архиерея, и Жертвы… Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение… Если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, — спрашиваю: кому и по какой причине принесена такая цена… Если лукавому, то как сие оскорбительно… Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога — за свое мучительство получает такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас… Если же Отцу, то, во–первых — каким образом? Не у Него мы были в плену… И во–вторых, по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы давши овна»… Своими вопросами свт. Григорий хочет показать необъяснимость Крестной смерти из требований уравнительной справедливости. Он не оставляет вопроса без ответа и заключает: «из сего видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога» [163]…
Спасение есть не только прощение грешника, не только «примирение» Бога с ним. Спасение есть снятие и отмена самого греха — избавление человека от греха и от смерти. И спасение исполнилось и совершилось на Кресте — «кровию Креста» (Кол. 1, 20) [164]… Не только Крестным страданием, но и Крестною смертью… Это было разрушением смерти. И понять это можно только из смысла смерти [165].
II
Создан человек «в неистление» (™ij ?fqars…an) — сотворен и призван к общению Божественной жизни, к жизни в Боге. И как созданному «по образу Божию» человеку в самом акте творения дано было бессмертие… «Так как одно из благ Божеского естества есть вечность, — объясняет свт. Григорий Нисский, — то надлежало, чтобы устроение нашей природы не было лишено в ней участия, но чтобы она сама в себе самой имела бессмертие и вложенною в нее силою познавала Превысшего и взыскала вечности Божией» [166]… Бессмертие дано было человеку как возможность — и она должна была быть осуществлена его творческой свободой, в стяжании Духа. В грехопадении закрылась эта возможность для человека. Человек омертвел, стал смертен. Самое грехопадение есть уже смерть как удаление от единого источника жизни и бессмертия, как совлечение животворящего Духа. «Общение с Богом есть жизнь и свет, — говорил сщмч. Ириней, — и отделение от Бога есть смерть» [167]. И прародители умерли, как только согрешили и стали должниками смерти — «ибо день творения один» [168]… Грех есть, прежде всего, отпадение от Бога, самозамыкание и самоутверждение твари. И через грех входит в мир человеческий смерть (Рим. 5, 12). В отделении и отдалении от Бога человеческая природа расшатывается, разлаживается, разлагается. Самый состав человеческий оказывается нестойким и непрочным. Связь души и тела становится неустойчивой. Тело превращается в узилище и гробницу души… И открывается неизбежность смерти как разлучения души и тела, уже как бы не скрепленных между собою. Преступление заповеди «возвратило человека в естественное состояние (e«j tO kat¦ fUsin ™psstrefen), — говорил свт. Афанасий, — чтобы, как сотворен он был из ничего, так и в самом бытии со временем по всей справедливости потерпел тление». Ибо созданная из ничего тварь и существует над бездной ничтожества, готовая всегда в нее низвергнуться. Тварь, говорит свт. Афанасий, есть естество немощное и смертное, «текучее и разлагающееся (fUsij ·eust? ka? dialuomsnh)». И от «естественного тления» оно избавляется только силою благодати, «присутствием Слова». Поэтому разлучение с Богом приводит тварь к разложению и распаду [169]… «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать» (2 Цар. 24, 14)…
Человек в грехопадении стал смертен, и действительно умирает. И смерть человека становится космической катастрофой. Ибо в умирающем человеке природа утрачивает свое бессмертное средоточие и сама как бы умирает в человеке. Человек взят от природы, сотворен из персти земной. Но Бог вдунул в него дыхание жизни… Для того, объясняет свт. Григорий Нисский, — «чтобы земное сопревознеслось с Божественным и, через срастворение дольнего естества с естеством премирным, единая некая благодать равночестно проходила по всей твари» [170]… Человек есть некий «малый мир», в нем «соединяется всякий род жизни» — в нем, и только в нем весь мир соприкасается с Богом [171]. И потому отступничество человека отчуждает от Бога всю тварь, опустошает ее, как бы ее обезбоживает. Грехопадение человека расшатывает космический лад и строй. Грех есть нестроение, разлад, беззаконие… И потому, по образному выражению церковной песни, «солнце лучи скры, луна со звездами в кровь преложися, холмы встрепеташа, егда рай заключися» [172]… Строго говоря, умирает только человек. Конечно, смерть есть закон природы, закон органической жизни. И омертвение человека означает именно его ниспадение или вовлечение в этот круговорот природы [173]. Но только для человека смерть противоестественна и смертность есть зло. Ранит и уродует смерть только человека. В родовой жизни «бессловесных» смерть есть только естественный момент в становлении рода, есть скорее выражение рождающей силы жизни, нежели немощи. И только с грехопадением человека и в природе смертность получает трагический и зловещий смысл — природа как бы отравляется трупным ядом человеческого разложения… Однако в природе смерть всегда есть только прекращение особенного существования. В человеческом мире смерть поражает личность. И личность есть нечто несоизмеримо большее, чем индивидуальность или особенность. В собственном смысле слова смертным и тленным становится через грех только человеческое тело; и в смерти разлагается только тело — только тело и может распадаться, тлеть… Но умирает не тело человека, а целый человек. Ибо человек органически сложен из души и тела. И ни душа, ни тело в раздельности не образуют человека. Тело без души есть труп, а душа без тела — призрак. И одной органической одушевленности еще недостаточно для жизни человеческого тела. Человек не есть бесплотный дух, не есть некий «демон бестелесный», только заключенный в темницу тела. Как ни таинственна связь души и тела, непосредственное сознание свидетельствует об органической цельности психофизического состава человека. И потому разлучение души и тела есть смерть самого человека, прекращение его целостного, собственно человеческого существования [174]. Потому смерть и тление тела есть некое помрачение «образа Божия» в человеке. И именно об этом говорит Дамаскин в своем замечательном погребальном каноне: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробах лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущу вида»… Дамаскин говорит не о теле человека, но о живом человеке… «Наша богообразная красота» (? kat' e«kOna Qeoa plasqe‹sa ?raiOthj) — это не тело, но человек. Именно он есть «образ неизреченной славы» Божией, даже под язвами прегрешений — e«ken ??·”tou dOzhj [175]… И в смерти открывается, что человек — это «разумное изваяние» Божие, по выражению сщмч. Мефодия [176], — есть труп: «яко наги кости человек, червей снедь и смрад»… В этом загадочность и таинственность смерти… «Воистину есть таинство смертное: как душа от тела нуждею разлучается, от состава и сочетания естественного союза Божественным хотением разделяется… О, чудесе!.. Како предахомся тлению… Како сопрягохомся смерти!» В страхе смерти, пусть часто малодушном и темном, сказывается некий глубокий метафизический трепет — не только греховная привязанность к плоти мира… В страхе смерти сказывается пафос человеческой цельности… И есть всегда какая–то мечтательная немочь в грезах о развоплощении. Не случайно и не напрасно древние отцы указывали на соединение души и тела в человеке как на образ и аналогию неразделенного Богочеловеческого единства природ во Христе. Аналогию можно обернуть. И о человеке по аналогии можно говорить как о «единой ипостаси — в двух природах», и именно в двух, не только из двух… В смерти если не распадается, то надламывается эта двуединая человеческая ипостась. Отсюда правда плача и рыдания. И ужас смерти снимается только «надеждой воскресения» и в нем — жизни вечной…
Однако смерть есть не только самораскрытие греха. Самая смерть есть уже как бы начинающееся воскресение… Смертью Бог не столько наказует, сколько врачует падшее человеческое естество. И не в том только смысле, что смертью Он пресекает порочную и греховную жизнь. Самое омертвение человека Бог обращает в меру врачевания. В смерти человеческое естество очищается, как бы предвоскресает. Таково общее мнение отцов. С особой силой выражено оно свт. Григорием Нисским. «Промыслом Божиим послана человеческой природе смерть, — говорит он, — чтобы, по очищении от порока в разлучении души и тела, человек через воскресение снова был воссоздан здравым, бесстрастным, чистым, свободным от всякой примеси порока» Это, прежде всего, — врачевание тела. Бог в смерти как бы переплавляет сосуд нашего тела. Свободным движением воли мы вступили в общение со злом, и к нашему составу примешалась некая отрава порока. Поэтому теперь человек, подобно некоему скудельному сосуду, снова разлагается в землю, чтобы по очищении от воспринятой им скверны мог быть снова возведен в первоначальный вид, через воскресение… Поэтому смерть не есть зло, но благодеяние — ? q?natoj eUerges…a [177]. Земля как бы засеменена человеческим прахом, чтобы силою Божией произрастить его в последний день, — это еще апостольский образ… Смертные останки человека предаются земле для воскресения… Самая смерть таит в себе возможность воскресения [178]. Но реализуется эта потенция только в «первенце из мертвых» (1 Кор. 15, 20). И только в силе Христова воскресения разрешается смертная скорбь.
Искупление и есть прежде всего победа над тлением и смертью, освобождение человека от «рабства тления» (Рим. 8, 21), восстановление первозданной цельности и стойкости человеческого естества. Исполнение искупления — в воскресении. И исполнится оно во всеобщем оживлении, когда «последний враг истребится — смерть (?scatoj ™cqrOj) (1 Кор. 15, 26)… Но воссоединение человеческого состава возможно только через воссоединение человека с Богом. Только в Боге возможно воскресение… «Мы не могли иначе воспринять бессмертие и нетление, как соединившись с Нетлением и Бессмертием, — говорил сщмч. Ириней, — чтобы тленное было поглощено нетлением». Только через воплощение Слова открывается путь и надежда воскресения [179]… Еще определеннее говорит свт. Афанасий: Божия благость не могла попустить, «чтобы разумные существа, однажды созданные и причастные Божественному Слову, погибли и через тление снова разрешились в небытие»… Отмена заповеди нарушила бы правду Божию. Покаяния было недостаточно — «покаяние не выводит из естественного состояния, но только прекращает грехи»… Но человек не только согрешил, но и впал в тление. И потому Бог Слово нисходит и становится человеком, воспринимает наше тело, «чтобы людей, обратившихся в тление, снова возвратить в нетление, и оживотворить их от смерти, уничтожая в них смерть через усвоение тела и благодать воскресения, как солому сожигают в огне» [180]… Смерть привилась к телу — нужно было, чтобы и жизнь привилась к телу, чтобы тело свергло с себя тление, облекшись в жизнь. Иначе не воскресло бы тело. «Если бы повеление только не допускало смерть к телу, — говорит свт. Афанасий, — оно оставалось бы все же смертным и тленным по общему закону тел». И только через облечение тела в бесплотное Слово Божие уже не подлежит оно смерти и тлению, ибо облечено жизнию, как некой несгораемой оболочкой, «ибо имеет ризою жизнь и уничтожено в нем тление» [181]… Так, по мысли свт. Афанасия, Слово плоть бысть, чтобы упразднить и погасить тление в человеческом составе… И однако смерть побеждается или искореняется только явлением Жизни в истлевающем теле, но — вольною смертью оживотворенного тела. Слово воплощается ради смерти во плоти — вот основная мысль свт. Афанасия: «для принятия смерти имел Он тело», и только через смерть возможно было воскресение [182]… И это не только богословское мнение свт. Афанасия — это вера Церкви [183].
В смертности человека нужно видеть домостроительную причину Крестной смерти. Через смерть проходит Богочеловек, и погашает тление, оживотворяет самую смерть. Своею смертью Он стирает силу и власть смерти: «смерти державу стерл еси, Сильне, смертию Твоею»… И гроб становится живоносным, становится «источником нашего воскресения»… В смерти Богочеловека исполняется воскресный смысл смерти — «смертию смерть разруши»…
III
В послании к Евреям апостол изображает искупительное дело Богочеловека как служение Первосвященника… Христос входит в мир сотворить волю Божию. Духом вечным Самого Себя приносит Он Богу, приносит кровь свою в очищение грехов человеческих, и совершается через страдания. С кровию Своею, как с кровию Нового Завета, проходит Он небеса и входит в самое святилище, за завесу… За претерпение смерти увенчивается славою и честью, и садится одесную Бога навсегда… Жертвоприношение начинается на земле и исполняется в небесах, где Христос предстал и предстоит за нас Богу как вечный Первосвященник. «Первосвященник грядущих благ», как Апостол и Архиерей исповедания нашего, как литург истинной скинии и святилища Божия… Через смерть Христа открываются силы или возможности будущего века, dun?meij te msllontoj a«inoj… В крови Иисуса открывается путь новый и живой, путь в тот вечный покой, каким почил Бог от дел Своих…
Так Крестная смерть есть жертвоприношение, не только жертва. И приносить жертву не значит только жертвовать. Даже с моральной точки зрения смысл жертвы не в одном только отречении или отказ, но в жертвенной силе любви. Жертва есть не столько пожертвование, сколько посвящение — приношение и дар… И совершающая сила жертвы есть именно любовь (ср.: 1 Кор. 13, 3)… Но жертвоприношение есть больше, чем свидетельство любви — еще и священнодействие… Крестное жертвоприношение есть жертва любви — «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5, 1)… И эта любовь не есть только сострадание и милосердие к падающим и обремененным. Христос предает себя не только за грехи мира, но и ради нашего прославления. Он предает Себя не только за грешное человечество, но за Церковь — чтобы очистить ее и освятить, чтобы соделать ее святою, славною и непорочною (Еф. 5, 25–27)… Сила жертвоприношения — в его очищающем и освящающем действии. И сила Крестной жертвы в том, что она есть путь славы. В ней прославляется Сын Человеческий, и Бог прославляется в нем (Ин. 13, 31)… Первосвященническая молитва Господа была о славе и жизни. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» (Ин. 17, 22)… В этом исполнение жертвы… «Так надлежало Христу пострадать и войти в славу Свою» (Лк. 24, 26)…
Сила Крестной смерти не в том, что это смерть неповинная, но в том, что это смерть Богочеловека… «Чтобы нам ожить, — говорит свт. Григорий Богослов, — мы имели нужду в Боге, воплотившемся и умерщвленном» [184]… В этом «страшное и преславное таинство» Крестной смерти… На Голгофе священнодействует воплощенное Слово… И приносит в жертву «собственное» Свое человеческое естество, уже от зачатия воспринятое Им в нераздельное единство Его Ипостаси и в этом восприятии восстановленное во всей первозданной непорочности и чистоте… Во Христе нет особого человеческого лица — есть всецелая полнота человеческой природы, но нет человеческой ипостаси… И на кресте умирает не человек. «Страдал и подвизался подвигом терпения не человек малозначащий, но воплотившийся Бог», — говорил свт. Кирилл Иерусалимский [185]. Можно сказать: умирает Бог, но — по человечеству. «Се бо в мертвецех вменяется в вышних Живый, и в гроб мал странно приемлется» [186]… Это вольная смерть по человечеству Того, кто по неразлучному от человечества Божеству есть Вечная Жизнь, Кто есть Воскресение и Жизнь… Смерть по человечеству, но смерть внутри ипостаси Слово — Слова Воплощенного… И потому смерть воскрешающая…
Спаситель говорил ученикам: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже разгорелся… Крещением должен Я креститься, и как Я томлюсь, пока сие совершится» (Лк. 12, 50)… Огонь — это Дух Святый, в огненных языках изливающийся свыше в «страшном и неисповедимом тайнодействии» Пятидесятницы. Это — крещение Духом. И Крещение — это крестная смерть и излияние крови, «крещение мученичеством и кровью, которым крестился и Сам Христос», как говорил свт. Григорий Богослов [187]. Крестная смерть как крещение кровью — в этом смысл Крестного таинства. Крещение есть всегда очищение. И Крестное крещение есть некое очищение человеческого состава, человеческой природы, проходящей путь восстановления в Ипостаси Богочеловека. Это — некое омовение человеческого естества в изливаемой жертвенной крови, и омовение тела прежде всего… Очищение во уготование воскресения… И очищение всей человеческой природы — очищение всего человечества в его начатке, всего человечества в его новом и таинственном родоначальнике, во «втором Адаме». Это кровавое крещение всей Церкви — «Церковь Твою стяжал еси силою Креста Твоего»… И Крестным крещением Христовым подобает и надлежит креститься всему Телу… «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» (Мк. 20, 23)… Более того, Крестная смерть есть очищение всего мира, кровавое крещение всей твари — очищение космоса через очищение микрокосма… «Очищение не малой части вселенной и не на малое время, но очищение всего мира, и очищение вечное», говорит свт. Григорий Богослов [188]… И потому вся тварь таинственно соучаствует в смертной страсти Богочеловека… «Вся тварь изменяшеся, зрящи Тя на кресте висима, Христе… Солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся…» Это не сострадание жалости, но сострадание страха — «основания земли позыбашася страхом Державы Твоея»… Сострадание в радостнотворном созерцании великого таинства воскрешающей смерти — «кровию бо Сына Твоего благославляется земля» [189]. «Много было в то время чудес, — говорит свт. Григорий Богослов, — Бог распинаемый… солнце омрачающееся и снова возгорающееся — ибо надлежало, чтобы и твари сострадали Творцу… Завеса раздравшаяся… Кровь и вода, излиявшиеся из ребра, — кровь потому, что был Он человек, и вода потому, что был выше человека, Oper?nqrwpoj… Земля колеблющаяся, камни расторгающиеся ради Камня… Мертвецы, восставшие в уверение, что будет последнее и общее воскресение… Чудеса при погребении, которые кто воспоет достойно… Но ни одно из них не уподобится чуду моего спасения… Немногие капли крови воссозидают весь мир, и для всех людей делаются тем, чем бывает закваска для молока, собирая и связуя нас воедино» [190]…
Крестная смерть есть таинство — она имеет не моральный только, но сакраментальный смысл. Это Пасха Нового Завета. И на Тайной Вечери открывается этот сакраментальный смысл Крестной смерти. Странным кажется, что Евхаристия устанавливается прежде Крестной смерти — и уже в Сионской горнице Сам Спаситель преподает ученикам Свое Тело и Кровь… «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас изливается» (Лк. 22, 20)… И однако Тайная Вечеря была не только преобразованием, не только пророческим символом — как и Евхаристия есть не только символическое воспоминание… Это — истинное таинство… И Христос совершает Его как Первосвященник Нового Завета. Это — таинство Крестной смерти, Тело ломимое и Кровь изливаемая… И вместе с тем таинство неизреченного преображения — таинственное и сакраментальное преложение удобостраждущей плоти в пищу духовную и прославленную. Тело ломимое, умирающее Но в самой смерти воскресающее… Ибо вольно восходит Господь на Крест — на Крест скорби и славы… Как объяснял свт. Григорий Нисский, Он «не ждет принуждения от предательства, не ожидает ни разбойнического нападения иудеев, ни беззаконного суда Пилата, чтобы их злоба была началом и причиною общего спасения людей… Своим домостроительством он предупреждает их наступления способом священнодействия неизреченным и необычным — Самого Себя приносит в приношение и жертву за нас, будучи вместе Священником и Агнцем Божиим, вземлющим грех мира… Предложив ядомое Тело Свое в пищу, Он ясно показал, что жертвоприношение Агнца уже совершилось… Ибо жертвенное тело не было бы пригодно к вкушению, если бы было еще одушевлено… Итак, когда преподал ученикам Тело для вкушения и Кровь для пития, то свободною волею Домостроителя таинства Тело Его неизреченно и невидимо было уже принесено в жертву, а душа была в тех местах, куда перенесла ее власть Домостроительствующего, вместе с соединенною с нею Божественною сил» [191]… Иначе сказать, уже как бы началось вольное разлучение души от тела, некая сакраментальная агония Богочеловека… И Кровь, волею изливаемая во спасение всех, становится «врачевством нетления», врачевством бессмертия и жизни…
Господь умер на Кресте. Это — действительная смерть. И однако не во всем она подобна нашей. Именно потому, что это смерть Господа, смерть Богочеловека, смерть внутри нераздельной Ипостаси воплощенного Слова. Прежде всего, это смерть вольная — в человеческой природе Спасителя, свободной от первородного греха, соблюдаемой присутствием Божества и собственным подвигом и свободой, не было необходимости смерти. Смерть приемлется изволением искупляющей любви… И главное — это смерть во Ипостаси Слова, смерть «воипостасного» человечества. Смерть вообще есть разлучение, и в смерти Спасителя разлучаются Его пречистая душа и тело… Но не разделяется единая Ипостась Богочеловека, не расторгается и не нарушается ипостасное единство. Иначе сказать, разлучающаяся в смерти душа и тело остаются соединенными через Божество Слова, от Которого они равно не отчуждаются. Это не изменяет онтологического характера смерти, но изменяет ее смысл. Это смерть нетленная — и потому в ней побеждается тление и смерть, в ней начинается воскресение… Самая смерть Богочеловека оказывается воскресением естества человеческого. И Крест оказывается животворящим, оказывается новым Древом Жизни — «имже смертное потребися сетование» [192]… Об этом Церковь с особой силой свидетельствует в богослужении Великой Субботы, этого по преимуществу Крестовоскресного дня.
«Хотя Христос и умер, как человек, и святая душа Его разлучилась с пречистым телом, — говорит Дамаскин, — Божество Его осталось неразлучным с обоими — и с душою, и с телом. И таким образом одна ипостась не разделилась на две ипостаси, ибо и тело и душа с самого начала равно имели бытие во ипостаси Слова. Хотя во время смерти душа и тело разлучились друг от друга, однако же каждое из них сохранилось, имея единую ипостась Слова. Поэтому единая ипостась Слова была ипостасью как Слова, так равно и души и тела. Ибо никогда ни душа, ни тело не получали ипостаси собственной, помимо ипостаси Слова. Ипостась же Слова всегда едина, и никогда не было двух ипостасей Слова. Следовательно, ипостась Христа всегда едина. И хотя душа разлучилась с телом по месту, однако пребыла соединена ипостасно через Слово» [193].
В Крестном таинстве две стороны. Это сразу и таинство скорби — и таинство радости, таинство позора и — славы. Это таинство скорби и смертной тоски, таинство оставленности, таинство страдальческого уничижения и позора… «Днесь Владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается,.. заплевание и раны приемлет, поношения и заушения» [194]. В Гефсимании и на Голгофе Богочеловек томится и страждет, пока не исполнится великое таинство смерти. Пред Ним открывается вся ненависть и ослепление мира, все противление и тупость злобы, оледенение сердец, вся немощь и малодушие разбегающихся учеников — открывается вся неправда человеческой лжесвободы… И Он все покрывает всепрощением скорбящей и страждущей любви и молится о распинающих… «Сия глаголет Господь иудеом: людие Мои, что сотворих вам и чим вам стужих» [195]… В этих страданиях и скорби совершается спасение мира — «язвою его мы исцелехом» (Ис. 53, 5)… И Церковь предостерегает от всякого докетического умаления действительности и полноты этих страданий, чтобы не испразднился Крест Христов. Но Церковь предостерегает и от противоположного, от кенотического соблазна… Ибо день Крестного поругания, этот день безумства и позора, есть день радости и славы. Резко говорил Златоуст: «Днесь совершаем мы праздненство и торжество, ибо Господь наш на Кресте пригвожден гвоздями» [196]… Ибо Древо Крестное есть «вечнославимое древо», истинное древо жизни, «имже тля разорися» — «имже смертное потребися сетование»… Крест есть «печать во спасение», знамение силы и победы. Не только символ, но самая сила победы — «основание спасения» (OpOqesij swthr…aj), по выражению Златоуста. «Потому и называю Его Царем, что вижу Его распятым, — говорит Златоуст. — ибо царю свойственно умирать за подданных». Церковь празднует Крестные дни, празднует их как торжество… И не только торжество необоримого смирения и любви, но торжество нетления и жизни… «Якоже жизнь твари Твой Крест предлежащий вселенная целует, Господи» [197]… Ибо самая смерть Господа на Кресте есть разрушение смерти, отмена смертности и тления — «умираеши и оживляеши мя»… И не только потому Крестная Смерть есть победа над смертью, что венчается воскресением… Воскресение уже открывает, или проявляет, Крестную победу — Воскресение совершается в самом успении Богочеловека… И «сила воскресения» есть именно «Крестная сила», «непобедимая и неразрушимая, и Божественная сила честного и животворящего Креста» [198]… Сила вольной страсти и смерти Богочеловека… На Кресте Господь «возносит нас на первое блаженство» — и «Крестом приходит радость всему миру»… На Кресте Господь не только страждет и томится, но и успокаивается «плотию уснув, яко мертв» [199]… И соупокоивает человека, восстановляет и обновляет — «упокоил мя еси, претружденного трудом прегрешений, на древе препочивая»… Со Креста источает Он людям бессмертие, погребением Своим отверзает входы смерти и обновляет истлевшее существо человеческое… «Всякое деяние и чудотворение Христово, — говорит Дамаскин, — конечно, весьма велико, божественно и удивительно. Но всего удивительнее честной Крест Его. Ибо не чем иным, как только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, упразднена смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добычи, даровано воскресение, устроено возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата ада, естество наше воссело одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками. Все это совершено Крестом… Смерть Христа, или Крест, облекли нас в ипостасную Божию мудрость и силу» [200]… И в этом и состоит крестовоскресная тайна Великой Субботы. Как говорится в синаксаре этого дня, «в святую и великую субботу боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и еже во ад сошествие празднуем, имиже от тли наш род воззван быв, к вечной жизни прейде»… Это не только предпраздненство или канун спасения. Это уже день самого спасения… «Сия бо есть благословенная суббота, сей есть упокоения день, в оньже почи от всех дел своих Единородный Сын Божий» [201]… Это — день сошествия во ад. И сошествие во ад есть уже воскресение, как то и засвидетельствовано в иконографии [202].
Великое «тридневие смерти» (triduum mortis) — это таинственные дни совершающегося воскресения. Плотию Господь почивает во гробе — и плоть Его не отлучается от Божества: «аще бо и разорися Твой храм во время страсти, но и тамо един бе состав Божества и плоти Твоея (m…a OpOstasij)» [203]… И плоть Господа не подпадает тлению — в самой смерти остается нетленной, то есть живой, как бы не умершей, — ибо пребывает в лоне Жизни, в ипостаси Слова… По выражению церковной песни, «вкусил еси тли, истления бо всяко не познал еси» [204]… Как объяснял Дамаскин, слово «тление» (fqor?) имеет двоякий смысл. Во–первых, оно означает «страдательные состояния человека» (t¦ p?qh), как голод, утомление, прободение гвоздями и самую смерть, то есть разлучение души и тела. В этом смысле тело Господа тленно (fqartOn) — до воскресения. Во–вторых, под тлением можно разуметь «совершенное разложение тела на составные стихии и его разрушение» (tsleioj di?lusij ka? ?fanismOj), это — тление в собственном смысле слова, или, лучше сказать, «истление» (diafqor?), — и вот «этого истления тело Господа не испытывало», оно пребыло в смерти «неистленным» (?fqarton Atoi ?di?fqarton) [205]… И в этом неистлении уже преображалось в состояние славы… И душа Христа нисходит во ад — так же неотлучно от Божества, «во ад же с душою, яко Бог»… Нисходит «обоженная душа» Христа, (yuc? teqewmsnh), как выражался Дамаскин [206]… Это нисхождение, или Сошествие, во ад означает, прежде всего, вступление или проникновение в область смерти, в область смертности и тления. И в этом смысле оно равнозначно самому факту смерти Спасителя… Вряд ли правильно отождествлять тот ад, или «преисподняя земли» (t¦ katacqOnia tAj gAj), куда нисходит Спаситель, с тем «адом», в котором будут мучаться грешники… При всей своей объективной реальности «ад» есть духовное состояние, определяемое религиозно–нравственным «качеством» каждой души. И нельзя себе представить в одном и том же «аду» души грешников порочных и нераскаянных и души праведников ветхозаветных, включая сюда и пророков, некогда глаголавших Духом Святым и предрекавших Спасово Пришествие, — если разуметь под «адом» «место мучений» (kolast»rion). А Господь сходил именно в тот «ад», где были праведники, куда прежде Него нисшел Предтеча… Этот «ад» есть тьма и сень смертная — скорее, место смертной тоски, нежели мучения, темный шеол, место неразрешимого развоплощения, только издали предозаренное косыми лучами еще не восшедшего солнца, еще не исполнившегося упования. По силе грехопадения и первородного греха весь род человеческий впал в смертность и тление. И даже высшая праведность подзаконная не освобождала не только от неизбежности эмпирического умирания и смерти, но и от того загробного бессилия и немощи, которое определялось невозможностью воскресения, отсутствием силы или возможности восстановления цельности человеческого состава… Это была некая онтологическая немощь души, утрачивавшей в смертном разлучении способность быть «энтелехией» своего собственного тела, — немощь падшего и раненого естества, которую не исцеляло ни обетование, ни упование избавления… И в этом смысле все сходили во ад, в преисподнюю тьму, как в царство некоего «небытия» или онтологического тления, — тем самым в царство диавола, князя века сего, князя смерти и духа небытия; и были под его властью, были невольно, по силе онтологической немощи, но не собственного нечестия, и потому не приобщались его нечестию и злобе [207]… В этот ад нисходит Спаситель. И во тьме «бледной смерти» воссиявает незаходимый свет Жизни… Это разрушает ад, разрушает смертность — «аще и во гроб снизшел еси, Благоутробне, но адову разрушил еси силу» [208]… В этом смысле ад упраздняется Спасовым сошествием — «и мертвый ни един во гробе»… Ибо «прият землю и срете небо»… «Егда снизшел еси к смерти, Животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества» [209]… Сошествие Христа во ад есть явление Жизни среди безнадежности смерти, есть победа над смертью. И совсем не означает «взятия» Христом на Себя «адских мук Богооставленности»… Господь нисходит во ад как Победитель, как Начальник Жизни. Нисходит в силе и в славе, не в уничижении — хотя и через уничижение, через смерть. Но и смерть Он принял волею и властию — «и тело умерло не по немощи естества вселившегося Слова, но для уничтожения в нем смерти силою Спасителя», — говорит свт. Афанасий [210]. Во ад Господь сходит благовествовать или проповедовать содержимым и связанным в нем душам (ср.: 1 Пет. 3, 19, ?k»ruxen). И силою своего явления и слова разрешить их, явить им их разрешение [211].
Иначе сказать, сошествие во ад есть воскресение «всеродного Адама». Потому и «стенет ад низу» и «огорчается» — Своим сошествием Христос сокрушает и стирает «вереи вечные» и воскрешает этим весь падший род человеческий [212]. Упраздняет самую смерть — «смерти держава разрушися и диавола прелесть упразднися» [213]. В этом — торжество воскресения. «И вереи железные стерл еси, и извел еси нас от тьмы и сени смертныя, и узы наши растерзал еси [214]… И смертное жилище разори своею смертью днесь, и озари вся божественными блистанми воскресения»… Так самая смерть прелагается в воскресение… «Аз есмь первый и последний, и Живый, И был мертв, и се жив во веки веков, аминь. И имею ключи от ада и смерти» (Откр. 1, 17–18).
IV
В смерти Спасителя открылась невозможность смерти для Него. В полноте своей человеческой природы Спаситель был смертен — ибо и для первозданного и непорочного человеческого естества возможно умереть. И Спаситель был убит и действительно умер. Но смерть не удержала Его… Как говорил апостол Петр, «смерти было невозможно удержать Его» (Деян. 2, 24). Невозможно или непосильно, oU dUnatai… И, объясняя эти слова, Златоуст замечает: «Он сам попустил удерживать Себя… И, удерживая Его, самая смерть мучилась как бы муками рождения, и страшно страдала… И Он воскрес так, чтобы никак не умирать» [215]… Он есть присносущая Жизнь, и потому самым фактом своей смерти Богочеловек разрушает смерть… Самое Его сошествие в область смерти есть явление Жизни… Своим пришествием во ад Он оживотворяет самую смерть. И воскресением обличается вся немощь смерти. Развоплощенная в смерти душа Христа, исполненная Божественною силою, вновь соединяется со своим телом, которое пребыло в смертном разлучении нетленным, к которому не приразилось трупное истление, трупное разложение. Во смерти Господа открылось, что пречистое тело Его не подвластно тлению, что оно свободно от той мертвенности, в которую облеклась первозданная человеческая природа через преслушание и грех. В первом Адаме возможность смерти через преступление заповеди раскрылась в действительность смерти. В последнем Адаме возможность бессмертия через чистоту и послушание осуществилась в действительность нетления, в невозможность умирания. И потому психофизический состав человеческого естества во Христе оказывается стойким и нерушимым. Развоплощение души не превращается в разрыв. Ведь и во всякой смерти разлучение души и тела не бывает окончательным, остается всегда некоторая связь… В смерти Спасителя эта связь оказывается не только «познавательною» — душа Его не перестает быть «жизненной силой»… Потому Его смерть, при всей ее действительности, при всей действительности смертного развоплощения и разлучения души и тела, оказывается, скорее сном — «плотию уснув, яко мертв»… Как Говорил Дамаскин, «тогда сон смерть показася человеческая» [216]. Еще не отменяется действительность смерти, но открывается ее бессилие. Господь действительно, истинно умирает. Но в Его смерти в высшей мере оказывается присущая каждой смерти воскресная сила — и притом проявляется не только как простая возможность, но именно как сила. К смерти Господа во всей полноте относится данный Им Самим образ пшеничного зерна (ср.: Ин. 10, 24) [???]. И через Его смерть открывается слава Божия — «и прославих, и паки прославлю» (ср.: ст. 28). В «собственном» теле воплощенного Слова сроки смерти и воскресения сокращаются… «Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15, 43–44). Для Богочеловека это совершается в «тридневии смерти». «Не надолго оставил Он храм Свой, тело, в мертвенном состоянии, но только показав его мертвым от приражения к нему смерти, немедленно же и воскресил в третий же день, вознося с собою и знамение победы над смертью, то есть явленное в теле нетление и непричастность страданию. Мог бы Он и в самую минуту смерти воздвигнуть тело и показать его снова живым». Так говорил свт. Афанасий, стараясь показать победный и воскресный смысл Христовой смерти [217]. В таинственное «тридневие смерти» нетленное тело Господа преобразуется в тело славы, облекается силою и светом. Зерно прорастает… И Господь восстает из мертвых, как Жених исходит от гроба… Это совершается силою Божией, как силою Божией совершится в последний день и всеобщее воскресение. И в воскресении исполняется воплощение как явление жизни в естестве человеческом.
Воскресение Христово было победою не над Его смертию только, но над смертию вообще — «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго жития вечнаго начало» [218]… В Воскресении Христовом совоскресает все человечество, все человеческое естество — «род же человеческий в нетление облечеся» [219]. Совоскресло не в том смысле, что все восстали из гробов, — смерти продолжают совершаться… Но безнадежность умирания отменена, смерть обессилена — всему естеству человеческому дана возможность и сила воскресения, dUnamij tAj ?nast?sewj… «Правда, мы и теперь умираем прежнею смертию, — говорил Златоуст, — но не остаемся в ней; и это не значит умирать… Сила смерти и подлинность смерти — в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни… Если же он после смерти оживет, и притом лучшею жизнию, то это уже не смерть, но успение» [220]… Отменено «осуждение смерти, — как выражался свт. Афанасий, — с прекращением и уничтожением тления благодатию воскресения мы разрешаемся уже только на время, по причине смертности тела; наподобие семян, ввергаемый в землю, мы не погибаем разрешаясь, но посеянные воскреснем — потому что смерть упразднена по благодати Спасителя» [221]… Это было врачевание и обновление естества, и потому в нем есть известная непреложность: все воскреснут, все возвратятся к психофизической полноте бытия, хотя и измененной. Но всякое развоплощение в человеческом мире отныне только на время… Это совершается силою Крестной — через сокрушение мрачных удолий ада… «Разрушил еси Крестом Твоим смерть» [222]…
С особою силою свт. Григорий Нисский раскрывает органическую связь Креста и Воскресения. Воскресение есть не только следствие, но плод Крестной смерти… Свт. Григорий подчеркивает два момента: нерасторжимость ипостасного единства, в котором соединяются душа и плоть Христа и во время смертного разлучения, и совершенную безгрешность Спасителя — «чья жизнь безгрешна, у того единение с Богом совершенно неразрывно»… «Когда естество наше по свойственному для него порядку и в Воплотившемся подвигнуто было к разделению души и тела, — говорил свт. Григорий, — Он снова как бы неким клеем, то есть Божественною силою, сопряг разделенное, привел расторгнутое в неразрывное единство. Это и есть воскресение — возвращение в неразлагаемое единство того, что было сопряжено прежде и что по разложении снова соединяется. Соединяется затем, чтобы человечеству снова возвратилась первоначальная благодать и мы снова вошли в вечную жизнь, после того как порок, примешавшийся к нашей природе, исчезнет через разложение нашего состава… И как начало смерти, возникшее в одном, перешло на весь род человеческий, так и начало воскресения через Единого распространяется на все человечество… Ибо, когда в воспринятом Им на себя человеческом составе по разрешении душа снова возвратилась в тело, тогда соединение разделенного как от некоего начала в возможности распространяется на все человеческое естество. Это и есть таинство домостроительства Божия о человеке и воскресение из мертвых» [223]… В другом месте свт. Григорий поясняет свою мысль сравнением с переломленной тростью, рассеченной пополам. Если кто станет складывать переломленные части с одной какой–нибудь стороны, то по необходимости сложит и с другой — «вся разделенная трость всецело соединится вместе»… Так и совершившееся во Христе воссоединение души и тела снова приводит в единство «все человеческое естество, смертию разделенное на две части», надеждою воскресения устрояя связь между разделенными… В Адаме наше естество как бы рассеклось надвое через грех. И вот во Христе этот разрыв срастается совершенно [224]. Это и есть упразднение смерти — лучше сказать, смертности… Иными словами, потенциальное и динамическое восстановление полноты и целостности человеческого бытия.
В спасении нужно различать врачевание естества и врачевание воли… Естество врачуется и исцеляется непреложно, силою вседейственной милости Божией. Можно сказать — неким «насилием благодати»… И во Христе все естество человеческое исцеляется всецело и во всем своем объеме — исцеляется от неполноты и смертности. Это восстановление полноты откроется во всеобщем воскресении — в воскресении всех: и добрых, и злых… По естеству никто не изъят из–под царственной власти Христовой. И никто не может отчуждить себя от силы воскресения… Но воля человека не может быть исцелена силою — ибо весь смысл исцеления воли в ее обращении, в творческом ее устремлении к Богу. Воля человека исцеляется только в подвиге и в свободе… Только через подвиг входит человек в ту новую и вечную жизнь, которая открылась во Христе… И входит в нее через вольное умирание со Христом… Снова путь жизни открывается через смерть, через отречение, через умирание… Каждый должен соединиться со Христом лично и свободно — в признании веры, в избрании любви… Должен отвергнуться себя, «погубить душу свою» ради Христа, взять крест свой и последовать за Ним (ср.: Лк. 9, 22–24; Мк. 8, 31, 34–38; Мф. 16, 21, 24–28; 10, 38–39)… Христианский подвиг есть «последование» Христу — последование в Его крестном и страстном пути, последование даже до смерти… Но прежде всего — последование в любви: «любовь познали мы в том, что положил Он душу Свою за нас; и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3, 16)… Не может жить во Христе, не может ожить со Христом тот, кто с Ним не умирает… Это не только аскетическая норма. Это — некий таинственный и онтологический закон духовной жизни, закон самого бытия… Христианская жизнь начинается новым рождением — водою и Духом… Крещальная символика сложна и многообразна. Крещение совершается во имя Пресвятой Троицы, и Троическое призывание есть непременное условие действительности и действенности крещального тайнодействия… Однако прежде всего крещение есть облечение во Христа (ср.: Гал. 3, 27)… И Троическое призывание требуется потому, что вне Троического исповедания невозможно узнать Христа, признать в Иисусе Богочеловека, «Единого от Святыя Троицы»… Крещальная символика есть, прежде всего, символика смерти и воскресения… И символика реалистическая… Таково свидетельство апостольского предания. «Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, крестились в смерть Его! И спогреблись Ему через крещение в смерть, чтобы и нам ходить в обновлении жизни, как Христос восстал из мертвых славою Отца… Ибо мы срощены с Ним в подобии смерти Его, и потому соединимся и в воскресении» (Рим. 6, 3–5; ср. всю главу)… Можно сказать, крещение есть некое воскресение во Христе, восстание с Ним и в Нем для новой и бессмертной жизни: «спогребенные с Ним в крещении, вы и воскресли в Нем чрез веру в действие Бога, воскресившего Его из мертвых», говорит апостол (Кол. 2, 12)… Совоскресли именно через погребение — «если с Ним умрем, то с Ним и оживем» (2 Тим 2, 11)… Ибо в крещении верующий становится членом Христовым, врастает в тело Его — единым Духом крещаемся мы в единое тело (ср.: 1 Кор. 12, 13)… И таким образом на всех распространяется благодать Христова воскресения. Распространяется, не только распространится — речь идет не только о будущем и всеобщем воскресении, но прежде всего о том духовном возрождении, которое совершается в крещении и соединении со Христом и которое есть уже начаток воскресения и жизни вечной. Это возрождение предполагает веру, совершается в верующих — то есть в свободе и через свободу… «И мы все, открытым лицом созерцая как в зеркале славу Господню, в тот же образ преображаемся от славы в славу, как от Господнего Духа… Всегда носим в теле мертвость Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Всегда мы живые предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей… Зная, что Воскресивший Господа Иисуса и нас воскресит с Ним и представит с вами… Ибо знаем: когда разрушится эта хижина, земной дом наш, имеем мы от Бога жилище, дом нерукотворный и вечный в небесах. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище… не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 3, 18; 4, 10–11, 14; 5, 1, 2, 4)… Так в апостольском созерцании смыкаются воедино крещение и аскеза, умирание со Христом и уже действуемое в верующих воскресение — и воскресение не только как возвращение к жизни, но как введение в полноту славы… Это не только откровение славы и силы Божией, но и преображение человека в подвиге его соумирания со Христом. В соумирании человек и оживает. Все воскреснут, но только в верующих и подвизающихся воскресение окажется «воскресением жизни» — на суд не придет и прейдет от смерти в жизнь (ср.: Ин. 5, 24–29; 8, 51)… Ибо только в общении с Богом, только через жизнь во Христе получает смысл самое восстановление человеческого существования. Во тьме кромешной оно оказывается как бы излишним, неоправданным. И однако — совершится… В этом тайна свободы человеческой![225]
Эмпирическое действие смерти в роде человеческом не прекращено воскресением Спасителя. Смерть обессилена, и обессилена во всем роде человеческом — смертность обессилена упованием воскресения. Но каждый должен для самого себя оправдать предстоящее ему бессмертие. И это возможно только во Христе. Бессмертие естества должно раскрыться в жизнь духа. Полнота жизни бесконечно больше бессмертия. Не бессмертие только, но именно жизнь, «воскресение жизни» предоткрывается нам в крещении. Предоткрывается через смерть и сопогребение Христу. Апостол говорил о «подобии» или «уподоблении» — tu ?moiemati toa qan?toa ?utoa (Рим. 6, 5)… Но это «подобие» означало для него полноту реальности. «Подобие» есть нечто большее, чем знак или воспоминание. Смысл «уподобления» в том, что в каждом может и должен «вообразиться» Христос (ср.: Гал. 4, 19). Ибо Христос — Глава, и все верующие суть Его живые члены, и вних осуществляется Его жизнь — все призваны, и каждый может уверовать и ожить в Нем… Так именно раскрывали смысл крещального «уподобления» древние учители Церкви. Свт. Кирилл Иерусалимский подчеркивал реализм крещальной символики. То верно, что в крещальной купели мы умираем и погребаемся только «подражательно», символически, di¦ sumbOlou, — и восстаем не от действительного гроба, Nud' ?lhqij ™tOfhmen… Однако «если подражание бывает в образе, то спасение — в самой действительности», ™n e«kOni ? m…mhsij, ™n alhqe…v d? ? swthr…a… Ибо Христос действительно был распят и погребен, и действительно восстал — свт. Кирилл говорит: Ontwj… Это сильнее, чем ?lhqij, и оттеняет сверхэмпирическую реальность смерти и воскресения Спасителя… «И потому Он даровал нам возможность подражательно приобщаясь Его страданиям (tI m…mhsei tin paqhm?twn aUtou koinwn»santej), приобретать спасение в действительности»… Строго говоря, это не столько «подражание», сколько соучастие, уподобление, ?mo…wma, «Христос был распят и погребен и воскрес действительно, а вы в подобии (™n ?moiemati) удостоились сораспяться, спогребстись и совосстать с Ним» [226]… Нужно подчеркнуть, свт. Кирилл говорит не только о смерти, но именно о погребении (как и апостол); а свт. Василий Великий прямо говорил о подражательном «схождении в ад»… Это значит, что в крещении человек нисходит в смертную сень, в безнадежность смерти, но со Христом Воскресшим, и восходит, переходит от смерти в жизнь, и жизнь бесконечную… «И все над вами совершается в образе, ибо вы — образ Христов», — заключает свт. Кирилл. Иначе сказать, все сообъяты Христом — отсюда и самая возможность «уподобления» [227]… Еще определеннее говорил свт. Григорий Нисский. В крещении — две стороны. Крещение есть и рождение, и смерть… Обычное рождение вводит в смертную жизнь, начинается и кончается тлением (fqor?)… И нужно было изобрести иное и новое рождение, которое вводило бы в бессмертную жизнь… В крещении «присутствием Божественной силы рожденное в тленном естестве преобразуется в нетление» [228]… Преобразуется через последование и подражание — так осуществляется то, что было Им предпоказано… Только вслед за Христом можно пройти по лабиринту человеческой жизни и выйти из него — «лабиринтом же называю образно неисходную стражу смерти, в которой заключен жалкий род человеческий (t?n ?disxodon toa qan?tou frour?n)»… Из этой ограды вышел Христос — через трехдневное омертвение… В крещальной купели «исполняется подражание совершенному Им»… Смерть «изображается» в водной стихии, diatupoatai… И как Христос снова восстал к жизни, так и крещаемый, соединенный с Ним в телесном естестве, «подражает тридневной благодати воскресения»… Это только «подражание», не «отождествление» — m…mhsij, но не tautOthj… В крещениее человек еще не воскресает, но только освобождается от природной скверны и неизбежности смерти — в нем пресекается «непрерывность порока»… Не воскресает, ибо и не умирает — еще остается в этой жизни… Большего еще не вмещает нищета нашего естества. Крещение только предображает воскресение — мы «предусматриваем в нем благодать воскресения»… Однако крещением воскресение уже предначинается — крещение есть начало, ?rc», и воскресение — предел, psraj; и что совершится в великом воскресении, то здесь имеет свои начала и причины (t¦j ?rc¦j ka? t¦j ?it…aj)… Свт. Григорий поясняет, что разумеет при этом не то воскресение, которое состоит в одном только восстановлении нашего состава, oU prOj t?n toa sugkr…matoj ?min ?n?plasin ka? ?nastoice…wsin blspwn… К этой цели человеческое естество стремится необходимо… Он разумеет полноту воскресения, «восстановление в состояние блаженное и божественное, свободное от всякой печали» — апокатастазис, «воскресение жизни» [229]. Нужно прибавить, что свт. Григорий с особой силой подчеркивает необходимость творческого хранения и закрепления крещальной благодати. Ибо в крещении претворяется и преображается не естество, но воля — которая остается при этом свободною… И если в подвиге не очищается душа, крещение оказывается как бы бесследным — претворение не произошло, ничто не изменилось… Это не подчиняет крещальную благодать человеческому произволу — благодать нисходит, но в богообразном и свободном никогда не действует насилием, и потому не животворит замкнутые души [230]… Ибо крещение есть таинственное соумирание со Христом, соучастие в Его вольной смерти, в Его жертвенной любви — и обо может быть только вольным, творческим и свободным [231]…
Так в крещении, как в живом и таинственном подобии, отображается крестная смерть. Крещение есть сразу и смерть, и рождение — погребение и «баня пакибытия», loutrOn tAj paliggenes…aj… «Срок смерти и срок рождения», kairOj toa apoqane‹n ka? kairOj toa gennhqAnai, говорил свт. Кирилл Иерусалимский [232]. Ибо и Крестная смерть есть уже и Воскресение, путь и врата жизни… «Восстанием Твоим хвалюся — смерть бо Твоя живот мой» [233]…
ХРИСТОС И ЕГО ЦЕРКОВЬ
I. Отсутствие систематического учения о Церкви в древности.
Не так давно было высказано мнение о том, что учение о Церкви всё еще пребывает на «до богословской» стадии развития [234]. Пожалуй, слишком сильное утверждение. И тем не менее, что действительно легко заметить, так это отсутствие общепринятого подхода к изучению и изложению экклесиологии. В немалой мере причиной тому — скудость патристических свидетельств. Касаясь трудов Оригена, Пьер Батиффоль был вынужден констатировать: «Среди вопросов непосредственно рассматриваемых в «О началах,” отсутствует вопрос о Церкви. Ориген говорит о единстве Божества, об эсхатологии, даже о Предании и Правиле веры, но не о Церкви. Удивительное упущение, которое проникнет в греческие догматические сочинения — например, в «Огласительное слово» свт. Григория Нисского и, что особенно заметно, в труды преп. Иоанна Дамаскина — и вновь проявится у схоластов» [235].
Очевидно, это не было простым «упущением,” «недосмотром» или богословской неаккуратностью. Восточные и западные отцы, равно как и писавшие более систематично авторы средневековья, многое могли сказать о Церкви — и не только могли, но и сказали о ней предостаточно. Они, однако, никогда не пытались свести свои соображения воедино. Их догадки и размышления разбросаны по разным сочинениям, в основном экзегетическим и литургическим, встречаясь чаще в проповедях, чем в догматических работах. Так или иначе, церковные писатели всегда имели ясное представление о том, что в действительности есть Церковь, — хотя это «представление» никогда не сводилось ими к понятию, к определению. Лишь в относительно недавнее время, в «осень средневековья» и особенно в неспокойную эпоху Реформации и Контрреформации, были предприняты попытки определений и обобщений — скорее наполненные духом межконфессиональных споров и приспособленные для полемики, чем ставшие плодом спокойного богословского созерцания. Богословы прошлого века остро чувствовали необходимость пересмотра данных концепций, а в наше время учение о Церкви — одна из излюбленных областей для богословского анализа. Тем не менее и к сегодняшнему интересу к экклесиологии примешана некоторая ангажированность: можно говорить об «экуменическом уклоне.» Впрочем, на современные взгляды на Церковь оказало серьезное влияние и развитие библеистики. Сейчас нарастает в целом разумная и здоровая тенденция излагать учение о Церкви в широкой, всеобъемлющей перспективе библейского Откровения, на фоне ветхозаветного «приуготовления.»
К сожалению, не существует исчерпывающего исследования по истории учения и «представления» о Церкви в святоотеческую и более позднюю эпохи, хотя при этом вышло большое количество монографий и трудов, вскользь затрагивающих данную проблему. Нет общего обзора, позволившего бы нам проследить основные пути и течения этого длительного «развития» экклесиологии. Пожалуй, можно назвать лишь одно исключение — выдающийся труд покойного Эмиля Мерша (SJ) «Le Corps mystique du Christ,” к которому следует добавить его более поздние исследования, последнее из которых осталось незавершенным [236].
Труд Мерша открывает необъятное богатство «сведений по экклесиологии,” рассеянных по святоотеческим и более поздним источникам, выявляя при этом ключевые направления развития в исторической перспективе. И всё–таки данный обзор неполон — по причине того, что автор ограничился рассмотрением только одного мотива, одного аспекта учения о Церкви, — а проведенный в книге анализ представляется довольно беглым. В любом случае книга Мерша может быть лишь отправной точкой для богослова, стремящегося дать систематическое изложение кафолического учения о Церкви в свете и духе вечно живого Предания истинной веры и разума.
Вероятно, первая проблема, с которой столкнется богослов Церкви в наше время, — вопрос о перспективе. Какое место должен занять «трактат о Церкви» внутри логичной и выверенной православной богословской системы? Прежде существовала тенденция, во многом сохранившаяся и по сей день, выписывать «экклесиологическую главу» догматики как независимый, самодостаточный «раздел.» Полностью связь с остальными «главами,” конечно, не игнорировалась: прозвучали, пусть случайно и исподволь, некоторые весьма важные соображения. Если, однако, смотреть в целом, то нельзя сказать, что учение о Церкви органично встроено в общую схему «кафолического богословия.» Хотя во всём чувствуется растущее стремление к такой органичности, нет ясности и согласия в вопросе о путях и методах ее достижения. Более того: именно здесь налицо явное не–согласие.
II. Скудость учения о Церкви в современном богословии.
Соборность христианства — вот на чём в последние десятилетия вновь ставят акцент богословская наука и богословский диалог, вот что вновь открывают для себя в молитвенном и литургическом опыте христианские сообщества. Христианство — это Церковь, в полноте своей жизни, своего бытия. Можно даже спросить, не следует ли систематическое изложение православной веры открывать предварительным «очерком о Церкви» — ведь «сокровище веры» хранилось все века истории именно в Церкви и именно ее авторитетом передавались и передаются все христианские учения и образы веры, вновь и вновь принимаемые из послушания Церкви, ради верности ее живому неизменному Преданию. Так, протестантские богословы обыкновенно предваряют свои системы главой о Слове Божием, Священном Писании, что для протестантов абсолютно логично. Порой православные и католики следуют тому же плану, прибавляя, конечно, к Писанию Предание. В действительности это не что иное, как замаскированный «трактат о Церкви,” предпосылаемый в качестве обязательных «пролегомен» к богословской системе. С точки зрения логики построения, это, скорее всего, единственно верный подход: нельзя не сказать в начале системы об источниках и свидетельствах, на которые предстоит опираться.
Тем не менее при таком подходе возникают сразу два неудобства. С одной стороны, можно так много сказать о Церкви во «введении,” что едва ли останется место для экклесиологии внутри самой «системы.» Разве не показательно отсутствие во многих богословских «компендиумах» части, посвященной собственно учению о Церкви? Достаточно одного примера: нет «экклезиологической главы» в объемном и заслуженно признанном учебнике догматики Йозефа Поле [237]. Конечно, можно касаться экклесиологии в других курсах богословского учебного плана, однако всё–таки весьма странно, как можно развить систему христианского богословия — и ничего не сказать при этом о Церкви. Впрочем, в учебнике Поле нет и «введения»: он сразу начинает с общего рассуждения о Боге.
С другой стороны, в «пролегоменах» о Церкви можно сказать лишь немногое — по крайней мере, сказать обоснованно. Ведь говорить о Церкви надо в более обширной перспективе: она — Тело Христово, а стало быть, не следует сразу рассуждать о Церкви, прежде чем будет достаточно сказано о Самом Христе. Здесь нечто большее, чем просто вечная проблема всех введений. Все «предисловия» обычно есть — «послесловия,” их часто пишут в последнюю очередь, после того как основной блок книги сформирован. Но вопрос не только в последовательности или иерархии «глав,” «разделов» вероучения. Ибо Церковь — это не «учение,” это «экзистенциальная» предпосылка всякого научения и всякой проповеди. Богословие преподают и развивают в Церкви. Изучение и разъяснение богословия — функция Церкви, и даже если эту функцию осуществляют индивидуумы, то только в качестве членов Церкви. Представляется, что именно в этом причина сдержанности, с которой отцы и церковные писатели более позднего времени говорили об экклесиологии. Так или иначе, необходимо сразу признать, что мы неизбежно столкнемся с этой внутренней сложностью, этой неоднозначностью. Необходимо сразу сказать, что изложить учение о Церкви в качестве «самостоятельного вопроса» попросту невозможно.
III. Два подхода.
Обратившись к современной литературе по богословию Церкви, мы заметим, что, начиная по крайней мере с богословского возрождения эпохи романтизма, ярко выражены два различных подхода, два различных способа изложения учения о Церкви. Разумеется, для обоих есть обоснования как в Писании, так и в Предании. Немедленно возникает вопрос: нельзя ли соединить эти два подхода, два метода, нельзя ли образовать их гармоничный синтез? Безусловно, такой синтез необходим и следует стремиться к его осуществлению. Однако как сделать это на практике, еще не вполне ясно.
С одной стороны, можно сказать, что сложилась традиция разрабатывать всё учение о Церкви исходя из христологии, взяв ориентиром известное выражение ап. Павла: Тело Христово. В итоге правильное соотношение между христологией и экклесиологией устанавливается обобщающим учением о «целокупном Христе» — totus Christus, caput et corpus [весь Христос: Глава и Тело], по знаменитой формуле блж. Августина [238]. Можно утверждать, что именно такой подход преобладал в святоотеческих творениях Востока и Запада, причем не только в эпоху единства, но и долгое время после разделения. На Востоке этот христологический путь прекрасно прослеживается у столь позднего автора, как Николай Кавасила, — в первую очередь, в его замечательном сочинении «О жизни во Христе» [239]. Применение именно этого подхода тесно связано с христологическим толкованием Кавасилой таинств и тем центральным местом, которое отведено в его системе таинству Евхаристии и евхаристической жертве [240].
Не следует, однако, забывать, что в новое время этот акцент на христологии стал терять силу и ослабевать. Христологические построения отцов древней Церкви на практике почти совершенно не принимаются во внимание. Пришлось переоткрывать классическое представление о Теле Христовом — даже внутри традиционных конфессий. Во всяком случае, в экклезиологическом контексте к христологии обращались крайне редко. После эпохи Реформации богословие видело Церковь скорее как «собрание верующих,” coetus fidelium, чем как Corpus Christi [Тело Христово]. Когда такой подход к тайне Церкви применяют на достаточно глубинном уровне, рано или поздно он приводит богословов к пневматологическому пониманию Церкви. Возможно, правы те, которые заявляют, что христианское учение о Святом Духе было недостаточно разработано и никогда не формулировалось корректно — несмотря на бурные споры вокруг filioque, а скорее всего именно благодаря им. И тем не менее существует четкая тенденция чрезмерно акцентировать пневматологический аспект учения о Церкви. Вероятно, один из наиболее ярких образцов такой чрезмерности — известная книга Иоганна Адама Мёлера «Die Einheit in der Kirche» [241], хотя, надо отметить, правильные пропорции были восстановлены уже в его «Symbolik» [242] и последующих работах [243]. В русской богословской мысли аналогичный дисбаланс характерен для Хомякова и, в большей мере, для его последователей. Учению о Церкви грозит превратиться в нечто вроде «харизматической социологии» [244]. Конечно, это не означает, что о Христе попросту не вспоминают; кроме того, в учении о Церкви надлежит найти некое место и «социологии.» Но ведь в действительности вопрос стоит о схеме построения экклесиологии. Можно сформулировать его следующим образом: должны ли мы в качестве исходной точки брать тот факт, что Церковь есть «Община,” чтобы затем изучать ее «структуру» и «свойства»? Или же следует начинать с Христа, Воплотившегося Бога, и анализировать всё, о чём говорит догмат Воплощения в его целостности, включая славу Воскресшего и Вознесшегося Господа, сидящего одесную Отца?
Вопрос об исходной точке экклезиологических построений никак нельзя назвать маловажным. Отправной пункт определит всю схему. Ясно, что между двумя выражениями св. ап. Павла — «во Христе» и «в Духе» — нет противоречия. Однако важно, какое из них будет для нас исходным, приоритетным. Наше «единство в Духе» — это не что иное, как «соединение со Христом,” вхождение в Его Тело, что являет последнюю, предельную реальность христианской жизни. Может случиться так — и тому уже есть примеры — что неудачно выбранная исходная точка приведет к весьма серьезному искажению всей перспективы и воспрепятствует нормальному развитию богословского исследования. По всей очевидности, это происходило в тех нередких случаях, когда учение о Церкви рассматривали вне органической связи с жизнью во плоти и искупительной Жертвой Господа Церкви. Слишком часто Церковь представляли как общину верующих во Христа и следующих за Христом, а не как Его собственное Тело, в котором Он непрестанно пребывает и действует Духом Святым, дабы «возглавить» всяческая в Себе. В результате оказалось невозможным правильно разработать и саму христологию: многое из сокровищ святоотеческого учения о Христе осталось невостребованным или забытым в богословии нового времени — как на Востоке, так и на Западе.
IV. Одно Писание недостаточно.
Приоритет апостольского образа «Тела Христова» могут оспорить с библейской точки зрения. Во–первых, в Церкви Христовой надлежит видеть «Новый Израиль,” а значит, подлинно ключевым и первостепенным будет понятие «Народа Божия.» Во–вторых, по представлению самого ап. Павла, Церковь — это «славное тело Христа Воскресшего,” следовательно, понятие «мистического тела» нельзя возводить к Воплощению, оставаясь в пределах учения апостола [245].
Оба довода не представляются убедительными. Да, совершенно верно, Божия Церковь Нового Завета — «пересоздание» ветхозаветной «Церкви,” но это пересоздание включает в себя высочайшую тайну Воплощения. Следует так понимать и истолковывать неразрывный путь Церкви сквозь всю библейскую «Heilsgeschichte» [историю Спасения], чтобы учесть уникальную «новизну» Воплощения Господа. И образ «народа Божия,” безусловно, не подходит для этой цели. Не видно также его особой связи с таинством Креста и Воскресения. Наконец, учение о Церкви необходимо строить так, чтобы отчетливо выявить таинственный характер нового бытия. Экклесиология св. ап. Павла допускает различные интерпретации, и справедливо утверждать, что представление о «Теле Христовом» занимает более значимое место в его понимании Церкви, чем полагают некоторые современные исследователи. Кроме того, не следует так явно противопоставлять Христа Воплотившегося и Христа Прославленного. Ведь по Вознесении Христос не перестал быть «Новым Адамом.»
Попытка заменить образ «тела» образом «семьи,” обосновав всю концепцию понятием «усыновления,” едва ли вообще заслуживает доверия [246]. Именно «во Христе» человек «усыновляется» Отцом, а таинство усыновления — это не что иное, как таинство смерти и совоскресения со Христом и во Христе, то есть мы опять говорим о таинстве вхождения в Тело Христово.
Так или иначе, кафолическое учение о Церкви нельзя построить на одних только текстах Писания, которое само открывается лишь в свете живого Предания. Богословам–систематикам не приличествует с легкостью отметать образ «тела,” так часто используемый отцами. Окончательно сформировать систему можно, только опираясь на целостное видение Личности и искупительного подвига Христа.
V. Богочеловеческая природа Церкви.
Основа бытия христианской Церкви — то новое, сокровенное единство Бога и человека, которое осуществлено Воплощением. Христос — Богочеловек, причем, согласно халкидонской формуле, «совершенный в божестве и совершенный в человечестве» [247]; именно поэтому стала возможной и получила бытие Церковь Христова. В искупительной тайне Креста мы видим снисхождение Бога, Божественной Любви, к человеку. Христово «отождествление» с человеком, с человечеством, достигло своей высшей точки в Его смерти — смерти, самой по себе бывшей победой над разрушительными силами и в полной мере проявившейся в Славе Воскресения и Вознесении. Всё это единое, неделимое Божие деяние. Церковь созидается таинствами, каждое из которых предполагает самое непосредственное участие в смерти и воскресении Христа и личное соединение с Ним. Церковь — плод искупительного подвига Христова, его, скажем, — «краткое изложение.» Церковь была целью и замыслом «схождения с небес» Христа — нас ради человек и нашего ради спасения. Только под таким углом можно верно и в полной мере понять природу Церкви. Центральное место при таком истолковании занимает человеческая природа Христа — Его собственная и, тем не менее, «всеобщая.» Здесь заключена экзистенциальная предпосылка и основание Церкви. Лишь завершенная христологическая модель может правильно и убедительно выразить это важнейшее отношение между Воплотившимся Господом Искупителем и искупленным человеком. В данной статье удастся только изложить ряд тезисов и дать некоторые указания для дальнейшего исследования.
Несомненно, понятие Воплощения, взятое само по себе и не расширенное в достаточной степени — так, чтобы охватить всю жизнь Христа, все его деяния, вплоть до кульминации Креста и славы Воскресения, — такое понятие не сможет послужить надежной основой, стать фундаментом для экклесиологии. Мало анализировать тайну Воплощения и в терминах одной только «природы.» Воплощение было явлением Божественной Любви, ее искупительного присутствия и действования в «мире,” а вернее, посреди человеческого «бытия.» Это присутствие и действование продолжается в Церкви. Церковь — это непрерывное присутствие Искупителя в мире. Вознесшийся Христос не удалился, не отлучился от мира. Сила и власть Церкви Воинствующей укоренена именно в этом таинственном «Присутствии,” делающем ее Телом Христовом, а Христа — ее Главой. Наиболее важная, ключевая проблема экклесиологии заключается как раз в том, чтобы описать и объяснить модус и характер такого «Присутствия.» Послание к Евреям вместе с Посланием к Ефесянам представляются максимально приемлемой отправной точкой Писания для построения экклесиологии. Что вовсе не воспрещает придавать особое значение действию Святого Духа: необходимо только помнить, что Церковь — это Церковь Христа, и Он ее Глава и Господь. Дух — это Дух Сына: «Не от Себя говорить будет ….. потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13–14). Во всяком случае, нельзя, говоря о «домостроительстве Духа,” ограничивать и умалять «домостроительство Сына.»
Недавно проблему хорошо и ясно сформулировал Владимир Лосский в своей небольшой интересной книге «Essai sur la theologie mystique de l’Eglise d’Orient» [248]. Но решение, которое он далее предлагает, навряд ли удовлетворительно [249]. Тяжело столь четко различать «единство природы» и «множество человеческих ипостасей,” как это хочет делать Лосский. «Человеческая природа» не существует вне «человеческих ипостасей,” и сам Лосский прекрасно это понимает — при этом он, однако, подчеркивает, что человек именно «как личность» является «существом, содержащим в себе целое,” то есть чем–то большим, чем просто «членом Тела Христова» [250]. Тем самым подспудно проводится мысль о том, что только в Духе Святом — не во Христе — человеческая личность в полной мере обретает (или возвращает себе) свое онтологическое основание. Безусловно, Церковь — то место, где человеческие личности соединяются с Богом. Однако вызывает серьезные сомнения возможность провести столь резкую границу между «природой» Церкви и «множественностью» входящих в нее «личностей» или «ипостасей.» В теории Лосского не остается места для личностного общения индивидуумов со Христом. Конечно, такое личностное соединение со Христом — не что иное, как дар Святого Духа, но было бы ошибочным сначала говорить: «В Церкви через таинства наша природа соединяется с Божественной природой в ипостаси Сына, Главы Своего мистического Тела,” а затем добавлять как нечто иное: «Каждая личность (человеческой) природы должна стать сообразной Христу,” и это происходит «по благодати Святого Духа» [251]. Причина резкого разграничения вполне понятна; она заслуживает всяческого внимания. Лосский стремится избежать опасности настолько увлечься «всеобщим исцелением» человеческого естества, что будет утеряна свобода участия в «богочеловеческом организме» Церкви. Ход его мысли предельно ясен: Церковь едина во Христе и множественна Духом; одна человеческая природа в ипостаси Христа, многие человеческие ипостаси в благодати Духа. Логично спросить: разве множественность человеческих ипостасей не вполне обретает свое основание в личностном «общении» многих с Единым Христом? Разве происходящее в таинствах соединение со Христом не носит личностного характера — характера личной встречи — и не совершается Духом Святым? А с другой стороны, разве личная встреча христианина со Христом не будет возможной только в «причастии Святого Духа» и «благодатью Господа нашего Иисуса Христа»? Ошибочно относить «природный» аспект Церкви, «un accent de necessite'” [акцент на необходимости], ко Христу, отдавая «личностный» аспект, «un accent de liberte'” [акцент на свободе], действию Святого Духа. Также ошибочно говорить о некоей статичной «христологической структуре» Церкви, приписывая весь динамизм церковной жизни действию Духа. Именно это пытается сделать Лосский. В его интерпретации Церковь как Тело Христово оказывается лишь застывшей «структурой,” и только в своем «пневматологическом аспекте» Церковь обладает «динамическим характером.» В реальности это будет означать, что Христос не присутствует в Церкви динамически, — вывод, могущий стать причиной серьезных погрешностей в учении о таинствах. Почти всё, что говорит Лосский, приемлемо — но говорит он это так, что возникает опасность существенно исказить всю экклезиологическую модель. Несостоятельность кроется именно в его христологических посылках.
Следует обратить пристальное внимание на главы, посвященные Церкви, превосходной в остальном книги Лосского: здесь очень четко видны ловушки, всегда образующиеся при попытке тем или иным образом ослабить роль христологии при построении учения о Церкви. Лосский не был первым русским богословом, попытавшимся идти подобным путем, хотя он сделал это по–своему [252]. И аналогичные попытки могут предприниматься вновь. Потому необходимо помнить, что нет никакой возможности создать стройное учение о Церкви до тех пор, пока мы не признали в полной мере христоцентричность модели, пока главное место в ней не занял Воплотившийся Господь, Царь Славы.
VI. Заключение.
Не следует принимать эти несколько страничек критических замечаний и тезисов за «набросок экклесиологии.» Автору всего лишь хотелось поделиться со своими читателями разного рода выводами, к которым он пришел в процессе изучения святоотеческого наследия и поиска того, что привык называть «неопатристическим синтезом.» Для начала нам, скорее всего, потребуется просто хорошее и всестороннее историческое исследование святоотеческого учения о Церкви. Лишь впоследствии мы сможем перейти к правильному построению экклесиологии.
P. S. Вышедшая совсем недавно книга Эрнеста Беста (Best E. «One Body in Christ. A Study in the Relationship of the Church to Christ in the Epistles of the Apostle Paul.» London, 1955) слишком поздно попала в руки автора данной статьи и потому не проанализирована в тексте. Бест со всей решительностью говорит об ошибочности «онтологического» понимания образа Тела Христова у ап. Павла, а значит, ошибочности понимания Церкви как «продолжения» Воплощения. Автора настоящей статьи не убедили тщательные экзегетические штудии Беста, однако данный вопрос, безусловно, требует отдельного рассмотрения.
© Перевод Владимира Пислякова. Перевод впервые опубликован в В. Н. Лосский. Богословские труды. М. Издательство Свято–Владимирского братства. 2000.