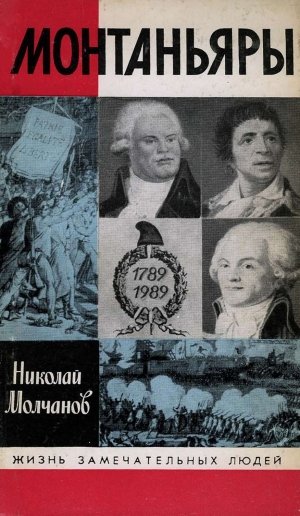
Знаменитый французский художник Эдгар Дега рассказывал, что, когда он был еще ребенком, мать однажды взяла его с собой навестить подругу, мадам Леба, вдову члена Конвента и монтаньяра, который 9 термидора застрелился, не желая умереть на гильотине. Визит заканчивался, мадам Дега уже стала прощаться, но вдруг внезапно остановилась, взволнованная. Она увидела на стене портреты Робеспьера, Кутона, Сен-Жюста и гневно воскликнула:
— Как! Вы еще храните портреты этих чудовищ?
— Замолчи, Селестина, — пылко откликнулась мадам Леба. — Замолчи! Они святые!
Чудовища или святые? Кем были монтаньяры в действительности? Два века историки занимаются этой тайной…
«Тайны монтаньяров»… О них упоминал Бальзак, обладавший необычайной способностью если не разгадывать, то превращать таинственные истории магическим воображением в сюжеты великолепных романов. Два из них — «Шуаны» и «Темное дело» — прямо связаны с Великой французской революцией. И в других произведениях он часто напоминал о событиях революции, о судьбах ее людей. Без этого, пожалуй, невозможно было бы создать бесподобно верные картины жизни Франции конца XVIII — начала XIX века. Ведь над историей всей Европы еще столетие витал грозный призрак революции. Однако «тайны монтаньяров» так и остались у Бальзака неиспользованной темой.
На первый, поверхностный, взгляд это можно объяснить отсутствием каких-либо тайн. Монтаньяры — самая смелая, передовая группа французских революционеров XVIII века — действовали совершенно открыто, гласно, публично. Они были на виду у народа и много, красноречиво, откровенно говорили о себе сами. Вожди монтаньяров — Жорж Дантон, Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат — обладали замечательным ораторским даром.
Но все же в определенном смысле тайны монтаньяров существовали. То были не столько лежащие на поверхности секреты, заговоры или интриги, сколько неразгаданная путаница характеров и стремлений, непредсказуемость сталкивавшихся между собой честолюбий, сложность социальных и политических пружин многих явлений того драматического времени.
И сейчас, спустя 200 лет, эти тайны до конца не раскрыты, хотя ни об одном событии всемирной истории не написано так много, как о Великой французской революции. Ей посвящали свои труды историки. Она привлекала внимание многих выдающихся писателей. О ней часто размышляли профессиональные политические деятели. Обстоятельство весьма знаменательное, ибо объясняет, почему необъятный поток литературы о революции не только не прояснил ее до конца, но даже запутал.
Революция служила и продолжает служить средством политической борьбы, ее опыт используется для идейного оправдания самых неожиданных дел, благо противоречивая, яркая, насыщенная идеями, надеждами и страстями, она давала и дает прецеденты на любой случай.
Может быть, иначе обстоит дело с многочисленными биографическими сочинениями о ее героях? Увы, в них беспристрастия и объективности еще меньше. Причина та же — политические склонности, интересы и предубеждения авторов. Посмертная судьба Робеспьера и Дантона, к примеру, повторяет их реальные прижизненные разногласия — биографы, словно облачаясь в костюмы своих героев, продолжают их борьбу между собой. Одни неизбежно идеализируют Робеспьера, принижая Дантона, другие, подчеркивая величие Дантона, стремятся умалить авторитет Робеспьера.
Однако споры об этих героях революции кажутся легкой перепалкой по сравнению с яростью, кипящей до сих пор из-за Марата. Кто он, исчадие ада или образ божественного откровения? Его истерические заклинания одни считают бредом сумасшедшего, а другие — гениальными пророчествами, сравнимыми лишь с откровениями библейских пророков вроде Исайи. Действительно, сострадание к униженным и оскорбленным сочеталось в нем с бешеной злобой, ненавистью к тиранам и врагам революции. В самом ее начале, когда все наивно радовались осуществлению мечты о свободе и братстве, он первый призвал к террору.
Его ненавидели и боготворили. Шарлотта Корде, вдохновляясь искренними чувствами, пронзила ножом сердце Друга народа. Санкюлоты же, поклонявшиеся ему как Божеству революции, почтили в нем мученика святого дела. По сей день одни объявляют его шарлатаном, другие — несравненным выразителем сути революции.
Только Дантон удостоился персонального памятника в Париже. Но и остальные обрели бессмертие. Возможно, именно благодаря противоречивости суждений о них раскрываются ныне их подлинные черты и своеобразие каждого. Склонные к плюрализму французы создали много интереснейших биографий своих революционных героев.
Что касается наших отечественных авторов, писавших о французских революционерах XVIII века, то над ними тяготеет «злой рок» — укоренившееся убеждение, что представители передового, прогрессивного движения обязательно должны быть идеальными во всех отношениях людьми, вообще не способными совершать какие-либо предосудительные поступки. В результате в изобилии появляются книги о «пламенных революционерах», напоминающие жития святых. В них революцию творят искусственно приукрашенные личности, лишенные слабостей, колебаний, не говоря уже о пороках или преступных склонностях.
Впрочем, идеализация революционеров прошлого свойственна не только нашей историко-революционной литературе. Еще Маркс и Энгельс осуждали канонизацию революционных вождей: «Было бы весьма желательно, — писали они, — чтобы люди, стоявшие во главе партии движения — будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц, — были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно, преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».
К несчастью, подлинная история свидетельствует, что справедливое, в перспективе победоносное движение особенно сильно притягивает к себе карьеристов и проходимцев, лицемерно присоединяющихся к благородному делу ради корыстных целей. Имена Жозефа Фуше, Станислава Фрерона, Жана Тельена, к примеру, фигурировали среди самых известных монтаньяров. Преданность революции они доказывали исключительной жестокостью, доводившей политику террора до крайнего абсурда. Затем они обнаружили столь же чудовищную продажность и реакционность…
В этой книге, в отличие от обычных биографий серии ЖЗЛ, не один, а много героев, хотя главное место уделено, естественно, трем великим вождям монтаньяров — Дантону, Марату и Робеспьеру. Такое «расширение» биографического жанра ведет к более широкому раскрытию среды, в которой они жили и боролись, то есть самой Французской революции и ее главного действующего лица — народа.
Метод сравнительного жизнеописания не зря считается классическим. Он позволяет избежать обычно подстерегающей биографа опасности превратиться в адвоката, а то и апологета своего героя. У автора биографического сочинения неизбежно вырабатывается своеобразный, в чем-то, разумеется, простительный, рефлекс: занимаясь нелегким исследованием жизни и творчества какого-либо одного исторического персонажа, биограф настолько проникается его интересами, что начинает незаметно для себя слепо любить своего героя. По-человечески эта трогательная слабость вполне понятна. Но беда, что от такой сентиментальности страдает истина.
Достоверность, истинность исторических книг зависит и от многого другого. Трудолюбие и добросовестность автора, уровень его знаний, влияние на него предрассудков и заблуждений — все это неизбежно определяет качество труда как в этой, так и в любой другой области человеческой деятельности. Но бывает, что обстоятельства не позволяют сказать людям то, что они думают, вынуждают их скрывать, а иногда искажать истину. В 1939 году в нашей стране вышла очень большая книга, написанная группой авторов по случаю 150-летия Великой французской революции. В ней содержалось много интересного, ценного, правдивого. Однако то время — время, когда создавался этот труд, не могло не наложить на него свою печать. Например, принимавшая устрашающие масштабы политика террора 1793-1794 годов в книге оценивалась так: «В отличие от реакционных историков и публицистов, Маркс и Энгельс показали, что террор был необходим для преодоления сопротивления врагов революции, без чего невозможна была победа революции».
При этом тщетно искать в огромном томе главные высказывания основоположников марксизма о терроре. Их просто нет. Правда, приводятся цитаты, относящиеся к периоду еще юношеского увлечения классиков французскими революционерами, когда молодой Энгельс называл себя монтаньяром. В те времена и он и Маркс не очень-то осуждали террор.
Но в зрелые годы оба теоретика вынесли ему иные оценки. 4 сентября 1870 года Энгельс написал Марксу письмо, в котором с юмором вспомнил свое понимание «периода господства террора» как периода господства людей, «внушающих ужас». «В действительности же наоборот, — пишет Энгельс, — это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Я убежден, что вина за господство террора в 1793 году падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре».
Эта беспощадная, но справедливая оценка относится в первую очередь к Робеспьеру. Однако ни в одной изданной у нас его биографии не найдешь подобных высказываний Маркса и Энгельса. Еще бы, ведь они решительно противоречат закрепившемуся в нашей биографической литературе идеализированному образу знаменитого монтаньяра… Много еще в истории Французской революции «белых», «черных» и иных пятен, исказивших ее картину.
Моменты единства монтаньяров с народом, с парижскими санкюлотами предопределили их историческое величие. Разрыв с народом был их трагедией и крахом. Но этот глубокий социальный смысл истории монтаньяров крайне сложно отражался в личной судьбе вождей передовой революционной партии Франции XVIII века. Примитивный классовый подход сталкивается с действительностью, не укладывающейся в жесткие, схоластические рамки. Почему нередко скромный труженик — рабочий или крестьянин — примыкал к роялистам, выступал за старый феодальный порядок, а бывшие титулованные дворяне и священники становились искренними революционерами? Здесь-то и скрываются пресловутые «тайны монтаньяров».
Если рассматривать эти тайны не в духе социальных утопий или литературного вымысла, а так, как все происходило в действительности, то суть их обнаруживается в сложных отношениях между буржуазией и народом. Тому, кто воспитан на упрощенных схемах учебников истории, внушающих инстинктивное недоверие, неприятие всего, что связано с буржуазией, надо совершить умственное усилие, мысленно перешагнуть через два века и усвоить непреложную истину: французская буржуазия была молодым, передовым, воплощавшим лучшую часть нации, революционным классом, которому принадлежало будущее, который олицетворял реальный прогресс. Точно так же обстоит дело и с другими привычными социальными и политическими понятиями. Например, если мы называем монтаньяров «партией», то совсем не в том смысле, который вкладывается в современное понятие «партия»…
Итак, попробуем перенестись на два века назад, войдем в мир интересов, идей и чувств миллионов французов, совершивших революцию. Отрешимся на время от всего мира, каким мы видим его сейчас, и вызовем из небытия другую страну, иной мир, ушедших людей — Францию, которой уже нет.
Глава I РЕВОЛЮЦИЯ
Наступление революции во Франции предвидели и предсказывали многие. Но никто не знал, как это произойдет. Людовика XVI неожиданно разбудили ночью 14 июля 1789 года. Удивленно и растерянно слушал он торопливый рассказ герцога Лианкура о взятии Бастилии,
— Это же бунт! — пробормотал король.
— Нет, государь, это революция, — печально ответил герцог.
В глубине души король не верил в такую опасность. Что может поколебать древнейшее, самое знаменитое королевство и самое богатое в Европе государство? Конечно, досаждали финансовые трудности. Но когда их не было? Разве его предшественники на троне, Людовик XV, сам король-солнце Людовик XIV, не нуждались постоянно в деньгах? В конце концов все как-то улаживалось. И разве Франция не процветает в почете и славе?
С начала века число его подданных возросло с двадцати до двадцати пяти миллионов. Ни при одном другом царствовании в Париже не строили так много: шестьсот новых роскошных особняков, тридцать тысяч солидных домов украсили столицу. Дворец в Версале поражает богатством и роскошью. Правда, предшественники Людовика XVI проиграли несколько войн. Но сам он не знал военных поражений. Еще не так давно, в 1783 году, Париж ликовал, празднуя победу над заносчивой Англией в американской войне. Народ радовался тогда, любуясь красочным фейерверком по случаю подписания мирного договора.
В последнее время король перестал понимать людей. Даже среди принятых при дворе четырех тысяч самых знатных мелькали постные физиономии, которые своим унылым видом будто предвещали недоброе. Что им еще надо? Кажется, он уступал всем: королеве, братьям-принцам, придворным, всему дворянству… По сравнению с предшественниками, он очень покладистый король, за что, как он считал, его любили. Конечно, он король-домосед. За пятнадцать лет царствования он совершил только две поездки: на коронацию в Реймс и на торжественное открытие Шербурского порта. Зато он не страдал пороками Людовика XV, своего деда, управлявшего по капризам любовниц — вначале мадам Помпадур, а затем мадам Дюбарри. Людовик XVI был целомудрен и ходил к исповеди с чистой совестью. Он увлекался науками, заполнял апартаменты научными приборами, машинами, любил географию и одобрил экспедиции капитана Кука, послал на край света Лаперуза обследовать Тихий океан.
У него были невинные слабости: король обожал ремесла и с удовольствием сам работал напильником, изготовлял с помощью слесаря Гамена хитроумные замки. Людовик не мог жить без охоты. Хотя его считали близоруким, он превосходно стрелял и гордился своими охотничьими трофеями. Только в августе 1784 года он подстрелил 460 штук дичи, в декабре 1787-го — 218. Не пренебрегал он и псовой охотой, застрелил за десять лет 1275 оленей, убил много кабанов, даже волков…
Его нельзя было упрекнуть в невежестве, он знал несколько языков. Хотя Людовик не любил и не умел вести изысканные остроумные беседы, никто не назвал бы его глупым. Он был достойным королем, правда, довольно нерешительным и ленивым. Порой он даже проявлял способность воспринимать новые идеи и требования жизни. Как прекрасно начиналось его царствование! Новый король, которому не было и двадцати лет, получил прозвище Людовика Желанного. Юный монарх даже отказался от традиционного подарка в 24 миллиона ливров, поднесенного ему по случаю вступления на престол, разогнал развратную шайку, царившую при дворе его предшественника, отправив в ссылку всесильную фаворитку Дюбарри. Король начал очищать авгиевы конюшни королевских финансов, назначив генеральным контролером ученого экономиста и крупного администратора Тюрго. Тот взялся за дело, предложив самое простое и разумное решение: пусть налоги платит не только народ, но и два первых, привилегированных сословия, — дворянство с духовенством. Ведь выжать еще что-то из третьего сословия — крестьян, горожан, буржуазии — уже было невозможно. Тюрго наметил программу экономических и политических реформ, хотел шире открыть дорогу свободному предпринимательству буржуазии.
Естественно, аристократов охватило яростное негодование. Набожный король особенно прислушивался к протестам епископов. В страхе за свои богатства они вдруг обнаружили «нечистивость» Тюрго: «Ведь он не ходит к мессе!» Людовик, еще недавно писавший Тюрго, что «только вы да я и любим народ», теперь подписал отставку реформатора. Все, начиная с братьев короля, ликовали. Реформы Тюрго попытались забыть.
Играли на том, что Людовик XVI не мог заставить себя согласиться с умалением роли дворянства; ведь он сам был первым дворянином. В блеске крупнейших дворянских родов он видел собственную честь и славу. Слушая различные доводы серьезных и честных советников, он соглашался с необходимостью изменения старого порядка. Но как только попытки частичных реформ встречали противодействие дворянства и церкви, Людовик отступал. Вся его деятельность на троне — хаос противоречивых колебаний, всегда кончавшихся уступками благородному сословию.
Беда в том, что денег в казначействе не прибавлялось. С трудом сводили концы с концами. Парижские банкиры, недовольные отставкой Тюрго, не хотели больше давать королю взаймы. Они знали, что без серьезных реформ получить обратно деньги не удастся. Чтобы выйти из положения, пришлось опять взяться за реформы, доверив управление финансами богатому швейцарскому банкиру Жаку Неккеру. Кое в чем он расходился с Тюрго, однако действовал тоже в интересах буржуазии, а не только аристократии. Он сократил расходы двора, ввел новые меры веса, предложил новую налоговую систему, посягавшую и на доходы дворянства. И хотя он не затрагивал главных основ старого феодально-абсолютистского порядка, аристократы возмутились. Почему этот швейцарец, протестант, официально даже не назначенный, подобно Тюрго, генеральным контролером финансов, смеет не считаться с интересами привилегированных?
В мае 1781 года Людовик XVI уволил его в отставку. Неккеру не могли простить опубликование отчета о состоянии финансов, наглядно показавшего паразитизм дворянства. Король еще раз уступил, отказавшись от частичных, осторожных, половинчатых реформ. И опять попытка предотвратить революцию закончилась неудачей.
Старый порядок сам рыл себе могилу. Двор, особенно королева, беззаботно пускали по ветру миллионы, государству угрожало банкротство. Мария-Антуанетта, да и сам король старались не задумываться о завтрашнем дне. Братья короля, граф д'Артуа и граф Прованский, увлекавшиеся игрой в карты, добились оплаты своих многомиллионных долгов за счет казны. Королевские финансы по-прежнему оставались в хаотическом состоянии, из которого их теперь уже не пытаются вывести два новых, быстро сменившихся генеральных контролера. В 1783 году на этот пост назначили Шарля Калонна. Он превзошел безответственностью своих предшественников, не отказывал в деньгах никому, особенно Марии-Антуанетте. Но бесконечно продолжать вакханалию расточительства невозможно. Калонн, по примеру Тюрго и Неккера, предлагает новый вариант, по существу, тех же реформ: главная среди них — единый земельный налог на всех, в том числе на дворянство и духовенство. На этот раз королевские реформаторы решили действовать наверняка и созвать нотаблей — самых знатных людей королевства. Ведь они должны наверняка поддержать короля. В феврале 1787 года собрались принцы крови, герцоги, маршалы, епископы, интенданты, мэры, всего 147 «столпов» королевства. Однако попытка использовать старый феодальный институт дала неожиданный результат. Нотабли не только отвергают реформы, но вынуждают короля прогнать самого реформатора Калонна!
Аристократы заразились либеральными идеями французских философов XVIII века: Вольтера, Монтескье, Гольбаха! Они не желают больше терпеть абсолютизм монархии, деспотизм короля, хотя и не склонны расстаться со своими привилегиями. Институт старого порядка ведет атаку на этот порядок во имя новых идей свободы! Для этого они требуют созвать Генеральные Штаты всех сословий, последний раз собиравшиеся в 1614 году. Необычайная политическая двусмысленность возмущает и озадачивает двор. Он реагирует немедленно, хотя и вслепую: на место Калонна по совету Марии-Антуанетты назначают епископа Ломени де Бриенна.
Красноречивый прелат-философ имеет множество замыслов, но в конце концов считает, что «есть столько случайностей, а довольно одной, чтобы спасти нас». Увы, нотабли отвергают и его реформы. Тогда их воплощают в королевские эдикты и представляют для регистрации в парламент Парижа — старинное судебное учреждение, имеющее право регистрировать законы. Но парламент тоже отвергает их и, в свою очередь, требует созыва Генеральных Штатов. Людовика XVI вывели даже из его обычного состояния ленивой апатии. Он приказывает отправить весь парламент в ссылку, в Труа. Но бунтарей поддерживают другие парламенты в провинции. Антиабсолютистская позиция парламентов одобряется всеми городами. Здесь «бунт» привилегированных начинает превращаться в восстание буржуазии — вождя третьего сословия. Настоящее восстание, когда в дело вступают солдаты, а народ забрасывает их с крыш черепицей, происходит в Гренобле, в провинции Дофине. В замке Визиль созывается собрание, на котором верховодит уже не знать, а буржуазия.
Здесь-то и рождается новая идея, хотя она и выдвигается под старой вывеской — созыв Генеральных Штатов, — но не так, как раньше, когда каждое из трех сословий имело равное число представителей, а с двойным представительством третьего сословия! Ведь оно составляет 98 процентов населения.
Король капитулирует: 8 августа объявлено о созыве Генеральных Штатов на 1 мая 1789 года, а через две недели Ломени де Бриенн уволен в отставку, а на его место снова призван Неккер.
Итак, сначала привилегированные, дворянство и духовенство, нотабли и парламенты потребовали созыва Генеральных Штатов. Затем к ним присоединилась буржуазия, возглавляющая третье сословие, и тоже потребовала созыва Генеральных Штатов. И те и другие объединились против короля; они требуют одного и того же. Но, как выяснилось очень скоро, на совершенно разных условиях! Знатные хотят Генеральных Штатов по старинке, когда они господствовали и все решали: ведь два всегда больше одного, и третье сословие смиренно подчинялось. Теперь же оно само одно хочет иметь столько же голосов, как и два первых сословия вместе. Решение же должно приниматься путем индивидуального, поголовного голосования. Стоит лишь небольшому числу дворян и духовенства присоединиться к третьему сословию, и оно будет хозяином Генеральные Штатов. Общий антиабсолютистский фронт разделился на два соперничающих лагеря. Кто же из них возьмет верх?
Именно в это время в событие вмешивается новая сила — народ.
Финансовый кризис оказался лишь симптомом общего острейшего экономического кризиса, охватившего страну. На этот раз не только люди, но и само небо против короля. Дожди, наводнение весной 1787 года, потом засуха, страшный град 13 июля, опустошивший поля Западной Франции, — все это вызвало катастрофический неурожай. Бедствие обрушилось и на города. Текстильная промышленность из-за английской конкуренции не могла дать работу десяткам тысяч рабочих, а затем наступает небывало суровая зима 1788/89 года. Жестокие морозы обрушились на Францию. Сена замерзла вплоть до Гавра, Луара до Нанта, каналы по всей стране. Остановились скованные льдом баржи. В их трюмах гнили зерно, сыры, овощи. Обозы застряли на заснеженных дорогах. В Париже цена четырехфунтового хлеба поднялась с восьми до пятнадцати су. Голодные бунты вспыхивают повсюду, от Прованса до Бургундии, от Бретани до Эльзаса. Крестьяне и рабочие грабят склады, останавливают обозы с продовольствием.
Голодные бунты явление не новое для Франции. Новым является поиск политического выхода. Кризис ведет к объединению третьего сословия. Массы голодных теперь приобрели вождя: буржуазию, требующую реформы государственного строя. Борьба парламентов, дворянства и духовенства против абсолютизма; все это сразу отступило на второй план. Возникает «национальная партия» третьего сословия, в которой стихийно сливаются все многочисленные потоки недовольства большинства населения.
Весной 1789 года проходят выборы в Генеральные Штаты. В отличие от современных выборов, когда до последнего момента никто не знает, сколько мест получит та или иная партия, число депутатов от каждого сословия было заранее известно: по 300 от двух привилегированных сословий и 600 — от третьего. Выбрали немного меньше (всего 1165), но в основном пропорция сохранилась. Важнее количественных показателей оказались результаты уникальной письменной консультации: на избирательных собраниях принимались наказы — тетради жалоб и пожеланий. Конечно, в них не нашли отражение чаяния сельских и городских бедняков, ведь наказы писали грамотные.
Во всяком случае, получилась как бы программа деятельности Генеральных Штатов, но отнюдь не программа революции. Ее цель — преобразование феодального строя в буржуазный — все хотели достичь путем реформы, без применения насилия. Наказы соответствовали идеалам французских философов — просветителей XVIII века. Они всесторонне разработали и определили цель преобразования общества, но не средства и методы ее достижения.
В одном вопросе все наказы независимо от сословий оказались едины: все хотели сохранения монархии, но ограниченной, контролируемой законом. Никто не добивался установления республики.
Наказы третьего сословия требовали принятия конституции, отменяющей феодализм, гарантирующей индивидуальные свободы, собственность, интеллектуальную и религиозную терпимость, равенство прав, обязательное утверждение налогов Национальным собранием. В наказах не содержалось ничего враждебного монархии, напротив, все опиралось на союз между королем и нацией. В них выражалось пожелание, чтобы законодательная власть принадлежала нации совместно с королем, а исполнительная — одному королю.
Наказы дворянства резко отличались от наказов третьего сословия. Соглашаясь на равенство в налогообложении, оно не допускало равенства в правах, требовало сохранения сословий.
Людовику XVI предоставлялась великолепная возможность: нация избавляла его от тягостных забот, вызвавших изнурительную борьбу с нотаблями, с парламентами. Будущее его монархии гарантировалось конституцией, освобождавшей его от ответственности за самые важные, трудные и тяжелые проблемы жизни страны. Правда, пришлось бы разделить власть с представителями народа. Пойдет ли он на это? Пока никто не мог дать ответа на такой вопрос. Оставались неясными и порядок работы Генеральных Штатов, способ голосования и принятия решений…
В конце апреля депутаты Генеральных Штатов съезжаются в Версаль. Представителям третьего сословия предписывают явиться обязательно в скромном черном одеянии, напоминающем смесь одежды монаха и мелкого клерка. Дворянам и духовным советуют одеться как можно ярче, пышнее. 2 мая депутатов официально представляют королю. Дворяне и духовенство допускаются в кабинет короля. Монарх свидетельствует им свое уважение. Гораздо более многочисленную массу депутатов третьего сословия принимают в другом помещении, где король с подчеркнутой небрежностью лишь окидывает их холодным взором. 4 мая депутаты отправляются к мессе в церковь Святого Людовика. Сначала, подальше от короля, отдельно идут скромные представители народа. Затем в парадных одеждах, блистая бархатом, золотым шитьем, шляпами с пышными плюмажами, со шпагами шествуют дворяне. Далее идут епископы в фиолетовых сутанах, в красных шляпах, в кружевных стихарях, сопровождаемые священниками, одетыми поскромнее. Наконец выступает двор во главе с королем и королевой. На этот раз их ослепительный облик превзошел даже традиционную помпезность, роскошь и блеск, которыми славился на весь мир версальский двор. Пока еще никто и подумать не мог, что видит начало шествия монархии к смертному одру…
5 мая 1789 года король Людовик XVI торжественно открыл Генеральные Штаты. В королевском дворце не нашлось достаточно большого помещения, чтобы вместить депутатов. Их собрали в расположенном невдалеке огромном здании Меню плезир — Малых забав. Так обычно переводят его название на русский язык, хотя точнее было бы по смыслу, назначению и аналогии с известным древним сооружением в Кремле назвать его Потешный дворец. Обычно здесь веселились, смотрели спектакли, устраивали балы, маскарады, приемы. Пять лет назад в этом зале состоялось первое представление «Женитьбы Фигаро» Бомарше. Придворные от души смеялись над проделками остроумного Фигаро, над его словами о своем хозяине графе Альмавиве, который лишь «дал себе труд родиться». Ныне здесь же предстояло всерьез решить, достаточно ли подобного «труда», чтобы господствовать…
По случаю открытия Генеральных Штатов огромный зал с великолепными колоннами заново отремонтировали и украсили. На эстраде возвышался королевский трон. По одной стороне зала сидели дворяне, по другой — духовенство. А в глубине, подальше от короля, отвели места для третьего сословия. Его депутатов впустили не в парадные двери, как дворян, а в скромные боковые. Сиденья для них сделали пониже.
Среди 570 депутатов третьего сословия оказалось 200 юристов, 100 торговцев и промышленников, 50 крупных землевладельцев, 11 дворян, 3 священника. Ни одного настоящего крестьянина или рабочего там не нашлось. И все же они представляли народ и были самой монолитной, однородной единой группой. Что касается 270 дворян, то 90 среди них склонялись к новым, передовым либеральным идеям, хотя тон задавали пока яростные защитники старого феодального порядка. Еще меньше единства было среди 290 представителей духовенства. Высшая церковная иерархия — кардиналы, епископы — имела мало общего с бедными приходскими священниками. Некоторые из них будут даже революционерами. Но пока Генеральные Штаты как бы воплощают старую сословно-феодальную Францию.
Правда, теперь, слушая короля, депутаты третьего сословия не обязаны становиться на колени, как в старых Генеральных Штатах. Однако сразу же произошел мелкий, но многозначительный эпизод. Усевшись на троне, король надел шляпу, дворяне и духовенство последовали его примеру. А депутаты третьего сословия вместо того, чтобы по предписанному им этикету остаться с непокрытыми головами, тоже водрузили на головы свои шляпы. Неслыханное своеволие! Но король нашелся: он снял шляпу, и всем пришлось сделать это же. Итак, для начала восторжествовал принцип «равенства». Впрочем, третье сословие хотело проявить не враждебность к королю, а отношение к другим сословиям. Ведь все депутаты без исключения были монархистами.
Король произнес короткую, тщательно взвешенную, но, впрочем, многозначительную речь.
— Всеобщее брожение, чрезмерное стремление к нововведениям, — сказал он, — овладели умами, и если не поторопиться отрезвить их, это может окончательно ввести в заблуждение…
Ни слова о конституции, о реформах, которых требовали наказы. Ничего не сказано и по вопросу, не. терпящему отлагательства: как будет работать собрание, как голосовать. Когда вслед за королем выступил министр юстиции Барантен, выяснилось, что двор стоит за старые правила, по которым привилегированные сословия всегда будут в большинстве. Значит, третьему сословию самому придется добиваться справедливости. Рухнули надежды и на прославленного реформатора Неккера. В пространной речи он вообще не вспомнил о своих прежних планах и сообщил только о дефиците бюджета в 56 миллионов ливров и предложил одобрить заем в 80 миллионов. Под давлением двора он не поддержал требование поголовного голосования.
Третье сословие сидело в оцепенении. Для чего их собрали? Впрочем, уже на другой день они решили именовать себя не депутатами третьего сословия, а «депутатами общин». Это походило на пока еще робкое, но явное отрицание многовекового униженного положения народа, на стремление дать понять, что именно они представляют все население, входящее в общины. Начинается длительный, почти в пять недель период, внешне выглядевший замешательством или бездействием третьего сословия. Так и думали самонадеянно в окружении короля. В действительности происходило нечто очень важное. Собравшиеся с разных концов страны, часто совершенно незнакомые люди должны были осознать свою общность, выработать единую и твердую позицию. Надо было убедить робких и колеблющихся, склонных к привычному рабскому послушанию дворянам и церкви. Ведь открыто отвергнуть правило голосования по сословиям означало отрицание монархической законности. Здесь была граница, за которой начиналась революция. Не у всех хватало на это смелости. Но никто не высказался и за подчинение. Сумеют ли эти люди смело и решительно не только встать наравне с привилегированными сословиями, но и объявить себя единственным воплощением нации? Группа самых активных создает Бретонский клуб, заседающий в версальских кафе, где идут напряженные обсуждения.
Наконец 10 июня аббат Сийес, автор нашумевшей брошюры о третьем сословии, в которой он требовал, чтобы из ничего это сословие стало воплощением нации, вносит внешне скромное предложение, которое принимается. Третье сословие объявляет о решимости выйти из состояния долгого бездействия и предлагает депутатам двух других сословий начать совместную проверку полномочий «всех представителей нации». Не явившиеся будут считаться отсутствующими.
Сначала не последовало никакого отклика. Но 13 июня явилось три приходских священника. За несколько дней таких набралось уже 19. Проверка полномочий началась. 17 июня депутаты наконец решились: они объявили себя Национальным собранием (490 голосов против 90). Тем самым третье сословие совершало революционный акт, отвергало старое общество и создавало новую власть, независимую от короля. А затем Национальное собрание принимает решение, что народ прекратит уплату любых налогов, если это собрание будет распущено. Новый революционный шаг произвел грозное впечатление.
К собранию присоединяется большинство приходских священников. Герцог Орлеанский призвал так же поступить и дворян, и его призыв встретил поддержку 80 депутатов.
Но епископы и большинство дворян, забыв все прежние распри, взывают к королю. Их представители отправляются в Марли и умоляют короля обуздать чернь. Королева, братья короля, парижский архиепископ вырывают у короля согласие на решительные действия, началом которых должно послужить особое королевское заседание Генеральных Штатов. Под предлогом его подготовки приказано запереть зал Меню плезир и не допускать туда никого.
20 июня ничего не подозревающие депутаты Национального собрания явились на заседание, но нашли двери запертыми и охраняемыми. Лил дождь, и народные представители мокли во главе со своим председателем, знаменитым астрономом, академиком Сильвеном Байи. Наконец кто-то предложил пойти в находившийся рядом зал для игры в мяч. Это было высокое помещение, освещаемое окнами под самым потолком, с голыми гладкими стенами без всяких украшений, без стульев или кресел. Унылое помещение с деревянной галереей на одной из стен, какой-то сарай стал вместилищем и ареной поистине исторической сцены. Она запечатлена на картине одного из учеников Давида; сам метр задумал, но не завершил ее, оставив только наброски. В центре, забравшись на стол, Байи читает текст клятвы, которую горячо одобрили, а затем подписали все депутаты, кроме одного. Они поклялись, что будут собираться на заседания в любом месте до тех пор, пока не выработают конституцию.
На другой день воскресенье, а в понедельник 22 июня Национальное собрание провело заседание в церкви Святого Людовика. В нем участвовали 150 представителей духовенства. Но все ждали королевского заседания.
Три дня совещался Совет короля. Неккер предложил сделать кое-какие уступки. Их отвергли и решили проводить твердую линию.
23 июня снова в зале Малых забав депутаты трех сословий явились на королевское заседание. Все обставлено как в день открытия Генеральных Штатов. Но в зал не допустили публику, а здание окружили войсками. Снова депутатов третьего сословия пытаются унизить и больше часа держат под проливным дождем перед входом в зад. Король является со всей помпой Старого порядка и произносит речь, интересную не только в качестве демонстрации глупости, но и как выражение того предела уступок, на которые он согласен. Он может пойти лишь на некоторую либерализацию, индивидуальные свободы, административную децентрализацию. Король пообещал, что будет советоваться с Генеральными Штатами о налогах и финансах. Но он не допустит никакого ограничения своей власти и никакого покушения на сословные привилегии и феодальный порядок. Решения 17 июня отменяются.
— Я один добьюсь блага для своих подданных; я буду рассматривать одного себя их подлинным представителем… Я повелеваю вам, господа, разойтись тотчас же и собраться завтра утром каждому сословию в отведенных вам палатах…
Затем король удалился, уверенный, что приказ немедленно исполнят. С ним ушли многие дворяне, большинство духовенства. Но депутаты третьего сословия остались в зале. Явное неповиновение королю побудило церемониймейстера маркиза Дре-Брезе подойти к председателю и напомнить ему о повелении короля.
— Мне кажется, — ответил Байи, — что нации не приказывают…
Намного сильнее прозвучало возмущенное заявление графа Мирабо, произнесенное громовым голосом:
— Ступайте и скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и оставим наши места, только уступая силе штыков!
Тогда в зал по приказу короля явились гвардейцы, чтобы выгнать депутатов. Однако против них встали, обнажив шпаги, присоединившиеся к третьему сословию маркиз Лафайет, герцог Ларошфуко, герцог Лианкур, еще несколько дворян. Гвардейцы отступили. К королю поспешили с вопросом: что же делать? Не склонный к смелым решениям без постороннего воздействия, Людовик XVI махнул рукой:
— Ну, если они не желают уходить, черт с ними, пусть остаются!
А Национальное собрание продолжало заседать. Оно подтвердило свои прежние решения и утвердило декрет о неприкосновенности его членов. 24 июня большинство духовенства присоединилось к Собранию, на следующий день их примеру последовали 47 дворян во главе с герцогом Орлеанским. 27 июня король как бы примирился с совершившимся фактом и призвал «свое верное духовенство и своих верных дворян» объединиться с третьим сословием. В Париже ликовали. Кому могло прийти в голову, что король лишь впервые применил уловку, которая станет постоянной особенностью его тактики: притворной уступкой прикрывалась тайная подготовка применения силы? Королю слепо верили. Депутаты чувствовали себя победителями и думали, что предстоит лишь поскорее закрепить победу. 7 июля Собрание создает Конституционный комитет, через два дня официально объявляет себя Учредительным, хотя фактически оно выступало в такой роли еще в июне. Однако депутаты слишком спешили, думая, что все трудное позади.
26 июня шесть полков получили приказ разместиться в окрестностях Парижа, а 1 июля такой же приказ был отдан десяти другим полкам. Срочно перебрасывались наемные швейцарские и немецкие полки: французским гвардейцам король Франции уже не доверял. Национальное собрание 8 июля выразило королю беспокойство по поводу переброски войск. Король ответил издевательским советом Собранию перенести свою работу в провинцию, но прекратить сбор войск отказался. 11 июля король смещает Неккера и других министров — противников применения силы. На их места назначаются крайние контрреволюционеры. Все восприняли эту смену правительства как объявление гражданской войны.
Разогнать Учредительное собрание не составляло никакого труда, если бы не Париж. В столице многое внушало тревогу. Всего можно было ждать от голодных обитателей рабочих предместий. Никогда еще на протяжении всего века хлеб не стоил так дорого, как сейчас, в июле 1789 года. За неделю до открытия Генеральных Штатов санкюлоты Сент-Антуанского предместья, возбужденные сомнительными слухами о неосторожных словах фабриканта Ревельона, яростно громили его бумажную фабрику. Войскам пришлось перестрелять больше сотни отчаявшихся санкюлотов. Унося несколько сотен раненых, они укрылись в своих трущобах. Стало ясно: достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар мятежа. Невозможно надеяться и на солдат-французов.
В казармах королевской лейб-гвардии открыто заявляют, что не будут стрелять в народ. Но даже состоятельные парижане, не страдающие от голода, настроены слишком опасно. Еще недавно, во время выборов в Генеральные Штаты, они казались равнодушными и спокойными. Лишь часть избирателей вообще приняли участие в выборах. Но сейчас всех словно охватила лихорадка. Выборщики депутатов, давно выполнившие свою задачу, по-прежнему собираются и заседают, затевая опасные дела. Они хотят вооружиться, создать отряды милиции, а затем занять Ратушу и заменить королевских чиновников выбранным ими комитетом. Сад Пале-Рояль с его магазинами, лавками, ресторанами, кафе, игорными заведениями из места развлечения стал мятежным очагом. Там непрерывно идут собрания, звучат бунтарские призывы, и все, что происходит в Версале, в Учредительном собрании, вызывает немедленный отклик в Париже. Ясно, что разгон Учредительного собрания может вызвать взрыв.
Теперь король возлагает надежды на новое министерство барона Бретейля. «Если понадобится сжечь Париж, — заверил он, — сожжем и Париж». Так же настроен и военный министр маршал Брольи. Он считает, что, установив надежный контроль в Париже, можно легко будет либо разогнать Учредительное собрание, либо добиться его безропотного послушания. Иностранные полки постепенно окружают Париж. Они уже входят в город, заняли Марсово поле…
В Париже, и без того охваченном волнением и тревогой, в воскресенье около полудня узнали об увольнении Неккера. Хотя этот швейцарский банкир практически не сделал ровно ничего для революции, имя его окружено ореолом, созданным молвой. Просто вблизи трона нет никого другого, о ком бы знали что-либо хорошее. И его удаление восприняли как явное осуществление опасного аристократического заговора. Ясно, что завтра королевские войска вступят в Париж и парижане будут отданы на расправу иностранным наемникам! Слухи тем более легко принимают на веру, что есть уже свидетели, своими глазами видевшие продвижение войск. В этот жаркий солнечный воскресный день улицы полны народа. Тревожные известия быстро возбуждают толпу. Все устремляются к Пале-Роялю, к этому форуму революции. В разных местах сада кричат сразу несколько ораторов, забравшихся на тумбы, на столы и стулья уличных кафе. Из всех пылких, порой бессвязных, но искренних и страстных речей наибольший эффект имеет речь молодого адвоката Камилла Демулена. Вскочив на стол с пистолетом и шпагой в руке, в шляпе, украшенной зеленым листом, символом надежды, он кричит:
— Граждане! Я только что из Версаля. Нельзя терять ни минуты. Неккер уволен! Эта отставка — то же самое, что колокол Варфоломеевской ночи для патриотов! Этой ночью батальоны швейцарцев и немцев придут с Марсова поля, чтобы нас перерезать. У нас остается один шанс — прибегнуть к оружию!
Призыв к оружию подхватывают тысячи уст. По примеру Камилла Демулена, на шляпы прикрепляют зеленые листья. Впрочем, вскоре выясняется, что зелень — цвет графа д'Артуа, брата короля. Через несколько дней утверждается постоянный революционный символ — сочетание трех цветов: красного и синего (цвета герба Парижа) с белым, королевским цветом. Ведь еще никто не помышляет о республике, о свержении короля, который, конечно, просто обманут дурными советчиками.
Между тем толпа бурлит. Наиболее энергичные бросаются на поиски оружия. Громят оружейные лавки. Врываются в оружейную палату дворца Тюильри, где хранится старое парадное оружие. Там обнаруживают несколько разукрашенных пушечек, подаренных Людовику XIV королем Сиама. Захватывают бочонки с порохом, найденные на барже, стоящей у берега Сены.
Возникает огромная демонстрация. Во главе несут восковые бюсты Неккера и герцога Орлеанского, обвязанные крепом. На площади Людовика XV (нынешняя площадь Согласия) толпа сталкивается с конницей королевского немецкого полка. Одного старика насмерть затаптывают лошадьми. Французские гвардейцы вступают в перестрелку с немцами и присоединяются к демонстрантам. Вечером барон Базенваль, военный губернатор Парижа, отводит своих немцев на Марсово поле. Он безнадежно ждет инструкций из Версаля.
Отступление наемников не успокаивает толпу. Волнения продолжаются ночью, приобретают совершенно хаотический характер. Горят многочисленные таможенные заставы. С ними связывают дороговизну, ибо на заставах берут налог на продовольствие, ввозимое в город. Но особенно упорно ищут оружие. Народ опасается, что Версаль не оставит без последствий мятеж. На другой день тысячи парижан собираются на Гревской площади перед Ратушей. Старая городская власть во главе с Флесселем совершенно беспомощна, перепугана, и никто с ней не считается. Выборщики создают чрезвычайный постоянный Комитет и принимают решение о немедленном создании буржуазной милиции по 600 человек на каждый из 60 избирательных дистриктов Парижа. Сразу же тысячи добровольцев отвечают на призыв. В ночь с 13 по 14 первые патрули с гвардейцами обходят город, ярко освещенный по приказу Комитета. Так рождается Национальная гвардия.
14 июля волнения в Париже не только не затихают, но резко усиливаются. На устах у всех одно слово — Бастилия. 400 лет возвышается над предместьем Сент-Антуан крепость с восемью башнями высотой в 24 метра. Крепость давно утратила военное значение, но продолжает служить складом боеприпасов и государственной тюрьмой. Бастилия в глазах французов — символ безграничного произвола королей. Здесь на основании знаменитых «летр де каше» — приказов о произвольных арестах — побывало немало известных узников, вплоть до Вольтера. В наказах избиратели на выборах в Генеральные Штаты требовали уничтожить Бастилию. В борьбе против феодального абсолютизма это требование приобретает значение лозунга, как бы обобщающего все революционные стремления. Для двора Бастилия тоже имеет огромное значение как символ несокрушимости королевской власти. Поэтому недавно ее гарнизон, состоявший из 80 солдат-инвалидов, усилили отрядом швейцарцев в 30 человек.
С утра 14 июля разносится весть, что большие запасы оружия хранятся на правом берегу Сены в Доме инвалидов. Туда устремляется около десяти тысяч человек. Сначала комендант маркиз Сомбрейль отказывается выдать оружие. Но солдаты не желают стрелять в народ, и комендант вынужден открыть ворота. Народ захватывает 30 тысяч мушкетов, несколько пушек, множество сабель. Вокруг Бастилии собирается все больше вооруженных людей, не скрывающих своего намерения захватить крепость. Комитет в Ратуше пытается предотвратить столкновение и посылает в крепость делегацию для переговоров. Комендант Бастилии де Лоде не желает выдать запасы пороха и оружия, но обещает не открывать огонь, если на крепость нападут. Комитет посылает новых парламентеров. Окружающие крепость проявляют нетерпение. Внезапно из крепости загремели выстрелы. Это и послужило сигналом к началу штурма. Из 700 осаждающих десятую часть составляют солдаты и офицеры гвардии. Они пускают в ход пушки. Удается разбить цепи первого подъемного моста, перейти через ров, заполненный водой. Ценою немалых потерь (80 убитых и свыше 100 раненых) осаждающие врываются в крепость. Подавляющее большинство участников штурма — жители предместья Сент-Антуан, рабочие, подмастерья, ремесленники, лавочники и солдаты, присоединившиеся к народу. Коменданта де Лоне ведут к Ратуше, но здесь толпа, возбужденная рассказами о кровопролитии, расправляется с ним и с бывшим прево Парижа Флесселем, отказавшим народу в оружии. Отрубленные головы этих первых жертв революции на острие пик несут над толпой.
Так традиции жестокости Старого порядка наследует и революция. Находившийся в толпе Гракх Бабеф, впоследствии прославившийся своими коммунистическими утопиями, рассказывал о стихийных расправах в письме к жене и пытался объяснить жестокость, чуждую гуманистическому смыслу революции: «Казни всякого рода, четвертование, пытки, колесование, костры, виселицы, палачи повсюду внедрили среди нас такие дурные нравы! Наши властители вместо того, чтобы приобщить нас к культуре, превратили нас в варваров, ибо сами они варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что посеют…». Эти слова революционера, написанные в первые дни революции, могут служить, пожалуй, лучшим объяснением всех последующих террористических эксцессов революции…
Взятие Бастилии влечет неисчислимые последствия. От этого удара монархии уже никогда не удастся оправиться. Самым непосредственным результатом оказался приказ короля Базенвалю немедленно увести своих немецких и швейцарских солдат из Парижа в Сен-Клу.
Об этом лично сообщил Учредительному собранию Людовик XVI, неожиданно явившийся 15 июля на заседание. Он объявил, что вверяет собранию свою безопасность. Король даже соизволил назвать его собственным именем: «Национальным собранием»! Правительство Бретейля уволено в отставку, вновь призвали Неккера. Собрание приветствовало короля долгими аплодисментами. Депутаты искренне радовались, что народ Парижа спас их от контрреволюции, но они хотели также сохранить короля как орудие защиты от революции.
Людовик XVI лишь разыгрывал очередную сцену лицемерия, которое станет главной формой его политики.
В действительности он и не думал прекращать борьбы с революцией, но лишь теми способами, на которые он был способен. Вот что произошло сразу же после трогательной примирительной сцены в Учредительном собрании, если верить мемуарам офицера немецко-королевского полка Вильдемберга. В ночь с 15-го на 16 июля полк прибыл в Версаль. Его командир князь Ламбеск поднялся к королю и в присутствии королевы и нескольких придворных заявил ему:
«— Государь! Желает ли ваше величество спасти Францию? Если да, то соблаговолите встать во главе вашего немецко-королевского полка, и всяким дискуссиям будет положен конец!»
После небольшого совещания с приближенными король объявил, что он принимает предложение, и приказал привести полк на следующий день в тот же час. Полк прибыл вновь в Версаль к назначенному времени. Для короля приготовили его любимую испанскую лошадь. Ламбеск поднялся и на лестнице встретил короля, спускающегося вместе со своими двумя братьями. Однако внезапно король почувствовал слабость, ноги его стали заплетаться, и он упал в обморок. После того как короля привели в чувство, он вернулся в свои апартаменты. Боевой поход был отложен, королевскую лошадь отвели обратно в конюшню, и полк вернулся в Сен-Клу…
Таким, образом, раздираемый теми, кто хотел его открытого сопротивления революции и похода на Париж во главе войск, и теми, кто требовал уступок, Людовик XVI предпочел пока искать согласия со «своим добрым народом». 16 июля вечером он повелел своему брату графу д'Артуа, принцу Конде, герцогу Полиньяку и другим крупным аристократам отправиться «за пределы королевства». Началась первая эмиграция. Распределили роли: король будет тайно бороться с революцией внутри страны, а его братья и другая знать организуют открытую борьбу против нее за рубежом.
17 июля король поехал в Париж, чтобы разыграть новую сцену «примирения» с революцией. Конечно, не любовь к народу, к Франции толкала его на этот шаг, а жалкая трусость и жгучая ненависть к революции, которую он тщательно скрывал, мечтая в глубине души расправиться с подлой чернью. Но сейчас надо было разыгрывать спектакль, что он и делал. Народ чувствовал это. Люди мрачно стояли с оружием в руках, образуя дорогу, по которой шел король. Его не сопровождала столь пышная, сверкающая свита аристократов, как это было совсем недавно. Ведь главные ее представители уже исчезли. Те, кто стоял во главе провалившегося заговора, бежали этой ночью. Брат короля, граф д'Артуа, так боялся за свою жизнь, что решился тайно проехать через город лишь в сопровождении целого полка наемников с двумя пушками.
Из толпы часто раздавались возгласы «Да здравствует нация!», и очень редко слышалось: «Да здравствует король!» Значительно теплее встретили Людовика выбранный командующим Национальной гвардии Лафайет и мэр Байи. Король утвердил их новые должности, признал все, одобрив даже решение о разрушении Бастилии. Видно было, что все это тяготит короля, что он вынужден играть роль, вызывавшую у него отвращение. Еще бы, к шляпе короля прикололи трехцветную кокарду — символ революции, заменившую старые королевские лилии и белый цвет монархии. Ведь это был визит побежденного к победителям.
С наступлением ночи, когда король вернулся в свой дворец в Версале, его встретила разъяренная Мария-Антуанетта. Увидев трехцветную кокарду, украшавшую шляпу Людовика, она яростно сорвала ее и швырнула под ноги:
«— Я и не подозревала, что вышла замуж не за короля, — а за мещанина!» — гневно воскликнула гордая дочь императора.
Теперь Мария-Антуанетта воплощает смертельную ненависть к революции. Но все же она была несправедлива к своему супругу. Ведь он тоже ненавидел «бунт», хотя и действовал более трусливо. Но разве смелый замысел разогнать Учредительное собрание не привел народ к Бастилии? И вот теперь революция стала не только парламентской, но народной. Отныне у нее не один, а два центра силы: Собрание и героический, восторженный победивший Париж. Открытая борьба с революцией больше невозможна.
Обнаруживается социальная природа революции: тот, кто сражался 14 июля и проливал кровь, не получит прямого выигрыша. Но буржуазия имеет осязаемые выгоды с первого дня. Пример — сама Бастилия. 16 июля ненавистный символ деспотизма решили уничтожить до основания. Но разобрать массивные стены из огромных глыб камня не так-то просто. Взялся за это архитектор и подрядчик Паллуа, нанявший 800 рабочих. К концу года Бастилию сровняли с землей ко всеобщему восторгу. И к выгоде подрядчика! Народ радуется бескорыстно; буржуазия разделяет эти чувства, но и не упускает шанса заработать. Крепость распродается по кускам! Ценный строительный материал пошел на строительство моста Конкорд, и поныне украшающего Париж. Кроме того, все департаменты пожелали иметь макеты крепости, изготовленные из ее камней…
Такое желание возникло не случайно. События в Париже заразили своим примером все города Франции. Они совершили всеобщую муниципальную революцию. Повсюду буржуазия, как и в столице, требует участия в администрации своих городов. Если королевские магистраты не уступали власти, их изгоняли силой, как в Страсбурге, где разгромили старую Ратушу. Штурмуют местные «бастилии»: дворец Тромпет в Бордо, форт Пьер-Асиз в Лионе, башню Леви в Кане. В Марселе скоро разрушат форт Сен-Жан, прикрывавший город. Кое-где обошлось без потрясений: кровопролитный штурм Бастилии послужил назидательным уроком. Миром решилось дело в Тулузе, в Аксе, в Тарбе. Напротив, городскую власть сменяли насильно в Ренне, Туре, Седане, Меце, Нанси.
За две недели Старый порядок уничтожили повсюду. Королевская власть — интенданты, губернаторы — сменилась новой революционной буржуазной администрацией. Во всей Франции формировалась и Национальная гвардия. Как и в столице, гвардеец обязан приобрести синий мундир и все снаряжение за свой счет, и поэтому новая вооруженная сила состояла отнюдь не из бедняков. Национальная гвардия, естественно, призывалась дать отпор любому заговору аристократов. Им противостоит также и заключенный между городами союз — «федерация». Формирование гвардии ускорялось обстановкой паники «великого страха».
Внешне это явление психологическое, порожденное тревожными слухами, мифами и призраками, каким-то нервным шоком. Еще раньше зародилась боязнь «разбойников». Теперь же, после захвата Бастилии бедняками Сент-Антуанского предместья, психоз страха охватил не только аристократов, но и всех более или менее состоятельных людей. С ужасом передавали они друг другу известия о страшных событиях.
Дело в том, что разговоры о свободе, о равенстве, звучавшие все громче, не могли не дойти и до слуха голодных не только в городах, но и в деревне. Еще недавно они мирились с тем, что от революции им было мало проку. Теперь, после 14 июля, осмелела и сельская Франция. Быстро откликнулись многочисленные бродяги и нищие. Раньше они довольствовались подаянием или сбором оставшихся на полях после жатвы колосков. Сейчас эти отверженные действуют посмелее. Кое-где по ночам они косят еще не созревший хлеб. Учащаются разные мелкие хищения. Несчастных толкают на это муки голода. Таких случаев немного, но число сельских грабежей невероятно раздувается молвой. Возмущенные крестьяне, вооружившись чем попало, сотнями собираются и бродят в поисках «разбойников». Почти всегда они их просто не находят. Зато по пути озлобленные крестьянские отряды проходят мимо феодальных замков, и они напоминают им об их настоящих врагах. Ведь революция еще никак не коснулась господства феодалов в деревнях, где живет подавляющее большинство населения страны. Крестьяне массами начинают своими средствами сводить счеты с феодалами. Они требуют у владельцев замков книги и документы с записями тяжелых повинностей и немедленно предают их огню. Но часто, наталкиваясь на сопротивление, они громят и жгут сами замки. Передают слухи об убийствах землевладельцев. Зарева пожаров охватывают ночное небо в большинстве французских провинций. Напуганы не только дворяне, но и буржуа, особенно остро реагирующие на угрозу любой собственности. Буржуазная Национальная гвардия идет из городов в поход на «разбойников». Однако для подавления новой «жакерии» немыслимого размаха потребовалось бы оборонять каждый феодальный замок. «Великий страх» охватывает и Учредительное собрание.
Кажется, что звон набата, разорвавший тишину над сельской Францией, загремел в самом зале Учредительного собрания. Усыпляющие депутатов бесконечно скучные, длинные речи сменяются 3 августа тревожными словами, пробуждающими всех.
Слушайте сообщение из провинции… Повсюду собственность стала добычей самого преступного разбоя. Во всех концах страны поджигают замки, разрушают монастыри, грабят фермы… Налоги не платят… Закон потерял силу… Власть, суд — не более как призрак…
На трибуне, конечно, аристократ, представитель дворян, вереницы которых в своих каретах поспешно мчатся из городских замков? Нет, это человек третьего сословия! Буржуазия смертельно напугана покушением на собственность, хотя это феодальная собственность. Но ведь разъяренные крестьяне не разбираются в тонкостях, и буржуа требуют действовать так, как всегда поступали аристократы, отвечавшие на бунт водружением новеньких виселиц. Но как воевать против всей Франции? Если прибегнуть к помощи наемников короля, то это значит и вернуть ему всю власть! К тому же никакой силы ни у дворянства, ни у короля просто нет. Положение было бы безвыходным, если бы не выручили аристократы. Они первые поняли, что невозможно совладать с великой крестьянской революцией. Герцог Эгийон, один из богатейших людей страны, владелец огромных земель, выступает с необычайно либеральной речью.
— Речь идет не только о разбойниках, во многих провинциях объединяется весь народ, чтобы разрушать замки, опустошать поля и особенно чтобы завладеть архивами, где хранятся грамоты, удостоверяющие феодальную собственность. Он пытается сбросить с себя иго, которое гнетет его уже много веков, и следует признать, господа, что для этого восстания, хотя и преступного, можно найти оправдание в тех притеснениях, жертвой которых является народ…
А затем наступило чудо. Некоторые сентиментальные историки всерьез уверяют, что на депутатов Собрания снизошел Святой Дух! Охваченные могучим и прекрасным порывом великодушия, бескорыстия и щедрости, в страстном припадке любви к ближнему дворяне и священники рвались на трибуну, чтобы возложить на алтарь отечества свои приношения. Далеко за полночь продолжалась вакханалия самосожжения феодализма, отказа от многовековых привилегий. Отказались от церковной десятины, от прав на личную зависимость крестьянина, от дворянского права охоты и рыбной ловли, от голубятен и кроличьих садков, от всяких налоговых привилегий, от неравенства перед законом и налоговым обложением. Вконец утомленные патриотическим рвением в эту чудесную ночь 4 августа, депутаты привилегированных сословий выходили с гордо поднятыми головами, как бы задевая ими звезды…
Правда, освобожденные от патетической фразеологии, плоды волшебной ночи выглядели значительно скромнее. Практически отказались лишь от второстепенных, малодоходных привилегий, составлявших по стоимости менее четверти всего феодального бремени. Основные же платежи за землю подлежали выкупу, равному феодальным взносам за 30 лет. Оплатить такой выкуп крестьяне просто не в состоянии, а следовательно, старый добрый феодальный порядок сохранялся и впредь. Все было подсчитано, продумано и осуществлено ради того, чтобы потушить пожар крестьянской революции. Либеральные аристократы имели заднюю мысль и политического характера: ценой второстепенных уступок крестьянам хотели сохранить союз третьего сословия, либерального дворянства и низшего духовенства, рассчитывая держать революцию под контролем.
Но крестьяне буквально толковали первую фразу знаменитого декрета: «Национальное собрание полностью уничтожает феодальный порядок». Они просто прекратили вносить какие-либо феодальные платежи и десятину церкви, а на попытки принуждения отвечали новыми мятежами. Только в 1793 году монтаньяры действительно полностью освободят французских крестьян от феодализма… Однако начало все же было положено 4 августа 1789 года, и с учетом последующего эта дата имеет несомненное историческое значение.
Под грохот камней, сбрасываемых с разрушаемой в то время Бастилии, Учредительное собрание сумело решить еще одну, может быть, не менее важную задачу. 26 августа 1789 года оно принимает Декларацию прав человека и гражданина. Она должна служить введением и идейной основой будущей конституции, быть ее важнейшей частью. Ее удалось согласовать за несколько недель, тогда как для подготовки конституции потребуется два года. Помог этому быстрому решению задачи ее абстрактный, весьма общий характер. Декларации намеренно стремились придать универсальный, максимально общий смысл, чтобы сделать ее образцом, примером для всего мира, что для того времени удалось сделать, и она поэтому превосходит универсализмом и рациональностью предшествующие ей английскую и американскую декларации.
Историческую задачу решили быстро и сравнительно легко, поскольку смысл 17 статей Декларации основательно разработали французские философы-просветители.
Собрание имело до трех десятков письменных проектов документа. Окончательный вариант изложили ясным языком, а главное — кратко. Депутаты сознавали величие стоящей перед ними задачи, считая Декларацию орудием, «военной машиной» против феодализма, его «свидетельством о смерти». Поэтому, исходя из идеи естественных прав человека, упор делали на уничтожение привилегий и злоупотреблений феодального строя.
Действительно, что касается прошлого, то Декларация несомненно имела историческое значение. Иначе обстояло дело с будущим. О нем-то, видимо, ее творцы не особенно думали, поскольку важнейшие принципиальные положения Декларации вступают в непримиримое противоречие с действительностью буквально на следующий день. Это тем более кажется на первый взгляд странным, что в составлении и утверждении документа участвовали несколько сот профессиональных юристов. Но, возможно, именно поэтому в Учредительном собрании и отнеслись столь беззаботно к будущему. Ведь юристы понимали лучше, чем профаны, что речь идет о провозглашении общих принципов, а не точных и конкретных пунктов закона, обязательного к исполнению. Поэтому думали о риторике, о том, чтобы произвести впечатление яркими, эффектными фразами общего характера. В самом деле, уже первая статья Декларации звучит поистине величественно:
«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах».
Далее в том же торжественном тоне утверждалось, что целью всякого политического сообщества является сохранение естественных и неотъемлемых прав человека, к которым относятся свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Нация является источником верховной власти, закон — выражением общей воли. Все граждане прямо или через представителей имеют право участвовать в выработке законов. Декларация ограждала от арестов и преследований, предоставляла право свободно выражать мысли и мнения, свободно излагать их устно или печатно. В заключение Декларация снова обращалась к собственности и объявляла ее неприкосновенной и священной.
Несомненно, Декларация — удар по абсолютизму и обоснование правомерности революции. Однако с самого начала она производит впечатление исторического недоразумения: в ней нет даже упоминания о короле! А ведь этот республиканский по смыслу документ одобрен монархистами. Ведь в Учредительном собрании никто еще не выступал за республику. Один из самых честнейших депутатов, аббат Грегуар, искренне говорил, что французы «обожают своего короля». Однако, провозглашая источником верховной власти нацию, Декларация тем самым санкционировала лишение короля этой власти, хотя никто об этом пока и не заикался. Более того, шел спор о том, имеет ли право король налагать запрет-вето на решения Собрания. Большинство считало, что имеет! Налицо вопиющее противоречие, и далеко не единственное. Учредительное собрание, провозглашая равенство граждан, одновременно решало вопрос о том, чтобы лишить права участия в выборах бедняков, тех, кто платит слишком маленький налог, то есть почти половину французов. Собрание объявило в Декларации любую собственность священной, а не прошло и месяца, как оно проголосовало за упразднение феодальной собственности, объявило ее незаконной. Вообще, слишком общие положения о собственности влекли за собой наиболее вопиющие противоречия. Например, сохранение права на наследство сводило на нет торжественное заявление статьи первой Декларации о том, что люди рождаются равными. Она не касалась имущественного неравенства и вытекавшего из него угнетения, не включала права на труд, на свободу ассоциаций и многое другое. Поэтому монтаньяры в 1793 году и примут новую Декларацию прав, шире и конкретнее трактующую права человека, хотя она, естественно, тоже будет буржуазной по своей сути. И все же Декларация прав человека и гражданина — великое революционное завоевание 1789 года.
Итак, после взятия Бастилии, всего за несколько недель, революция, казалось, сделала гигантский шаг вперед. Король торжественно признал 15 июля Учредительное собрание, его законность, его полномочия. Он даже собственную безопасность поставил под защиту Собрания. Решена, да еще в обстановке необычайного энтузиазма 4 августа, судьба отжившего, обреченного феодализма. Принята Декларация прав человека и гражданина, открывающая новую эру в истории цивилизации. Решение этих трех кардинальных проблем создавало принципиальную основу для создания новой государственной и общественной системы, которая выдвигала Францию в авангард прогрессивного развития всего человечества!
Увы, трудности и злоключения революции еще только начинались. 14 июля народ Парижа сорвал попытку контрреволюционного военного заговора. Однако теперь ему угрожает попытка законодательного государственного переворота.
11 августа собрание окончательно одобрило в форме постановления то, что в виде речей и пылких выступлений говорилось в ночь с 4 на 5 августа. В заключение Собрание дало королю титул «восстановителя французской свободы» и решило отслужить торжественный молебен. 12 августа председатель Собрания Лe Шапелье явился к королю и спросил, когда он пожелает принять депутатов и провести с ними намеченное богослужение. Король назначил следующий день, и 13-го Собрание явилось во дворец, его встречает король. Председатель произносит речь, в которой объясняет королю, что решило собрание, сообщает о присвоенном королю почетном титуле. Людовик XVI принял титул с благодарностью, приветствовал Собрание и выразил ему свое доверие. Сердечное согласие, царившее в ходе церемонии, растрогало некоторых депутатов до слез. Даже наиболее скептически настроенные депутаты решили, что король таким образом принял решение 4 августа. Одобрение недвусмысленно выражено им в письме председателю Собрания.
Все оказалось ложью! В частном письме архиепископу Арля Дюло Людовик XVI писал в это время: «Я никогда не соглашусь на то, чтобы ограбили мое духовенство, мое дворянство, я никогда не санкционирую декреты, ведущие к их разорению».
В чем же смысл этого загадочного поведения? Двойная игра? Глупый фарс? Ослепление или безумие? Современники в то время, а историки поныне изощряются в догадках. Еще бы, дворяне и духовенство благородно приносят «жертву», а король, действуя от их же имени, берет подарок обратно. Королевское величество опускается до лживых уловок и примитивного обмана. Вождь аристократического сословия, провозглашающего себя «благородным», разглагольствующего о «чести», скатывается к вульгарному жульничеству! Сначала король не только не выразил неодобрения решениям 4 августа, но принял их даже с благодарственной молитвой. Проходит месяц, и монарх в письме Собранию 18 сентября высказывает множество мелочных возражений, прибегает к казуистическим уловкам, означающим полную отмену сделанного 4 августа. А затем он отвергает Декларацию прав человека и гражданина.
Выходит, что согласие короля с Учредительным собранием, которое уже несколько раз торжественно выразил Людовик XVI, грубо нарушено. Двор явно стремится ликвидировать только что завоеванную победу народа и Учредительного собрания над феодализмом. Революция вновь в опасности. Буржуазия, низшее духовенство, даже либеральная аристократия крайне встревожены.
Как же поведет себя теперь Учредительное собрание? А оно являет собой необычайно осложнившуюся картину по сравнению с тем простым делением на три сословия, какое существовало в мае, когда Учредительное собрание называлось еще Генеральными Штатами. В августе внутри Собрания возникает совсем новое разделение на партии, группировки и фракции, раздираемые соперничеством и разногласиями. Спор разгорелся на почве составления конституции, то есть по вопросу о том, каким должно быть новое государственное устройство Франции. Трогательное, хотя и внешнее единодушие ночи 4 августа сменилось ожесточенным столкновением идей и интересов. На поверхности, естественно, выступала борьба удивительно разнообразных личностей, пестрый калейдоскоп людей, открывавших новую главу истории.
Тысячу лет создавалось французское королевство. Считанные недели требовались Учредительному собранию, чтобы начать быстрое разрушение самой могучей в Европе монархии. С негодованием король и его двор видели, как созванные для спасения государства люди заменяют все старое на нечто возмутительно новое, хотя как будто и не посягают на сам принцип монархического правления. «Бунт дворянства» вынудил короля созвать представителей трех сословий. Теперь дворяне и король оказались в одной лодке, беспощадно швыряемой волнами революционной бури.
Впрочем, нельзя положиться и на дворян! Нашлись среди них такие, которые уверяют, что для народа король — всего лишь «его первый слуга на жалованье и больше ничего». Это подлинные слова представителя одного из знатнейших дворянских семейств Франции — графа де Мирабо, превратившегося в вождя этого буйного сборища, заседающего в Версале.
С него-то, пожалуй, и надо начать, чтобы нарисовать портрет Учредительного собрания. В этой личности ярче всего проявились парадоксальность, загадочность и смертельная опасность для монархии всего происходившего летом 1789 года. Уже двести лет множество историков и писателей бьются над тайной его и в самом деле необычайной личности. Такие эпитеты, как «великий» и «гениальный», сопутствуют имени Мирабо, которого сам Маркс назвал «львом революции». Но его же с не меньшим основанием считают олицетворением предательства, продажности, мерзкого разврата и полного аморализма. Чего стоит только жизнь Мирабо еще до революции, из подлинных фактов которой можно было бы создать десятки захватывающих романов! Счастливое начало, предвещающее безоблачно радостную жизнь: «лев» родился в богатейшем аристократическом семействе. Его отец — образованнейший мыслитель, которого по названию одной из написанных им книг именовали «Другом людей». Но этот «гуманист» люто возненавидел своего старшего сына! Он слишком любил жизнь, особенно ее удовольствия, за что и стал жертвой родительского гнева, не затихавшего десятки лет. 17 «летр де каше» — приказов о тайном аресте получил от короля старый маркиз для обуздания своего сына. Первая ссылка, заточение в крепости на острове Иф, в замке Жу, побег, приговор к смерти, заключение в Венсенский замок. А в перерывах женитьба и приобретение в лице супруги еще одного смертельного врага, сенсационные судебные процессы, дуэли, страстные романы со многими женщинами, громкая и невероятно скандальная известность.
Самые противоречивые, несовместимые качества уживались в этом необычайном человеке. Мирабо фантастически талантлив, трудолюбив и образован! В тюремных камерах он умудрился написать десяток томов! Он высказывает самые передовые, смелые идеи: «Я всегда полагаю и буду так полагать и впредь, что безразличие к несправедливости есть предательство и подлость». Он решительный поборник свободы: «Человеку, чтобы разорвать свои цепи, дозволены все средства без исключения».
Поскольку среди его талантов удивительная способность приобретать себе врагов, дворянство Прованса с негодованием отвергает кандидатуру Мирабо в Генеральные Штаты. Тем хуже для дворян: графа с восторгом избирает третье сословие, и 4 мая Мирабо идет среди его депутатов в торжественной церемонии по случаю открытия Генеральных Штатов, выделяясь своей массивной фигурой с огромной головой и лицом, совершенно не блещущим красотой. Подумать только, этот урод с изрытой оспой физиономией неотразим для красивейших женщин!
Что занесло сюда скандального человека, которого явно сторонятся многие из депутатов, ибо его репутация ужасна? На что он может рассчитывать здесь, на фоне таких знаменитостей, как прославленный маркиз Лафайет или пользующийся всеобщим уважением министр Неккер? А он их просто презирает и считает посредственностями. Самое поразительное, что он быстро доказывает свое превосходство. Мирабо определил ту тактику, которая позволила третьему сословию превратиться в Национальное, а затем и в Учредительное собрание. А после королевского заседания 23 июня он заразил Собрание своей страстной смелостью, выставив за дверь королевского посланца, которому поручили распустить Собрание. Мирабо сказал, что депутаты удалятся только под угрозой штыков! Эта легендарная сцена сделала Мирабо идолом народа. Теперь дивный ораторский талант вызывает бурные овации даже не слишком уважающих его депутатов. Еще бы, он подчинил короля Учредительному собранию! Правда, он занял положение вождя революции, далеко не разделяя восторженной приверженности к высоким принципам демократии и добродетели в духе Руссо, которые воодушевляли многих депутатов Собрания. Он презрительно объявлял культ принципов «метафизикой» и предсказывал, что слепое следование им может кончиться плохо: либо установлением хищной буржуазной олигархии, либо военной деспотией. Поэтому он проводил в жизнь иной, весьма прагматический план примирения короля с революцией и надеялся сам путем реализации этого плана стать главным министром короля, заменив бездарного Неккера. Этого швейцарца Мирабо сравнивал с постоянно опаздывающими часами.
Однако оказалось, что отстает от революции он сам. Непоследовательность Мирабо, которую он плохо скрывал с присущей ему прованской беспечностью, уже начинает подтачивать его авторитет. В самом деле, «отец народа», как его зовут в Париже, не разделяет энтузиазма ночи 4 августа: он не выступил активно и за принятие Декларации прав. Но пока гениальные актерские данные Мирабо обеспечивают ему прочное положение и его побаивается двор, хотя король и особенно королева презирают великого оратора.
А их немало в Собрании, хотя никто не может сравниться с Мирабо в способности к пламенной импровизации. Все, как правило, читают свои речи по бумажке, и заседания нередко бывают из-за этого очень скучны. К тому же нет регламента, и многие, злоупотребляя вниманием коллег, долгими часами усыпляют Собрание чтением нудных диссертаций, часто написанных к тому же другими. И все же каждая из группировок, только что возникших в Учредительном собрании, имеет своих лидеров, с которыми надо познакомиться. Удобнее всего рассмотреть их справа налево. Кстати, именно здесь возникло это привычное затем повсюду деление на правых, то есть консерваторов, сидящих обычно по правую руку председателя, и левых, противостоящих им политически и занимающих противоположную сторону зала.
По иронии истории, наиболее ревностными защитниками Старого порядка в Учредительном собрании оказались люди, производившие просто карикатурное впечатление. Они блестяще демонстрировали всем своим обликом и поведением разложение, нравственный упадок и обреченность феодализма.
Среди правых экстремистов выделялся огромным животом и скандальным поведением виконт де Мирабо. Родной брат прославленного оратора, но на пять лет моложе, имел прозвище Мирабо-бочка. Он заслужил его не только ожиревшей фигурой, но и сильной склонностью к вину. Даже на заседания Учредительного собрания виконт являлся пьяным. Великий Мирабо любил застолье, но его не находили пьяным в канавах, как младшего брата. Кроме самоуверенности, он отличался также бездарностью. Это не мешало ему упорно соперничать с братом на трибуне, что вызывало смех Собрания, обстановка в котором часто вовсе не располагала к веселью. Словом, Мирабо-бочка играл роль королевского шута, компрометируя и без того безнадежное дело роялистов.
Рядом восседал д'Эпремениль, недавний «герой» бунта парламентов против короля. Арест на основании «летр де каше» принес ему тогда популярность. Теперь боец с абсолютизмом стал его озлобленным защитником. Поклонник оккультных «наук», он проявлял на трибуне такую безумную наглость, что заслужил кличку Сумасшедшего Собрания. Аббат Мори дополнял эту компанию. Сын сапожника, дослужившийся до проповедника короля, произносил по дюжине речей в неделю, защищая дело церкви, которое он отождествлял с интересами кошелька. Этот «гренадер», переодетый семинаристом, как его называли, затевал драки на трибуне. Самым способным оратором у правых был дворянин с юга Франции, драгунский капитан Казалес, обнищавший от картежной игры. Но и он не обходился без эксцессов, кулаками сталкивал с трибуны противников. А главное, у всех этих людей не было никакой мало-мальски осмысленной программы, кроме безумной ненависти к Революции.
Но разрушению монархии содействовали и так называемые умеренные роялисты. Они, в отличие от крайне правых, допускали кое-какие второстепенные реформы и обладали хотя бы репутацией приличных людей. При этом история снова сыграла злую шутку: они были не дворяне и не священники, а депутаты третьего сословия!
Полтора десятка умеренных монархистов отличались от крайних респектабельностью и образованностью. Допуская некоторые реформы, они хотели лишь подкрасить фасад старой монархии, а затем остановить революцию и повернуть вспять. Сознавая в глубине души свою обреченность, они начали выступать за реставрацию еще до того, как монархия рухнула.
Королевский судья Мунье в Дофине раньше рьяно добивался созыва Генеральных Штатов, но уже клятва в Зале для игры в мяч смертельно перепугала его, а события 14 июля настолько ужаснули Мунье, что с тех пор ему постоянно мерещился призрак фонаря. Он выдвигал монархическую программу, заимствованную из опыта Англии, но только с большей властью короля. Мунье прямо говорил, что демократия — бессмысленная мечта, а нация не способна сама управлять собой, наивно надеясь свести революцию только к оздоровлению королевских финансов. Другой видный деятель умеренных, Малуэ, тоже будучи депутатом от третьего сословия, настаивал тем не менее на неприкосновенности старых прав и владений двух привилегированных сословий. Он просил только об отмене законов, явно унижающих третье сословие.
Среди умеренных монархистов из дворян выделялись красноречием и активностью Клермон-Тоннер, уверявший всерьез, что Франция и до революции якобы имела конституцию, которую предлагал сохранить. Вся его конституция сводилась к «отеческой» королевской власти и к необходимости любить короля. Такую же программу отстаивал и Лалли-Таллендаль, который отличался от буйных крайне правых лишь своей галантностью. Группа умеренных в Собрании таяла на глазах из-за эмиграции и полного отсутствия поддержки где-либо, кроме королевского дворца. Их политические идеалы переняли открытые контрреволюционеры, к которым они фактически и принадлежали.
Основной партией Учредительного собрания были левые, или конституционалисты. По позднейшим меркам это партия либералов, но совсем не революционеров, партия умеренной буржуазной монархии. Она либеральная против монархистов, но монархическая против крайне левых. И все же в первые месяцы революции конституционалисты выступали как революционная партия, выполнявшая волю французской нации. Именно она начала революцию, хотя для ее продолжения у нее уже не хватит смелости. Летом 1789 года это передовая, еще идущая вперед партия, хотя уже тогда она в состоянии двигаться и действовать лишь под давлением народа. У этой партии нет ни программы, ни организации, ни четких границ, ни вождей. Вначале ее самый яркий выразитель Мирабо, а самый популярный деятель — Лафайет. В ее рядах молодой обаятельный гасконец Барер, который будет поочередно служить всем партиям, включая монтаньяров, а также изменять им. Здесь и аббат Сийес, явившийся в ореоле славы своей брошюры о третьем сословии, другой аббат, Грегуар, сочетающий верность своему сану с искренними демократическими убеждениями, которые сделают его одним из первых республиканцев. Конституционалисты, выступавшие в 1789 году в роли основной политической силы революции, очень скоро начнут отставать от нее. Постепенно большинство из них будет все консервативнее, и настанет время, когда революция обгонит их и уйдет далеко вперед. Но пока они воплощают либеральную Францию на подъеме, решающую задачу ликвидации основных устоев феодализма. Это буржуазия первых дней свободы, чувствующая свою историческую правоту, но уже остерегающаяся «крайностей» демократии.
Левее конституционалистов находился так называемый триумвират, стоявший во главе примерно сорока депутатов. Летом 1789 года это авангард революционной партии, естественно, в понятиях того времени, когда революционеры еще и не помышляли выйти за границы монархии. От конституционалистов левые отличались только тем, что добивались более основательных ограничений власти короля. В триумвират входили три молодых депутата, которым не было еще и по 30 лет. Андриен Дюпор, Антуан Барнав, Александр Ламет. Триумвират согласовывает заранее общую линию поведения своей группы. В Собрании утвердилось мнение: «Что Дюпор думает, то Ламет делает, а Барнав говорит». Благодаря этой новой практике он на время добивается решающего влияния внутри еще только возникавшего Якобинского клуба.
Ораторские способности Барнава порой давали ему возможность успешно полемизировать даже с самим Мирабо. Но ему явно не хватало страстности. «В нем нет божественного огня», — справедливо говорил Мирабо. Барнав, как никто другой, приблизился к пониманию социальной сущности революции. Он предвосхитил научное материалистическое ее объяснение. «Новое распределение богатства, — писал Барнав, — вызывает новое распределение власти. Как земельная собственность возвысила аристократию, так промышленная собственность устанавливает власть народа». Однако тщетная попытка триумвирата соединить любовь к революции с культом королевской власти предопределила слабость этой группировки.
Наконец, крайне левая группировка Учредительного собрания, депутаты которой критиковали любую реформу как слишком умеренную и решительно отвергали ограничения прав народа. Их было немного, менее десятка. Никому не известные вначале, эти молодые адвокаты быстро приобретают популярность в Париже. О них говорят: «неподкупный, как Петион, непреклонный, как Робеспьер, лояльный, как Дюбуа-Крансе, честный, как Приер, отважный, как Бюзо, постоянный, как Редерер…» Конечно, эти характеристики часто случайны и временны. Так, эпитет «неподкупный» скоро монополизирует Робеспьер.
Деятельность этой группы и начинает историю монтаньяров, хотя само это слово (производное от французского montagne — гора) широко употребляется значительно позже. Тем не менее именно здесь зарождается самая передовая партия Французской революции, партия монтаньяров. «Так называют с первых дней революции часть зала, где поместилось в Учредительном собрании небольшое число депутатов, которые защищали дело народа до конца, с наибольшим постоянством и верностью», — писал Максимилиан Робеспьер, будущий вождь монтаньяров. Здесь же видят начало их истории и другие свидетели или участники революции. «Крайняя левая, — писал Александр Ламет, — образовывала ядро того, что впоследствии было названо Горой. Там заседали Робеспьер, Бюзо, Петион и все те, которые толкали к радикальной революции». В свою очередь, мадам де Сталь пишет в своих воспоминаниях: «Монтаньяры составляли четвертую партию на левой стороне. Робеспьер был уже в их рядах, и якобинство уже подготовлялось в их клубах».
Это люди, объединенные демократическими убеждениями, интересами, личными притязаниями, возрастом, следовали идеям Руссо о праве народа на суверенитет, на высшую власть. Но если они сразу осудили привилегии дворянства, то еще соглашались с правами монарха. Ведь сам Руссо считал монархию наиболее подходящей для такой крупной страны, как Франция. Ничто еще не разделяет их, обсуждаются лишь самые общие дела, и различия во взглядах не выливаются в разногласия. Все будет сложнее, когда революция пойдет дальше. В будущем не все из крайне левых Учредительного собрания войдут в зарождавшееся течение монтаньяров, судьба разделит их. Только Приер из Марны, Дюбуа-Крансе останутся рядом с Робеспьером. Зато к нему примкнут некоторые депутаты, пока еще далекие от него, такие, как Вадье или Барер.
Их час еще не настал. Но если время, которое история отвела другим, сидящим правее, группировкам Собрания, неумолимо истекало, то их пора была еще впереди. Они словно чувствовали это и резко скептически относились к деятельности Собрания. Робеспьер яснее всех сознавал, что революция только начинается. Почти одинокий и окруженный враждебностью в Учредительном собрании, он упорно провозглашал демократические принципы. Мирабо уловил суть этого человека, предсказав: «Он далеко пойдет, ибо верит в то, что говорит».
Итак, обзор группировок Учредительного собрания справа налево показывает, что собрание приобрело такое лицо, на котором явное выражение нерешительности и бессилия. Первоначальная революционная решимость сменилась растерянностью. Собрание топчется на месте, не решаясь принудить короля одобрить решения 4 августа и Декларацию прав человека и гражданина. Больше того, собрание солидным большинством согласилось с правом короля налагать вето на свои законодательные решения. Правда, вето не абсолютное, а приостанавливающее. Но его вполне достаточно, чтобы парализовать Национальное собрание на четыре, а то и на шесть лет!
Что это может значить в условиях революции? Такая отсрочка дает возможность под тем или иным предлогом просто разогнать Собрание. Ведь в распоряжении короля армия.
Собрание в тупике. Революция тоже. 14 июля ее спас народ Парижа. Теперь ее судьба снова зависит от него, ибо версальское Собрание охвачено страхом, способным погубить все.
Победа 14 июля не принесла Парижу ни покоя, ни порядка. Мэр Парижа Сильвен Байи, сменив астрономию на политику, убеждался, что ориентироваться в ней труднее, чем в далеком мире звезд. Все в Ратуше внушало тревогу. Разве не здесь толпа растерзала недавно его предшественника Флесселя? Собрание из 300 человек состоятельных представителей Парижа блистало знаменитостями вроде Кондорсе, Бомарше, Лагарпа, Бриссо, Лавуазье, но не проявляло ни энергии, ни смелости, ни ясного представления о происходящем. Светила науки и литературы, богатые буржуа терялись в потоке непривычных административных забот управления огромным городом. Правда, маркиз Лафайет формировал Национальную гвардию как оплот порядка. Но благонамеренные, то есть богатые граждане, надевшие яркие дорогие мундиры и прицепившие сабли, не внушали доверия в роли солдат. В дистриктах новые власти, не считаясь ни с какими законами, которых, впрочем, пока и не было, засыпали Ратушу постановлениями, жалобами, протестами.
Во всем, везде таилась опасность. Из Версаля доходили противоречивые смутные слухи о придворных заговорщиках, о подозрительных передвижениях королевских войск. А из рабочих предместий — отзвуки растущего гнева голодных.
Бесчисленные газеты всех направлений, появившиеся сотнями, в свою очередь, сеяли панику, растерянность, тревогу. В «Революсьон де Пари», одной из лучших газет, внушавших доверие, уже известный молодой журналист Лустало писал о парижской жизни: «Разлад, царящий в округах, — противоречия в их принципах, их постановлениях, их полиции представляют собой, с тех пор как миновала первая опасность, зрелище ужасающей анархии. Представьте себе человека, у которого каждая нога, каждая рука, каждый орган имел бы свой ум и свою волю, одна нога которого намерена идти вперед, в то время как другая хочет отдыхать, глотка которого замкнулась, в то время как желудок требует пищи, уста которого поют, а глаза в это время отягощены сном, и вы увидите яркую картину прискорбного положения, в котором пребывает столица».
Все представлялось смутным и неопределенным. Одно было совершенно ясно: в Париже голод. Хлеба не хватало, и цена его росла, хотя природа, словно приветствуя революцию, подарила летом прекрасный урожай и, казалось, избавляла от прошлогодних бедствий. Но у булочных выстраивались длинные очереди. Говорили о спекуляции, о торговцах, скупавших хлеб для вывоза за границу, хотя власти запретили такой вывоз. Видимо, события в деревне, связанные с «великим страхом», мешали регулярной доставке зерна и муки в Париж. Голодная лихорадка, как эпидемия, обрушилась на городскую бедноту. Новые муниципальные власти не сумели организовать доставку хлеба в столицу. Зато они приняли беспощадные меры для предотвращения народных волнений из-за голода. Их ждали там, где собрались вместе много голодных. Жертвой оказались благотворительные мастерские на Монмартре и в Шайо. За нищенскую плату здесь трудились свыше десятка тысяч рабочих. Теперь им вручали жалкое пособие и приказывали отправляться в провинцию или искать работу в столице. Операция под командованием Лафайета проводилась буржуазной Национальной гвардией. На всякий случай привезли пушки для стрельбы картечью по голодным рабочим. Одетые в рубища, с изможденными лицами и взорами, полными страха, они получают по 24 су, паспорт и приказ убираться вон.
Труднее жить и парижским труженикам, которые обслуживали богатых и зарабатывали побольше. Эмигрируют их заказчики — дворяне. Работы все меньше. Портные, парикмахеры, сапожники собираются тысячными толпами, посылают жалобы в Ратушу. Национальная гвардия с подозрением наблюдает за ними. Происходят кровавые столкновения.
Бедняки, санкюлоты не нужны революции! Штурмом Бастилии они недавно спасли Учредительное собрание. Но теперь оно решает, что бедные не получат избирательных прав. Одинокий голос Робеспьера в защиту народа остается в Версале гласом вопиющего в пустыне.
И в это время, в сентябре 1789 года, раздается гневный, негодующий, пронзительный вопль! Он выражает отчаяние и ненависть отверженных, призывает их самим решать свою судьбу. На парижских улицах продают новую газету. Тоном, содержанием она резко отличается от других газет, в которых слово «народ» лишь риторическое украшение. Жан-Поль Марат начинает издавать «Друг народа». В революции происходит нечто совершенно новое: санкюлоты обретают свой голос. В нем звучат их чувства, желания. Он учит их, объясняет события, зовет к действию, ибо без борьбы народ ничего не получит от революции. Учредительное собрание провозгласило отмену феодализма, лозунги свободы, равенства. Но почему? «Поймите же! — взывает Марат. — Ведь они лишь при зареве пожаров своих подожженных замков проявили великодушие, отказались от привилегии держать в оковах людей, завоевавших себе свободу с оружием в руках!»
Но свобода и равенство — всего лишь слова. Они не заменят хлеба. «Вы держите в руках всего только призрак, — продолжает Марат, — ваши мастерские опустели; ваши мануфактуры заброшены; заработок рабочих уменьшается… и это усугубляет всеобщую нужду; легионы слуг, выброшенных на улицу, умножат толпы неимущих». Поэтому Марат яростно зовет к продолжению революции. Теперь уже не только против дворян, но и против богачей. Марат писал: «Участь бедняков, всегда подчиненных, всегда порабощенных и всегда угнетаемых, никогда не удастся улучшить мирными средствами».
Отчаянно смелая революционность проповеди Марата отличается страстью и недостатком трезвого политического расчета. Но вся великая Революция — воплощение парадоксов и непоследовательности! Бесстрашный обличитель лицемеров из Версаля неожиданно заговаривает о «нашем добром короле»! Марат озадачивает, изумляет, пугает, разочаровывает наивностью, но со дня на день приобретает какое-то магическое доверие народа. Кто же этот загадочный апостол чудесного революционного очарования? Еще недавно преуспевающий, обеспеченный медик, с богатой квартирой и связями среди аристократов, он внезапно отверг благополучие и предпочел участь нищего санкюлота, приняв суровый обет служения народу. Он странен, непонятен, он отталкивает грубостью, нетерпимостью, резкостью. Но в конечном счете он будет прав. История оценит его бессмертную заслугу перед революцией, ибо он помог народу стать ее главным действующим лицом. Его пламенная проповедь подготовила союз радикальной революционной буржуазии с народом, союз, породивший монтаньяров. Марат и окажется среди их вождей, любимых народом.
Даже вопиющие крайности Марата содержат нечто истинно народное. Народ вносил в революцию не только героизм и самоотверженность, но, увы, невежество и неопытность. Многие возмущались королевским вето. Узнав о протестах против него, один рабочий спросил: «Из какого округа этот господин?» А другой заявил, что «раз этот «Вето» всех тревожит, его следует просто повесить на фонаре». Марат далеко не невежда. Но он также предпочитал не церемониться… Газета Марата выходит нерегулярно, тираж пока невелик: ее популярность еще впереди.
Пале-Рояль, огромный, беспорядочный, бурлящий, своеобразный политический клуб — главный источник революционной активности в столице. Отсюда в июле Камилл Демулен бросил призыв к штурму Бастилии. Само название — Пале-Рояль — означает в переводе «королевский дворец». Действительно, некогда здесь жил король-солнце Людовик XIV. Но затем дворец, вернее группа зданий с внутренней галереей, окружающей большой продолговатый прямоугольник сада, перешел в собственность младшей ветви Бурбонов — герцогов Орлеанских. Нынешний из герцогов — Филипп Орлеанский — незадолго до революции частично перестроил Пале-Рояль и придал ему необычное для резиденции принца крови коммерческое и политическое назначение.
В галерее разместились свыше двухсот торговцев, открывавших свои лавки, кафе, игорные дома, театр, даже музей восковых фигур. Здесь заключали сделки разные аферисты; к вечеру они уступали место проституткам. Любители развлечений, новостей, острых ощущений кишели в этом злачном месте, которое называли «татарским лагерем». Герцог Орлеанский, двоюродный брат короля, которому к началу революции было 42 года, уже успел многое в жизни, весьма беспорядочной, скандальной и развратной. Соблазняемый примером своего деда, который из-за малолетства Людовика XV около десятка лет был регентом Франции, он хотел использовать надвигающуюся революцию для своих честолюбивых замыслов. Герцог выступал против двора в борьбе с парламентами. Этот демагог заигрывал с народом и ради популярности не жалел денег. Голодной зимой 1788 года он раздавал хлеб народу, отменял налоги в своих владениях, даже разрешил там свободно охотиться. Он завел целый штат наемных агентов во главе с Шодерло де Ланкло, писателем, прославившимся галантным романом «Опасные связи». Ясной политической цели герцог не провозглашал, но настойчиво заигрывал с левыми. Вокруг него суетилось множество авантюристов. К тому же Пале-Рояль находился на особом положении в Париже; полиция сюда не допускалась. Поэтому в первые месяцы революции здесь свободно собирались все, кто жаждал принять в ней участие.
В Париж съехались до 40 тысяч людей из провинции, молодых интеллигентных буржуа или разорившихся дворян. Революция казалась им увлекательным спектаклем, в исполнении которого они хотели получить роль и для себя. В сущности, они представляли собой наиболее активную часть радикальной революционной буржуазии. Жан Жорес в своей истории Французской революции пишет, что это были те, «кого на языке консерваторов называли «деклассированными», то есть люди, которые, не достигнув при Старом порядке положения, соответствующего их способностям, их честолюбию и аппетитам, надеялись получить все блага, богатство, славу, широкое поле деятельности, блеск и кипение жизни от этого гигантского социального движения, которое должно было обновить все общественное управление, создать бесчисленные выборные должности, умножить во много раз шансы, когда энергия создает состояния и при внезапном перемещении огромной массы собственности обещает ловким дельцам богатую добычу».
Эти энергичные, уверенные в своих силах, преисполненные надежд люди были искренними сторонниками революции. Самые способные из них хотели и могли успешно послужить революционному делу. Они испытывали глубокую приверженность к идеалам и целям буржуазной революции. Ради их торжества они готовы к борьбе, к испытаниям и трудностям. Они отнюдь не восторженные идеалисты, как бы пышно и красиво ни разглагольствовали они об идеалах и принципах, просто их личные цели совпадали с задачами революции. В зависимости от индивидуальных склонностей, особенностей воспитания и характера одни из них стремились к приобретению прямых материальных выгод, другие — к власти и славе. В сущности, и то и другое представляло собой выгоду, только в разной форме. Чаще всего разнообразные притязания причудливо переплетались в жизненных делах каждой отдельной личности, хотя встречались и дельные, вернее односторонние натуры, предрасположенные к строгому ограничению своей деятельности четко определенной целью.
Революция найдет в них свое воплощение. Они дадут блестящих ораторов, талантливых организаторов, журналистов, муниципальных деятелей, депутатов Конвента, его беспощадных комиссаров, офицеров и генералов новой революционной армии. Франция предоставит в распоряжение революции чрезвычайно разнообразный, изумительно пригодный человеческий материал — плод века Просвещения, идейного и культурного роста страны, которой стало тесно и душно в старых феодальных рамках, и она вырывалась из них, разбивая их вдребезги и заменяя новой системой, рождавшейся в бурном процессе революционного творчества.
Пале-Рояль оказался притягательным центром для всей этой публики, поселившейся в дешевых меблированных комнатах. Кафе, навесы в саду, мелкие лавчонки, просто стулья на аллеях парка — все давало призрачный приют и удобные условия для встреч и знакомств. Они завязывались легко, поскольку общий для всех интерес к революционным событиям сближал людей. Новости мгновенно переходили из уст в уста, возникали группы, среди них выделялись свои ораторы, разгорались оживленные дебаты и споры. Нетрудно представить, какое возбуждение охватывало всех, когда поступали тревожные новости о том, что кто-то в Версале хочет остановить, а то и погубить революцию. В отличие от малограмотных санкюлотов, посетители Пале-Рояля отлично разбирались в политических или юридических тонкостях проблем, возникавших в Учредительном собрании и Ратуше. Тогда сразу появлялись пылкие и искренние люди, которые нетерпеливо требовали действия.
Так и случилось 29 августа, когда в Пале-Рояле узнали, что в Учредительном собрании вот-вот может быть принят декрет о предоставлении королю права абсолютного вето. Это означало, что всего через несколько дней после принятия Декларации прав все будет сведено на нет. Революция в смертельной опасности. Всех охватило небывалое возбуждение. Кафе «Фуа» стало центром шумных и яростных споров. Наконец, 30 августа составлена резолюция, предлагающая патриотам отправиться в Версаль и просить короля перебраться в Париж, подальше от дурных влияний двора. Избрали делегацию, во главе ее известный агитатор Пале-Рояля маркиз Сент-Юрюг, уже немолодой, длинный и лохматый человек, ему под пятьдесят. Несмотря на свой аристократический титул, он, уже посидевший в тюрьмах, побывавший в изгнании и обнищавший, яростный враг тирании и аристократов. Делегация, окруженная небольшой толпой, отправилась выполнять свою миссию, но была вскоре остановлена офицерами Национальной гвардии, преградившей ей путь под предлогом отсутствия у нее «законных полномочий». Оказывается, в Ратуше акт патриотизма вызывает страх. Сент-Юрюг возвращается в кафе «Фуа». Снова споры, и маркиза направляют теперь уже не в Версаль, а в Ратушу, чтобы потребовать пропуск. Но и туда его не пускают, ибо Пале-Рояль не округ, а в делегации — люди, не живущие вообще постоянно в Париже. Назначают новую делегацию, составленную специально из парижан и во главе с капитаном Национальной гвардии. Этих пускают в Ратушу, мэр Байи выслушивает их, но отказывает им в поддержке.
Итак, обнаруживается явный раскол в парижской партии революции на умеренных деятелей Ратуши и более смелых радикалов Пале-Рояля. Конфликт продолжается на другой день и на третий. Снова направляют делегатов в Ратушу, и снова им отказывают в поддержке. Радикалы шумят, но в конце концов выдыхаются. Победа остается за умеренными. «Красный маркиз» арестован. Но идея похода на Версаль распространяется в народе.
Между тем в Париже есть другой, менее одиозный, но более революционный центр, чем Пале-Рояль. Собираются и обсуждают общественные дела советы округов, дистриктов, возникшие еще для выборов в Генеральные Штаты. Один из них — округ Кордельеров на правом берегу Сены, резко выделяется своим революционным настроением. Таким он стал благодаря своему председателю — молодому адвокату Жоржу Дантону. Не случайно, например, в заседаниях участвует здесь и Марат.
Старый францисканский монастырь Кордельеров стал центром притяжения для многих революционеров, привлекаемых обаянием революционного темперамента Дантона. Его называют «Мирабо плебеев». Своим громовым голосом, способностью к неожиданной страстной импровизации, мыслями, созвучными настроениям народа, всей своей огромной, излучающей энергию и смелость импозантной фигурой он воплощает образ народного трибуна.
Дантон верит в возможность победы революции, если этому активно содействовать. Он не боится открыто нападать на умеренных муниципальных вождей Байи и Лaфайета. На нем, как писал Жорес, «налет отваги и театральности, который станет отличительной чертой гения Дантона». Однако громких и пышных речей тогда в Париже произносилось более чем достаточно. Лустало насчитал только в Ратуше за один месяц больше двух тысяч таких словоизвержений. Отличие Дантона заключалось в том, что он умел сделать слово в критические моменты революции орудием действия. Не зря Маркс оценит его как «величайшего мастера революционной тактики».
Дантон сразу понял, что 30 августа в отличие от 14 июля ораторы Пале-Рояля потерпели провал потому, что народ не поддержал их. Он внимательно следит за развитием событий в городе. А здесь растет недовольство дороговизной и недостатком хлеба. Гневно возмущаются женщины. Особенно много шума поднимают торговки Центрального рынка. Волнуются рабочие. Из Версаля каждый день приходят тревожные известия. В дополнение к находящимся там войскам прибывает по приказу короля Фландрский полк. В Версаль съезжается множество офицеров-дворян. Передают слухи о подготовке отъезда короля в Мец. Даже в Ратуше Парижа забеспокоились. Не подготавливается ли контрреволюционный реванш за 14 июля? Теперь уже весь Париж охвачен беспокойством и возмущением. Для взрыва нужна лишь искра. Но вот и она!
1 октября офицеры лейб-гвардии устраивают обед прибывшим в Версаль офицерам Фландрского полка. Для пиршества им предоставлен оперный зал Версальского дворца. В разгар возлияний и тостов в ложе появляются король и королева с маленьким дофином на руках. Офицеры охвачены монархическим экстазом. Они срывают с себя трехцветные национальные кокарды и топчут их ногами. Придворные дамы предлагают им белые королевские кокарды. Звучит монархический гимн, но звучат и угрозы по адресу патриотов…
Через день это стало известно в Париже. Негодуют все: санкюлоты, радикалы Пале-Рояля, даже в Ратуше члены муниципального совета. Дантон принимает решение: ответить Версалю восстанием Парижа! 3 октября своды монастыря Кордельеров дрожат от раскатов его могучего голоса, призывающего к походу народа и Национальной гвардии во главе с батальоном округа Кордельеров на Версаль. Составлен манифест, типографщикам Брюно и Моморо поручено отпечатать его, а жителям округа — расклеить афишу по всему Парижу. С утра колокол монастыря Кордельеров бьет в набат. Париж поднимается, начинается новый грозный акт Великой революции…
События первых месяцев революции логично приводят к трем будущим вождям монтаньяров, ибо они с самого начала в центре этих событий: Робеспьер — в Учредительном собрании в Версале, Марат и Дантон — в Париже. Каждый действует сам по себе, но их объединяет главное — убеждение, что революция только начинается, что ее решающие битвы еще впереди. Разные чувства и замыслы связывают их с народом. Удивительно совпадает их мысль о том, что революция не может восторжествовать без поддержки народа. Марат особенно яростно требует, чтобы она удовлетворила не только буржуазию, но и народ.
Каждый по-своему отразит народный характер революции. Это не значит, что они играют главную роль, хотя она окажется решающей в критические моменты. Своеобразие Великой французской революции в том, что ее возглавил не какой-либо один или несколько вождей. Перед взором потомков проходит обширная галерея многих неповторимых и разных деятелей, чаще всего не объединенных, а соперничающих между собой, сведенных воедино лишь участием в исторической трагедии Французской революции. Но двухвековая традиция не случайно выделила среди них фигуры Дантона, Робеспьера и Марата. Судьба каждого из великих монтаньяров поднимает их до истинно трагического величия с истинно трагической быстротой. Марату предстоит прожить всего три года, Дантону — около четырех, Робеспьеру — всего на три месяца больше. Но они успели за это фантастически бурное и короткое время обрести бессмертие, совершили нечто неизмеримо замечательное, чем за более продолжительное время своего предшествующего существования. В 1789 году Марату было 46 лет, Робеспьеру — 31, а Дантону — 29.
Каждый из них уже имеет интересную биографию, во многом объясняющую удивительную судьбу, выпавшую на их долю. В основной по продолжительности, но не по значению предреволюционный период жизни наши герои не связаны между собой и каждый решает свои личные задачи. Они находятся в разных местах; общее между ними — Франция, да и то лишь для Робеспьера и Дантона, тогда как Марат — уроженец княжества Невшатель и до революции долго жил в Англии. Поэтому об их дореволюционной жизни придется рассказать отдельно. Но уже в первые полгода революции это становится невозможно, ибо она втягивает, поглощает, объединяет вокруг себя трех выдающихся монтаньяров, совместно участвующих в одних и тех же событиях. В этой второй, по времени значительно более короткой, но неизмеримо более важной части своей жизни они становятся историческими героями и творят общее великое дело, сохраняя свою неповторимую индивидуальность. В разнообразии их судеб, характеров, убеждений, возможно, и таится разгадка пресловутых «тайн» монтаньяров.
Глава II РОБЕСПЬЕР
В раннем детстве Максимилиана Робеспьера ищут объяснения загадочной сущности этого человека, которого еще А. С. Пушкин называл «сентиментальным тигром». Разумеется, речь не идет о двух крайностях в оценках Робеспьера. Враги революции изображают его просто кровожадным чудовищем. Напротив, левые поклонники массового террора превращают Робеспьера в идеального демократа и революционера, чтобы оправдать историческим прецедентом террористическую практику как орудие диктаторской власти. И те и другие вольно или невольно схематизируют или искажают сложную и противоречивую личность великого монтаньяра.
На какие же обстоятельства рождения и детства Максимилиана указывают для объяснения его сурового и мрачного характера в зрелом возрасте?
Прежде всего, естественно, речь заходит о среде, обстановке тех мест, где родился и вырос человек. Для Робеспьера это Север Франции, места унылые, пасмурные, конечно, по сравнению с югом, с солнечным Лангедоком или Провансом, лежащими у лазурного Средиземноморского побережья. История тоже не баловала жителей Севера. Аррас — один из городов, особенно часто упоминаемых при описании многочисленных сражений. Нелегко было здесь многим поколениям отстаивать и обеспечивать свое существование. Бальзак писал, что весь характер уроженцев этих мест «в двух словах: терпенье и добросовестность…, которые делают нравы страны столь же скучными, как ее широкие равнины, как ее пасмурное небо». Но еще сильнее воздействуют на формирование человека семья, родители, их особенности, их судьбы.
Максимилиан Мари Исидор Робеспьер родился в Аррасе в мае 1758 года, когда прошло всего четыре месяца со дня вступления его родителей в официальный брак. На церемонию бракосочетания не явился никто из родственников невесты, дочери богатого пивовара. Они терпеть не могли зятя, вынудившего согласиться на брак с их дочерью из-за наличия факта, скрывать который было уже невозможно. Адвокатская деятельность отца Максимилиана складывалась в Аррасе неудачно, и в поисках заработка он вынужден надолго уезжать, часто занимать деньги. По мнению родственников со стороны матери, это и послужило причиной ее ранней смерти, когда Максимилиану было всего шесть лет. Отсюда некоторые французские биографы, например, Макс Галло, и делают заключение о том, что эти неблагополучные обстоятельства детства породили у юного Робеспьера чувство решительного осуждения беззаботности и безответственности отца, умершего в 1777 году в Германии, и противопоставление его предосудительному поведению нарочитой серьезности, пуританской добродетели и сознания долга. Этот психологический выбор якобы предопределяет характер Робеспьера на всю жизнь.
Конечно, нельзя полностью отвергать такое объяснение. Однако легенда об униженном и оскорбленном «бедном сироте» не выдерживает сопоставления с фактами его благополучного детства и юности. Прежде всего, он принадлежит к привилегированному сословию — дворянству мантии, чем весьма гордится. Не случайно даже в первые годы революции, когда дворянские привилегии уже отменены, он не забывает ставить перед своим именем частицу «де» — указание на благородное происхождение. Так ли уж несчастен он из-за своего сиротства? Отец Мирабо, к примеру, богатейший аристократ, не только не давал сыну ни гроша, но и не выпускал его из тюрем. Дантон потерял отца в возрасте трех лет и провел детство на скотном дворе. Но это не лишило ни того, ни другого обаятельного добродушия, даже тени которого никогда не обнаружит Робеспьер!
После смерти матери Максимилиан живет в богатом доме деда Жака Карро, который в 1765 году отдает внука в коллеж Арраса, где учат священники-ораторианцы. Святые отцы оценили послушание, аккуратность, примерную набожность ребенка. В 1769 году, когда ему было 11 лет, епископ Арраса пожаловал Максимилиану стипендию для продолжения учебы в знаменитом коллеже Людовика Великого.
Несколько лет Максимилиан учится в самом сердце Латинского квартала Парижа. Он отдается учебе до самозабвения, держится замкнуто, хотя вокруг много интересных сверстников. С ним учится Станислав Фрерон, позже редактор газет, депутат Конвента, монтаньяр и, наконец, ренегат; Сюло, который тоже станет издателем газет, но крайне контрреволюционного направления; будущие министры Дюпон дю Тертр, Лебрен. Максимилиан не сближается ни с кем. Правда, его суровое одиночество дружелюбно пытается нарушать один из его товарищей, талантливый, веселый, безалаберный и добрый Камилл Демулен…
Максимилиан поглощен страстью к учебе, в которой он преуспевает, завоевывая первые награды и восхищенные отзывы преподавателей. Он изучает историю, литературу, древние языки. Молитвы, мессы, исповеди определяют религиозный дух учебного заведения, всю жизнь воспитанников. Аббат Руаю, будущий редактор роялистской газеты «Друг короля», преподает философию. Максимилиан почтительно внимает проповедям аббата, но в душе питает иные, тщательно скрываемые духовные устремления. Некоторые из его юных коллег увлекаются энциклопедистами, кое-кто лично познакомился с д'Аламбером. Сердце Максимилиана отдано Руссо. Он увлечен не столько «Общественным договором», сколько «Исповедью» философа, ибо тоже считает себя одиноким, гонимым, но превосходящим духовно окружающих. Максимилиан узнал, что Руссо живет под Парижем в поместье маркиза де Жирардена Эрмонвиль. И в один прекрасный день Робеспьер тайно отправляется туда. Мифические рассказы о долгой и проникновенной беседе юного студента и старого мыслителя — плод фантазии. Руссо, особенно в конце жизни, отличался недоверчивостью, подозрительностью. Он уже был очень слаб; встреча произошла за месяц до его смерти. Заслуживает внимания лишь то, что об этой встрече написал в 1789 году сам Робеспьер: «Божественный человек, ты научил меня, еще совсем юного, познавать себя, чувствовать свое достоинство и размышлять о великих принципах… Я видел тебя в твои последние дни, и память об этом служит для меня источником радостной гордости. Я созерцал твои величественные черты: я видел отпечаток горьких чувств, с которыми ты осуждал несправедливость людей».
Робеспьер не случайно ничего не пишет о том, что ему говорил мыслитель в последние недели своей жизни; он лишь сообщает, что «видел» и «созерцал» его. Но Робеспьер, несомненно, глубоко изучил произведения Руссо, и их влияние будет ясно отражаться в словах и действиях Максимилиана; он часто специально будет это подчеркивать.
Почему из обширной плеяды философов французского Просвещения властителем дум Робеспьера оказался лишь один Руссо? Это, видимо, объясняется их явным психологическим сходством. Максимилиану чужд скептицизм Вольтера, материализм энциклопедистов, его решительный протест вызывал их атеизм. Само восприятие жизни французскими материалистами XVIII века, оптимистическое и жизнерадостное, для него неприемлемо. Оно казалось Робеспьеру приземленным, низменным. Он стремился к идеальному, совершенному, и такому стремлению вполне отвечал утопизм политической и нравственной философии Руссо.
Робеспьер полностью воспринял главные принципы политической теории Руссо — суверенитет народа и политическое равенство. Руссо стремился и к имущественному равенству, хотя, желая его, он не считал возможным нарушить неприкосновенность частной собственности. Он допускал лишь смягчение имущественного неравенства путем воспитания презрения к богатству, ограничения права наследования, недопущения чрезмерной роскоши. И все это не выходило за пределы благих пожеланий. Апостол демократии приходил к безнадежно пессимистическому заключению, что на практике демократия вообще не годится для людей, а пригодна лишь для богов. Руссо-демократ очень своеобразно трактовал само понятие народа. Для него народ — это средние слои между богатыми и бедными. Последним он не доверял и писал, что «беспорядки порождаются отупевшей и глупой чернью». Он считал, что Франция недостойна республиканской формы правления; при своем моральном несовершенстве французы могут рассчитывать лишь на конституционную монархию.
Руссо отвергал церковь, но был глубоко религиозен на свой манер, предлагая некую гражданскую религию. Она, впрочем, включала в себя веру в бессмертие души, загробное воздаяние и в божественное провидение. Руссо осуждал искусство, театр. Он считал их вредными, если они не являются моральной проповедью.
Руссо заразил многих деятелей предстоявшей революции одной своей чрезвычайно характерной для него особенностью. С маниакальной страстью он постоянно говорил о себе, о своих чувствах, мыслях, о своей личной судьбе. Пристрастие к сердечному излиянию, навязчивое стремление постоянно говорить о себе и своих чувствах выражало глубоко индивидуалистическую особенность его мышления. Субъективность, мнительность, болезненная обидчивость Руссо сильно сказывались в его отношениях с другими деятелями Просвещения, особенно с Вольтером и Дидро. Его язвительные выпады против них обнаруживают, что пристрастие к рассуждениям о добродетели вовсе не означало элементарной правдивости.
Всеми этими качествами Руссо особенно щедро наделил Робеспьера, если, конечно, это не было случайным совпадением очень похожих характеров. Но от него же Робеспьер заимствовал и такие черты своего мировоззрения, как ненависть к тирании, неравенству, угнетению, чрезмерному богатству. Он захватил его мечтой о счастливой жизни людей, об идеальном обществе добродетели, об идеальном человеке, мечтой, которую сам Руссо называл «чарующим заблуждением». Социальный пессимизм Руссо тоже, впрочем, станет гнетущей особенностью вождя монтаньяров.
В юности Робеспьера была еще одна символическая встреча. По случаю торжественного въезда в Париж после коронации Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта на пути от Нотр-Дам к церкви Святой Женевьевы задержались на улице Сен-Жак, чтобы выслушать приветствие учеников и преподавателей коллежа Людовика Великого. Кто получит почетное право зачитать почтительное поздравление, написанное латинскими стихами одним из профессоров? Конечно, лучший из воспитанников! Выбор пал на Максимилиана, который под дождем, стоя на коленях, старательно декламировал, тщетно пытаясь привлечь внимание монарха. Утомленный церемониями король вряд ли, конечно, мог внимательно его выслушать и тем более вообразить, что он имеет дело с одним из тех, кто в будущем призван решать вопрос о его королевской жизни и смерти… Но до этого еще далеко, а пока Максимилиан за три года получает все юридические степени: в июле 1780 года — бакалавра, в мае 1781 года — лиценциата, а в августе он зачислен адвокатом Парижского парламента. По случаю окончания коллежа он не только выслушивает самые лестные отзывы за свое похвальное поведение и учебу, ему объявляют награду в 600 ливров, которую он жертвует на стипендию младшему брату Огюсту, чтобы тот тоже смог учиться в коллеже Людовика Великого. Церковь щедро вознаграждает безупречного юношу, одаренного и дисциплинированного, надежно обеспечивая его преданность себе на будущее.
Безусловно, для таких надежд есть основания, хотя и очень зыбкие. Робеспьер навсегда сохранит веру в бога, в загробную жизнь и в провидение, предопределяющее судьбу людей, их действия. Даже его приверженность к идеям Руссо, которого он считает «божественным», это не логическая убежденность, а слепая вера, непоколебимая и фанатичная. Его чисто светские, реально-жизненные представления пронизаны религиозными догматическими категориями. Для него всегда будут обязательными такие типично религиозные черты отношения к действительности, как нетерпимость к инакомыслию, требование послушания от других, высший приоритет абстрактных категорий. Идеи братства, равенства у него носят характер евангельских догм, а не социальных отношений действительности. И сама революция окажется явлением идеальным, стремлением к высшим целям, бескорыстным, самоотверженным, строго принципиальным. Не из жизни, а из духовных идеалов он будет исходить в практической деятельности. И конечно, от религиозного воспитания он сохранит навсегда ненависть к атеизму и материализму. Но не любовь к католической церкви! Подобно Руссо, он грезит об иной, очищенной, облагороженной религии. Словом, святые отцы успешно вложили в его мировоззрение явно религиозное, хотя и не церковное восприятие жизни.
Максимилиану предстоит решить жизненный вопрос: искать ли себе занятие в Париже или вернуться в Аррас и попытать счастья там? Столица соблазнительна для легкомысленного человека, но не для Максимилиана. В свои 23 года он принимает мудрое решение. Он возвращается в Аррас, ибо имеет там надежную поддержку церкви и кое-какие родственные связи, тогда как в огромном Париже он рискует затеряться среди массы молодых честолюбцев, обладающих не только способностями, но и связями, которых у него нет. Ведь полученное Робеспьером звание адвоката Парижского парламента — это не должность с денежным окладом, а лишь свидетельство об определенном профессиональном и образовательном уровне. Любые мало-мальски доходные должности в судебной системе покупались и продавались, и самые скромные из них стоили не менее десяти тысяч ливров, которых у Максимилиана не было.
8 ноября 1781 года Робеспьер по рекомендации самого влиятельного в Аррасе юриста Либореля принят в корпорацию адвокатов. Вот и его первое судебное дело. Оно пустяковое — подтверждение действительности какого-то свадебного контракта. Но новичок проявляет такую добросовестность, тщательность и серьезность в его ведении, что сразу обращает на себя внимание. Правда, пока ироническое. Еще несколько подобных дел не дают ему возможность даже составить себе репутацию. Так можно очень долго прозябать в провинции.
Но уже через четыре месяца Максимилиан добивается чести, которой многим не удавалось заслужить и после десяти лет опыта. Его назначают судьей епископского трибунала, что дает жалованье, доходную клиентуру и солидное положение. Сам епископ утвердил это назначение, считая, что церковь может рассчитывать на нового судью. Действительно, домогаясь должности в церковно-судейской иерархии, Робеспьер засвидетельствовал не только свою полную лояльность к Старому порядку, но и отказался вообще от какой-либо критической позиции или духовной независимости. Он руководствовался интересами карьеры.
Собственно, по обычным представлениям того времени, Робеспьер уже ее сделал. Налаживается спокойная, размеренная, обеспеченная жизнь, которую разнообразят разве лишь смены квартир. Каждый раз он нанимает более престижную и богатую. Максимилиан живет с сестрой Шарлоттой, ведущей его хозяйство. Он приобретает характерный внешний облик, отличающийся крайней аккуратностью в костюме. Маленький рост, тщедушная комплекция, мелкие черты лица, тонкие губы, светлые, бесцветные глаза и бледное, даже зеленоватое, как уверяли некоторые, лицо — все это не создает представительной внешности. К тому же Максимилиан не отличался склонностью к общительности, не говоря уже о жизнерадостности. Забота о своем внешнем виде вполне естественна при таких данных. На платье он никогда не будет жалеть денег. Устанавливаются педантичные привычки, образ жизни образцового судейского чиновника, который всем внушает доверие. В 1782 году он ведет 17 судебных дел, в 1783-м — 18. В связи с одним из них возникла легенда, которую придется развеять. Дело в том, что ему пришлось осудить преступника на смертную казнь. Его сестра Шарлотта, о сложной личности которой еще придется писать, в мемуарах рассказывает о тяжелых переживаниях брата по поводу этого смертного приговора. Чувствительная душа Максимилиана якобы до такой степени была потрясена, что он отказался от должности судьи. Это выдумка, которую подхватили и некоторые историки, хотя вполне надежные документы свидетельствуют, что Робеспьер останется на этой должности еще несколько лет, не испытывая каких-либо угрызений совести.
Более того, судебная деятельность доставляет ему даже некоторую лестную славу поборника умеренно передовых идей. Этим он обязан своему новому покровителю метру Бюиссару, которому поручили вести дело некоего Вассери, установившего на своем доме новинку — громоотвод. Невежественные соседи вообразили, что дьявольское изобретение приведет к пожару, и потребовали убрать опасное приспособление. Бюиссар, человек современный, увлекшись этим процессом, подготовил целый физический трактат об электричестве. Однако, будучи очень занят, он передал дело своему молодому коллеге Робеспьеру, который его, естественно, выиграл. Об этом Бюиссар написал статью в «Меркюр де Франс» и лестно отозвался о молодом талантливом адвокате. Робеспьер хочет более эффектно использовать успех. Он уговаривает своего клиента напечатать за свой счет текст защитительной речи. Затем он направляет ее самому Бенджамину Франклину, изобретателю громоотвода, который в это время представлял Соединенные Штаты в Париже. В письме Робеспьер пишет, как он будет счастлив, если ему удастся «получить одобрение человека, который по заслугам сделался самым знаменитым ученым вселенной». Любопытно, что в этом письме Бюиссар вообще не упомянут…
Тщеславие, кажется, единственный порок, который компенсирует Робеспьеру отсутствие других. Сохранилось его письмо супруге Бюиссара с подробным рассказом о поездке в деревню Корвен. Он описывает, как его возмутил таможенный чиновник, не ответивший на его почтительный поклон: «Я всегда был чрезвычайно самолюбив: это выражение презрения задело меня за живое и испортило мне настроение на весь день». Зато он был с лихвой компенсирован по прибытии на место: «Граждане всех званий наперерыв выражали сильнейшее желание полюбоваться на нас… мы испытывали приятное утешение самолюбия при виде многочисленной толпы, занятой нами». И Робеспьер не жалеет бумаги для подробного перечисления всех знаков внимания, которых он удостоился.
Вскоре он добивается заметных успехов в светской и культурной жизни города, вступив в академию Арраса. Такие объединения, своего рода клубы образованных людей, возникают во многих городах. Франция переживает расцвет духовной жизни. В моде литературные конкурсы. Робеспьер садится за работу, пишет сочинение на конкурс, объявленный академией города Меца. На 60 страницах он рассматривает морально-юридическую проблему ответственности семьи за преступления родственника. Усердный труд вознагражден медалью и премией в 400 ливров.
В сочинении молодого юриста ощущается некоторый отзвук идей Монтескье и Руссо, хотя в целом он не выходит из рамок господствовавшей идеологии. В нем содержится банальное восхваление Людовика XVI и дается восторженная оценка «священного здания наших законов». Однако прилежный труд выделяется из потока модного провинциального сочинительства тем, что он удостаивается покровительственной похвалы известного либерально-монархического писателя Пьера-Луи Лакретеля, поместившего 3 декабря 1785 года хвалебную статью в «Меркюр де Франс». В ней говорится, что работа де Робеспьера «содержит здоровые взгляды и черты счастливого и настоящего таланта… свидетельствует о ясном и правильном сознании», хотя автор «не жил в Париже, где общение литераторов развивает талант и изощряет вкус». Первые лавры и начало известности вдохновляют Максимилиана, и он сразу после этого направляет новую работу на конкурс в академию Амьена. Здесь, однако, удача изменяет ему, и он не добивается никакого отличия. Но этот провал компенсируется с лихвой, когда он представляет работу в свою академию Арраса. В феврале 1786 года Робеспьер был избран ее директором. Затем он принят также в местное литературное общество «Розати», объединяющее молодежь, испытывающую «любовь к цветам, стихам и вину». Максимилиан тоже пишет стихи о птичках и цветах. Во время церемонии приема его приветствует военный инженер Лазарь Карно, будущий видный монтаньяр. Среди них окажется и другой член «Розати», преподаватель церковной ораторианской школы Жозеф Фуше. Кстати, он явно проявлял намерение жениться на сестре Максимилиана Шарлотте. Однако брак не состоялся.
Что касается отношения самого молодого Робеспьера к прекрасному полу, то он отдает дань этому естественному делу. Сохранились его письма к нескольким молодым особам, не отличающиеся, впрочем, страстью и пылом; они напыщенны, манерны и холодны. Максимилиан направляет барышням тексты своих судебных речей! Никаких практических последствий в виде не только женитьбы, но даже более или менее прочной связи эти истории не имеют. Робеспьер явно по испытывает горячего желания обзавестись подругой жизни, хотя очень ценит домашний очаг и женское внимание. Эту потребность вполне удовлетворяет Шарлотта и две его тетки. Итак, в 28 лет он пользуется успехом во всех отношениях, даже известностью и солидным положением. Элегантный адвокат и судья принадлежит к числу местных нотаблей, и казалось, все сулит ему прекрасное будущее.
Для этого надо лишь продолжать жить так, как он жил и действовал до сих пор. Максимилиан проявил себя вполне лояльным членом судебной корпорации, очень добросовестным, в высшей степени аккуратным и осторожным адвокатом и судьей, не вызывавшим ни у кого недовольства. Нет и признаков какого-либо конфликта молодого юриста с окружающей действительностью. Напротив, его усилия заслужили поощрения: успешная карьера, лавры академии Меца, избрание главой академии Арраса, хвалебная статья Лакретеля в «Меркюр де Франс». Трудно желать большего еще столь молодому человеку. Если так пойдет и дальше, то его ждут с течением времени служебные повышения, новые знаки признания. Прекрасная перспектива при условии, что он не желает ничего иного, что все это его вполне удовлетворяет; при условии, что такой явный конформизм отвечает его личным потребностям и стремлениям. Но так ли это? Проявлял ли до сих пор Максимилиан свою истинную натуру и отвечает ли такой вполне обычный жизненный путь его мечтам? Если он действительно первый последователь Руссо, то тогда двойная жизнь тяготила бы его. Веселое времяпрепровождение в развлекательном обществе «Розати» вовсе не подтверждает этого, если только не предположить в нем способность к двойной игре…
Но с другой стороны, блестящая карьера в условиях Старого порядка могла оказаться вообще невозможной, поскольку наблюдалось слишком много признаков кризиса и явного приближения гибели этого «порядка». Попытки сначала Тюрго, а затем Неккера спасти его путем частичных реформ оказались тщетными. Монархия сама отвергла их и шла по роковому для нее пути, обостряя все свои трудности. Битва двора с парламентами, конфликт с совещанием нотаблей вызывали волнения в городах и деревнях. Возникала предреволюционная ситуация, обостряемая легкомыслием придворных и упорным нежеланием дворян помочь абсолютизму. Было бы безумием строить свои жизненные планы на незыблемости здания, которое разваливалось на глазах. Теперь рискованно отставать от движения, вовлекавшего всю страну.
Во всяком случае, самое разумное было бы использовать момент, чтобы выступить, наконец, в своей истинной роли и сбросить привычную маску примерного ученика, а затем образцового церковного судьи. Именно на этот путь и осмелился вступить Максимилиан. Только теперь начинается его настоящая жизнь и образцовый Робеспьер Старого порядка становится историческим Робеспьером, он делается самим собой…
Началом оказалось дело ремесленника Франсуа Детефа, которого взялся защищать Максимилиан. Монахи доминиканского монастыря обвинили его в краже, хотя факты свидетельствовали, что настоящий вор — один из монахов аббатства. Дело могло бы пройти без особого шума, если бы Максимилиан не напечатал и не распространил еще до процесса текст своей речи. Это было грубым нарушением правил. Мало того, в своей речи адвокат выходил далеко за рамки конкретного дела и высказывал такие общие суждения, которые вызвали сенсацию. Он требовал вспомнить о других фактах, позорящих «убежища, посвященные религии и добродетели». Адвокат призвал к защите «угнетенной невинности», высказывал сострадание «к самой ужасной нищете», осуждал «гонителей». Правда, он оговаривался, что сама религия не может быть опорочена «пороками своих служителей». Но весь тон и содержание выступления носили если не бунтарский, то, во всяком случае, смелый характер. Как бы предвидя, что он встретит осуждение, Максимилиан заранее отвергает его, заявляя, что превыше всего — суд собственной совести. Это уже глубоко личная позиция, которая станет постоянной для него. Максимилиан впервые выступает в роли борца за справедливость, не боящегося посягнуть даже на авторитет церкви.
Формально, юридически дело кончилось полюбовной сделкой. Но публикация необычной речи адвоката вызвала скандал. Кстати, противником Робеспьера в суде выступил его прежний покровитель Либорель. Он яростно нападает на Робеспьера, обвиняя его в диффамации. В результате репутация, которой так долго и терпеливо добивался Робеспьер, решительно подорвана. Количество судебных дел, поручаемых ему, резко уменьшается. В 1788 году их меньше, чем в 1782 году, когда он только начинал карьеру. Робеспьер оказался в изоляции, он сразу нажил врагов. В провинции за это расплачиваются дорого.
Но Максимилиан не собирается отступать. Он не довольствуется критикой церкви и нападает на саму уголовную юриспруденцию. Используя дело мадам Панже, он указывает на «эшафоты, дымящиеся невинной кровью» из-за несовершенства законов, которые представляют собой «кровавые ловушки для тысяч несчастных». Он призывает на помощь им справедливость и человечность.
Это уже слишком. Идеи, которые допустимы для бесед в салонах, нетерпимы в судах. 30 января 1787 года судебный совет провинции д'Артуа «приказывает, чтобы все выражения, посягающие на авторитет Закона и юриспруденции и оскорбляющие судей, распространяемые в печатном мемуаре, подписанном адвокатом Робеспьером, считались недействительными. Совет также приказывает, чтобы данное постановление было напечатано и в форме афиши вывешено в городах Аррас, Бетюн и повсюду, где это будет необходимо».
Формально Робеспьер еще занимает свои посты, но фактически он уже отлучен от аррасского общества, от судейского мира. Его не приглашают на конференцию юристов. Все его игнорируют, кроме нескольких друзей вроде метра Бюиссара. Карьера его испорчена.
Конечно, он мог бы это предвидеть. Однако он все же надеялся не без некоторой наивности, что завоеванная им известность не позволит так легко разделаться с ним. Ведь он лишь защищал принципы, давно широко распространяемые. Правда, в частных беседах, но не в судебных документах. Поэтому его быстро заставляют расстаться с этими иллюзиями. В «Письме адвоката совета д'Артуа своему другу адвокату парламента Дуэ» он горько сетует на судьбу молодого адвоката, посмевшего отказаться от серого прозябания и высказать свои идеи и теперь наказанного за опасную смелость. Когда он напечатал и распространил текст этого письма, на него вновь обрушился Либорель, обвинивший Робеспьера в том, что его сердце наполнено «грязными интересами… низкой алчностью и подлой завистью».
Итак, в Аррасе ему больше делать нечего, и он подумывает о переезде в Париж. Но как раз в это время крупнейшие события в стране предлагают ему другой путь.
Позиция, которая почти довела Робеспьера до изгнания из Арраса, теперь обеспечит ему победу в его первой политической битве на выборах в Генеральные Штаты. Выборы побудили его отложить почти решенный отъезд в Париж. Максимилиан сразу садится за работу и пишет призыв «К нации д'Артуа о необходимости реформы провинциального собрания». Этот резко критический текст стал началом его избирательной кампании. Он не только не думает отказываться от идей, явившихся причиной поднявшегося против него скандала, но, напротив, еще смелее провозглашает их. Трезвое решение! Ясно, что ему нечего ждать поддержки от привилегированных Арраса, от церкви. Все надежды на основную массу избирателей третьего сословия, то есть на городских бедняков и на крестьян. Поэтому он пишет о том, что затрагивает их больше всего: «Наши деревни полны обездоленных, поливающих в отчаянии слезами ту самую землю, которую напрасно возделывают в поте лица. Вследствие нищеты большая часть крестьян опустилась до такой степени, когда человек, всецело поглощенный заботами о поддержании жалкого существования, становится неспособным сознавать свои права и устранять причины своих несчастий».
Уж не призывает ли он к революции? Ни в коем случае! Робеспьер — за строгое соблюдение законов. Он восхваляет Людовика XVI и Неккера, которые могут осчастливить народ. Он, правда, при этом горячо сочувствует бедствиям народа, страдающего от злоупотреблений местных властей.
Конечно, теперь это уже не примерный ученик, не послушный воспитанник церкви, не осторожный адвокат, не верный церковный судья. Он преобразился в политического деятеля, который смело и искусно делает свою политику, несмотря на отсутствие опыта. Максимилиан обнаруживает, наконец, врожденную страсть к общественной деятельности. Вернее, пожалуй, это не столько страсть, сколько хладнокровный расчет. Он трезво сознает свое положение: от властей ему нечего ждать поддержки, от дворян и церкви тоже. Нельзя рассчитывать и на богатую буржуазию. В мире сильных Арраса его корабли сожжены. Опираться придется даже не на третье сословие в целом, а на его хотя и низший, зато самый многочисленный слой, на тех, кого он называет «народ»! Этот политический расчет вполне совпадает с его убеждениями, которые он годами если не скрывал, то высказывал осторожно. Теперь, провозглашая их открыто, конкретно, искренне, он может рассчитывать, что подъем третьего сословия будет его собственным, личным подъемом. Он пускает в ход все свои силы и способности. Ведь альтернативой избранию будет только обращение в небытие. В Аррасе карьера кончена, а с его новой репутацией и в другом месте начинать заново не только трудно, но просто невозможно.
Максимилиан бросается в азартную игру избирательной кампании в Генеральные Штаты. Это было нечто хаотическое и запутанное, как и само положение французского королевства. Выборы многостепенные, и надо выдержать испытание нескольких этапов борьбы. Здесь таится главная трудность, но здесь есть и преимущества для кандидата с туманными шансами на успех. Вот когда Максимилиану помогает его самоуверенность, органически присущая ему убежденность в своей правоте, которую он тем самым внушает и другим.
У него много сильных врагов и соперников; фактически все так называемые нотабли Арраса и провинции д'Артуа. Возглавляют их председатель совета д'Артуа Бриуа де Бомец, его непосредственный соперник — адвокат Демазьер. Порывают с ним и недавно столь любезные коллеги из академии Арраса. Дюбуа де Фассо, с которым Робеспьер сблизился в обществе «Розати», теперь один из его недругов. Среди избирателей третьего сословия распространяется анонимный листок, призывающий опасаться Робеспьера, этого «горлопана», «озлобленного сутягу», «желчного ненавистника».
23 марта в церкви коллежа Арраса собираются ремесленники, торговцы, землевладельцы, адвокаты, небогатые рантье; всего 500 мелких буржуа для назначения выборщиков. Мэр Арраса барон Экс пытается навязать им кандидатуру Демазьера. Друзья Робеспьера, однако, не остаются пассивными и освистывают барона, действующего по поручению графа Пизегюра. Атмосфера явно не благоприятствует дворянам. Робеспьер вошел в число 12 выборщиков. Первый этап пройден, но битва еще только начинается.
У Максимилиана почти нет союзников среди влиятельных людей, если не считать метра Бюиссара и еще нескольких человек. Масса хлопот побуждает Робеспьера привлечь даже своих родственников, сестру, теток, вернувшегося из Парижа после окончания учебы младшего брата Огюста. Но главная его опора — бедняки, которым трудно оторваться от работы ради непривычных заседаний. Максимилиан встречается с делегатами корпорации мелких ремесленников и редактирует их наказ, побуждает смело высказывать свои требования. Конечно, растет ненависть властей, Робеспьеру угрожают, и друзья советуют быть осторожнее, чем он решительно пренебрегает. При обсуждении общего наказа третьего сословия он выдвигает самые смелые требования, решительнее всех разоблачает злоупотребления. Робеспьер бесповоротно выбрал свой лагерь, понимая, что нерешительные колебания могут лишить его небывалого и решающего шанса вступить в новую, большую жизнь.
20 апреля начинаются выборы депутатов. Теперь на карту поставлено все. Идет голосование по двум кандидатурам: Робеспьера и финансового инспектора Вэйяна. Последний и побеждает… Но Робеспьер не сдается. Ему надо победить любой ценой, и он встречается с Шарлем Ламетом, влиятельным депутатом дворян д'Артуа, который хочет иметь своих людей среди будущих депутатов третьего сословия. Что обещает ему Робеспьер за поддержку? Неизвестно, а для Робеспьера сейчас это и не важно, ибо нужны голоса крестьян. И вот 26 апреля наступает последний, решающий этап. Друзья Робеспьера раздают 400 отпечатанных приглашений с его именем. Кандидат произносит речь, горячо защищая требования земледельцев, страдающих от многочисленных налогов. Они резко настроены против призыва их сыновей на военную службу, и Робеспьер направляет сюда весь свой огонь. Возможно, это и была самая главная речь из всех других более знаменитых тысяч его будущих речей, хотя ее текст история не сохранит. Но она приносит ему победу и открывает путь к великому будущему. «Я был мишенью всех могучих сил, яростно объединившихся против меня, угрожавших мне уголовным процессом, — напишет он в 1792 году. — Но народ защитил меня от преследования, чтобы провести в Национальное собрание». Итак, Максимилиан Робеспьер — один из депутатов Генеральных Штатов. 2 мая 1789 года он вместе с остальными удостоен приема у короля. Впрочем, Людовик XVI подчеркнуто доверительно принимает духовных лиц, с почетом — дворян и нарочито небрежно — депутатов третьего сословия, которым позволено лишь быстро пройти через королевские покои. 4 мая он участвует в торжественной процессии, направляющейся на богослужение по случаю начала заседаний Генеральных Штатов.
Робеспьер, как и все депутаты третьего сословия, одет в скромную черную одежду, предписанную королем специально для того, чтобы внушить представителям народа идею непоколебимости старого сословного деления общества. Существует множество описаний этого знаменательного шествия, в котором еще никто ничем не проявил себя и все вместе представляли, казалось бы, безликую массу. Но это не так, ибо при внимательном взгляде и знании исторической обстановки уже в тот день среди депутатов разные люди выделялись своей репутацией, поведением, чертами внешности и манерами. Томас Карлейль, автор если не самой достоверной, то, во всяком случае, очень яркой истории Французской революции, описывая процессию депутатов и давая им характеристики, писал: «Но если Мирабо — величайший, то кто же из этих шестисот самый незначительный? Не этот ли небольшой, невзрачный человек, лет под тридцать?.. Он сын адвоката; отец его был основателем масонских лож…» Максимилиан и сам состоял членом одной из масонских лож, что помогло, кстати, его успеху на выборах. Но «незначительным» он не был даже тогда, на фоне его последующей грандиозной карьеры. Энергия, целеустремленность, непоколебимая вера в себя, проявленные им на тяжелом пути в Генеральные Штаты, уже сами по себе свидетельствовали о его незаурядности. И он вовсе не считал, что уже достиг своей цели. Как никто другой, сознавал, что его миссия только начинается, что он сделает все для ее выполнения в точном соответствии со своими убеждениями. В одном из своих писем в эти дни он напишет как о само собой разумеющемся деле, что ему предстоит «решать судьбу нации!».
Но как? В интересах третьего сословия! Впрочем, этот термин, как напоминающий «былое рабство», Робеспьер и его коллеги уже не признают, называя себя представителями Коммун, то есть общин граждан. Он преисполнен также решимости лишить аристократов права «творить несправедливости». Но, как и все депутаты, он хочет только улучшить королевскую власть. Робеспьер еще не понимает, что король лишь первый из аристократов, которых он ненавидит.
Впрочем, они платят ему той же монетой, хотя Робеспьер еще не произнес ни слова в зале Меню плезир. Дело в том, что провинцию д'Артуа представляют и привилегированные, в том числе его уже старый враг де Бомец (кстати, он двоюродный брат Бюиссара, союзника Робеспьера). Они-то и переносят в Версаль репутацию, которую Максимилиан уже приобрел в Аррасе. Еще в номере за 1 мая 1789 года «Афиш д'Артуа» в статье нотариуса Арраса, редактирующего этот листок, дается характеристика депутатов от провинции. В статье оцениваются разные «лошадки из конюшни д'Артуа». Робеспьер — это «бешеная, злая лошадка, заносчивая, не знающая удержу, не слушающая узды, упрямая как осел, осмеливающаяся кусаться только сзади, но боящаяся кнута».
Робеспьер уже успел убедиться, что выступления за демократические принципы сулят не только лавры. Помня об этом, так же как и чувствуя еще свою неопытность, Робеспьер довольно осторожно, даже, пожалуй, робко вступает на общенациональную политическую арену. Тогда только начиналось пятинедельное испытание терпения, выдержки, упорства в борьбе третьего сословия за признание его Национальным собранием и за присоединение к нему дворянства и духовенства.
В огромном зале Малых забав картина вовсе не забавная, а тревожная, смутная. Здесь только депутаты Коммун без дворян и духовенства, упорно заседающих отдельно. В зал попадает много любопытной публики, которая подчас рассаживается вперемежку с депутатами. А они еще пока даже толком не знают друг друга. В такой тревожно-неопределенной обстановке Робеспьер 18 мая впервые берет слово. Его почти не слушают, хотя он вносит предложение о том, как побудить основную массу духовенства, приходских священников, присоединиться к третьему сословию. Само по себе предложение не лишено практической целесообразности. Но оратор оказался не на высоте. В гигантском зале его слабый голос, монотонный, хотя и резкий, просто теряется; говорит он сухо и скучно. Его предложение даже не ставится на голосование, ибо прислушиваются к другим, более авторитетным голосам.
Как это не похоже на недавние триумфы в Аррасе! Воспоминание об этом, видимо, и побуждает Робеспьера рассказать в письме к Бюиссару и о своей неудаче, и о том, свидетелем чего он был. Но из этого письма выясняется и причина неудачного дебюта: преувеличенное самомнение не подкреплено умением оценить обстановку и людей. Он с легкостью раздает им уничтожающие оценки! Мирабо играет «ничтожную роль», а именно он, как никто другой, силой своего необычайного ораторского дара толкал революцию вперед, был в эти первые месяцы и ее вождем! Мунье, который, по мнению Робеспьера, «не играет заметной роли», явился инициатором клятвы в Зале для игры в мяч! Тарже «решительно стоит вне борьбы». Однако этот «беспринципный депутат» окажется автором легендарной клятвы! Вообще, пишет Робеспьер, в Собрании «мало талантливых людей», а между тем достигнуто необычайно быстро то, о чем трудно было и мечтать: Генеральные Штаты, созванные ради наполнения опустошенной королевской казны, фактически лишают короля власти, становятся Учредительным собранием и создают в начале июля комиссию для составления конституции.
Робеспьер играет безгласную и пассивную роль во время этих событий. Но он ни на минуту не отказался от своих честолюбивых надежд, поняв, что необходимо выжидать и терпеливо готовиться к тому времени, когда пробьет и его час. Никто так аккуратно не посещает всех заседаний, никто столь тщательно не следит за событиями. Собственно, он не знает никакой другой жизни, никаких других интересов. В Версале Робеспьер поселился вместе с тремя землевладельцами-земляками в отеле «Ренар» на улице Сент-Элизабет. Почему же не со своими коллегами-адвокатами? Он хочет быть ближе к тем, кто выбрал его, ближе к народу. Вообще в глубине души он чувствует, что ему не хватает знаний обстановки, а главное — знания людей известных и влиятельных. Максимилиан начинает посещать кафе «Амори», находившееся недалеко от зала Малых забав. С конца апреля 1789 года здесь стали собираться перед заседаниями Генеральных Штатов депутаты Бретани. Они обсуждали ситуацию, определяли свою позицию, готовили предложения. Так зародился Бретонский клуб, первое политическое сообщество эпохи революции. К бретонским депутатам присоединяется все больше представителей других районов Франции.
Теперь здесь все чаще видят Робеспьера, который мало говорит, но очень внимательно слушает. Он ищет связей и охотно идет на знакомства и контакты, притом с самыми «великими». Робеспьер удостоился приглашения на обед к министру Неккеру. Там он познакомился с его 23-летней дочерью, в будущем знаменитой мадам де Сталь, и произвел на нее неблагоприятное впечатление, которое она впоследствии в своей книге о революции выразила коротко: «властолюбивый лицемер». Здесь же он встречается с Барером, тоже депутатом, а впоследствии его соратником-монтаньяром, правда, не до конца… Интереснее всего, что он сумел понравиться уже прославленному Мирабо. В свою очередь, Робеспьер напишет Бюиссару о Мирабо, что он «с некоторого времени показал себя с очень хорошей стороны». Действительно, 9 июля Мирабо включил адвоката из Арраса в делегацию для вручения королю требования отвода войск из района Версаля. Король, согласившись для вида на объединение всех сословий в Учредительное собрание, активно готовился разогнать его и арестовать наиболее радикальных депутатов, а затем с помощью наемных иностранных полков обуздать смутьянов Парижа вроде Марата, Демулена и Дантона, выпускавших крамольные газеты и волновавших народ в Пале-Рояле и в округе Кордельеров. 11 июля был уволен Неккер, королевские войска нападают на толпу у сада Тюильри. В ответ рождается призыв «К оружию!», а 14 июля происходит победоносный штурм Бастилии…
На другой день в Собрание явился перепуганный король, чтобы объявить о своей фактической капитуляции. Он отводит войска и возвращает Неккера. Депутаты, которые сами смертельно испугались народного восстания, встречают его бешеным восторгом. Некоторые дошли до поистине безумного энтузиазма. Один из них, по имени Блан, буквально задохнулся от волнения и тут же умер. Ну а Робеспьер, молчавший с 18 мая? Он сам дал подробный отчет о своем отношении к революции в письме к Бюиссару 17 июля, начав его такими знаменательными словами: «Происходящая революция, мой друг, за последние несколько дней сделала нас свидетелями крупнейших событий, какие человеческая история когда-либо знала».
Поразительно быстро и верно Робеспьер определяет смысл того, что произошло. И он решительно становится на сторону победителя — народа! Максимилиан искренне удовлетворен провалом «ужаснейшего заговора» королевского двора. Но одновременно он разделяет и энтузиазм («который трудно описать», — по его словам) по отношению к королю. Монархические чувства переполняют его, когда он рассказывает, как среди нескольких сотен депутатов он сопровождал 17 июля Людовика XVI в Париж. Его восхищает «величественное и прекрасное зрелище» встречи короля и народа, когда «монарху были выражены в высшей мере чувства радости и восторга». И он совершенно не чувствует всей двусмысленности, противоречивости этой встречи побежденного и победителей.
Крайне любопытно, что Робеспьер одновременно восторгается королем и разрушением Бастилии — символа и оплота королевской власти. «Я видел Бастилию, — пишет он, — меня сопровождал туда отряд гражданской милиции, силами которой была взята крепость. По выходе из Ратуши в день приезда короля, вооруженные граждане почли за удовольствие и честь эскортировать всех депутатов, которых они встречали по пути; народ провожал их восторженными криками. Каким чудесным местом стала Бастилия с тех пор, как она во власти народа и камеры ее пусты, с тех пор, как множество рабочих без устали трудятся над разрушением этого гнусного памятника тирании. Я не могу оторваться от этого места, вид которого вызывает чувство радости и сознание свободы у всех добрых граждан».
Итак, Робеспьер радуется результату восстания, бунта населения Парижа. Однако он одновременно желает, чтобы впредь этого не случалось, чтобы воцарились порядок и спокойствие. Он очень доволен, что возникла буржуазная милиция, охраняющая отныне порядок. «Замечательна не только та смелость и та быстрота, с которой жители столицы собрали бесчисленную армию, состоящую большею частью из именитых граждан; замечательно и то спокойствие, тот порядок, та безопасность, которую они повсеместно установили. Они даже для поддержания порядка послали отряды войск в те близлежащие местности, где можно было опасаться бунта. Так, они отправили охранные отряды на Монмартр и в де Понтуаз, где злоумышленники могли разграбить рынки и перехватить все припасы».
Совершенно ясно, что Робеспьер на стороне «именитых граждан», то есть буржуазии, что он против «злоумышленников», то есть голодающих рабочих, трудившихся за жалкие гроши в благотворительных мастерских Монмартра, что он одобряет меры, принятые на случай «бунта» голодных. Вообще, ни слова сочувствия жертвам голода, который и вызвал в решающей степени народное восстание 14 июля, в письме Робеспьера нет.
Теперь понятно, что, употребляя слово «народ», он имеет в виду «именитых граждан», что, называя Робеспьера демократом, это слово надо понимать не в его современном смысле, а так, как его понимал «божественный» Жан-Жак Руссо, распространявший демократию лишь на часть народа. По его мнению, это средний разряд людей, стоящих между богатыми и бедными. Последних он именовал «чернью» и писал о ней так: «В большинстве государств внутренние беспорядки порождаются отупевшею и глупою чернью, сначала раздраженною нестерпимыми обидами, а затем втайне побуждаемою к мятежу ловкими смутьянами, облеченными какою-нибудь властью, которую они стремятся расширить».
Робеспьер — ученик Руссо, хотя он далеко не всегда и не во всем следовал идеям учителя. Так обстоит дело с понятием «народ». В устах Робеспьера народ — абстрактная категория, под которой не подразумевается какая-либо точно определенная социальная категория французов. В письме к Бюиссару, написанном сразу после возвращения из Парижа, Максимилиан вряд ли до конца продумал и оценил роль народа 14 июля 1789 года. Слова «бунт», «злоумышленники» стоят у него в таком контексте, который придает им смысл осуждения стихийных выступлений масс. Однако в том же письме он пишет, что «народ казнил коменданта крепости и купеческого старшину», то есть де Лоне и Флесселя. Робеспьер оправдывает этот акт жестокого революционного самосуда. Ясно, что он противоречит сам себе, что его отношение к революционному народу, к «черни» уже не такое отрицательное, как у Руссо, но оно не определилось окончательно. Между тем дело происходит во время «великого страха». Францию потрясают восстания крестьян и горожан. Они не могли не дать Максимилиану пищи дляразмышлений, для эволюции его мыслей. И эта эволюция сближает его с народом.
Если подавляющее большинство депутатов Учредительного собрания оказались во власти «великого страха» и сплотились вокруг короля, то Робеспьер, оставаясь монархистом, почувствовал силу и право народа, понял, что революция еще только начинается и двигать ее вперед будет народ. И он твердо решил быть вместе с народом. После двух с половиной месяцев молчания (если не считать робкого выступления 18 мая) он фактически впервые 20 июля объявляет в Собрании о своей позиции, как бы поднимает свой флаг…
Это не было подготовленное выступление, хотя Робеспьер уже давно собирался показать себя. Но, как это ни странно в сопоставлении с его исторической репутацией, он просто… боялся трибуны. Он сам признавался, что «был робким, как ребенок, трепетал при приближении к трибуне и переставал чувствовать себя, когда он начинал говорить…». Таким он будет еще долго, а вначале огромный зал, плохо приспособленный для парламентских дебатов, где надо было обладать могучим голосом Мирабо, чтобы заставить себя слушать, приводил его порой в оцепенение. Потребовалось сильное чувство возмущения, чтобы преодолеть робость и подняться на трибуну.
Такое чувство и вызвал у Робеспьера депутат монархистов Лалли-Толландаль. Один из ведущих ораторов правового центра отличался невероятной тучностью и крайней чувствительностью. Частым атрибутом его вульгарного и напыщенного красноречия служили слезы, которые он не мог сдержать, распаленный собственными словами. На этот раз он был охвачен не страхом, а буквально ужасом перед известиями о все новых восстаниях в провинции. Лалли предложил обратиться с воззванием к нации, направленным против зачинщиков беспорядков, которое могло лишь усилить панику. Но главное, осуждая новые волнения, это воззвание тем самым набрасывало тень на славные события 14 июля в Париже.
Робеспьер почувствовал опасность для революции и решительно встал на защиту тех, кто штурмовал Бастилию: «Господа! Этому восстанию нация обязана своей свободой», хотя «пролито некоторое количество крови, отрублено несколько голов, но голов, без сомнения, отнюдь не невинных». Он протестовал против внесенного предложения, считая его «покушением на стремление к свободе, которое может вернуть нацию под иго деспотизма». Он объявил законными любые возмущения против заговоров, угрожающих свободе нации.
Выступление принесло Робеспьеру первый заслуженный успех. Собрание отвергло предложение Лалли-Толландаля, хотя вначале ему бурно аплодировали. Разумеется, большинству не понравилось утверждение Робеспьера, что опасность для нации оправдывает любые, даже незаконные действия. Тем более знаменательно, что он способствовал отклонению контрреволюционного, по существу, предложения. Речь Робеспьера вызывает несколько одобрительных откликов в газетах. 27 июля он вновь выступает против попыток осудить народные волнения и оправдывает их. При обсуждении проекта Декларации прав человека и гражданина он высказывается против ограничения суверенитета нации исполнительной властью.
Но предложение не только не принимается; Робеспьера осыпают насмешками. При его появлении на трибуне шум в зале усиливается, и это отнюдь не гул одобрения. Вообще порядок в работе Собрания установить так и не удалось. Напрасно председатель Байи пытался запретить аплодисменты; его предложение встретили такой насмешливой бурной овацией, что он сам от него отказался. Провалились и попытки установить регламент, и многие депутаты злоупотребляли этим, часами зачитывая обширные трактаты. Для обструкции были самые благоприятные условия. Ее жертвой особенно часто оказывался Максимилиан. Стоило ему попросить слово, не говоря уже о появлении на трибуне, как разговоры и шум резко усиливались. Основная масса депутатов в лучшем случае игнорирует адвоката из Арраса.
Максимилиану с его страстью к закону и порядку пришла в голову злосчастная идея: попытаться самому навести порядок в этом неуравновешенном сборище. Если он внимательно и вежливо слушает всех, что бы кто ни говорил, то пусть же слушают и его! Робеспьер представил проект решения из нескольких статей, требовавших обеспечить «спокойное обсуждение с тем, чтобы каждый мог без опасения ропота предложить Собранию изложение своего мнения». Но 28 августа, когда он на трибуне обосновывал свое предложение, председатель прервал его и резко осудил предложение. В зале поднялся громкий шум и заставил Робеспьера не только замолчать, но и покинуть трибуну. Тогда загремел голос Мирабо! Великий оратор требовал предоставить депутату законное право высказаться. Робеспьер вернулся на трибуну, но болезненно обидчивый, оскорбленный и крайне взволнованный, он был ошеломлен до такой степени, что буквально физически потерял дар речи. Потрясенный и парализованный, он молча постоял на трибуне и потом ушел с нее, сопровождаемый насмешками. Это был жестокий урок. Максимилиан смог усвоить и выдержать его не только благодаря твердой вере в себя, но потому, что он встречал отнюдь не одни порицания, но, хотя и редкие и тем более ценные для него тогда знаки признания и одобрения, которые пылко выражали ему депутат из Прованса Буш, депутат Драгиньена, кюре Рокфор, не говоря уже о постоянно сближающихся с ним депутатах крайне левой.
Максимилиану еще очень далеко до того, чтобы возглавить какую-либо группу сторонников. Пожалуй, таковых вообще не существовало. Даже наиболее близкий к нему в то время среди крайних левых депутатов 33-летний адвокат Жером Петион отнюдь не был его единомышленником в полном смысле этого слова. Кстати, во времена Учредительного собрания, или Конституанты, как говорили французы, «неподкупным» называли именно Петиона, а Робеспьера — «непреклонным». После Робеспьера — он самый заметный из левых, ибо Дюбуа-Крансе, Приер из Марны, Ребелль, Саль очень активные левые патриоты, отличались слабостью в роли ораторов, а трибуна Собрания служила основной ареной борьбы. Петион же рвался на трибуну, и его приятная внешность, звонкий голос давали для этого основание. Он решался даже вступать в полемику с самим Мирабо. К сожалению, тщеславие у него преобладало над умением глубоко и смело оценивать политическую ситуацию. Ему не хватало принципиальности, хотя в избытке проявлялась склонность к компромиссу. Не случайно в дальнейшем он окажется одним из лидеров жирондистов — главных соперников Робеспьера и вообще монтаньяров.
Конечно, в конце лета 1789 года вряд ли кто мог предвидеть такую перспективу. А между тем именно тогда уже наметилось расхождение в лагере левых. Произошло это в связи с тем, что после принятия Декларации прав Учредительное собрание начинает обсуждать основные положения будущей конституции. Борьба развернулась вокруг проблем королевского вето. Получит ли король право запрещать, отклонять или задерживать законы, принятые избранным законодательным Собранием? Или же именно Собрание воплотит суверенитет народа, а король лишь возглавит подчиненную ему исполнительную власть? Революционная логика, идея народного суверенитета допускали только второй вариант, тогда как первый означал бы ликвидацию революции. Это понимали в Париже, где против вето возникло в последние дни августа движение радикальной буржуазии в Пале-Рояле. Оно потерпело неудачу, но все же повлияло на ход дискуссии о вето в Собрании.
После унизительного фиаско Робеспьера 28 августа, естественно, он имел психологическое основание замолчать, замкнуться в позе обиженного. Вот здесь как раз и проявилась впервые сила его характера, способность вступать в политический бой даже при самых неблагоприятных условиях. Он, как никто другой, глубоко осознал, что борьба против вето — основной, жизненный вопрос для развития революции. Поэтому он выступает против вето 29 августа, 7 сентября. Позиции сторонников абсолютного вето слабеют. Но предлагается опасный компромисс — предоставить королю приостанавливающее или суспенсивное вето, что, по мнению Робеспьера, было бы лишь замаскированной формой предательства революции. Он готовит большую речь, в которой хочет разоблачить всю опасную механику приостанавливающего вето и обосновать путь действия и продолжения революции. Он знает, что не встретит поддержки, хотя 10 сентября правые потерпели поражение. Собрание отвергло проект создания двух палат по примеру Англии и согласилось учредить единую палату. Однако создавалось впечатление, что на эту уступку пошли лишь для того, чтобы взять реванш в вопросе о вето. Об абсолютном вето уже не заикался сам Мирабо, хотя в душе он стремился именно к нему. Приходилось считаться с опасным движением в Париже против вето. Надеялись успокоить возбужденные умы с помощью приостанавливающего вето, изображая его как победу сторонников народного суверенитета. Особенно встревожила Робеспьера позиция близкого к нему Петиона, который считал, что опасность приостанавливающего вето в случае конфликта между королем и Собранием можно преодолеть путем обращения к народу, к избирателям. С трибуны Петион говорил, что решение спора народом будет не только «простым и легким делом», но и поможет политическому просвещению народа. Идея референдума казалась ему смелым, очень демократическим выходом, хотя на деле это было лишь маскировкой согласия предоставить королю право вето, хотя и приостанавливающего. Предложение обрекало революцию на страшный риск.
Практически только Робеспьер понимал это. Поскольку не только правые, но также триумвират, а теперь и левые в лице Петиона сошлись на общей идее, Робеспьер заранее явно изолирован. С тем большей энергией и напряжением он готовит свою первую большую, фактически программную речь и 11 сентября записывается в очередь выступающих. Но в списке уже около сотни ораторов, и Собрание решает прекратить прения и приступить к голосованию. 679 голосов подано за приостанавливающее вето, 325 — против. Максимилиан, однако, не впадает в отчаяние. Дело настолько серьезно, что он любой ценой должен выполнить свой долг. За свой счет он публикует речь отдельной брошюрой. Трудно сказать, какое это имело практическое значение; в то время различные брошюры появлялись ежедневно в огромном количестве. Во всяком случае, она оказалась ценнейшим документом политической эволюции Робеспьера и уже по одной этой причине вошла в историю.
Сам Робеспьер придавал особое значение выступлению о вето. Об этом свидетельствует не только то, что он специально опубликовал его, но главным образом и содержание речи, похожее на некое исповедание веры. В ней также сильно сказывается методический, вернее догматический склад ума автора, который не ограничивает себя конкретной темой королевского вето и разоблачением основных аргументов в его пользу. Он считает нужным связать эту тему с главными исходными принципами своего мировоззрения, с его сильными и, увы, слабыми сторонами. Экономическое, социальное содержание революции уже понимали многие. Вспомним хотя бы Антуана Варнава. Максимилиану это совершенно чуждо. Он вообще не склонен искать объяснения каких-либо событий в материальной области. Он живет в мире идей, принципов, духа, права, морали. Ключ к пониманию действительности для него «вечные законы справедливости и разума». Он не хочет видеть исторически необходимой сущности самой революции. Она для него «столь же чудесная, сколь неожиданная». Ведь он же религиозен, правда не в смысле принадлежности к церкви, к вере в сверхъестественную волю христианского богочеловека, но в провидение, в безличную первопричину мира, которая и предопределяет судьбу народов и отдельных людей. Поэтому революция — плод неожиданного чуда.
Робеспьер начинает прямо с изложения главного постулата политической философии Руссо. Подобно тому, как человек по своей естественной природе обладает правом распоряжаться собой, нация также выражает общую волю, которая не может быть ограничена никем и ничем. Вето — любое, абсолютное или приостанавливающее — является отрицанием общей воли, суверенитета нации, реваншем абсолютизма и торжеством принципа, что «нация есть ничто». Робеспьер приходит к выводу: вето «политическое и моральное чудовище», упразднение нового порядка, провозглашенного Декларацией прав, фактическая отмена революции. Он также разоблачает софизмы роялистов в защиту права вето, вроде того, что будто бы Собрание может заблуждаться, а король якобы нет. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Он опровергнет без труда и ссылки на опыт Англии. Робеспьер формулирует «первейшие принципы государственного права», вытекающие из идеи народного суверенитета.
Он дает свое понимание монархии, основанной на этой идее, по которой монарх лишь носитель исполнительной власти, «уполномоченный народа», подотчетный ему, а следовательно, законодательному собранию. Но основное полемическое острие речи Робеспьера направлено не против правых, а против наиболее близких к нему левых, в особенности против Петиона. Этот несомненный патриот выдвинул внешне весьма демократическую мысль о том, что если король откажется одобрить какой-либо закон, принятый Собранием, то спор может быть решен путем обращения непосредственно к народу. Петион считал это «простым и легким делом», когда «нация без труда выскажет свое мнение». Робеспьер решительно отвергает эту иллюзию, показывая, что проведение такого референдума в условиях революции будет не только невероятно сложным делом, но и крайне опасным для революции, крайне выгодным для осуществления контрреволюционных замыслов аристократов.
Мнимая смелость Петиона была лишь оправданием согласия предоставить королю приостанавливающее вето. Спор Робеспьера и Петиона явился первым историческим проявлением конфликта внутри революционной буржуазии, который приведет к ее расколу на жирондистов и монтаньяров. Петион, один из будущих вождей жирондистов, хотел закончить революцию сделкой с монархией за счет народа. Робеспьер стремился к твердой и концентрированной народной власти. Если бы восторжествовала линия Робеспьера, то удалось бы избежать многих дальнейших трагических этапов революции. Но тогда это было просто невозможно, ибо революционную позицию Робеспьера не поддерживал почти никто в Собрании.
Столкнулись также и два противоположных тактических направления: оппортунизм, мнимая гибкость, а фактически беспринципность Петиона и принципиальность Робеспьера. Он считал, что «не следует идти на компромисс за счет свободы, справедливости, разума и что непоколебимое мужество, нерушимая верность великим принципам — единственные ресурсы, соответствующие нынешнему положению защитников народа». Так, в самом начале революции, Робеспьер формулирует то, что станет смыслом, духом политики монтаньяров, родившимся как протест против попытки ограничить, задержать революцию.
Практических непосредственных результатов непроизнесенная речь Робеспьера не имела, естественно. Она приобрела свое значение только в свете последующей истории монтаньяров.
Приостанавливающее вето Собрание одобрило, а это вдохновило короля и особенно его окружение на новый контрреволюционный заговор. В Версаль прибывают верные королю войска, затем на банкете 1 октября происходит вызывающая роялистская демонстрация. Все подтверждает слухи о том, что 30-тысячная армия маркиза Буйе, стоявшая в Меце, готовится к походу на Париж, чтобы восстановить «порядок», Мария-Антуанетта вдохновляет заговор, она побуждает вялого, ленивого Людовика XVI действовать.
5 октября в Учредительном собрании зачитывают ответ короля по поводу Декларации прав человека и гражданина. Король отказывается утверждать этот документ, который призван стать основой будущей конституции. Левые возмущены. Робеспьер решительно берет слово и разоблачает попытки замаскировать отказ двусмысленными оговорками, раскрывает его опасное значение. «Ответ короля, — говорит Робеспьер, — сводит на нет не только всю конституцию, но и право нации иметь таковую…, он ставит свою волю выше права нации». Робеспьер снова напоминает о принципах суверенитета народа и добавляет: «Вас уверяют, что не все статьи конституции достигли совершенства; не высказывают своего мнения о Декларации прав; разве это дело исполнительной власти — критиковать власть учредительную, которая является ее источником? Нет такой власти на земле, которая имела бы право разъяснять принципы нации, ставить себя над нацией и критиковать ее волеизъявления. Вот почему я рассматриваю ответ короля как противоречащий принципам и правам нации, как несовместимый с конституцией». И далее Робеспьер призывает «сокрушить препятствие», возникшее на пути осуществления суверенитета нации. Уж не призывает ли он таким образом сокрушить короля, ликвидировать монархию? Нет, Робеспьер еще очень далеко от такой революционной позиции. Он предлагает лишь определить форму, в которой король должен давать свою санкцию законодательных актов Собрания. Другие депутаты предлагают более решительные меры для того, чтобы принудить короля признать Декларацию, например, декретировать отказ нации от уплаты налогов. В Собрании поднимают вопрос о концентрации войск, об угрозах во время банкета лейб-гвардейцев 1 октября, о роли Марии-Антуанетты. Мирабо, который стремится прежде всего сохранить монархию, пытается умерить негодование левых. В конце концов решают направить делегацию к королю, «дабы умолять Его Величество соблаговолить безоговорочно принять Декларацию прав». В этом решении твердое требование еще сочетается с раболепной формой Старого порядка. И это не сулит надежды на успех, ибо Собранию явно недостает революционной смелости…
Но именно в этот момент в зал Собрания является сам народ Парижа. Происходит новый взлет революции. Снова в события вмешиваются, как и 14 июля, действительно революционные силы. Версаль, королевский дворец, зал заседаний Собрания — все окружено многотысячной толпой, пришедшей из Парижа и властно диктующей свою волю. Новое вторжение народа, фактически новое восстание вдохновлялось будущими монтаньярами, теми из них, которые были уже прямо связаны с народом. Жорес напишет в своей истории революции: «В то время как голос Робеспьера в Национальном собрании был наполовину придавлен, голос Дантона гремел во всю мощь в округе Кордельеров…»
Теперь надо познакомиться с другим крупнейшим вождем монтаньяров, с Жоржем Дантоном.
Глава III ДАНТОН
По своим человеческим качествам Дантон — полная противоположность Робеспьеру. Но они действуют вместе во главе монтаньяров в решающих битвах революции. Затем оба погибают как смертельные враги… До революции общее у них — только профессия адвоката и склонность к передовым идеям своего времени. Но здесь же и различия. Робеспьер поклонник сентиментально-утопических сочинений Руссо. Дантон отдает предпочтение трезвому материализму Дидро. Первый проявит догматизм и фанатизм, второй — гибкий прагматизм и цинизм. Но, пожалуй, их главное отличие в отношении к жизни, пессимистическое у одного и оптимистическое у другого. Робеспьер всего себя без остатка, до конца посвящает честолюбивым стремлениям, а Дантон, наряду с политическими амбициями, отдает дань радостям жизни, отвергая демонстративный пуританский аскетизм Робеспьера. Дантон, никогда не писавший заранее своих речей, почти не оставил следов своего пера, ибо легендарные речи, знаменитые фразы, ставшие афоризмами, он не писал, а произносил экспромтом, и они записаны другими. Каждому из них после короткой героической жизни выпала особая посмертная судьба. Во Франции нет даже памятника Робеспьеру, а бронзовый Дантон возвышается на одной из самых известных улиц Парижа… Впрочем, сопоставление реальных биографий великих монтаньяров лучше разъяснит сходство и различие, загадки и противоречия.
Жорж-Жак Дантон родился 26 октября 1759 года в городке Арси-сюр-Об, в Шампани. Его мать, урожденная Мадлен Камю, дочь строителя-подрядчика, до него родила четырех дочерей. Отец новорожденного был прокурором маленького городка, а дед — зажиточным крестьянином.
Пронзительный голос младенца не давал никаких оснований подозревать в нем будущего знаменитого оратора. Зато собравшиеся на церемонию крещения родственники давали ясное представление о его, так сказать, социальном происхождении. Здесь оказались два прокурора и судебный исполнитель из Труа, крупного города в 28 километрах от Арси, начальник почты, точнее начальник конторы по смене лошадей, мастер-столяр, несколько не слишком богатых, но крепких земледельцев, торговец. Наконец, два священника: аббат Николя Дантон, кюре из д'Альманша, и аббат Пьер Дантон, кюре из Сен-Лье. Все это были рослые, сильные, солидные люди, знавшие себе цену и умевшие заработать. Жены этих господ выглядели не аристократками, но вполне достойными, хотя и простоватыми дамами.
Обширный клан Дантонов неплохо представлял тех, кого, следуя социологическим нормам, можно назвать мелкой буржуазией. Люди, вышедшие из крестьян, они упорным трудом добывали себе место в кругу буржуазии. Словом, среди Дантонов Бальзак наверняка нашел бы прототипов своих героев, а Франция обретет в людях такого склада главную социальную опору надвигавшейся революции, которая для них-то больше всего и окажется выгодной. Конечно, Париж часто диктовал судьбу всей Франции, но в последнем счете провинция с маленькими городками, вроде родины Дантона, определяла ее. Не зря тот же Бальзак создал роман «Депутат из Арси», в котором описал довольно унылые, монотонные пейзажи Шампани, среди которых расположенный на берегу реки Арси был маленьким цветущим оазисом. Бедные почвы Шампани с ее меловыми невысокими холмами, поросшими сосной, не сулили богатых урожаев местным жителям, и только крупные денежные вложения позволяли производить здесь прославленное вино. Беднякам же приходилось тяжко, особенно тем, кто нес на себе ярмо феодальных платежей, обременявших сервов, то есть крепостных. Английский путешественник Артур Юнг — автор интересного описания предреволюционной Франции, именно здесь встретился с наиболее вопиющей нищетой. Он беседовал с крестьянкой, горько жаловавшейся ему на голод и нищету, на налоги и поборы и просившей милостыню. «По виду, — пишет Юнг, — ей можно было дать 60-70 лет. Было же ей всего 28». Только очень трудолюбивые, сильные и оборотистые, вроде Дантонов, выбивались из нищеты. Возможно, скудные природные условия этой области Франции, получившей обидное прозвище «вшивой Шампани», и толкали людей к предприимчивости, заставляя крестьян прибегать к подсобным промыслам, к домашнему труду на прядильных и ткацких станках или вязальных машинах. Здесь сама нужда объявляла приговор феодализму.
В детстве Дантон — поистине дитя природы, ибо материнский дом, хотя и считался городским, держался на подсобном хозяйстве, располагая скотным двором, где и резвился наш герой. Об этом времени он до конца дней сохранит не только воспоминания, но и наглядные свидетельства на собственной физиономии. Аппетит он пристрастился удовлетворять прямо на месте, на пастбище, высасывая молоко из вымени коров. Однажды возмущенный бык наказал наглого мальчишку, и его губы навсегда сохранят шрамы от рога. Мальчик не простил обиду и как-то попытался отомстить грубому животному. Коррида кончилась для тореадора проломленным носом. Сохранит он на лице и следы сражений со свиньями. Протекавшая у самого дома река Об стала притягивать его, и он самостоятельно научился хорошо плавать, что тогда случалось очень редко. Новое увлечение кончилось воспалением легких, а потом и оспа не прошла мимо него, дополнительно украсив его лицо своими следами.
Жоржу было три года, когда семья осиротела. Умер отец, которому исполнилось лишь сорок лет, оставив четырех девочек, мальчика и беременную жену. Вдова разрешилась мертвым ребенком. Только помощь ее брата столяра Камю и братьев покойного мужа позволила ей кое-как наладить хозяйство. Дети, особенно неугомонный Жорж, доставляли ей много хлопот. Отданные под надзор учительницы, девочки радовали послушанием, а мальчик вызывал одни огорчения отлыниванием от уроков.
Обремененная заботами вдова поэтому и приняла предложение Жана Рекордена и второй раз вышла замуж. Скромный и добрый человек заботился о падчерицах и пасынке. Но в делах ему не везло. Этот негоциант, как он себя называл, скупал по деревням пряжу и перепродавал хозяевам ткацких мануфактур. На свою беду он затем попытался завести собственную хлопкопрядильню и скоро оказался перед угрозой разорения. Дети росли, Жоржу было уже десять лет, и отчим записал его в «высшую» школу Арси. Снова неудача. Мальчишка не любил ни географии, ни истории, ни арифметики, проявив способности только в латыни. Вот тогда родственники из служителей церкви и посоветовали направить его по этому же пути.
В октябре 1779 года Жоржа лишают свободной жизни на лоне природы и высылают в Труа для учебы в Малой семинарии — пансионате, содержавшемся монахами-лазаристами. Каждое утро они отводят своих питомцев в коллеж отцов-ораторианцев. Жорж не только легко усваивает латынь, но еще и успешно овладевает итальянским и английским. Другие предметы программы интересовали его гораздо меньше, чем игра в карты, которой он тайно предавался с четырьмя товарищами. Они останутся его друзьями и сотрудниками, когда Дантона осенит слава и власть. Жюль Парэ станет министром, Эдм Круа — депутатом, Луи Беон — конституционным священником, Александр Сент-Альбен — литератором. Благодаря двум последним историки и узнают подробности детства и юности Дантона. Из их коротких, но ярких заметок станет известно, что он быстро возненавидел религиозную атмосферу Малой семинарии. Звон колокола, созывавшего к очередной молитве, приводил его в бешенство. «Он кончит звоном на моих похоронах» — возмущался Жорж, который за непокорность и отвращение к дисциплине получил прозвище Республиканец.
В конце концов он уговорил своего отчима перевести его в светский пансион, где он вздохнул свободнее, чем в духовной семинарии. Молодой, но закоренелый лентяй даже стал неожиданно одним из лучших учеников. Однако и здесь он доставляет хлопоты и огорчение своей строптивостью. Оказалось, что он не может терпеть несправедливости! Однажды в классе риторики преподаватель Беранже решил наказать друга Дантона Парэ, не выучившего урока. Если в младших классах просто секли, то в старших полагалось бить линейкой по пальцам. 16-летний Парэ восстал против наказания, не столько из-за боли, сколько из-за морального унижения. Неожиданно вскочил Дантон и разразился бурной речью против несправедливости телесных наказаний вообще: не только в школе, но и в армии или в суде. Громовая речь уже предвещала что-то грозное в будущности оратора. Во всяком случае, ректор коллежа запретил Беранже бить ученика, это принесло Жоржу почетную репутацию среди товарищей. Он не упустит использовать ее с выгодой для себя, чтобы осуществить необычную затею. В июне 1775 года предстояла коронация Людовика XVI в кафедральном соборе Реймса. Это в 28 лье (примерно 112 километров) от Труа. Проезд в почтовой карете стоит 13 су за каждое лье, за всю дорогу 18 ливров. И Дантон проводит сбор этой суммы среди своих товарищей. Дело в том, что им овладело сильнейшее искушение увидеть нового короля и торжественную церемонию. Ему удалось добраться до Реймса, и хотя без пригласительного билета в собор его не пустили, все же благодаря своему уже достаточно высокому росту он из толпы близко видел молодого короля и его ослепительную королеву…
Юношеская независимость, конечно, вызывает восторг товарищей, его красноречивые рассказы о коронации они слушают с завистью и восхищением. Даже преподаватели не решились наказать Жоржа за своеволие. Ведь ученикам как раз задано написать сочинение по поводу коронации…
И вот учеба в Труа позади. Чем же теперь займется юный Дантон? Поскольку здесь три его родственника служат по судейской части, он хочет изучить их ремесло, одновременно помогая им. Но мелкие поручения по мелким делам быстро нагоняют на него скуку. Да и город ему смертельно надоел. Конечно, это не крошечный Арси, здесь 25 тысяч жителей, древний дворец, несколько текстильных мануфактур, кварталы бедноты, где теснота, зловоние, пьянство, нищета и горе. Он мечтает о Париже — таинственном, неизвестном и прекрасном. Скоро ему 21 год, а это значит, что Жорж сможет сам решить свою судьбу.
По случаю совершеннолетия ему предлагают получить наследство от отца: долю во владении домом и землей, а также несколько тысяч ливров. Он вправе распорядиться ими в интересах своего будущего. Однако «Филатерп Рекорден» — злосчастная фирма его отчима — на грани банкротства. Под угрозой имущество матери и сестер. Дантон великодушен и щедр, хотя и беден. И он отдает свои последние деньги отчиму и матери. Зачем ему эти несколько тысяч, которые выручат других? Впереди у него Париж, а там его ждет успех, слава, богатство. Дантон твердо верит в себя, в свою счастливую звезду. Он объезжает всех многочисленных родственников, прощаясь с ними так, будто едет в Америку. Наконец объезд закончен, долг выполнен. Жорж нежно прощается с матерью и почти с пустым кошельком отправляется в неизвестность. Впереди путь в 40 лье (160 километров), отделяющих Арси от столицы.
Все происходит так, как описывается во множестве французских романов прошлого века: молодой человек из провинции, у которого много честолюбивых стремлений и ни гроша денег, приезжает в Париж, останавливается на постоялом дворе, и начинается очередная история «завоевания» Парижа…
В данном случае все так и начиналось в действительности. Дантону повезло с самого начала: кучер дилижанса оказался другом семьи и доставил его в столицу бесплатно. Это уже большая удача, поскольку денег у Дантона фактически нет. На дорогу из Арси, на которую ныне уходит два часа, тяжелому экипажу потребовался целиком весь день. Но молодой человек огромного роста и могучего телосложения не скучает. Он с любопытством взирает на сменяющиеся пейзажи и мечтает… Но вот и Париж, почтовый двор. С тощим мешком в руке Дантон разыскивает маленькую гостиницу «Черный конь». Ее хозяин — уроженец Арси, и он принимает земляков радушно, порой даже не берет ничего за ночлег. Еще более добр он на советы и наставления провинциалам, рискующим без опыта затеряться в огромном Вавилоне…
На другой день Дантон отправляется в контору г-на Вино, видного лица в многочисленном мире парижских судейских. Вино только взглянул на рекомендательное письмо, которое дал Дантону его родственник, прокурор из Труа. Он поинтересовался, что может делать молодой человек, и предложил самую черную работу по переписыванию бумаг. На это последовало заявление, сделанное с апломбом, который всегда будет особенностью Дантона: «Я приехал сюда не для того, чтобы стать писарем!» Ответ понравился Вино пылкой непосредственностью и смелостью, он без дальнейших расспросов взял Дантона к себе на службу. По тогдашнему обычаю, новый судебный клерк поселился в доме хозяина. Его работа проходит в основном во Дворце юстиции. Вместе с расположенным рядом собором Нотр-Дам этот дворец — одно из самых древних и знаменитых зданий Парижа. Рядом и тюрьма Консьержери. Здесь, на острове Сите, в древнем сердце столицы, начнется (и закончится!) карьера Дантона. Во Дворце правосудия находилось множество судебных учреждений королевства. Система их невероятно сложна и запутанна даже по сравнению с другими запутанными делами абсолютистской Франции.
Во Дворце правосудия с утра до ночи суетились множество судейских чиновников, адвокатов, поверенных, клерков и других служителей юстиции, то есть справедливости. Но ее-то обнаружить во Дворце оказалось труднее всего. Дантону предстояло изучить этот мир сутяжничества, разобраться в громоздком и сложном юридическом и административном механизме.
В больших и малых залах Дворца идут судебные заседания, и Дантон слышит речи звезд французской адвокатуры. Луи-Себастьян Мерсье, самый плодовитый литератор тех времен, именно тогда начал писать свои знаменитые «Картины Парижа». Вот как он описывает место, где Дантон проводит теперь время: «Вы входите в большую залу суда. Какой шум! Какой хаос! Громогласными возгласами адвокат заменяет доводы разума, а многословием — глубину мысли. Его считают хорошим оратором только потому, что у него могучая грудь. Полюбуйтесь на храбрость судей, проводящих полжизни на этой шумной арене!.. Мудрый человек не может уйти отсюда, не проникнувшись отвращением даже к самому справедливому судебному процессу». Но зато здесь же, как подчеркивает Мерсье, «крючкотворство дает кусок золота».
Если бы Дантон был ординарным человеком, то такой мир мог бы привлечь и поглотить его, тем более что он вовсе не чужд тяги к золоту. Однако он прежде всего человек большого природного ума и широких духовных интересов. Он, как и многие его современники, тоже сын века Просвещения. Еще в Труа, овладев латынью, он зачитывался античными классиками. Плутарх, Тацит, Тит Ливий, Цицерон — властители его дум, и он увлекается их мыслями и красноречием. Работа у Вино в Париже оставляет ему досуг, который он заполняет чтением. Вольтер, Монтескье, Руссо и другие французские просветители не оставляют его равнодушным. Особенно близок ему по духу Дени Дидро, кстати, тоже уроженец Шампани. Дантон читает «Энциклопедию», созданную усилиями Дидро и д'Аламбера, зачитывается произведениями самого Дидро. Многие его идеи, понимание справедливости как общественного интереса, его атеизм, концепция демократии и народного суверенитета близки Дантону, так же как и его нравственные идеалы. Дидро считал страсти людей, руководимые разумом, главным мотивом человеческого поведения и находил, что в них нет ничего порочного, даже в страсти к удовольствию, ибо это отвечает человеческой природе. Для Дидро стремление человека к счастью естественно и оправданно. Дидро разоблачал ханжеские разговоры о добродетели вообще и с уничтожающим сарказмом показывал, что назойливая проповедь какой-то абстрактной добродетели часто скрывает внутреннюю порочность. Некоторые биографы Дантона уверяют, что его нравственный облик был копией знаменитого «Племянника Рамо», написанного Дидро еще в 1762 году. Действительно, это «неподражаемое», по словам Маркса, произведение напоминает о трезвой и в высшей степени человечной морали Дантона. Однако Дантон не мог «подражать» Рамо с его крайним цинизмом просто потому, что «Племянник Рамо» был впервые опубликован много лет спустя после смерти Дантона.
Нравственный облик Дантона формировался социальной средой, воспитанием, характером, темпераментом. Поистине, ничто человеческое ему не было чуждо. Просто все у него проявляется сильнее, ярче, энергичнее, чем у других. На некоторых это производило впечатление какой-то театральности, хотя ничего нарочито наигранного в нем не было. Он задыхается в атмосфере Дворца правосудия и юридических контор. Природа влечет его. Он часто отправляется на прогулки в предместья, увлекается фехтованием. Страсть к воде не оставляет его, и он постоянно купается в Сене, собирая толпу зевак, привлеченных редким тогда зрелищем. По свидетельству одного из его друзей, вылезая как-то раз из воды недалеко от Бастилии, он произнес с гневом: «Эта крепость возмущает меня! Когда же мы ее уничтожим? В тот день я нанес бы по ней хороший удар киркой!»
Взрыв негодования при виде вызывающего символа королевского всевластия над бесправным народом легко понять. В прекрасном Париже, как он рисовался раньше в мечтах Дантона, прекрасно жили аристократы и разбогатевшие буржуа. Париж менялся на глазах, являя картину поражающих контрастов. Повсюду сооружались роскошные особняки. По узким улицам без тротуаров проносились, обдавая грязью прохожих, сверкающие позолотой, лаком и стеклом кареты знати. В столице бедность сотен тысяч жителей предместий выглядела особенно контрастно. По городу бродили двадцать тысяч нищих, живших только подаянием. Дантон видел и слышал все. А на устах — распри короля с дворянством из-за попыток Тюрго и его преемников заставить привилегированных платить налоги, ибо двору не хватало денег на фантастическую роскошь. Умы, пробужденные идеями просветителей, думали и волновались. Идеи свободы и равенства проникали в народ, не говоря уже об ученых людях из третьего сословия, в кругу которых вращался Дантон.
Его собственная судьба пока не баловала успехами. Мечты оставались мечтами. Уже несколько лет он в Париже, но нет никаких признаков славы или богатства. Вместо этого — убогая, хлопотливая, малодоходная жизнь мелкого судейского клерка. И никаких шансов на продвижение. У него множество разнообразных знаний, приобретенных чтением, но нет официального диплома. А без степени лиценциата нельзя даже записаться в сословие адвокатов. Хозяин Дантона, прокурор Вино давал ему кров и пищу. Он полюбил этого жизнерадостного гиганта и был удручен, когда тот заявил ему, что хочет уйти от него, чтобы добиваться диплома. Но Вино понимал положение молодого человека и сам посоветовал ему попробовать получить университетский диплом в Реймсе, где экзаменаторы покладистее, чем в Париже. Будущий политический противник Дантона Бриссо в своих «Мемуарах» напишет: «Факультет университета в Реймсе был легендарным. Прежде всего тем, что там приобрели свои ученые степени Дантон, Ролан, Лонтенас». И он процитирует письмо Ролана, другого крупного политического соперника Дантона: «Прибыв в Реймс 30 июля 1770 года, я был включен в список для прохождения экзамена на 31-е и узнал одновременно об объеме требуемых знаний, над изучением которых просидел целый день и ночь. 3 августа я выдержал экзамен по гражданскому и каноническому праву и получил степень бакалавра. В тот же день узнал новое задание. 5 августа прошел защиту и сразу достиг степени лиценциата». Итак, семь дней пребывания на факультете потребовалось будущему министру жирондистов, чтобы получить диплом. Дантон был несравненно способнее Ролана и, применяя такую же методику, легко достиг цели.
В октябре 1784 года он уже смог поставить перед своей подписью «лиценциат прав». Но он изменяет и саму подпись, выделив апострофом первую букву, самозванно приобретая тем самым дворянскую приставку: «д'Антон»! Не только тщеславие побудило этого «республиканца» пойти на примитивную уловку. Его толкали на это и чисто практические, деловые соображения: принадлежность к благородному сословию многим еще внушала доверие и уважение. Он всего лишь адвокат парламента. Такое звание без жалованья давалось каждому обладателю диплома и само по себе ничего не значило. Несколько ранее Дантона такое же звание получил Робеспьер и, мудро рассудив, что с этим сокровищем в Париже ничего не добьешься, уехал делать карьеру в Аррас. Но не таков Дантон, осторожности и предусмотрительности у него куда меньше, зато смелости, оптимизма и веры в себя — хоть отбавляй!
Дантон начинает частную адвокатскую практику в столице, где и без него более шестисот адвокатов. Успех определяет здесь имя, известность, связи, наконец, своя солидная контора. Ничего этого у него нет. Но судебные дела ему все же поручали. Точных сведений о них историки не обнаружили, ибо архив Дворца правосудия сгорел дотла во время одного из многочисленных революционных событий Франции XIX века. Но тот же Сент-Альбен в мемуарах рассказывает, как мэтр д'Антон защищал одного пастуха, который стерег скот своего сеньора, а затем, несправедливо обиженный им, подал в суд на хозяина. Чем же кончилось дело? Суд, состоявший, естественно, из привилегированных, благодаря великолепной речи нового адвоката решил дело в пользу человека низкого происхождения. Для того времени — триумф, и мелкое само по себе дело, как вспышкой, в какой-то мере предвещает будущее великого демократа. О других его судебных делах не известно ничего, если не считать презрительного замечания в «Мемуарах» мадам Ролан, что Дантон тогда был «ничтожным адвокатом, более обремененным долгами, чем судебными делами». Можно ли считать это мнение справедливым, учитывая, что знаменитая вдохновительница жирондистов писала это в тюрьме, куда она попала не без помощи Дантона, которого она ненавидела и даже внешность его считала «отталкивающей и отвратительной»? Мадам Ролан, надо отдать ей должное, была недалека от истины. Начинающий адвокат действительно не вылезал из долгов и, конечно, не числился среди тогдашних звезд юридического мира Парижа.
Правда, теперь он снимает скромную, но свою квартиру на улице Тиксандери, рядом с Ратушей и Гревской площадью. Улица эта давно исчезла, по ней прошла нынешняя улица Риволи. Что касается Ратуши, то существующее ныне здание унаследовало прежнее место, но стало в четыре раза больше старого, в минуте ходьбы от которого жил Дантон. Площадь стала в три раза больше и давно уже называется площадью Ратуши. До Дворца правосудия, впрочем, тоже было недалеко. Однако Дантон подбирал квартиру не по соображениям близости к месту своей основной деятельности. Дело в том, что на том же этаже жила его землячка мадемуазель Франсуаза Дюгутуар. Одинокая барышня унаследовала состояние родителей и жила половину года в Труа. Там-то с ней и познакомился Дантон, поскольку она советовалась с его дядей юристом по поводу каких-то имущественных дел. В Париже, где мадемуазель меньше опасалась за свою репутацию, она давно уже принимала Дантона, и не только для юридических консультаций. В кругу друзей Дантон, с присущей ему полной откровенностью, как-то не постесняется заявить: «Мне необходима женщина!» Во всяком случае, в марте 1783 года в церкви Сен-Жан-ан-брэв мадемуазель крестила рожденного ею младенца мужского пола, у которого, как записал кюре, «отец неизвестен». Это любопытное обстоятельство, как мы увидим дальше, окажется связанным с личными делами Дантона.
Он легко приобретал друзей благодаря своему добродушию, доверчивости, жизнерадостности и откровенности. Правда, этот дар привлекать к себе, становиться центром любой компании, вызывает недоброжелательность, зависть, злобу у людей очень самолюбивых, но неспособных быть столь же обаятельными. Теперь, когда он завел свой, хотя и очень скромный дом, у него часто собираются друзья. С ним остаются связанными многие знакомые с детства, его бывшие школьные товарищи, которые один за другим перебираются в Париж вслед за Дантоном. И вот у него Луи Беон, Куртуа, Сент-Альбен, Жюль Парэ. Беон теперь одет в сутану. Но среди них появляется еще один священник. А это тот самый Беранже, их учитель, который когда-то хотел избить Парэ. Теперь он тоже входит в их дружеский кружок. Оказывается, этот школьный палач придерживается демократических убеждений и даже готов терпеть богохульные речи атеиста и циника Дантона. Но здесь также и новые друзья, быстро приобретенные им уже в Париже, во Дворце правосудия. Душа компании, естественно, сам хозяин, готовый обсуждать что угодно из философии, права, экономики и, конечно, политики. Нередко эти разглагольствования затягивались далеко за полночь. Здесь бывала только одна женщина, соседка Дантона Франсуаза Дюгутуар. Ведь она тоже из Труа, как и многие здесь. Может быть, она уединялась с ним, когда все, наконец, расходились? Нет, свидания такого рода происходили раньше, когда Дантон служил у Вино. Свободную любовь сменили простые дружеские отношения. Случайно оказалось так, что Дантон содействовал ее замужеству. Однажды он познакомил ее с адвокатом Советов короля Гюе де Пези. Зародилась взаимная склонность, они станут любовниками, а позже — мужем и женой. Возникает довольно странная коллизия, которая приведет и к устройству личной жизни самого Дантона. Начинается любопытная история: она многое обнаружит в его облике и характере…
В Париже одно место стало притягивать Дантона как магнит. В десяти минутах от Дворца правосудия находилось кафе «Парнас». Название звучное и романтичное. В Греции так называлась знаменитая гора, которая в древности служила местом поклонения богу радости и вина Дионису, затем — покровителю искусств Аполлону, обитавшему на горе с музами. Здесь был также Дельфийский оракул, открывавший тайны будущего. Божественное вдохновение на Парнасе осеняло поэтов. Основные клиенты кафе — люди судейские, трезвомыслящие, посещавшие его в основном из-за близости к месту их постоянного пребывания, видимо, сочли название заведения слишком претенциозным и называли его просто кафе «д'Эколь» (кафе Школы), поскольку оно находилось на набережной Школы (сейчас набережная Лувра). Из окон кафе виднелась Сена, Новый мост (самый старый и знаменитый из мостов Парижа), конная статуя Генриха IV, установленная на нем, башни Дворца правосудия.
В это кафе и зашел однажды вечером в 1784 году Жорж Дантон. Ему было тогда 25 лет, но из-за высокого роста и могучего телосложения он выглядел лет на 30-35. К тому же обезображенное шрамами крупное лицо тоже не молодило его. Одет он был прилично, но без всякого шика. Буржуазный синий длиннополый кафтан с двумя рядами пуговиц, жилет с вертикальными красными полосами, серые кюлоты, белые чулки, скромный галстук без кружев, парик на голове без пудры — вот его одежда, типичная для мелкого судейского клерка или начинающего адвоката. Он поздоровался с двумя знакомыми, и хозяин, Франсуа-Жером Шарпантье, сразу решил, что новичок из судейских. С тех пор он стал часто заходить в кафе, где вкусно и недорого кормили, где можно было встретить знакомых, провести деловую встречу, отдохнуть за стаканом вина или чашкой кофе. Постепенно он стал завсегдатаем уютного и удобного ресторанчика.
Вскоре он познакомился с хозяином и с хозяйкой, красивой, приветливой и элегантной мадам Шарпантье, которая вела кассу и рассчитывалась с клиентами. Как будто сошедшая с картины итальянского художника, она действительно была итальянкой, в девичестве Анжеликой Сольдини. Вот тут-то Дантону и пригодилось знание итальянского языка, чем он совершенно очаровал хозяйку. Она любит стихи, а Дантон со своей феноменальной памятью знает наизусть множество стихов Тассо, Ариосто, Данте… Он охотно рассказывает о себе, объясняет историю своих многочисленных шрамов, забавные перипетии своего детства. Его могучий голос вместе с талантом увлекательного рассказчика делают кафе, где всегда было так тихо, веселым местом. Посетители собираются вокруг него и с восхищением слушают неистощимого и веселого краснобая. «Из него выйдет оратор… или плохой актер», — предсказал однажды один из постоянных клиентов кафе «Парнас».
Послушать его разглагольствования приходили все члены семьи Шарпантье, включая и младшее поколение. Старший сын Виктор со своей женой, талантливой художницей (она сделает потом прекрасный портрет Дантона), младший Антуан-Франсуа, изучавший юриспруденцию, чтобы стать нотариусом. Потом появилась и дочь Антуанетта-Габриель, недавно вышедшая из монастырского пансиона. Здесь-то Дантон и был поражен в самое сердце. Высокая, полноватая, спокойная девушка двигалась и вообще вела себя с поразившей его грацией. Все клиенты любовались ею. На портрете Давида у нее круглое лицо, темные серьезные глаза, красивый рот, полные щеки. На голове скромный буржуазный чепчик. Дантон сразу почувствовал, что это его счастье, что дело слишком серьезно, чтобы пускаться в легкомысленное ухаживание. И он начал осторожную, неторопливую, но непоколебимо упорную осаду крепости… С тех пор, как Габриель, помогая матери руководить заведением, находилась в кафе «Парнас» постоянно, Дантон каждый день заходит в полдень, а затем вновь является вечером. Добродетельная, чистая девушка из буржуазной демократической среды, видимо, соответствовала его идеалу, его душе мелкого буржуа, озабоченного мечтой о создании прочной семьи. Не хотел ли он приобрести добродетельную, благопристойную, морально твердую подругу, чтобы подкрепить собственную беззаботность, граничащую с нравственным легкомыслием и цинизмом?
Габриель, конечно, скоро догадалась о замыслах громогласного ухажера. Вначале ей, как и многим другим, его лицо, словно вырубленное топором, к тому же обезображенное шрамами, казалось страшноватым. Но такое впечатление он производил, пока молчал. Стоило ему заговорить, и все преображалось. Ум, искрящийся в глазах, остроумная речь, модулирующий голос, ощущение искренности, внушаемое им, делали его почти прекрасным. Потребовалось не так уж много времени, чтобы Габриель ощутила зарождение ответного и столь же сильного чувства. Друг детства Дантона Сент-Альбен, который близко наблюдал всю эту любовную историю, напишет в своих мемуарах: «Она восхищалась его острым умом, его очень пылкой душой, его сильным и грозным голосом, который казался ей сладостным».
Итак, Дантон мог быть счастлив! Увы, все оказалось не столь простым. В действительности он не мог и мечтать о женитьбе, ибо у него нет ни положения, ни должности, ни денег. Последнее — самое главное. Наступало новое время, когда деньги, капитал не только определяли прогресс, расцвет промышленности, торговли, всех общественных институтов, они царили и в самых простых человеческих отношениях. Буржуазия революционизировала жизнь страны, вела ее вперед, пробуждая небывалую активность, предприимчивость и смелость. Но она безжалостно срывала сентиментальные покровы со всех самых романтических человеческих связей, растаптывала поэтические грезы любви, заменяя их жестоким расчетом денежных интересов. Папаша Шарпантье был неумолим: «Найдите хорошо оплачиваемую должность. Я отдам вам дочь только при этом условии».
Условия простые и вполне оправданные заботой отца о будущем любимой дочери. А какое будущее ждет ее с мелким адвокатом, который мечется в поисках клиентов, притом таких, как упоминавшийся пастух, который при всем желании не мог отблагодарить солидным гонораром? Дантон с трудом сводит концы с концами и не в состоянии прилично обеспечить собственное существование.
В это время он даже не мог позволить себе обед в кафе «Парнас» и питался в дешевой харчевне под характерной вывеской «Модести» — скромность. Денег хватало только на вечернюю чашку кофе в любимом заведении на набережной д'Эколь, где он мог увидеть Габриель. Это вознаграждало и утешало его, но также и огорчало, ибо напоминало о безвыходной ситуации.
Характер Дантона, однако, не таков, чтобы смириться. Ему нужны связи, и он стучится во все двери. Конечно, если его туда пускают. Так открылась одна весьма таинственная дверь.
Вдохновляясь христианской моралью, древними ритуалами и филантропическими целями, действовала импортированная из Англии корпорация франкмасонов. Дантону показали путь в дом на улице Ро-де-Фер, где находилась ложа «Девяти сестер». Никто толком не знает, чему же действительно служит этот секретный союз. Известно только, что в него входят влиятельные люди и самые уважаемые деятели. Среди «мастеров» ложи знаменитые ученые: Лаланд, Ласепед, Кондорсе, Байи, Гильотен. Известные художники Юбер Робер, Жозеф Берне, Грез (написавший интересный портрет Дантона, позже, конечно). Здесь скульптор Гудон, признанные писатели: Шадерло де Ланкло, Флориан, Парни. Кого здесь только нет: крупный адвокат, которому выпадет судьба защищать Людовика XVI, Раймон де Сез, советник парламента Дюваль д'Эпремениль, имя которого скоро будет на устах всей Франции. Здесь и самые знатные: принц монсеньер Роган, герцог де ла Рошфуко, маркиз де Бомон. Великим магистром, высшим главой ордена был его светлость герцог Орлеанский, кузен Людовика XVI, первый принц крови и один из главных противников короля.
И вот Дантону сказали, что «талантом и званием» он достоин быть «подмастерьем», «братом» таких людей, он может стать масоном, хотя и самого низшего, первого градуса. С чувством глубокой серьезности Дантон проходит столь таинственную, сколь и внешне бессмысленно-шутовскую церемонию приобщения к «свету». Его кладут на пол в мрачном храме, накрывают покрывалом, слегка покалывают шпагами. Преподобный «мастер» под стук молотка произносит ритуальные слова. Его одаряют белым фартуком, вручают угольник и позолоченный циркуль. Наконец братья поднимают шпаги и, скрестив их, устраивают «стальной свод», под которым проходит новообращенный Дантон. И все это составляет страшную тайну, которую никому сообщать нельзя. Видимо, Дантон не мог удержаться от соблазна и не рассказать Габриель о торжественной церемонии приобщения его к «свету»…
Сверхъестественного «озарения» Дантон не испытал, но кое-какие интересные знакомства все же приобрел. Таким же новичком в ложе «Девяти сестер» оказался молодой адвокат Камилл Демулен, который станет его лучшим другом. Здесь Петион де Вильнев, Бриссо, в будущем лидер жирондистов — противников Дантона. В ложе он познакомился с уже знаменитым Мирабо, Рабо-Сент-Этьеном, который станет видным оратором Генеральных Штатов, священник Жерль тоже будет играть там заметную роль. Дантон знакомится с аббатом Сийесом, автором знаменитой брошюры о третьем сословии. Потом будут говорить, что вся революция в зародыше уже находилась в ложе «Девяти сестер». В действительности в основном здесь очаг либерально-буржуазного умеренного направления. Дантон же пойдет значительно дальше. Впрочем, мог ли он предполагать, что с некоторыми из братьев-масонов он в ходе революции окажется связанным самыми неожиданными отношениями?
Пока же масонские связи ничего не давали ему для адвокатской карьеры, хотя в будущем они принесут неожиданный эффект. На улицу Ро-де-Фер приходил, переодевшись в скромное буржуазное платье, маленький мрачный генерал. На службе короля он уже получил 22 раны, но не приобрел известности, ибо выполнял секретные поручения Людовика XV на Корсике, в Пруссии, в Польше. Проезжая через Ганновер, он познакомился с немецким братом-масоном герцогом Брауншвейгским, против которого он в будущем поведет войска при Вальми. Генерал Дюмурье перейдет на сторону революции, ибо королевский произвол уже познакомил его с камерой в Бастилии. Он вышел из нее с ненавистью в сердце и с убеждением в необходимости борьбы за равенство всех перед богом, законом и налогами. Этот человек на 20 лет старше Дантона, но они находят общий язык.
Эти два столь разных человека находят третьего для своих бесед, тем более неожиданного, что тот не был масоном. Это Арман-Гастон Камю, тоже адвокат, как и Дантон, но занимающийся церковными делами. Впрочем, эту связь можно объяснить тем, что третий собеседник носил девичье имя мадам Рекорден, матери Дантона.
Сначала отдаленное родство, а затем общие демократические взгляды, видимо, сблизили их. Одно не нравилось Дантону в Камю — набожность, побуждавшая его проводить долгие часы перед распятием. Впрочем, он официальный адвокат французской церкви и ведет также дела нескольких немецких княжеств за Рейном. Дантон, Дюмурье и Камю рассуждают о надвигающихся на Францию событиях, совершенно не представляя, что в недалеком будущем судьба свяжет их с одной из самых таинственных загадок истории, а затем разведет и сделает врагами…
Приобщение к братству масонов хотя и позволило приобрести интересные знакомства, которые, возможно, сыграют роль в будущем, нисколько не приблизило Дантона к его главной жизненной цели. Мечта и страсть — Габриель — оставалась недоступной. Как выполнить обязательное условие папаши Шарпантье и жениться на ней? Нужны деньги, чтобы обрести должность. Деньги решали все, ибо мало-мальски значительная должность в королевстве достигалась не трудом и талантом, а деньгами. Старинный обычай продажи должности не позволял бедняку получить важный пост. Полковники покупали полки и продавали их. Так же делалось и в судебном мире. Продавались должности прокуроров, судей, советников парламентов, адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей. Даже палачи покупали свое «дело». Для юриста солидное положение начиналось с должности адвоката Советов короля. Название не должно вводить в заблуждение: адвокаты вовсе не давали советов лично королю. Просто они входили в узкую корпорацию, члены которой имели право вести дела в семи Советах короля, которые представляли собой судебные палаты, решавшие дела в одной из областей гражданского или уголовного права. Всего таких адвокатов было около 70. Их должности стоили довольно дорого, в зависимости от богатства и значения клиентуры.
Но как найти и приобрести эту должность? Искать долго не пришлось. Она оказалась буквально под носом у Дантона. Вспомним о его связях с Франсуазой Дюгутуар, которую затем Дантон познакомил с Гюе де Пэзи. Более того, Дантон даже уступил им свою квартиру на улице Тиксандери. Ее занял Пэзи, чтобы соединиться с Франсуазой, теперь его фактической женой. Сам Дантон поселился на улице Мовез-Пароль в районе Центрального рынка, очень близко от жилища семейства Шарпантье, к которому были устремлены все его помыслы. Так вот, Пэзи, оказавшийся именно адвокатом Советов короля, узнав о затруднительном положении Дантона, великодушно согласился продать свою должность. Здесь-то и начинается пресловутое «темное дело». Стоит ли заниматься этой запутанной финансовой комбинацией, поскольку нас интересует политическая биография Дантона? Не только стоит, но обязательно следует это сделать. Дело в том, что над Дантоном тяготеет историческое обвинение в продажности, которая якобы началась именно с этой темной истории.
Пэзи запросил за свою должность 78 тысяч ливров. Сумма немалая, тем более что купил он ее 13 лет назад всего за 30 тысяч. Следовательно, Пэзи зарабатывал на Дантоне 48 тысяч. Более того, даже 30 тысяч он в свое время не выплатил, а обязался выдавать предыдущему владельцу 1,5 тысячи ренты в год пожизненно. Тот вскоре умер, и теперь на невыплаченную сумму претендовали наследники. Дантон взял на себя и эту выплату.
Может быть, он просто не знал, что его так безбожно грабят? Знал великолепно. Но он считал необходимым узаконить положение мадемуазель Дюгутуар и ее сына, отец которого «неизвестен». И в самом деле, вскоре Пэзи женился на ней и усыновил мальчика, родившегося до того, как он познакомился с его матерью. Главное же состояло в том, что Дантон хотел как можно скорее жениться на Габриель. Любовь…
Но как практически Дантон мог выплатить сразу огромную сумму в 78 тысяч, если у него в кармане было только 5? Франсуаза Дюгутуар приходит ему на помощь и предлагает Дантону взаймы 36 тысяч. Жертва тем более легкая, что, уплаченные Пэзи, эти деньги быстро вернутся в ее кошелек.
Согласно контракту, подписанному 29 марта 1787 года, Дантон должен был выплатить наличными 56 тысяч, 10 тысяч после принятия в коллегию Советов короля, 12 тысяч через четыре года, в марте 1791 года. Но заем, предложенный ему Дюгутуар в 36 тысяч, был недостаточен. Надо еще 37 тысяч. Дантон занимает 15 тысяч у будущего тестя в счет приданого Габриель. Еще 10 тысяч он берет в долг у некоего Люлли сроком на пять лет под залог своей должности. Остается 12 тысяч, уплачиваемых через четыре года. Здесь ему помогли дяди и тети из Труа, которые своим имуществом гарантировали, что Дантон вернет деньги в срок.
Знал ли об этой сделке заботливый и опытный папаша Шарпантье? Прекрасно знал, ибо она оформлялась нотариусом Досфеном, клерком у которого служил его сын Антуан Шарпантье. Он оформлял все дела Дантона и к тому же должен был вскоре купить должность патрона. Финансовые обязательства Дантона он будет и контролировать. Знал об ужасном финансовом бремени, которое возложил на себя Дантон, не только папаша Шарпантье, но и его дочь. Габриель любила Дантона и хотела быть счастливой. Она сознавала, что ее будущий муж отдает в залог свое будущее. В конце концов, ей было 24 года, Дантону — 28. Все впереди, и она верила в энергию, силу и честность будущего мужа.
6 июня 1787 года Дантон встречает на почтовой станции мать и целую кучу родственников из Арси и Труа. 9 июня у нотариуса Досфена происходит оглашение и подписание свадебного контракта в присутствии многочисленных родственников с обеих сторон. Все предусмотрено тестем, который знает финансовое положение зятя. Поэтому невеста не отвечает за долги, сделанные женихом до брака, поэтому он ежегодно обязан впредь откладывать крупную сумму в счет наследства для будущих детей. Все предусмотрено, вплоть до карманных денег будущей супруги. 14 июня происходит венчание в церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа. Жених рядом со своей маленькой матерью выглядит гигантом. Габриель в белом платье с белой вуалью сияет счастьем. Затем в кафе д'Эколь, закрытом для посетителей, происходит великолепный свадебный обед в присутствии сотни гостей. Сердце Дантона наполнено радостью, хотя его карманы женитьба не только не наполнила, но опустошила на годы вперед. Это была счастливая пара и действительно счастливый брак.
Так в чем же смысл «темного дела», если не считать его лишь свидетельством умения Дантона бороться за достижение поставленной цели, не считаясь со средствами и потерями? Конечно, он мог бы возмутиться тем, как ловко использовали Пэзи и бывшая подруга затруднение Дантона. Но тогда он потерял бы самое главное, потерял то, что было для него смыслом жизни. Предположим, Дантон, не желая быть обманутым, гордо отказался бы от сомнительной сделки. Конечно, он мог бы, не ввязываясь в нее, подождать. Но тогда он бы рисковал потерять Габриель и, ради вздорной щепетильности, упустил бы свой план добиться личного счастья! Именно так он и будет поступать всегда, но уже в борьбе за благо революции, Не эта ли способность и сделает его «величайшим мастером революционной тактики»?
Медовый месяц проходит в квартире Дантона на улице Мовез-Пароль вблизи рынка, и ночной шум от этого торгового муравейника не мешает молодым супругам. А ровно через месяц после свадьбы Дантону предстоит серьезное испытание. Назначена официальная церемония принятия его в коллегию адвокатов Советов короля. Новичок должен произнести речь на латинском языке. Это не пугает Дантона, ибо с латынью он давно хорошо знаком. Хуже другое: тему выступления объявят только в момент предоставления слова. Есть основания опасаться подвоха: многие из будущих собратьев Дантона недолюбливают его за вызывающий цветущий вид, жизнерадостность, сильный голос. Если вступающий не получит большинства голосов, вся хитрая сделка с покупкой должности пойдет насмарку.
День испытания настает. В традиционной мантии и в квадратной шапочке мэтр д'Антон появляется в зале коллегии адвокатов Советов короля. Старшина коллегии говорит ему по-латыни: «Расскажите нам о моральном и политическом положении страны в связи с юстицией».
Это была западня! Как раз сейчас происходит «бунт привилегированных» против короля. Парижский парламент яростно сопротивляется и не хочет регистрировать эдикты короля о новых налогах, которые они должны платить. Все было неясно в этой двусмысленной борьбе, и весь народ она вводила в заблуждение. Неизвестно, на чьей стороне члены коллегии. Дантон, повернувшись к Сент-Альбену и Парэ, сопровождавшим его, бросил друзьям: «Они хотят заставить меня идти по острию бритвы!»
Однако он быстро подавил свое возмущение. Ему надо, конечно, понравиться своим коллегам, но он не может жертвовать репутацией искреннего человека. Он не унизится до угодливости, он выскажет свои взгляды и постарается сделать это не в вызывающей форме.
К сожалению, текст этой речи, в которой Дантон открыто, хотя по необходимости сдержанно, занял свою политическую позицию, полностью не сохранился. Остался лишь ее пересказ Сент-Альбеном, он характерен поразительной смелостью Дантона. Ведь он выступал перед аудиторией, которая явно была на стороне «своих», то есть парламента, привилегированных.
Дантон заявляет, что оправдать их нельзя. Дворянство и духовенство должны пойти на жертвы. Хотя бы ради собственных интересов. Они обязаны понять народ, который голодает и заслуживает поддержки. А в пресловутой дуэли между парламентом и королем Дантон видит всего лишь конфликт между двумя группами привилегированных. Они слепы и не понимают того, что надвигается, что является страшным. Распря между ними их внутреннее дело, от которого угнетенный народ не имеет никаких выгод, никакого выигрыша. Поэтому он уже давно протестует, и в конце концов угнетенные восстанут. Дантон заканчивает великим и вдохновенным пророчеством: «Горе тому, кто провоцирует революции, горе тем, кто их совершает!»
Конечно, Дантон не призывает к революции, ибо там, где он выступал, некого было к ней призывать. Но недалеко то время, когда перед ним будут слушатели из народа, и тогда он призовет к ней. Ясно, что если бы его слушали другие люди, он уже тогда сделал бы это. Но и сказанного более чем достаточно, чтобы потрясти аудиторию. Еще бы! Советы короля никогда еще не слышали такого открытого осуждения Старого порядка и его представителей. Молодые адвокаты выказывают знаки одобрения. Старые же хмурятся и, обнаруживая, что они уже подзабыли латынь, требуют от Дантона изложить речь в письменной форме. Они хотят спокойно изучить ее. Возникает дискуссия, в которой молодые разъясняют консерваторам неосновательность их подозрений, доказывают, что Дантон сказал громко то, что уже давно ясно даже многим аристократам. Дантон предлагает повторить слово в слово свою речь и готов сделать это немедленно. Такая уверенность в своей правоте производит впечатление, и в итоге спор завершается благоприятным решением о приеме Дантона в коллегию адвокатов Советов короля.
Дантон принимает поздравления. Теперь он обладатель солидного положения, своей адвокатской конторы. Настало как будто время пожинать плоды усилий. Однако ему потребовалось не так уже много времени, чтобы почувствовать иллюзорность надежд на быстрое обогащение. До сих пор не увенчались успехом изыскания многих историков с целью выяснить, сколько же судебных дел провел Дантон за время между 1787-м и 1791 годом, на протяжении которого он занимался, наряду со многим другим, своей адвокатурой. Наиболее вероятная цифра 22. Это не так уж много, вернее очень мало, даже если бы это были крупные процессы с участием богатых клиентов и с большими гонорарами. Но никаких громких процессов нет, хотя Дантон прилагает все усилия, чтобы расплатиться с долгами и создать приличный семейный очаг.
Естественно, Дантону приходится на время забыть свои политические взгляды ради приобретения солидных клиентов. Великий демократ и революционер начинает с процессов, в которых он защищает права некоторых знатных лиц. В связи с одним из них, которого обвинили в незаконном присвоении титула виконта, Дантон, как свидетельствуют его черновые записи, перечислял заслуги его предков, один из которых в сражении при Фонтенуа оказал огромную услугу «августейшему предку его величества». В другом деле, тоже по поводу титула, Дантон утверждает, что «дворянство — это самое драгоценное достояние».
Такие речи в устах трибуна, который в революционных клубах скоро начнет громить «тиранов», кажутся чудовищным лицемерием. Дантон идет на все ради приобретения хорошей клиентуры. Ради этого он и присвоил себе дворянскую приставку, подписываясь д'Антон! Но уже летом 1788 года он перестает облагораживать себя. Любопытно, что Робеспьер будет подчеркивать свое дворянское происхождение до середины 1790 года. Такое различие во времена, когда история начинает двигаться с головокружительной скоростью, знаменательно. Дантон быстрее улавливает смысл событий…
Меняется и состав клиентуры Дантона. Дворян в его кабинете все чаще сменяют люди более скромного происхождения. Среди них землевладельцы, мелкие торговцы, ремесленники, ювелиры, трактирщики. Эта мелкая буржуазия с помощью Дантона добивается решения своих имущественных проблем. Молодой адвокат не мог не проникнуться сознанием интересов именно этой социальной среды, на почве которой и вырастет революция.
Дантон как будто прямо не связан в это время с политикой, хотя внимательно следит за перипетиями борьбы короля с парижским парламентом, который в полном составе был выслан в Труа, а потом возвращен в Париж. Вокруг этого конфликта возникают волнения. В столицу вводят войска, солдаты патрулируют улицы.
Чистая случайность толкает Дантона к соприкосновению с политикой, и притом в ее самых высоких сферах. Первым клиентом Дантона оказался весьма влиятельный чиновник королевской администрации де Барантен. Он принадлежал к тем дворянам, которые не чурались коммерческих дел. Одно из таких дел по поручению де Барантена пришлось вести молодому адвокату. Дантон добился успеха своего клиента, поручившего ему и впредь вести все свои дела. Барантен проникся доверием к адвокату, между ними завязались разговоры о политике, и президент королевской палаты поразился смелости и оригинальности идей Дантона. Ему пришла в голову мысль познакомить Дантона с всесильным тогда архиепископом Ломени де Бриенном, министром финансов, тщетно искавшим выхода из кризиса, в котором оказалось королевство. Барантен полагал, что Дантону и Ломени де Бриенну удастся найти общий язык, поскольку они были земляками. Архиепископ владел замком в 26 километрах от Арси. Адвокат изложил министру обширный план реформ, проведение которых требовало возвышения третьего сословия и отказа привилегированных от их важнейших привилегий. Монархии надо осознать неотвратимость перемен и осуществить их сверху, не дожидаясь неизбежного восстания низов. Планы Дантона заходили гораздо дальше реформаторских идей Тюрго и предусматривали добровольное отречение феодализма от своих основных устоев. Нет, такой закоренелый представитель старого порядка, как Ломени де Бриенн, никак не мог поддержать революционную, по существу, программу. Дантон, рассказывая дома о результатах беседы с министром, с возмущением подвел ее итог: «Слабоумный! Он не видит, что сам роет могилу монархии!»
В политике Дантон по-прежнему остается наблюдателем и свидетелем, хотя и очень заинтересованным. Почти все его время занято адвокатской практикой, погоней за клиентами, заботами по устройству своего семейного очага. Его тесть через четыре месяца после свадьбы дочери продает кафе «Парнас». Он рассудил, что супруге адвоката Советов короля не совсем удобно иметь отцом трактирщика. Вырученную сумму (41 тысяча ливров) он использует для покупки дома с садом в Фонтенуа-су-Буа, в предместье Парижа. Дантон часто бывает здесь со своей женой, которая теперь стала такой элегантной, что это производит сильное впечатление на жителей городка. Они называют ее «прекрасная Габриель», а их мэр дает это имя одной из улиц Фонтенуа. «Авеню да лэ Бель Габриель» существует и поныне, хотя мало кто знает об истинном происхождении этого названия. Мадам Дантон вскоре начинает многообещающе полнеть, и в апреле 1788 года в доме на улице Мовез-Пароль рождается сын. Огромный Дантон держит в руках крошечного младенца, убеждаясь, что сын унаследовал громовой голос отца.
После того как родители Габриель переселились с набережной Эколь в Фонтенуа, не было никакого смысла жить на улице Мовез-Пароль. Соседство с Центральным рынком доставляло немало неудобств: постоянный шум, запах гниющих овощей, всегда бродившие здесь свиньи, толпы нищих, искавших случайного заработка, — все это искупалось для Габриель близостью к родительскому дому. После их отъезда Габриель решила найти более спокойное место. Некий Жели, чиновник парламента и старый клиент «Парнаса», жил на другом берегу Сены на улице Кордельеров с женой и дочкой. Он сообщил, что в его доме этажом ниже есть свободная и удобная квартира. Габриель посмотрела ее, Дантону она тоже понравилась, и 12 мая 1788 года молодая семья переселяется в новую, более просторную и удобную квартиру, на втором этаже дома № 24. Сейчас этого дома уже нет, а точно на том месте, где был вход в квартиру, стоит прекрасный памятник Дантону. С протянутой рукой он взывает с высокого пьедестала вечным голосом бронзы…
В квартире шесть комнат, не считая подсобных помещений вроде кухни или комнаты служанки. Обстановка, во всяком случае, вначале не отличалась роскошью, все приобреталось в кредит. Сохранился нотариальный документ, составленный через год после переселения, свидетельствующий, что Дантон получил в долг от некоего Луи Фройе 3316 ливров, который он должен был вернуть в два срока: в 1794-м и в 1796 году. Как видно, должность, купленная Дантоном у Пэзи, не оказалась столь доходной, чтобы купаться в золоте.
Окна квартиры выходили на две стороны. Гостиная и кабинет мэтра на улицу Кордельеров, а столовая, спальня — на внутренний Торговый двор, где скучились лавки, конторы, крошечные типографии. Хотя Дантоны имели кухарку, Габриель сама делала покупки. Мясо она покупала рядом у краснолицего, могучего мясника Лежандра, который станет монтаньяром и другом Дантона, депутатом Конвента. С починкой обуви Габриель обращалась к сапожнику Симону, жившему здесь же. Симон тоже прославится своей должностью в башне Тампль, где он будет хранителем и воспитателем маленького наследника престола, сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты, которого гильотина сделает сиротой.
Дантон оказался в удивительном районе Парижа, где как будто специально кто-то поселил по соседству множество известных участников революции. Когда окна столовой открывались во двор, слышалось мерное постукивание типографской машины, на которой трудился типограф Гийом Брюн. Судьба скоро сделает его революционным журналистом, затем офицером Национальной гвардии, генералом в Итальянской армии, маршалом империи. Но в конце концов он станет жертвой белого террора при Реставрации. Здесь жил аристократ, ставший злейшим врагом аристократов, маркиз де Сен-Юрюг. Революция принесет ему громкую, хотя и скандальную известность и прозвище «генералиссимуса санкюлотов».
Рядом с Дантоном жил и Станислав Фрерон, который учился вместе с Робеспьером. Будущий монтаньяр, он издавал тогда «Анне литерер», а с наступлением революции появится его газета «Оратер дю пепль». Впереди громкая и крайне скандальная, а в конце — позорная слава. Недалеко обитает и студент-медик Шометт, будущий прокурор Коммуны, но пока он имеет дело с трупами только в анатомическом театре. На соседней улице живет нищий актер и поэт Фабр д'Эглантин. Неподалеку от дома Дантона на улице Турнон обитает некая яркая звезда, приехавшая из Люксембурга, Теруань де Мерикюр, молодая красивая женщина, выделяющаяся яркими туалетами и вольным поведением. Она окажется в центре крупнейших революционных событий, но конец ее тоже будет трагичен. Рядом с ней служит на почте некий Паш — будущий министр и мэр Парижа. В округе Кордельеров обитает и много других пока никому не известных, но в будущем знаменитых людей революции. И большинству из них придется на собственной судьбе испытать пророчество Дантона: «Горе тому, кто делает революцию…»
Надо особо сказать еще об одном новом обитателе этих взрывчатых мест, о Камилле Демулене, ведь он будет близким другом Дантона. О нем уже упоминалось как об однокашнике Робеспьера в коллеже Людовика Великого, как о пылком агитаторе Пале-Рояля… Но когда в самом начале своей адвокатской деятельности Дантон познакомился с Демуленом, а затем встретил его в масонской ложе «Девяти сестер», трудно было вообразить, что он станет героем революционных событий, завершившихся взятием Бастилии. Впрочем, ничего героического во внешности Демулена не замечалось. Вот его портрет в изображении Ромена Роллана: «Он похож на поджарую борзую собаку. Парижский озорник — смелый и бесшабашный, лицо пожелтело, преждевременно увяло от нужды, бессонных ночей и рассеянной жизни; улыбающийся, гримасничающий рот, неправильные черты лица… Взгляд живой, своенравный, чарующий, беспокойный; быстрые переходы от приветливой улыбки к презрительной гримасе. Чрезвычайно женственен, то смеется, то плачет, а иногда и одновременно… Но вообще в его речи, движениях, во всем его облике есть что-то неустойчивое и противоречивое».
Дантон и Демулен почувствовали симпатию друг к другу, видимо, по закону контраста. Первый воплощает силу, красноречие, сравнительную умеренность; второй слабость, нерешительность, сентиментальность и язвительность. Дантон лучше говорит, чем пишет. Демулен пишет талантливо, остроумно, но заикается, когда говорит. Впрочем, это не мешает ему выступать в суде, а под напором страсти — перед целой толпой. Сумасбродный, даже легкомысленный, он пренебрегает гонорарами, забывает получать их с клиентов, вообще ведет жалкое существование. Впрочем, это его не тяготит, и он предается разным увлечениям. Как раз во время женитьбы Дантона он решил, что влюблен в 40-летнюю перезрелую, но кокетливую жену богатого чиновника Дюплесси. Он даже пишет ей стихи, она принимает его, но опасается выглядеть смешной и сдерживает юного ухажера. В процессе ухаживания Камилл однажды встречается у мадам Дюплесси с ее 16-летней дочерью. Камилл сражен, ибо на этот раз он действительно любит. От наигранной любви к матери он переходит к искреннему обожанию дочери и поспешно просит у ее отца руки девушки! Несерьезного жениха решительно отвергают родители. Камилл чуть не со слезами исповедуется Дантону, и тот ободряет друга, опираясь на опыт своего завоевания Габриели. Он советует, использовать этот опыт и продолжать атаку на мать, но уже в рамках строгой морали, чтобы она стала его союзницей в борьбе за Люсиль. Задача трудная, тем более что Люсиль и сама вначале не в восторге от жалкого облика обожателя. Но это талантливый человек. Иначе он и не стал бы другом Дантона. В конце концов благодаря своему обаянию и тактике, одобренный самим Дантоном, Камилл добивается от Люсиль обещания выйти за него замуж при условии согласия родителей. Придется добиваться его три года.
Камилл часто обедает у Дантонов. Однажды с ним является и Люсиль в качестве неофициальной невесты, которая проникается пылкой симпатией к Габриель. Дантон и его жена становятся наставниками этой влюбленной пары. Люсиль с восторгом баюкает маленького Дантона и завидует счастью своей старшей подруги. Разговоры за столом у Дантонов неизменно сводятся к политике. Происходит новая схватка в борьбе двора с парламентом. Втайне от него подготовлен эдикт, резко ограничивающий права строптивого учреждения. Советник парламента д'Эпремениль за деньги добывает текст эдикта и предает его огласке. Начинается громкий скандал. Д'Эпремениль и двое его коллег арестованы и высланы. В борьбе активно участвуют провинциальные парламенты. Крупные волнения вспыхивают в Бретани и Дофине. Затем объявляется созыв Генеральных Штатов и, что вызывает особое волнение буржуазии, прекращение платежей по займам и ценным бумагам. Паника охватывает богатых горожан, которые прячут золото и серебро. Растут цены, особенно тревожные последствия вызывает подорожание хлеба. Именно в это время де Барантен, занявший пост министра в правительстве Неккера, предлагает Дантону должность секретаря министерства. В спокойное время это могло бы быть началом большой карьеры, но Дантон, к разочарованию Барантена, отказывается от поста, о котором он раньше не мог и мечтать. Дантон, однако, уверен, что сейчас близость к двору и правительству может только скомпрометировать. Власть, которая недавно отвергла его идеи, ищет теперь средств спасения, привлекая возможных деятелей оппозиции. Дантон прямо заявляет Барантену: «Разве вы не видите, что надвигается лавина?»
После небывало холодной зимы 1789 года это предвидение Дантона начинает быстро осуществляться. Весной происходят народные волнения в предместьях Сен-Марсель и Сент-Антуан, против голодных рабочих брошены войска. Столкновения кончаются сотнями убитых и раненых. Министр юстиции снова приглашает Дантона, но тот отказывается еще более решительно. Друзья его удивлены. Среди них, кроме Демулена, Парэ, бывший однокашник в Труа, который тоже живет рядом с Дантоном, нормандский адвокат де ла Круа. Чувствуя, откуда дует ветер, он теперь называется Делакруа, а скоро просто Лакруа. Постоянным гостем является также Фабр д'Эглантин.
В 1783 году на поэтическом конкурсе цветов в Тулузе он получил премию «Золотой шиповник». После этого он и прибавил к своему имени «Фабр» слово «д'Эглантин» (в переводе значит «шиповник»), уподобив его дворянскому. Дворянские имена часто содержали название поместья или какое-то родовое слово, прозвище. Иначе говоря, Фабр поступил так же, как де Робеспьер или д'Антон, из тщеславия или ради какой-то выгоды пытавшиеся «облагородить» свои имена. Приехав затем в Париж, он написал трагедию «Огюст», несколько комедий, в которых он пытался подражать Мольеру. Некоторые его спектакли имели большой успех.
Интересными участниками кружка друзей Дантона были адвокат и журналист Франсуа Робер и особенно его супруга Луиза, урожденная Кералио. Он будет издателем газеты «Меркюр насьональ», в которой раньше других появится призыв к замене монархии республикой. Мадам Робер — одна из женщин революции, провозглашавших наиболее демократические и передовые лозунги.
Частый посетитель и Гийом Брюн, будущий маршал, в то время получивший известность своей книгой о западных областях Франции. Во время революции он окажется телохранителем Дантона, который будет называть его из-за высокого роста «мой патагонец». Среди друзей, конечно, Сент-Альбен. Иногда в доме появлялись знатные гости, такие, как Барантен или д'Эпремениль. Люди прошлого, здесь они чужие. Компания Дантона объединяет людей будущего — патриотов. Собственно, само это слово только входило в обиход и притом в новом смысле. При старом феодальном порядке его просто не знали, поскольку страна делилась на провинции с разными законами, правами, даже языками. Языком, на котором говорили в Париже, владело меньше половины жителей Франции. Объединяла страну только монархия в лице короля. Считали нормальным, что французские генералы служили иностранным дворам, что лучшими во французской армии были наемные немецкие или швейцарские полки. Во время франко-испанской войны в XVIII веке великий французский полководец Конде командовал испанской армией, а Тюренн, который не был французом, возглавлял французскую армию. Среди маршалов Франции были немец Шомберг или датчанин Ранцау. В революционную эпоху баварский барон Люкнер, бывший полковник короля Пруссии, стал генералом Людовика XVI, революция в 1791 году сделает его маршалом. Так же было и с простыми солдатами, офицерами: они не защищали родину, а просто занимались своим ремеслом на службе любого князя или короля.
Слово «патриот» означало противника этого старого феодального порядка. Патриотами в 1789 году стали называть людей, стремившихся к коренным реформам. Постепенно оно станет синонимом слова «революционер»… Как раз весной 1789 года во время выборов в Генеральные Штаты во Франции, и особенно в Париже, возникает широкое движение патриотов, которые еще не были революционерами, ибо надеялись на реформы с помощью короля. Ведь поводом созыва Генеральных Штатов служил конфликт между знатью и королем. Правда, скоро они помирятся. Но кто мог быть уверен в этом заранее? Париж выбирал 21 депутата от третьего сословия. Из 700 тысяч жителей право голоса имели 40 тысяч, это были те, кто платил в год налог «марку серебра», 50 ливров и имел земельную собственность. Дантон, владевший землей в Арси и адвокат Советов короля, входил в 40 тысяч выборщиков. Но его друг Демулен зарабатывал слишком мало и не имел такого права. Поэтому, когда 21 апреля Дантон отправился в монастырь Кордельеров, где в церкви устроили бюро голосования, Демулен побежал выражать свое возмущение у «очага патриотов», как он называл Пале-Рояль.
Почему Дантон не выставил свою кандидатуру в Генеральные Штаты? Возможно, сказались практические соображения. Ему надо было зарабатывать, чтобы оплачивать долги. Пришлось бы покинуть Париж, забросить дела. Как депутат он получал бы 18 ливров в день, а этого маловато, чтобы заполнить дефицит в его бюджете. Но главная причина иная. В дни, когда Париж охвачен политическими страстями из-за выборов и народных волнений, на Дантона обрушилось семейное несчастье: его маленький сын тяжело заболел, и он с Габриель не отходит от него. 24 апреля годовалый ребенок умер. Габриель ищет утешения в церкви. Дантон, провожая ее, проклинает и церковь и бога, отказывается переступить порог храма, ожидая жену снаружи.
Понятно, что Дантон оказался как бы отстраненным на время от событий, представлявших собой пролог революции. Но он следит за политикой. Появляются первые новые газеты, позволявшие наблюдать за тем, что происходило в Версале. Но их сведения были краткими, неполными. Время знаменитых революционных газет еще не наступило. Гораздо больше можно было узнать в политическом муравейнике Пале-Рояля, куда Демулен всегда звал Дантона. Здесь шли бурные дебаты, в которые он, конечно, не мог не вмешаться. Он сразу попадает в «Патриотическое общество Пале-Рояль» и становится одним из его влиятельных ораторов вместе с Демуленом, Лустало, Сен-Юрюгом и другими вожаками радикальной буржуазии. Местом постоянных встреч этих нетерпеливых и темпераментных патриотов стало кафе «Фуа», одно из самых знаменитых в Париже. Здесь обсуждаются все события долгой борьбы депутатов третьего сословия за превращение Генеральных Штатов в Национальное, а затем и в Учредительное собрание. Дантон знаком с главными героями этой борьбы: Мирабо, Сийесом, Байи, Гильотеном. Ведь они члены ложи «Девяти сестер». Среди депутатов уже упоминавшийся адвокат Камю, дальний родственник матери, его нотариус Досфан, немало других адвокатов, многие из которых заседали в Меню плезир.
С приходом жарких июльских дней накаляется и политическая обстановка. Парижская буржуазия взволнована появлением «разбойников». Больше десятка тысяч их проникает в город, и все видят, что это всего лишь голодные крестьяне и рабочие. Но запуганный муниципалитет устраивает для них на Монмартре благотворительные общественные работы за 20 су в день. По вечерам эти отчаявшиеся, но ставшие грозными в своем гневе люди появляются и в Пале-Рояле, где они аплодируют Дантону, Демулену и Марату. Там Дантон впервые и знакомится с ним.
Под предлогом защиты от «разбойников» на Марсовом поле располагаются королевские войска. Слухи о заговоре двора подтверждаются первыми стычками наемников с народом. 11 июля приходит известие об отставке Неккера. На другой день Демулен, вскочив на один из столов кафе «Фуа», выступает с легендарным призывом к оружию… Несколькими днями раньше здесь, как свидетельствует один из мемуаристов, слышали речь Дантона: «Граждане! Давайте вооружаться! Возьмемся за оружие, чтобы отразить пятнадцать тысяч разбойников, собравшихся на Монмартре и тридцать тысяч солдат, готовых обрушиться на Париж, разграбить его и перерезать жителей!»
Знал ли уже Дантон о решении муниципалитета 13 июля создать «буржуазную милицию» в 42 тысячи человек или это была его личная инициатива? В невероятной путанице этих революционных дней разобраться трудно. Видимо, это было раньше, когда колокола забили в набат, призывая граждан вступать в Национальную гвардию, как будет вскоре называться милиция.
Дантон в ажиотаже. Благодаря его зажигательным речам одним из первых сформировался батальон Кордельеров. Конечно, он записывается и сам, как и его друг Парэ, как сосед Жели. Но некоторые возражают. Например, адвокат Лаво: «Я только что вернулся с Монмартра. Я там видел только ремесленников, каменщиков, рабочих, делающих свою обычную работу.
— Вы ничего не понимаете! — отвечал Дантон. — Суверенный народ поднимается против деспотизма. Присоединяйтесь к нам. Трон опрокинут, и ваше государство погибло. Подумайте об этом.
— Я вижу в этом движении, — возражал Лаво, — только мятеж, который приведет вас и вам подобных на виселицу».
Дантон не хочет слушать трусливые возражения, он, конечно, не верит в «разбойников», видит наступление революции. Горячая агитация Дантона приносит успех: в батальоне Кордельеров уже 571 человек. Но сам трибун не получает командного поста. Командиром избрали человека, служившего в армии. Другие офицерские посты тоже заняты ими. Даже его мясник Лежандр стал сержантом. Но все еще только начинается, и Дантон проявляет бешеную активность. Участвует ли он в штурме Бастилии? Нет, но он появляется у стен крепости на десять часов позже, в 3 часа ночи с 14 по 15 июля, во главе отряда в 40 человек. Дантон вызывает нового коменданта крепости, назначенного Лафайетом, и объявляет себя «капитаном» батальона Кордельеров, арестовывает коменданта Суле и доставляет его утром к Кордельерам. Все происходит в суматохе и путанице, и Дантону приходится защищать своего пленника от фонаря или расстрела. Затем, вняв мольбам злосчастного коменданта, его доставили в Ратушу, где Лафайет приказал освободить Суле. В чем же смысл этого маскарада? Если вспомнить слова Дантона в разговоре с Лувэ: «Трон опрокинут, ваше государство погибло», то ясно, что Дантон видит неизбежность краха той судебной системы Советов короля, в которой он сумел приобрести себе должность. Необходимо выдвинуться вперед, обратить на себя внимание, чтобы завоевать достойное место под солнцем при новой, еще только рождающейся системе. Такой ход мысли был типичен для многих молодых представителей радикальной буржуазии. Вероятно, его разделял и Дантон, что вполне естественно и обычно.
Необычно здесь другое. Дантон еще рядовой, «капитан» он мнимый, самозваный. Но почему за ним пошли сорок человек, жителей округа Кордельеров? Здесь как раз случай, обнаруживающий у Дантона реальные, органические данные лидера, вождя, способного увлечь за собой, не обладая никакой формальной властью, не пользуясь ничем, кроме своего личного морального авторитета. Пожалуй, здесь нечто большее: какая-то таинственная власть обаяния, побуждающая людей следовать за Дантоном даже, как в данном случае, если они толком не понимают, на что, собственно, они идут…
Понятно, что именно Дантона единодушно выбирают председателем дистрикта Кордельеров, хотя там хватало и без него ярких, талантливых людей. Дантон воплощает здесь высшую политическую власть. Теперь, когда командир батальона Кревекер послушен ему, не составляло труда узаконить звание капитана, которое он себе скромно присвоил. Обожающие Дантона жители дистрикта не отказали бы ему и в чине генерала. Не зря его называют «наш дорогой председатель»!
В начале августа доморощенное воинство обретает военный облик: муниципалитет вводит форменную одежду для своей гвардии. Дантон надевает синий камзол с белыми обшлагами, черные сапоги с желтыми отворотами. На голове треуголка из черного фетра с трехцветной кокардой. На поясе сабля, на эфес которой он гордо опирается. Он просто герой, особенно в глазах влюбленной жены.
13 августа в церкви Кордельеров происходит торжественная месса, кюре освящает знамя батальона. Дантон обожает помпезные зрелища. Он пригласил оркестр Королевской музыкальной академии. Батальон торжественным маршем проходит мимо генерала Лафайета, рядом с которым Дантон. Кое-кто кричит: «Да здравствует Дантон!» Но возгласы в честь Лафайета заглушают эти выкрики. Несмотря на растущую популярность, внушительный вид и вес (95 килограммов), Дантон пока еще играет роль статиста на фоне знаменитостей Учредительного собрания, не говоря уже о герое Америки Лафайете. Но все впереди…
Собрания дистрикта Кордельеров теперь происходят каждый вечер. Председательствует Дантон, рядом его заместитель Фабр д'Эглантин. Формально это заседание выборщиков округа. Однако двери в монастырь открыты для всех. Здесь толпятся и бедняки, не имеющие права голоса, и они знаками одобрения или недовольства громко заявляют о себе. Дантон не только считается с их мнением. Он явно, демонстративно ищет их поддержки. Против кого же? Дантон не скрывает своей неприязни к Лафайету и к мэру Парижа Сильвену Байи. Он считает, что они воспользовались взятием Бастилии и казнью своего предшественника Флесселя, чтобы захватить власть в Ратуше. И вот собрание Кордельеров становится самым открытым проявлением оппозиции Ратуше. Дантон использует любой повод для борьбы против нее. По приказу Байи и Лафайета арестован автор политической брошюры. Кордельеры немедленно принимают гневную резолюцию протеста, и «отцы города» вынуждены освободить журналиста. Волнения в Пале-Рояле в конце августа, когда не без влияния Дантона его друзья вдохновляют движение против королевского права вето, закончились арестом маркиза Сен-Юрюга. В тот же вечер Дантон выступает с большой речью. Он признает, что маркиз фанфарон и вообще слишком много скандалит. Но он патриот, и патриотизм только выигрывает от ярости его представителей. «Мы не евнухи!» — гремит Дантон и добивается одобрения резолюции, требующей освобождения арестованного патриота. Байи капитулирует, и узник выпущен из тюрьмы Шатле.
В другом случае Дантон добивается не освобождения, а заключения в тюрьму. Речь идет о бароне Базенвале, который командовал швейцарскими наемниками на Марсовом поле в дни взятия Бастилии. Опасаясь народной мести, барон пытался бежать в Швейцарию, но его задержали на границе и поместили в гостинице, запретив ему выезд. Дантон немедленно разоблачает этот «заговор против нации», и Кордельеры принимают обращение ко всем другим дистриктам Парижа потребовать от Ратуши заключения Базенваля в тюрьму и предания его суду. В результате Байи получает 60 категорических требований. И снова Бани и Лафайет вынуждены уступить, и Базенваль заключен в тюрьму Шатле.
Влияние Кордельеров и популярность Дантона растут. Теперь на собрания дистрикта в старом францисканском монастыре ходят как в театр. 3 октября 1789 года собрание началось как обычно в пять часов. Но это будет отнюдь не рядовое событие. В Париже только что узнали о скандальном ужине в честь Фландрского полка в Версале, когда монархисты, вдохновленные королем и королевой, срывали трехцветные кокарды. Дантон яростно выражает общее возмущение. Адвокат Тибодо, привлеченный к Кордельерам слухами о красноречии Дантона, излагает в мемуарах свои впечатления: «Я был поражен его высокой фигурой, атлетическим сложением, неправильностью и грубостью его лица, изрытого оспой, его резкой, быстрой, звучной речью, его драматическими жестами, уверенным и пронизывающим взглядом, энергией и смелостью, которые проявлялись во всей его позиции, во всех его движениях. Он вел собрание решительно, быстро и властно, как человек, сознающий свое могущество. Он толкал собрание дистрикта прямо к своей цели».
А цель — ответить на скандальный банкет в Версале, на аристократический заговор восстанием Парижа! Адвокат Советов короля делает важный шаг вперед. Он открыто отрекается от своей прежней безусловной поддержки короля. Дантон призывает к походу парижан на Версаль во главе с батальоном Кордельеров. Для чего? Может быть, как требовали самые ретивые, арестовать короля и изгнать его из Франции? Нет, речь идет лишь о том, чтобы удалить новые войска из Версаля, чтобы разоружить двор, поставить короля под контроль народа, переселить его в Париж. Принимается резолюция, которую поручили типографщикам немедленно напечатать в виде афиши и за ночь расклеить по всему Парижу.
Это несомненно революционный акт. Но тут же Дантон делает несколько шагов назад. Уже не с трибуны, а в частном разговоре с командиром батальона дистрикта Дантон говорит, что, пожалуй, Кордельерам все же не стоит возглавлять поход на Версаль. Не собирается Дантон и сам отправляться в Версаль. «Мирабо черни», как его уже называют, охотно командует народом, но в решающие моменты все же не хочет до конца объединиться с ним. К тому же он будет занят в ближайшие 48 часов. Необходимо срочно изучить судебное дело Дюбуа. Равнодушный к волнениям, которые он сам усиленно возбуждал, мэтр д'Антон в халате и домашних туфлях уединяется в своем кабинете. Как и 14 июля, в день штурма Бастилии, он будет дожидаться исхода событий в Версале. Дантон — неискоренимый буржуа, как, впрочем, другие революционные вожди.
Глава IV МАРАТ
К началу революции Марат по сравнению с тридцатилетними Робеспьером и Дантоном по тем временам почти старик. Ему 46 лет. В одном смысле этот недостаток оказался преимуществом; Робеспьеру и Дантону еще предстоит стать теми личностями, какими они войдут в историю. Марат сформировался и созрел раньше в жизненной битве самоутверждения. Он прошел суровую школу еще до революции.
Самый популярный тогда 32-летний Лафайет, например, достиг славы и влияния не только благодаря своей блестящей американской эпопее. Многие другие французы, кроме «героя двух миров», воевали в Америке. Но Лафайет с колыбели получил преимущество: знатность, титул маркиза, богатство. Марат не имел ничего и сам сделал себя Маратом. Откуда взялась у него эта гениальность с некоторой примесью одержимости или даже безумия? Что дало ему могучую власть обаяния, благодаря которой народ увидел и признал в нем своего героя и пророка? Лучше всех ответил на этот вопрос Виктор Гюго во фрагменте рукописи знаменитого романа «Девяносто третий год». Этот отрывок не вошел в окончательный текст, но сохранился в архиве: «Марат принадлежит не только лишь Французской революции, он — тип предшествующих веков, непостижимый и ужасный. Марат — это древнее таинственное чудовище. Если вы хотите узнать его подлинное имя, крикните над бездной это слово «Марат»; эхо из бесконечных глубин ответит вам: «Нищета!»… Гильотинировав Шарлотту Корде, говорили: «Марат мертв». Нет, Марат не умер. Поместите ли вы его в Пантеон или вышвырните в сточную канаву — все равно на следующий день он возрождается вновь. Он возрождается в мужчине, у которого нет работы, в женщине, у которой нет хлеба, в девушке, которая становится проституткой, в ребенке, который не научился читать; он возрождается на чердаках Руана и в подвалах Лилля; он возрождается в жилище без очага, на жестком ложе без покрова, в безработице, в пролетариате, в публичном доме, на каторге, в ваших не знающих жалости законах, в ваших убогих школах; он возникает из всего того, что называется невежеством, он восстанавливается заново из всего того, чем является ночь. О, человеческому обществу стоит поостеречься: лишь убив нищету, можно убить Марата… ведь пока люди будут несчастными, будет расти на горизонте туча, которая может превратиться в призрак, и призрак, который может стать Маратом».
Но почему же Гюго не оставил это место в романе? Он оставил, но в более краткой и более художественной форме. Там у него беседуют «три великих и грозных человека» — Робеспьер, Дантон, Марат. Беседуют ожесточенно, спорят друг с другом, и Марат кричит: «Нет, Робеспьер, я не эхо, я голос народа. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Дантон? Тридцать четыре? Сколько тебе лет, Робеспьер? Тридцать три? Ну а я жил вечно, я — извечное страдание человеческое, мне шесть тысяч лет».
Могут сказать, что все это — плод чудесного художественного воображения поэта и писателя. Конечно, но нельзя не добавить, что Гюго обладал к тому же редкостной скрупулезностью добросовестного историка. Чтобы написать «Девяносто третий год», он собрал два десятка папок выписок из документов, мемуаров и других источников.
Обратимся, однако, к прозаическим фактам конкретного происхождения Марата. Он родился 24 мая 1743 года в городке Будри, в княжестве Невшатель — владении прусского короля Фридриха II. В будущем, в 1815 году, оно станет кантоном Швейцарии. Его отец Жан-Батист Мара, католический священник, предки которого были выходцами из Испании, тремя годами раньше приехал из Сардинии и перешел из лона католической церкви в протестантизм. Но не для того, чтобы из аббата превратиться в пастора. Он стал художником и рисовальщиком на фабрике, производящей ситец. Тогда же, в 1740 году, он женился на дочери ремесленника Луизе Каброль из французской протестантской семьи, вынужденной из-за религиозных преследований покинуть Лангедок, то есть Южную Францию. Итак, будущий Друг народа не швейцарец по подданству в момент рождения, а пруссак, хотя и франко-испанского происхождения. В семье, где Жан-Поль оказался вторым ребенком, всего их было семеро; четыре сына и три дочери. Отец будущего революционера — человек разнообразных способностей. Из священнослужителя он превратился в художника, затем стал химиком, учителем языков, наконец, медиком. В 1755 году он офранцузил свое имя Мара, изменив его на Марат, что одобрит и воспримет его сын Жан-Поль.
Как же воспитывался, формировался великий монтаньяр? Сам Марат рассказал об этом в 1793 году на страницах своей легендарной газеты. В рассказе интересно не только то, что он сообщает, но и как он это излагает. Длинная цитата тем самым не только допустима, она абсолютно необходима: «Благодаря редкой удаче я получил очень тщательное воспитание в отцовском доме, избежав всех порочных привычек детства, растлевающих и унижающих человека, всех промахов юности, и достигнул зрелости, ни разу не отдавшись пылу страстей: в двадцать один год я был девственником и уже в течение долгого времени предавался кабинетным размышлениям.
Единственная страсть, пожиравшая мою душу, была любовь к славе, но это был еще только огонь, тлевший над пеплом.
Этот душевный склад я получил от природы, но развитием характера я обязан моей матери, потому что отец стремился только к тому, чтобы сделать из меня ученого.
Эта почтенная женщина, утрату которой я до сих пор оплакиваю, воспитывала меня с первых лет; она вызывала в моем сердце человеколюбие, любовь к справедливости и славе; эти драгоценные чувства стали вскоре единственными страстями, определившими с тех пор мою судьбу. Через мои руки она передавала пособия нуждающимся, и сочувствие, которым она одушевлена, разговаривая с ними, она внушила и мне.
Любовь к людям является основой любви к справедливости, потому что идея справедливости порождается в такой же мере чувством, как и разумом. Уже в восемь лет у меня было развитое моральное чувство; уже в этом возрасте я не выносил дурного обращения с кем-либо; жестокость вызывала во мне возмущение, и всегда зрелище несправедливости переворачивало всю мою душу как личное оскорбление.
Первые годы я был очень хилым; мне были чужды поэтому необузданность, ветреность, детские игры. Так как я был послушным и прилежным, мои учителя добивались от меня всего мягкостью. Я был наказан только один раз, и несправедливое унижение произвело на меня столь сильное впечатление, что вернуть меня под указку моего воспитателя было невозможно: целых два дня я отказывался принимать пищу. Мне было тогда одиннадцать лет: судите о твердости моего характера уже в этом возрасте по одной этой черте. Так как мои родители не могли меня сломить и родительский авторитет оказался задетым, меня заперли в комнате. Будучи не в силах преодолеть негодование, я задыхался, я открыл окно и бросился вниз, на улицу. К счастью, окно было расположено невысоко, но тем не менее при падении я был сильно ранен, и до сих пор у меня сохранился шрам на лбу.
Легкомысленные люди, упрекающие меня в том, что я — упрямец, увидят, что я был им уже с давних лет. Но чему они, возможно, не поверят: с ранних лет меня пожирала любовь к славе, страсть, в различные периоды моей жизни менявшая цель, но ни на минуту меня не покидавшая. В пять лет я хотел стать школьным учителем, в пятнадцать лет — профессором, писателем — в восемнадцать, творческим гением — в двадцать, как сейчас я жажду славы — принести себя в жертву отечеству».
Субъективность, самоукрашение — отличительная черта любых мемуаров или автобиографий. Марат — редкое исключение. Он действительно предельно искренен, и в этом дает возможность убедиться вся его последующая жизнь. Ее высшим законом от начала до конца будет и в самом деле стремление, страсть, доходящая порой до безумия, истинная любовь к справедливости. И эта справедливость изливается прежде всего на бедных, что видно даже из приведенного отрывка.
Правда, непривычно режет слух какая-то чрезмерная склонность говорить о себе с необычайной откровенностью. Но такая навязчивая тенденция характерна для всех поклонников Руссо, а Марат был им. У Робеспьера она бросается в глаза еще более резко. Это знамение века, плод духа Просвещения с его часто паталогическим индивидуализмом, со страстью к душевным излияниям.
Современный читатель может также испытать понятное чувство досады, читая декларации Марата о его всепоглощающем стремлении к славе; ведь в наш лицемерный век честолюбие обычно прячется за напускной скромностью.
Уж не скрывается ли за мечтами о славе мелкое тщеславие или чудовищная гордыня? Здесь есть нечто чудовищное, но это сильнейшее чувство гордости без всякого эгоизма. У Марата ни в словах, ни в поступках невозможно обнаружить корыстного стремления к буржуазному преуспеванию, тем более к богатству, хотя это для него окажется достижимым. Несомненно, у этого человека всегда будет сказываться наивность чудака и простодушие в сочетании с врожденной неспособностью к притворству и лжи. По другому случаю он напишет позже о своей молодости: «Мое рвение и усердие всегда увенчивались довольно блестящими успехами; их было даже слишком, чтобы не вызывать зависть. Я знаю, что ее можно обезвредить, проявляя ложную скромность. Но притворство и хитрость не в моем характере; я презираю эти постыдные средства».
А это всегда будет доставлять Марату неприятности, даже в детстве, когда он учился в школе в Будри, а затем в коллеже Невшателя. Преуспевающий в учебе, но физически слабый мальчик служит для сверстников объектом издевательства. Действительно, наступает свободное время, и его сверстники говорят: «Чем мы сегодня развлечемся? Поиграем в шары или лучше побьем Марата?» К тому же ребенок из семьи небогатых иностранцев с очень сильным чувством гордости, тем самым уже выделен среди других детей, которые не терпят неравенства. Так что поборнику справедливости приходилось испытывать ее торжество и на собственной участи. Исключительная способность наживать врагов — всегда удел человека твердых принципов.
Несомненно, детство и юность, семья имели огромное значение для формирования этого удивительного сплава страсти и ума. Робеспьер, в отличие от Марата не ощущавший фактически естественной природной близости семьи в детстве, так и не смог обрести чего-то самого сокровенного в своей человеческой сущности. Он останется навсегда одиноким. И никогда не будет иметь друзей, ибо для этого надо обладать способностью самому быть другом. Марат же, несмотря на исключительную эмоциональность своей натуры, свою резкость, непреклонность, неспособность к компромиссу, обретает друзей. Этот фермент человеческой общности, потребности в ней он получил в семье. Более того, его братьям и сестрам деятельность Марата, которого осыпали проклятьями и грязью в кругах более или менее благополучных, состоятельных людей, вовсе не казалась столь одиозной. Они сами проявляли не только интерес к общественным делам, но прямо вмешивались в них, действуя в более или менее революционном духе. Его брат Давид примет активное участие в волнениях в Женеве после 1780 года, окажется автором революционных памфлетов. Другой, младший брат, Анри во время столкновения в Невшателе будет ранен, потеряет глаз. Третий брат, Жан-Пьер, превратившийся в солидного часовщика, сыграет видную роль в революционных событиях в Женеве в 1793-1794 годах. А затем в течение многих лет предоставит в своем доме убежище уцелевшему участнику «Заговора равных» Буонарроти.
Сестры Марата Марианна и Альбертина приедут в Париж в 1793 году и будут прославлять память своего старшего брата. Его вдову Симонну Эврар они объявят своей истинной сестрой и останутся вместе с ней до ее смерти в 1841 году. Альбертина сбережет ценнейший архив Друга народа. Интересна судьба уже упомянутого Давида, который под именем Будри окажется учителем французского в Царскосельском лицее и, по свидетельству его ученика Александра Пушкина, сохранит почтительную память о своем легендарном старшем брате…
Почему же в 16 лет Жан-Поль покидает семью? Дама из Невшателя, вышедшая замуж за богатого судовладельца и сахарозаводчика из Бордо Поля Нэрака, искала воспитателя для своих детей среди образованных и скромных земляков. Благодаря репутации примерного ученика юный Марат получает заманчивое предложение. Возможность повидать мир, выбраться из глухой провинции, какой было княжество Невшатель, жить и постигать науку в знаменитом городе Франции, служившем для нее окном в мир, не могла не увлечь честолюбивого юношу. В его семье никто не возражал против отъезда сына и брата; слишком непреклонный, порой просто вздорный характер, неуживчивость Марата давали о себе знать. Бывают близкие родственники, которые особенно хороши на расстоянии. Интересно, что не сохранилось абсолютно никаких следов переписки Марата с родными. Естественно, на протяжении десятков лет писем просто не было…
В Бордо Марат ужился только два года. Все свободное время уходило на самообразование. Он хочет стать медиком. В 1762 году переселяется в Париж и упорно продолжает свои научные занятия. К концу пребывания в Париже он уже имеет пациентов. Враги Марата позднее стали утверждать, что Марат занимался продажей подозрительных, но «магических» лекарств на ярмарках, словом, был бродягой — шарлатаном, каких тогда встречалось немало. Никаких подтверждений этой версии не было и нет.
Но медицина не единственный объект неутолимой жажды познания молодого Марата, перебивающегося с хлеба на воду. Его любознательность охватывает философию, историю, литературу, точные науки, особенно физику и химию. Естественно, что самообразование позволяет достичь наибольших успехов в гуманитарных областях. Читает больше всего французов, и когда появятся вскоре его собственные сочинения, то в них преобладает чисто французская тематика, сама манера, не говоря уже о ссылках на французских писателей и мыслителей. Кто же был властителем дум, наставником Марата? Позднее он сам объявит, что это Монтескье и Руссо. Особенно второй, важнейшие труды которого как раз выходили во время жизни Марата в Париже: «Новая Элоиза» в 1761 году, «Эмиль» и «Общественный договор» в 1762 году.
А вот французские материалисты, энциклопедисты не только не привлекали его, но вызвали решительную антипатию. Причина очевидна. Он остался верующим, точнее деистом в духе Руссо, а Дидро, д'Аламбер, Гольбах, Гельвеций воинствующие атеисты. Они неприемлемы для него и по социальным, политическим мотивам. Их идеал — конституционная, просвещенная монархия, дарующая реформы сверху. Но в сознании Марата уже созрели демократические пристрастия. Он подходит к идее революционного свержения тирании, хотя тоже остается монархистом. Но вот загадка (сколько их еще будет впереди!): в 1783 году Марат напишет: «Едва я достиг восемнадцати лет, как наши пресловутые философы делают различные попытки привлечь меня на свою сторону. Отвращение, которое они внушили мне своими принципами, отвратило меня от их общества». Фантастика! Настойчивые домогательства «философов» были, конечно, невероятны! Известные, часто знатные и богатые люди вряд ли могли знать о самом существовании этого нищего, неизвестного, совсем юного иностранца с его исступленным стремлением к славе. Возможно, он сам делал какие-то попытки знакомства? Даже Робеспьер, не страдавший сильной скромностью, неизмеримо сдержаннее в своем тоже несколько мифическом рассказе о свидании с Руссо. Но таков Марат, которого надо брать таким, каков он был, со всеми его странностями. Видимо, экзальтированное воображение создавало фантастические картины, в которые он сам начинал искренне верить.
Все говорит, что Марат действительно вел подвижническую жизнь, стремясь стать всесторонне образованным человеком. С наивной гордостью он заявляет: «Мне кажется, что я исчерпал почти все, что человеческий разум сделал в области морали, философии, политики, чтобы извлечь все лучшее». Фактически Марат стремился объять необъятное, и это стремление привело к тому, что он имел крайне слабое представление об экономике, да и о философии, которую якобы он «исчерпал». Знания в области философии у него были весьма смутные.
К таким результатам его привела довольно своеобразная методика, которой он настойчиво следовал. Суть ее состояла в том, чтоб найти какой-то совершенно нетронутый сектор знаний, где он надеялся заполнить пустоту великими открытиями. Поэтому он берется за одно, затем его бросает, устремляется к другой цели, и такое хаотическое метание сводилось к довольно поверхностному образованию. «Я принес в свой кабинет, — пишет Марат, — искреннее желание стать полезным человечеству, священное уважение к истине, сознание ограниченности человеческой мудрости. Моей главной страстью была любовь к славе: она определяла выбор тем моих занятий; она заставляла меня постепенно отбрасывать каждый предмет, который не обещал мне прийти к настоящим, большим результатам, быть оригинальным, потому что я никогда не мог решиться на то, чтобы снова разбирать тему, уже ранее изученную, или пережевывать работы других авторов».
В конце концов Марат все больше склоняется к медицине как наиболее верному пути к достижению славы. Разве чудесное исцеление во всех религиях не служит доказательством божественного всемогущества? Достичь славы в философии, к примеру, невозможно. Уже в античности были намечены все возможные пути философской мысли. Здесь возможно лишь частичное развитие, углубление, дополнение уже сделанного ранее. К тому же в духовной культуре все спорно, всегда найдутся оппоненты. Марат презирал большинство живших тогда во Франции философов, как и писателей, впрочем. Иное дело — исцеление неизлечимых больных, когда чудо осязаемо, зримо, ощутимо непосредственно. Конечно, в любом случае медицина — прибыльное занятие само по себе. Но не это вдохновляло Марата, ибо ему нужна именно слава. В то время во Франции господствовало в общественном мнении убеждение, что медицина должна дать что-то чудесное, ибо она казалась наиболее отсталой наукой. Все говорили, что во Франции слишком много адвокатов, писателей, философов, тогда как настоящих врачей нет. Обратимся к знаменитому памятнику нравов и ходячих убеждений предреволюционной Франции, к «Картинам Парижа» Андре Мерсье. Вот что там говорилось: «Медицина представляет собою самую отсталую науку и в силу этого более других требует обновления. Странно, что со времен Гиппократа не явилось ни одного человека, равного ему по гениальности, который влил бы в эту науку недостающие ей свет и знания… Когда же явится, наконец, великодушный и просвещенный человек, который разрушит все храмы старого Эскулапа… Какой друг человечества возвестит, наконец, новую медицину, поскольку старая только убивает и губит население?»
Марат и решил стать новым Гиппократом. При этом он не пытается идти проторенным, обычным путем. Ведь был медицинский факультет Парижского университета. Правда, он пользовался незавидной репутацией. Не случайно Людовик XVI несколько позднее учредит Королевское медицинское общество. Марат не мог надеяться пробить себе дорогу и даже обеспечить свое существование, не имея никакого диплома. Он мог бы приобрести его терпеливыми усилиями долгих лет. Но это его совершенно не устраивало. Он мечтал о славе и стремился достичь ее быстро. И тогда он решил уехать в Англию. В письме своему другу Руму де Сен-Лорану он объяснит в 1783 году свое решение покинуть Францию «стремлением усовершенствоваться в науках и избежать опасности распутства». Конечно, Англия в то время действительно превосходила Францию в науке и вообще в глазах многих французов не без основания выглядела самой передовой страной. Еще Вольтер в «Философских письмах» показал ее идеалом политической свободы и интеллектуальной терпимости. Можно понять и другой довод Марата, воспитанного матерью в духе строгой протестантской нравственности, несовместимой с атмосферой парижской фривольности. В 1765 году Марат покидает Париж, чтобы вернуться сюда только через одиннадцать лет, в 1776 году.
Переезд Марата в другую страну был отчаянно смелой авантюрой, если учесть его скудные финансовые ресурсы, вернее их полное отсутствие. К счастью, в Лондоне нашлись люди, которые его поддержали. Это был англичанин Гамильтон и несколько иностранцев, ранее Марата устроившихся на Британских островах; архитектор Бономи, художник Зукки и особенно художница Анжелика Кауфман, талант которой позже принесет ей известность. Марат познакомился с очаровательной молодой женщиной в грустный момент ее жизни. Дело в том, что незадолго до этого она приехала в Англию, выйдя замуж за некоего графа Горна. Но в Лондоне выяснилось, что ее жестоко обманули: «граф» оказался простым лакеем и проходимцем. Какое ужасное разочарование для соблазненной девушки! Только в 1768 году ей удалось развязаться с самозваным графом. 25-летний Марат явился утешителем обманутой 27-летней Анжелики. Она стала его любовницей. Поддержка друзей кое-как обеспечивала его существование. Они давали ему взаймы, подыскивали для него возможность заработать лечебной практикой в Лондоне и в других городах. Так около года он живет в Дублине. А в 1770 году его пригласили в качестве «врача и ветеринара» в Ньюкастл. Отсюда, кстати, пошла враждебная Марату легенда, что до революции он был жалким ветеринаром.
В течение двух лет пребывания в Ньюкастле он приобрел авторитет хорошего врача. За большие заслуги по борьбе с эпидемией власти официально дали иностранцу права гражданина города. Однако сделать блестящую карьеру ему не удалось из-за его характера. Английские друзья Марата позже писали, что он имел «оригинальный образ мыслей в области своей профессии», что он всегда был «недовольным, поносившим существующие институты». Сделать карьеру такие «качества» не помогают. Во всяком случае, он все же не только зарабатывал себе на жизнь, но даже сумел скопить достаточно денег, чтобы после возвращения в Лондон из Ньюкастла за свой счет издать две свои книги.
Итак, Англия как будто неплохо встретила безвестного молодого иностранца, который угрюмым, замкнутым характером, снедаемый жаждой славы и с нескрываемым чувством превосходства, с ощущением своей исключительности, словом, со всем тем, что обрекает на одиночество и изоляцию и, конечно, не может вызывать симпатий, неожиданно встретил не только теплое, дружеское расположение новых друзей, но даже познал впервые радость любви. Неужели начинается новая, счастливая полоса его жизни? Нет, не об этом он мечтал, ему необходимо нечто исключительное. Смысл его существования в неуемной жажде славы! Неожиданно перед ним воочию предстает живой пример того, как одинокий человек вдруг превращается в идола, вождя, кумира из-за обрушившихся на него бедствий, которые он переносит с поразительным мужеством. Всю Англию волновал тогда воинственный и еще недавно одинокий безвестный журналист Джон Уилкинс. С восхищением и завистью Марат, забывая свои медицинские увлечения, становится страстно заинтересованным зрителем увлекательного политического спектакля. Оказывается, его мечты не химера, не утопия. Феерическая слава Уилкинса — вот пример, воплощение его собственной страстной мечты!
Марат приехал в Англию, проникнутый предубеждениями против укоренившейся среды французов англомании. Тем более что его духовный кумир Жан-Жак Руссо яростно опровергал распространенное еще Вольтером восхищение английской конституционной монархией. И как раз в то время, когда судьба занесла Марата в Лондон, он воочию увидел прославленный остров свободы и либерализма в крайне неприглядном облике возрождения королевского деспотизма. Молодой Георг III энергично возвращал себе прерогативы власти, утраченные его предшественниками. Парламент не устоял перед соблазном вульгарных взяток, почетных званий, выгодных должностей. Король попросту купил больше трети членов палаты общин и благодаря этому начал править как абсолютный монарх. Но, на его беду, в стране сохраняли свою независимость и право на свободное слово газеты и журналы — явление, невиданное на континенте. 40-летний публицист Джон Уилкинс и поэт Черчилль выпускали газету «Норт Брайтон», которая разоблачала королевские махинации и тем вызвала энтузиазм, завоевала множество сторонников.
Еще в 1763 году за одну статью его хотели судить, но он бежал во Францию. Тогда палата общин под давлением короля незаконно исключила его из парламента. В 1768 году он вернулся и был с триумфом снова избран в палату. Уилкинса опять бросают в тюрьму, и его избрание второй раз аннулируется. Марат лично участвует в демонстрации протеста около тюрьмы, в которую посадили журналиста-бунтаря. Королевские солдаты стреляют в толпу, есть убитые. Лозунг «Уилкинс и свобода!» объединяет демократов. Повсюду возникают политические клубы и общества. Ньюкастл, где жил Марат, тоже охвачен движением. Марат с энтузиазмом бегает по митингам, забывает все свои дела ради участия в заседаниях клубов. Газеты приобретают огромный авторитет в борьбе против королевских беззаконий. Уилкинс добивается триумфа; его выбирают лордом — мэром Лондона. А затем он как победитель возвращается и в парламент, где смело защищает против короля правое дело восставших американских колоний. Вот, оказывается, как добиваются славы!
Главное, что дала Марату Англия, — это политическая школа, опыт, урок. Вся последующая деятельность Друга народа подтвердит это. Даже в мелких, чисто внешних деталях. Так, ярким эпизодом политической борьбы между королем и английскими радикалами было издание блестящего сатирического памфлета против короля «Письма Юниуса». А в июне 1790 года Марат издал газету (кроме «Друга народа»), которой он дал название «Французский Юниус». Как видно, Марат громко провозглашавший свои претензии на оригинальность, был не так уж и оригинален.
Именно в Англии Марат окончательно вырабатывает главные принципы своей политической философии, которая действительно делает его оригинальным. Правда, лишь по сравнению с другими деятелями Французской революции, многие из которых воспринимали английский опыт со стороны, из-за Ла-Манша. Марат — единственный среди них, близко, непосредственно не только наблюдавший, но и участвовавший в английской политической жизни.
Если перечислить уроки, которые Марат извлек из политического опыта, приобретенного в Англии, то в дальнейшем будут совершенно ясны истоки идей, действий, борьбы Марата во время Французской революции, ибо их объяснение только ссылками на Руссо и его духовное влияние помогают понять многое, но далеко не все. Так вот, в Англии Марат, во-первых, отделался от иллюзий, характерных для французских либералов, мечтавших о создании избираемого законодательного органа, как гарантии создания нового общества разума и справедливости. В Англии Марат убедился, что деньги, почести и другие средства, остающиеся в условиях конституционной монархии в руках короля, делают парламент послушным орудием. Во-вторых, и это вытекает из первого, парламент, Национальное собрание не обеспечивают сами по себе сохранения народного суверенитета, высшей власти народа. Исполнительная власть, то есть король, может легко узурпировать этот суверенитет. В-третьих, общественное мнение с помощью свободной печати, политических обществ, клубов может оказаться огромной силой. Особенно газета в руках энергичного, несгибаемого и смелого человека может дать ему путь к влиянию и к столь дорогой сердцу Марата славе! В-четвертых, газеты и клубы, политические общества и другие средства выражения общественного мнения все же недостаточны для окончательного сокрушения деспотизма и его сторонников. Для этого мало даже насильственной революции, необходимость которой он осознал раньше. Необходим, кроме того, систематический террор против врагов свободы. Таким образом, задолго до революции Марат — единственный из всех деятелей революции — сознательно пришел к идее необходимости террора. Даже Робеспьер, которого судьба сделает реальным воплощением практики террора, если бы ему сообщили его будущее не только в годы пребывания Марата в Англии, когда ему было лет 10-15, но и в первые годы революции, содрогнулся бы и побледнел от ужаса. Марат же сознательно пришел заранее к идее террора. В-пятых, он понял, что никакой конституционный либерализм, никакая парламентская демократия не принесут счастья наиболее обездоленным. В то время, как все деятели революции во Франции, даже когда она уже начнется, не сразу поймут, как Марат, что внутри третьего сословия таятся острейшие противоречия между богатыми и бедными.
Марат жил в Англии в разгар промышленной, технической революции. Здесь появились механические прядильные и ткацкие станки, паровые машины, зародился и быстро стал расти промышленный пролетариат. В своей врачебной практике, в больницах, в тюрьмах, в рабочих казармах он увидел такую ужасающую нищету, перед которой меркли страдания французских бедняков. И он увидел первые вспышки гнева четвертого сословия. Рабочие выражали свою ярость отчаяния разрушением машин, хотя возникают и первые рабочие организации — профсоюзы. Марат понял, что идеал справедливости, тесно связанный для него со стремлением к славе, недостижим, пока уделом большинства останется нищета. С этим он примириться не мог, и именно эта непримиримость предопределит его величие. Наконец, в-шестых, Марат остался по-прежнему далек от понимания глубинных законов, предопределяющих весь этот трагический заколдованный круг социального ада, который он увидел в Англии. Как раз тогда уже завершал свой блестящий анализ экономического механизма англичанин Адам Смит. Но Марат этого не знал, об этом не задумывался, это не понимал. Впрочем, другие будущие вожди Французской революции не отличались от него. Здесь он остается явно неоригинальным, зато пример Джона Уилкинса окажется психологическим импульсом превращения Марата в личность из ряда вон выходящую.
Итак, медицина, борьба за хлеб насущный, пылкое увлечение политикой — даже для очень энергичного человека этого, казалось бы, достаточно, чтобы заполнить жизнь до предела. Но не таков Марат: круг его интересов, увлечений и занятий поистине необъятен. Одновременно он находит силы и время для невероятно продуктивной литературной деятельности.
Слава писателя давно тревожила его воображение. Как раз в это время гремела слава Свифта с его Гулливером. Дефо с Робинзоном, Ричардсона с Памелой и многих, многих других. Марат всегда предпочитал самое кратчайшее расстояние между мыслью и делом.1772 году он закончил большой роман в письмах «Приключения графа Понятовского». Действие происходит в Польше, охваченной гражданской войной. Герои — очаровательная Люсиль и не менее эффектный Густав, влюбленные друг в друга, принадлежат к знатным семьям, оказавшимся во враждебных станах. Коварные интриганы и интриганки еще более затрудняют положение новоявленных Ромео и Джульетты. Естественно, все кончается счастливым законным браком. Предельно банальное содержание и отсутствие художественных достоинств оказались очевидными даже самому автору, который не предпринял никаких попыток опубликовать свое произведение. Только благодаря сестре Марата Альбертине роман был напечатан в середине XIX века. И все же этот труд Марата заслуживает внимания вкрапленными в него политическими сентенциями. Марат клеймит тиранов и устами своих героев призывает народы к их свержению. Особенно яростно нападает он на русскую императрицу Екатерину II. Казалось бы, какое дело Марату до далекой России, о которой он к тому же имел лишь самое общее представление. Разного рода коронованных деспотов хватало и в других странах Европы. Одно место в романе раскрывает смысл этого предпочтения. Марат справедливо пишет о жажде славы, свойственной русской императрице, и замечает при этом: «Не дожидаясь, чтобы.публика создала ей славу, она наняла продажные перья, которые поют ей хвалу». Вот теперь все становится ясно. Известно, что тщеславная императрица ради приобретения в Европе известности весьма просвещенной государыни заигрывала с Вольтером, Дидро и другими авторитетными представителями Просвещения. Они не пренебрегали вниманием «Семирамиды Севера», тем более что она осыпала их щедрыми дарами. Марат, подобно Руссо, ненавидит Вольтера и энциклопедистов и не упускает возможности заклеймить их «продажные перья».
Отложив свой роман, Марат предпочел опубликовать первым свое произведение совсем иного рода. Вернувшись из Ньюкастла, он отдает его для перевода на английский. Он неплохо владел этим языком, однако считал, что знает его недостаточно хорошо, чтобы писать по-английски. Это было «Эссе о человеческой душе», опубликованное им без подписи, но с эпиграфом, хорошо передающим особенность характера Марата: «Тем, кто не переносит узды». Работа оказалась только первой частью более обширного произведения: «Философского эссе о человеке». Оно выйдет на английском в 1773 году, а в расширенном виде появится на французском в 1775 году.
Первая книга Марата не только нашла покупателей, но и вызвала отклики в прессе. Наряду с критикой признавались и достоинства произведения. Более того, по рекомендации лорда Литлтона русский поверенный в Лондоне обращается к Марату и официально предлагает ему поехать в Россию для продолжения своей научной деятельности. Марат отклонил весьма лестное предложение, ссылаясь на неподходящий климат, хотя, видимо, истинной причиной отказа явилось его враждебное отношение к Екатерине II и нежелание оказаться среди тех, кто, подобно Дидро, принимал заманчивые предложения императрицы, пытавшейся приобрести в Европе репутацию покровительницы науки.
К тому же именно в это время он хочет вступить в политическую борьбу в самой Англии. Весной 1774 года предстоят выборы в палату общин. Марат надеется оказать на них воздействие выпуском новой книги. Собственно, еще до приезда в Англию он начал писать большой труд «Цепи рабства». Он достает свои рукописи и садится за работу, пытаясь приспособить содержание книги к политической обстановке в Англии. Она должна стать призывом к избирателям, и поэтому он начинает лихорадочно быстро наполнять ее примерами из английской истории. Времени у него в обрез. Позднее, в 1792 году во введении к французскому изданию книги он расскажет: «Потребовались крайние условия, и мое усердие было безгранично. В это время я работал регулярно 21 час в сутки, оставляя для сна всего два часа. Чтобы взбодрить себя, я употреблял так много кофе, что это могло стоить мне жизни еще скорее, чем чрезмерный труд».
Наконец книга выходит из типографии, и оставалось, как вспоминал Марат, «спокойно ожидать ее успеха». Но автор совершенно измучен, и тринадцать дней находится в полной прострации, восстанавливая свои силы «с помощью музыки и отдыха».
Что же это за книга и могла ли она произвести желаемый Маратом успех? Бесспорно, это крупнейшее его произведение. Первое, что бросается в глаза, — отступление автора от провозглашенного им для себя правила: никогда не идти проторенным путем, не подражать никому, не пережевывать чужие мысли. «Цепи рабства» — откровенное подражание Руссо. Это начинается прямо с латинского эпиграфа: «Посвятить свою жизнь истине». Именно этими словами Руссо предварял каждое свое произведение. Часто обнаруживаются почти текстуальные совпадения. «Общественный договор» Руссо начинается знаменитыми словами: «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах». А вот первая фраза книги Марата: «Кажется, таков уже неизбежный удел человека — нигде и никогда не сохранять своей свободы: повсюду государи идут к деспотизму, народы же к рабству». Презрев ложную стыдливость, Марат поступает так же во всей книге. Но если Руссо выступает в своей знаменитой работе в качестве теоретика, то Марат склонен подтверждать ее положения просто подходящими примерами из истории, которыми наполнены 28 глав книги. В чем же причина стремления монархов и тирании к деспотизму? Она, по мнению Марата, заключается исключительно в их злой воле, в порочной наклонности господствовать, порабощать и угнетать. Порочная склонность к господству, к жестокому унижению людей — результат садистского наслаждения, получаемого тиранами от зрелища мучительных страданий народов. Это моральная первопричина существования всех угнетательских режимов. Объяснение даже для того времени по меньшей мере наивное.
Однако в некоторых вопросах Марат поднимается над подобными примитивами и высказывает действительно нечто более оригинальное. Указывая на связь богатства и деспотизма, он приходит к заключению, что антагонизм между феодальным дворянством и либеральной буржуазией является менее острым по сравнению с противоречием между богатыми и бедными, которое гораздо острее. Остается произнести слово «классы», чтобы подойти к открытию классовой борьбы как сущности предстоящих вскоре во Франции событий. Однако как раз перед этим выводом Марат останавливается, ограничиваясь выражением морального негодования против обнаруженного им зла. Пожалуй, самое печальное состоит в том, что Марат считает это зло неизбежным: «Стоит только народу однажды доверить кому-либо из членов общества опасное сокровище публичной власти и поручить ему соблюдение законов, как, скованный этими законами, народ рано или поздно видит свою свободу, свое имущество, свою жизнь отданными на произвол вождей, которых он сам избрал для их защиты». Слепая беспечность, невежество, глупость народа делают его беспомощной, обреченной жертвой тирании. «Из-за недостатков человеческой природы, а также ограниченности человеческого ума народы вечно становятся жертвами тех мошенников, которых они сами над собой ставят, и вечной добычей тех разбойников, которые ими правят».
Удручающий пессимизм — отличительная черта сочинения Марата. Его учитель и наставник Руссо тоже не уповал особо на будущее, обнаруживая «золотой век» лишь в прошлом. Но он, во всяком случае, размышлял о перспективах более справедливого будущего общества и выдвигал хотя и утопические, но все же обнадеживающие планы. Марат совершенно не занимается конструированием будущего: он просто не верит в возможность улучшения участи бедняков. Однако в противоречии с этим мрачным тупиком, из которого нет выхода, он детально, подробно, страстно и заинтересованно пишет, вернее мечтает о революции, о насильственном перевороте с целью свержения тирании. «Цепи рабства» фактически первая в истории попытка не создать, но по крайней мере вообразить тактику революционного переворота. В этом и состоит значение труда Марата, его новизна, оригинальность и ценность.
Карл Маркс имел в своей библиотеке экземпляр сочинения Марата, которое он высоко ценил. Книга испещрена многочисленными пометками Маркса. Она служила объектом внимательного и, видимо, неоднократного изучения.
Марат воодушевлен, буквально одержим идеей вооруженного восстания народа. Но одновременно его терзают тревожные сомнения. Он предупреждает о многочисленных опасностях, которые обрекают восстание на поражение. Главное условие успеха — его всеобщность, максимально широкое, дружное, массовое участие в нем. «Если восстание решено, — пишет Марат, — оно не приведет ни к какому успеху, если не станет всеобщим. Когда какой-нибудь город берется за оружие для защиты своих прав, а его пример не находит подражания у всего народа, то он приводится в повиновение наемниками, государь расправляется с его жителями как с бунтовщиками, и тяжесть их цепей увеличивается».
Марат хочет всеобщего, как можно более всеобъемлющего участия в революции всего народа. Однако он с горечью признается, что надеяться можно только на самых бедных, которым нечего терять, но которые ничего и не приобретут. Поэтому и на них надежды плохи. Так, в каждом своем тактическом соображении Марат в конечном счете приходит к безнадежным, безрадостным, просто удручающим выводам: «Во всех почти восстаниях плебеи берут на себя почин, граждане же, зажиточные и богатые, присоединяются лишь в крайнем случае. — их увлекает общин поток. Но чего ждать от обездоленных? Они не заинтересованы в восстании против тирании. Те, кто относится к плебеям, не могут к тому же полагаться друг на друга. Они плохо согласуют свои мероприятия и особенно не умеют держать их в тайне. В пылу гнева или в порыве отчаяния народ грозит, разглашает свои намерения и дает своим врагам время их обезвредить».
В приведенной цитате — главное противоречие всего сочинения Марата. Из нее видно, что речь-то идет не об одной, а о двух революциях. Одна из них — революция «зажиточных и богатых», буржуазии. Другая — революция обездоленных, которые начинают революцию, идут на смертельную борьбу, жертвуют собой, но ничего для себя не получают. Все достанется «зажиточным и богатым», которые лишь используют обреченную народную революцию. Марат всем сердцем на ее стороне, но она обречена. Но нельзя ли сделать так, чтобы и беднякам досталось что-то от буржуазной революции? Для этого, отвечает Марат, нужен вождь: «В эти минуты всеобщего брожения, если только не сыщется смельчак, который, встав во главе недовольных, повел бы их на угнетателя, выдающийся муж, подчиняющий себе умы, мудрец, способный руководить действиями необузданной и непостоянной толпы, — тогда восстание выразится в бунт, всегда безуспешный и легко подавляемый».
Итак, проблема решена! Увы, оказывается, как пишет Марат далее, трудности только начинаются: «Во время всеобщего восстания все согласны друг с другом в своей вражде к тирании и в необходимости иметь вождя, но когда дело доходит до его избрания, тогда другое дело. Трудно поверить этому! Всего чаще то, что должно было бы объединить умы в пользу той или иной личности, служит как раз к их разъединению. А такой недостаток единодушия между недовольными всегда губит их предприятие».
Слово «всегда», употребленное Маратом, выражает то, что проходит красной нитью, что служит его главной мыслью, что выдает основное: крайний пессимизм Марата. Он сам не верит в предлагаемую им революционную тактику. Сознание обреченности пронизывает всю революционную риторику Марата.
Часто, очень часто он сам признает безысходность своих прожектов. Он внимательно указывает на различные опасности, способные погубить революцию: вождь сам может стать тираном, его могут подкупить и он предаст революцию, требованиями какого-то порядка он вызывает недовольство восставших и они перестают выполнять его волю и т. д. «Если, — признает Марат, — всегда нужно многое, чтобы поднять народ на восстание, то иногда необходимо совсем малое, чтобы его усмирить». В итоге Марат приходит к обескураживающему выводу, что все зависит от «счастья», то есть от случайной неудачи вождя: «Народ, охотно подчинявшийся ему до тех пор, пока его усилия были успешны, покидает его, как только счастье ему изменяет. Счастье же редко отворачивается от него без того, чтобы сделать его ненавистным».
Следовательно, народная революция обречена и нет никакого выхода? Если бы Марат действительно не питал никакой надежды на успех, то зачем же он вообще писал эту книгу? Но у него некоторая надежда все же есть. Она пока только брезжит где-то на горизонте сейчас, за 15 лет до взятия Бастилии. А потом Марат громко и ясно укажет на путь к победе: необходимость революционной диктатуры. Сейчас же эта революционная тактика только намечена в довольно туманной идее вождя, «смельчака» и «мудреца». Но отправной пункт мысли Марата здесь, в «Цепях рабства».
Мало того, в своей книге Марат, выражая негодование против «глупости», «слепой беспечности», «невежества» народа, высказывает мысль о необходимости «ока» народа, его «часового», который прозорливо и постоянно указывал бы беззаботным беднякам на их истинных врагов и на грозящие ему опасности. «Но так как постоянное внимание к общественным делам не под силу большинству, — пишет Марат, — к тому же всегда занятому своими личными делами, важно, чтобы в государстве были люди, которые следят за действиями правительства, разоблачают честолюбивые замыслы, бьют тревогу при приближении грозы, пробуждают народ от летаргического сна, показывают ему пропасть, которую роют под его ногами, и торопятся указать того, на кого должно пасть общественное негодование».
Что это, как не предвидение, предсказание, замысел того, чем будет во время Французской революции сам Марат и его газета «Друг народа»? «Цепи рабства» — это удивительное пророчество сложного, противоречивого, трагического пути, которым пойдет Французская революция. Это пока еще смутное, подчас туманное, но фантастически верное предсказание всех тех трудностей, невероятно сложных катаклизмов и конечной гибели дела народной революции и судьбы монтаньяров. «Цепи рабства» ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве вполне зрелого произведения. Это скорее гениальный набросок, сумбурный, яркий, но противоречивый, явно преждевременный и уж совершенно не подходящий для Англии 1774 года.
В самом деле, чем закончилось «спокойное ожидание успеха», которому предался Марат, ценой отчаянных усилий выпустивший книгу к выборам в Англии? Если верить тому, что писал Марат во введении к французскому изданию «Цепей рабства» в 1793 году, то крайне встревоженное правительство лорда Норта подкупило типографщиков и книготорговцев, чтобы помешать выходу в свет «Цепей» до выборов. Более того, премьер-министр Норт намеревался арестовать и убить автора. Сохранились ли какие-либо документальные следы этих преследований? Полтора века спустя, в 1932 году, удалось найти письмо Марата, которое он в 1774 году направил лорду — мэру Лондона Джону Уилкинсу. Марат писал в нем: «Друг свободы, полный энтузиазма, я внимательно наблюдал за вашими распрями с министерством и его ставленниками, с восторгом следил за вашими великодушными усилиями…» Марат просил принять его, чтобы рассказать о преследованиях правительства в связи с выходом книги «Цепи рабства». Никакого ответа Марат не получил. С другой стороны, известно, что о выходе в свет книги газеты, как обычно, сообщили, и она свободно продавалась. Судя по всему, Марат был убежден в противоположном. Во время революции Марат, споря с Демуленом, напишет: «Молодой человек, знайте, что еще до того, как вы научились лепетать слово «свобода», я был ее апостолом и мучеником».
Что же произошло в действительности? Ничего. Книгу в Англии просто не заметили, ибо при существовавшей там свободе печати самые страстные обличения тирании, тем более в столь неопределенной форме, мало связанной с английской действительностью, и не могли обратить на себя внимание. Все остальное — плод воображения Марата, первое крупное проявление характерной для него мании преследования. Как известно, этим отличался и Руссо, о чем свидетельствует знаменитая «Исповедь». Но мнительность Марата имела, естественно, свои корни. Здесь и воспитание матери с ее рассказами о гонениях на гугенотов после отмены Нантского эдикта. Неопределенное положение Марата, человека без родины, врача без диплома, проявлявшего крайнюю неуживчивость, создали ту почву, из которой выросла психология одиночки-бунтаря, обреченного на самопожертвование, преследования и мученическую смерть. Это связано с общим крайне пессимистическим мироощущением Марата. Все это было бы смешно, если смех не обрывался при мысли о кинжале Шарлотты Корде…
Разве лишь историки вправе сетовать на болезненное пристрастие Марата к анонимности? Из-за этого он не подписывал писем, не хранил документов и серьезно затруднил работу будущих биографов. Во всяком случае, мысль о том, что его постоянно преследуют враги, была дополнительным стимулом его энергичной деятельности. Он приобретает новых друзей, 15 июля 1774 года его принимают в ложу франкмасонов. Он разослал экземпляры своей книги местным политическим обществам и затем совершил по нескольким городам своего рода пропагандистское турне. Везде его радушно встречали, и благодаря политическим обществам «Цепи» распространялись. В октябре 1775 года газеты сообщили о переиздании книги.
После этого он на несколько месяцев уезжает в Голландию, где живет в Гааге, Утрехте и Амстердаме. Здесь он познакомился с Марком-Мишелем Реем, издателем и другом Руссо, согласившимся напечатать в Амстердаме и распространить во Франции книгу Марата «Эссе о человеке». В начале 1775 года Марат возвращается в Лондон. Связи и знакомства, которые он приобрел в предшествующие годы, позволили Марату узаконить наконец свое профессиональное положение: 30 июля Шотландский университет Сент-Эндрюс присудил ему степень доктора медицины. Марат всецело отдается занятиям медициной. В Лондоне он живет в квартале Сохо, который тогда вовсе не был тем исключительно бедным районом, как в XX веке. Марат упрочил свой авторитет врача и был принят, как говорили, в приличном обществе. Он издает две специальные брошюры о глазных болезнях. Специалисты того времени и историки медицины нашей эпохи признают научную ценность этих работ. Его медицинская практика даже в Лондоне, где конкурентов у него было много, не только обеспечивала приличное существование, но и давала средства для издания книг. Легенды политических противников Марата о том, что в области медицины он просто шарлатан, не имеют под собой почвы.
В конце 1775 года закончилось печатание его книги в Амстердаме. Вскоре он узнал, что тюки с книгами задержаны в таможне Руана. Он заподозрил новые махинации против него и 10 апреля 1776 года выехал в Париж, намереваясь вернуться в Лондон в октябре. Случилось иначе: английский период его жизни завершился, когда ему было 30 лет.
Никакой полицейской махинации не обнаружилось. Просто произошло административное недоразумение. Вскоре книги доставили в Париж и начали продавать. Впервые книга Марата вышла не анонимно, а под настоящим именем автора. Ее полное название выглядело так: «О человеке или о принципах и законах влияния души на тело и тела на душу». По сравнению с английским, французское издание расширилось и составило три тома. Суть того, что Марат считал своим открытием, сводилось к утверждению: взаимовлияние души и тела осуществляется путем нервных флюидов. Такие утверждения, вернее гипотезы, высказывались многими и раньше. Поэтому в «открытии» Марата не содержалось ничего революционного.
Марат исходит из веры в существование нематериальной души, как из аксиомы, которая не требует доказательства. Но тут же он утверждает, что «наблюдение фактов есть единственная основа человеческих знаний». Старый идеализм просто смешан с материализмом. При этом Марат нападает на философов-материалистов, особенно на Гельвеция, книга которого «О человеке» только что появилась. Марат указывает даже местонахождение души в мозговой оболочке, хотя воздерживается от упоминания о бессмертии души. Словом, это причудливая смесь совершенно правильных описаний материального человеческого тела с вздорными рассуждениями о нематериальной душе. Книгу заметили, на нее откликнулся сам Вольтер в издании своего последователя Лагарпа критической заметкой, в которой с присущим ему остроумием высмеял философские взгляды, а вернее бредни Марата. Он сравнивал их с прыжками Арлекина. Критиковал книгу и Дидро. Во всяком случае, критика со стороны знаменитостей способствовала продаже книги, и вообще такой чести удостаивались немногие. Марат впал в ярость, безуспешно пытался ответить авторитетным мыслителям и вновь явил собой трагикомический облик человека, в котором гениальность перемешалась с чудовищным самоослеплением.
Но такова уж была жизнь Марата: блистательные взлеты сменялись нелепыми падениями, триумфы — провалами и наоборот. Вернувшись в 1776 году в Париж, он вступает в полосу своих «светских» успехов. Устанавливает новые и восстанавливает старые весьма полезные связи и быстро приобретает известность уважаемого медика, которому можно доверять. Ему удалось вылечить нескольких знатных пациентов. Особенно прогремел случай с маркизой Лобеспан. Эта молодая, весьма привлекательная особа жаловалась на жестокие боли в груди. Многие медики осматривали ее и поставили самый мрачный диагноз: дни маркизы сочтены!
Но вот за дело взялся Марат и быстро достиг полного излечения знатной и красивой пациентки. Газеты зашумели о медицинском чуде. Еще бы, Марат, который быстро поправил свое финансовое положение, окончательно подорванное изданием за свой счет философских научных трудов, смог завести для пропаганды специального секретаря в лице аббата Филасьера. Естественно, завистливые коллеги заговорили, что маркиза страдала не столько из-за болезни легких, а из-за нервов, расстроенных осложнениями в семейной жизни, что, видимо, было недалеко от истины. Что касается исцеленной маркизы, то она отблагодарила своего спасителя самым приятным способом: она стала его возлюбленной и не скрывала эту связь.
Кстати, в связи с этой историей уместно описать внешность Марата. Не только контрреволюционная литература, но и благожелательный к революции прославленный Жюль Мишле писал о том, что тот был уродом. Однако этому противоречат не только благосклонность к нему таких представительниц прекрасного пола, как Анжелика Кауфман и маркиза Лобеспан, но и многочисленные свидетельства его современников. Как же выглядел наш герой? Ростом он был невысок: один метр 65 сантиметров. У него смуглый цвет лица, очень темные волосы, орлиный нос, приплюснутый на конце. Красивый высокий лоб, блестящие глаза, способные бросать пламенные взгляды, живые и уместные жесты, мужественный и звучный голос. В минуты воодушевления он был просто обаятельным. В те годы Марат, чтобы не только нравиться своей маркизе, но внушать уважение великосветским пациентам, заботился о своей внешности и одевался элегантно. Другое дело Марат в последние свои годы, когда, скрываясь от преследований, он находит убежище в самых неподходящих для обитания местах и, тогда он обретет облик бродяги, и его лицо неделями не будет знать бритвы. Тогда же болезни обрушатся на него: из-за головных болей он станет повязывать голову платком, притом не очень чистым. Образ жизни клошара и кожное заболевание, естественно, не украсят его. Но до этого еще далеко, а пока Марат переживает пору светских успехов.
Благодаря маркизе Лобеспан и другим аристократическим связям Марат получает 24 июня 1777 года официальную должность врача лейб-гвардии графа д'Артуа (брата Людовика XVI, будущего Карла X) с годовым окладом в две тысячи ливров, не считая выплат на стол и квартиру. Он лечит не только дворян из окружения д'Артуа, но и самого принца крови, выполняет его личные поручения. Итак, за 15 месяцев пребывания в Париже он делает блестящую карьеру. Он живет сначала на улице Кок-Эрон, а затем занимает прекрасную квартиру на улице Бургонь, украшенную коврами, фарфором, хорошей мебелью. Кроме секретаря, он нанимает слугу. Марат носит шпагу, что было привилегией дворянина, которым, конечно, Марат не был. Среди его новых друзей маркиз Буше де Сан-Совер, первый камергер принца. Его стоит упомянуть, поскольку он будет близок к Марату во время революции.
Официальные обязанности оставляли новоявленному придворному медику много свободного времени, и он продолжает частную практику. Растет его клиентура, растут и гонорары. За визит он берет до 35 ливров — месячная зарплата рабочего! С легкой руки маркиза де Гуи он приобретает прозвище «врача неизлечимых». Вопреки контрреволюционным легендам Марат вовсе не был до революции «нищим ярмарочным шарлатаном». Напротив, при желании он мог бы великолепно процветать под сенью Старого порядка. Но стремится ли он к такому процветанию?
Благополучие, обретенное Маратом, не только не излечило его от революционных настроений, выраженных им в «Цепях рабства», но лишь усилило их. В самом апогее своих светских успехов Марат убедился, что, в сущности, это ничего не дало ему для достижения его главной цели — славы, для удовлетворения всепоглощающего стремления к ней. Он решил воспользоваться конкурсом, объявленным Экономическим обществом Берна. Желающим предлагалось представить «полный и детальный план уголовного законодательства». Марат пишет свой «План уголовного законодательства», хотя он не был юристом, не имел ни знаний, ни практики в этой области. Поэтому он и написал не юридическое сочинение, а несколько видоизмененное изложение «Цепей рабства». Он даже прямо использовал не только мысли, но и целые куски из этой работы. Новое сочинение — это не проект уголовного кодекса, как предлагалось участникам конкурса. Марат написал новое разоблачение несправедливого общества. В этом его отличие от «Цепей», где главное — призыв к насильственному ниспровержению деспотизма.
Исходный пункт рассуждений Марата — по-прежнему идеал Руссо. Он и начинает с утверждения, что все государственные учреждения являются результатом не общественного договора, как это должно было бы быть, а насилия: «Все государства были созданы с помощью насилия, убийства, разбоя, и у власти поначалу не имелось никаких иных полномочий, кроме силы».
Марат, как и всегда, исходит исключительно из общих моральных принципов. Никакого намека на попытку выяснить социально-экономическое происхождение государства. Правда, на этот раз он гораздо ближе подходит к этому, проводя мысль, что все законы — орудие господства богатых над бедными, что собственность — результат «первого захвата». Поэтому Марат делает вывод, опрокидывающий любое уголовное законодательство: «Кто крадет, чтобы жить, пока он не может поступить иначе, лишь осуществляет свое право». Мало того, он считает, что в преступлениях повинны не преступники: «Почти повсюду правительство само вынуждает бедняков к преступлению, отнимая у них средства к существованию».
Если в первом своем революционном произведении Марат осуждал глупость, доверчивость, покорность народа, то здесь он проявляет сочувствие, сострадание к угнетенным и униженным. Человек, которому создали репутацию «кровожадного», обнаруживает искреннее чувство милосердия. «Жестокость пыток и казней препятствует соблюдению законов», — утверждает Марат и даже предлагает резко ограничить применение смертной казни. Марат столь же оригинален в оценке так называемых государственных преступлений. Он делит их на две группы: ложные и подлинные. Ложные государственные преступления, которые он оправдывает, — это любое выступление, прямое или косвенное, против несправедливого государственного порядка. Подлинное государственное преступление — это действие представителей властей против народа, ограбление, обман и угнетение народа. Марат оправдывает любое противодействие этому и отстаивает право на «злословие», то есть право разоблачать подлинные государственные преступления: «Во всех тех странах, где закон не держит в узде высокопоставленных злодеев-государей, угнетающих своих подданных, чиновников, злоупотребляющих своей властью, прелатов, нравственность которых подозрительна, — не остается никакого другого средства, чтобы удерживать их в границах долга, кроме внушения страха перед общественным негодованием. Злословие в известном смысле как раз препятствует всем этим лицам злоупотреблять властью, а именно вследствие этого к нему следует относиться с терпимостью. Если страх замыкает все уста, — конец свободе!»
Таким образом, Марат написал не проект уголовного кодекса, а обвинительное заключение против властей. Он сам позднее писал о своем новом сочинении, что оно «может быть, наименее несовершенное из всех, мной написанных», ибо «точка зрения, развитая в нем, поможет установлению царства справедливости».
Именно поэтому Марат и не получил никакой премии на конкурсе, на что он, очевидно, и не рассчитывал, ибо на этот раз не выразил никакого протеста. Он напечатал «План», как обычно, за свой счет в 1780 году в Невшателе и отправил тираж во Францию. Специальная служба министерства юстиции подвергла книгу экзекуции: из каждого экземпляра вырывались наиболее возмутительные страницы. Практически весь тираж был полностью уничтожен. И все же «План уголовного законодательства» будет опубликован анонимно в 1783 году в «Философской библиотеке законодателя», изданной Бриссо, будущим вождем жирондистов, который в то время станет близким другом Марата.
Новое сочинение Марата вовсе не юридическое, конечно. Это моральный и политический трактат, написанный в разгар успешной медицинской карьеры Марата. Поэтому он и публиковал его без подписи, ибо иначе произошел бы скандал, ибо официально Марат тогда лишь тайно и урывками обращался к политике. Но и медицина его не удовлетворила. По свидетельству Бриссо, он признается ему позже, что врачебная практика в Париже была для него «лишь занятием шарлатана, недостойным его». Видимо, так и было, если учесть, что Марат занимался лечением на основе модных тогда методов магнетизма и электричества, путем использования мифических «флюидов». Впрочем, Марат добивался многочисленных излечений своих пациентов. Вероятно, это было результатом того, что в наше время именуется психотерапией. Другому своему другу, Руму де Сен-Лорану, Марат жаловался на зависть своих собратьев-медиков, занимавшихся интригами против него. Поэтому, продолжая лечить больных, чтобы обеспечить свое существование, основное время, силы и внимание он все больше отдает научным исследованиям. Он расширяет свою квартиру, добавив к ней лабораторию и анатомический зал, ведет напряженную исследовательскую работу. Однако главным предметом его занятий является все же не анатомия, а физика. Еще в декабре 1778 года он публикует «Открытия об огне, электричестве и свете», в январе 1780 года — «Исследование об огне», тогда же появляется его «Открытия о свете, сделанные в результате новых экспериментов», в 1782 году — «Исследование об электричестве». В целом это составляло около тысячи страниц и сотни экспериментов. Уже сам объем и размах работы заставляют отвергнуть версию о «шарлатанстве». Настораживает, правда, необычайно разнообразный диапазон исследований Марата. Даже серьезное изучение лишь небольшой части того, чем занимался Марат, отнимало у многих ученых всю жизнь.
Вопрос о том, был ли он серьезным ученым или шарлатаном, естественно, оказался столь же запутанным противоречивыми суждениями, клеветой политических врагов, как и все другое, связанное с Маратом. Однако, если верить серьезным специалистам по истории конкретных наук, которыми занимался Марат, то можно все же получить достоверную картину.
Они считают, что Марат был очень способным экспериментатором, отличался изобретательностью в проведении опытов, в выборе объектов наблюдения. Они отмечают также, что Марат не прибегал к использованию гипотез или экспериментов других ученых, что он для своего времени был одаренным и добросовестным ученым.
Однако Марат, конечно, не являлся несправедливо обиженным и непризнанным гением. По мнению специалистов, он изучил некоторые новые частные проблемы, внес ясность по их отдельным аспектам, углубил некоторые знания. Но в целом его система объяснения важнейших явлений света и электричества, основанная на «огненных флюидах», к сожалению, не оказалась ни гениальным открытием, ни просто прогрессом в развитии науки. Марат не стал ни Коперником, ни Галилеем, ни Ньютоном, ни Лавуазье, как он иногда сам воображал. Но ведь множество академиков или профессоров как в те времена, так и особенно в наши, тоже ими не являлись, хотя преуспевали и пользовались весьма респектабельной репутацией. Его несчастье состояло в том, что он слишком переоценивал свои достижения. Ему было мало того, что некоторые ученые принимали его всерьез как ученого. Бенджамин Франклин поддерживал с Маратом серьезную переписку, хотя из-за последующих полицейских преследований наиболее ценные письма Франклина исчезли. Знаменитый Ламарк одобрял некоторые выводы Марата. Вольта пожелал ознакомиться с опытами Марата. Гёте, который был не только великим поэтом, но и ученым, отзывался положительно о работах Марата в области рефракции и преломления света.
По обычным представлениям это уже неплохо. Но Марат этим совершенно не удовлетворен, ибо его по-прежнему обуревает жгучее желание славы. Поэтому он добивается официального признания и одобрения Академией наук Парижа. Через одного из своих новых друзей графа Мэльбуа, который сам был академиком, Марат просит академию рассмотреть его «Открытия». Назначается комиссия, она прибывает к Марату, но, как назло, облачная погода мешает демонстрации опытов, для которых требуется солнечный свет. Это только начало долгих злоключений. В конце концов 17 апреля 1779 года заключение дано. Оно сдержанно, но в целом довольно благоприятно. Марат хочет большего и требует нового и более определенного одобрения своего исследования об огне и свете, в котором он критикует теорию цветов Ньютона. Это уже вызывает раздражение. Проходит месяц за месяцем, однако Марат не получает никакого ответа. Потеряв терпение, он начинает посылать одно за другим раздраженные напоминания. Но академия не торопится обсуждать работы Марата. Он осаждает теперь письмами лично постоянного секретаря академии Кондорсе. Наконец получает заключение академии, подписанное Кондорсе 10 мая 1780 года. В нем всего 27 строчек, из которых явствует, что, поскольку опыты Марата противоречат признанным в оптике положениям, академия считает бесполезным входить в детали и выносить какое-либо категорическое суждение.
Марат в ярости. Он убежден, что Кондорсе и Лавуазье поддались интригам его заклятых врагов — «философов». Вообще-то его возмущение имеет видимость основания, ибо работу его покупают и даже переводят в Лейпциге на немецкий язык. Его близкий в то время друг Бриссо, тот самый, который в будущем станет смертельным врагом Марата и назовет его «бродячим шутом», сейчас пылко разделяет его возмущение решением академии. Марат продолжает свои исследования, он тратит все деньги на приобретение приборов и инструментов. Три года, с 1780-го по 1783-й, он упорно экспериментирует в области применения электричества в медицине. Ему уже некогда заниматься обычной медицинской практикой, денежные средства иссякают.
К тому же в 1782 году он серьезно заболел, и в это время постоянная уверенность в себе покидает его. В письме к Бриссо, который уехал в Англию, чтобы там заняться, в частности, изданием и распространением научных трудов Марата, он пишет с явным чувством усталости: «Эти частые приступы заставляют меня опасаться, что мое здоровье не выдержит усталости от работы; счастье, если моменты их ослабления дадут мне возможность завершить мои труды». Но Марат уже не надеется на это и неожиданно пишет, что обстоятельства, возможно, заставят его переехать в Лондон.
Здоровье все же возвращается к нему, и он завершает опыты по электричеству, описывает их в брошюре и посылает ее на конкурс в академию Руана. И вдруг неожиданная удача. Провинциальная академия, каких тогда было много, удостаивает его премии! Этот весьма скромный научный успех Марата оказался последним. Он все упорнее раздумывает о том, чтобы уехать из Франции и искать славы в другом месте. По некоторым данным, в это время Марату предлагают поступить на службу одного из «северных дворов». Речь может идти либо о России, либо о Швеции. Марат предпочитает Лондон. Неожиданно ему представляется другая возможность, которая необычайно увлекает его.
Друг Марата, уже упоминавшийся Рум де Сен-Лоран с апреля 1783 года находился в Мадриде, в столице самого отсталого, самого обскурантистского королевства Европы. Правивший там Карл III и его министр Флоридобланка решили провести реформы, чтобы модернизировать это захолустье, представление о котором прекрасно передают знаменитые офорты Гойи. Речь зашла, в частности, об учреждении в Испании Академии наук. Рум де Сен-Лоран предложил министру кандидатуру Марата на пост главы будущей академии. Флоридобланка согласился с этой идеей, заметив, что, естественно, придется навести справки через испанское посольство в Париже о личности и репутации будущего руководителя академии. Марат с воодушевлением отнесся к предложению, о котором сообщил ему друг из Мадрида. Между Парижем и Мадридом завязывается оживленная переписка. Сохранившиеся у Рума десять писем Марата, полученные им в период от июня до ноября 1783 года, рисуют нам облик Марата, совершенно не соответствующий лубочным портретам-биографиям Друга народа.
Неизвестно, какую гамму чувств испытал Марат, давая свое согласие поступить на службу одного из самых реакционных, консервативных и отсталых королевских дворов. Ясно только, что больше всего Марат боялся, как бы его кандидатуру не забраковали. Кроме того, он понимал, что если в Париже узнают о его намерениях, то он потеряет службу при дворе графа д'Артуа. Но была и другая причина для опасений, которую Марат тщательно скрывал от Рума. Ведь именно в это время только что вышла в свет его работа «План уголовного законодательства». Что, если в Мадриде узнают о содержании этой крайне революционной книги? А «Цепи рабства», где содержится программа насильственной революции? Как же поступает Марат, если судить по его письмам? Они открывают картину по меньшей мере трагикомическую, даже невероятную в свете позднейшей революционной репутации Марата. Действительно, вот что писал автор «Цепей рабства» и «Плана законодательства» собственной рукой в начале июля 1783 года в Мадрид: «Близко знакомые со мной люди хорошо знают, что нет оснований опасаться человека, который всегда уважал правительство, законы, нравы страны, где он находился, и который никогда не сделает ничего, что могло бы запачкать его репутацию, которой он всецело предан».
Марат в своих письмах пытается заранее, на случай получения о нем неблагоприятной информации, оградить свою благонамеренность, чтобы Мадрид не взял обратно соблазнительного для него предложения: «К моей радости примешивается досада, когда я думаю, что господин посол услышит, может быть, вопли наших философов, для которых даже вера в бога является преступлением». И он добавляет: «Сколько почтенных духовных лиц я мог бы выставить в качестве гарантов!» Марат деист в духе Руссо, и в его книгах содержатся бичующие пассажи против церкви, но теперь он отрекается от всех своих убеждений. В письме от 20 сентября он пишет Руму: «Бесспорно, мы с вами вдвоем испытываем одинаковое уважение к Святейшей Религии, но ваши взгляды на средства служения ее делу более плодотворны, чем мои, и я восхищаюсь вашей мудростью в этом отношении, испытывая благородное стремление стать вашим соперником в этом служении».
Поистине, его католическое величество и сама священная инквизиция, процветавшая в Испании, имели шанс обрести надежнейшего слугу трона и алтаря! Может быть, Марат стремился в Испанию, чтобы осуществить там свои революционные планы? Вряд ли, ибо не было в Европе страны, где деспотизм был так прочен, как в Испании. Увы, речь шла о самом банальном и жалком отречении…
Марат так рвался уехать в Испанию, что начал усиленно заниматься испанским языком. Кстати, в одном из писем он пишет: «Что касается моего сердца, то оно давно испанское». Вспомнив о своем испанском происхождении по отцовской линии, он начинает хлопотать о получении доказательств принадлежности к дворянству. Марат приобретает для запечатывания своих писем Руму печатку с каким-то фантастическим дворянским гербом. Рум, видимо, поверил ему и на своих письмах писал: «Господину де Марату». Опять эта пресловутая дворянская приставка, которой грешили Робеспьер и Дантон. Но Марат? Это кажется немыслимым. Однако так было.
Приготовления Марата к совершению новой для него роли оказались напрасными. В начале ноября Рум информирует его, что дело приобретает дурной оборот, ибо в Мадрид якобы поступили письма, в которых Марат «изображен в самых черных красках». Его обвиняют в невежестве, бездарности, в шарлатанстве, изображают человеком, который много обещает, но неспособен выполнять свои обещания…
20 ноября 1783 года Марат посылает Руму огромное письмо, сопровождаемое кучей разных оправдательных материалов для представления их министру. Он описывает всю свою жизнь в неожиданно лучезарном свете благонамеренного подданного короля. Он изображает себя жертвой интриг философов, этих чудовищ, которые «уже разработали ужасный проект ликвидации всех религиозных корпораций и уничтожения самой религии». Разумеется, он не пишет ни слова о своем участии в политической жизни Англии, как и о некоторых своих трудах, таких, как «Цепи» и «План». Рум снимает копию со всех материалов и передает документы министру Флоридобланка. Но Марату все же отказывают в обещанной и вожделенной должности.
В начале 1784 года он теряет и свою прежнюю, хотя и скромную, но надежную должность врача лейб-гвардии графа д'Артуа. Теряет он и свое жалованье, а времена богатой клиентуры прошли. Примерно в это же время из его жизни как-то уходит маркиза Лобеспан. Не может больше Марат и пользоваться услугами секретаря аббата Филасьера. Марат оставляет обширную квартиру и переезжает в более скромную на улице Вье-Коломбье. Ему 41 год, и наступают наиболее трудные годы его жизни.
Надо отдать должное Марату: неудачи и провалы не обескураживают его. В 1784 году, кроме «Медицинского электричества», он завершает «Элементарные понятия оптики». Новую работу он публикует благодаря пожертвованию «просвещенного любителя». Денег нет, а когда они иногда появляются, Марат тратит их на приобретение инструментов для опытов. В мае 1785 года Марат обращается к властям с просьбой освободить его от уплаты налогов как «иностранца, путешествующего с целью получения образования». Много сил и времени он тратит на участие в конкурсах провинциальных академий. Марат пишет «Похвалу Монтескье» — простое изложение взглядов мыслителя и терпит провал на конкурсе академии Бордо. Он берется за любые темы. Появление воздушных шаров вдохновляет его на сочинение, он пишет о природе радуги, о причинах радужной окраски мыльных пузырей…
Постоянное стремление к славе все чаще сменяется судорожными поисками хлеба насущного. Приходится пренебрегать некоторыми принципами. Еще в своем неопубликованном романе он ядовито намекал на низкопоклонство своих лютых врагов — философов Дидро и Вольтера перед могущественными монархами. Имея в виду «дружбу» Вольтера с прусским королем Фридрихом II, Марат писал: «Никогда такая постыдная низость не запятнает моей жизни».
Но в 1786 году он вспомнил, что по рождению является подданным прусского короля, слывшего покровителем ученых. Используя посредничество одного из друзей, Марат посылает Фридриху II роскошно переплетенный экземпляр «Исследований об электричестве», сопровождая подарок просьбой взять его на службу. «Просвещенный» деспот не удостоил Марата ответом.
Приходится изворачиваться и перебиваться продажей экземпляров своих книг, приборов и материалов для физических опытов, запасов лекарств. Лишь немногие из прежних друзей не покидают его. Самым надежным оказался Авраам Брегет, часовщик и физик, прославившийся на весь мир своими часами, морскими и астрономическими инструментами. В 1787 году из Англии возвращается Бриссо, тоже бедствующий и боящийся даже признаться, что деньги, вырученные им продажей сочинений Марата в Англии, он просто проел. Бриссо поражен крайней бедностью Марата, он помогает ему продавать приборы и книги. Бриссо отметит в своих мемуарах, что и в нищете Марат сохранял свою гордость и достоинство: «Стремление к славе было его болезнью, и он не стремился к деньгам».
Впрочем, иногда удача навещает нищего, но гордого Марата. Среди членов ненавистной Французской академии дружеское расположение к нему сохраняет Беозе, с помощью которого Марату удается опубликовать анонимно перевод «Оптики» Ньютона, украшенный официальным одобрением Академии, не изменившей, естественно, пренебрежительного отношения к научным работам самого Марата. Этот незначительный, достигнутый путем уловки, успех не меняет ничего в бедственном положении Марата. Кажется, ничего уже не оставляет надежд на лучшее. Но ведь как раз в это время развертывается движение за реформы, связанные с деятельностью Неккера. Несколько раз его сторонники предлагали Марату присоединиться к их усилиям, опубликовав за счет банкира брошюры в поддержку реформ. Однажды Бриссо прямо спросил его: «Почему вы упорно продолжаете заниматься физикой? Настало время подумать о свержении деспотизма, объединить вашу деятельность с моей». Марат ответил: «Я предпочитаю спокойно продолжать мои эксперименты. Физика не ведет в Бастилию». Может быть, трусость побуждала воздерживаться от политики? Вероятно, он просто не верил в движение, возглавляемое либеральными аристократами. Летом 1788 года новая, тяжелая болезнь обрушилась на Марата. Он уже считал себя обреченным в свои 45 лет. Зато он продолжает твердо верить в ценность своих научных работ. Он пишет завещание, доверяя все свои рукописи и все имущество Брегету. Совершенно неожиданно он поручает своему другу передать все его научные разработки… в Академию наук!
Как он трогателен и жалок, этот Марат! Даже перед лицом смерти он думает о славе! На этот раз о посмертной славе. И какая уверенность в себе, когда он пишет: «Такова была, есть и будет судьба гениальных людей, которые опередили свой век: оплакивать всю жизнь слепоту настоящего поколения и встречать определенную оценку со стороны будущих поколений».
Марат прав. Будущие поколения сумеют оценить его подлинное величие. Но, увы, оно связано не с его скромными научными достижениями, которые он слишком переоценивал. Не с его яростной борьбой против злонамеренных академиков. Вообще, период от возвращения из Англии до начала революции не составляет самой блестящей страницы в биографии легендарного Друга народа. Порой, когда он, к примеру, буквально пресмыкается перед королем Испании или Пруссии, кажется, что это кто-то другой. Ведь уже говорилось, какую причудливую смесь гениальности с крайней ограниченностью представлял собой этот необыкновенный человек. Кроме яркой вспышки «Плана уголовного законодательства», в парижский предреволюционный период почти не видно Марата, защитника и пророка угнетенных и униженных. Тяжкая болезнь обрушивается на него, он уже пишет завещание. И вдруг наступает выздоровление, вернее — воскресение! Оно произошло не в результате применения каких-либо целительных средств вроде тех, которые принесли короткую, эфемерную известность Марату, «врачу неизлечимых». Его вылечила и воскресила революция.
Спасительный кризис, возрождение мужества наступили, когда больному Марату рассказали, что решено созвать Генеральные Штаты. В отличие от множества французов, да и от самого Людовика XVI, пожалуй, полагавших, что дело сведется лишь к перераспределению в сборе налогов, Марат сразу почувствовал, что наступает революция. Он писал об этом: «Я стонал…, когда революция возвестила о себе созывом Генеральных Штатов. Я скоро увидел, куда придут события, и я начал дышать надеждой увидеть наконец человечество отомщенным, надеждой на то, что я смогу помочь разорвать его цепи, смогу занять мое место. Но это был еще только прекрасный сон, готовый исчезнуть: жестокая болезнь угрожала мне его завершением в могиле. Не желая покинуть жизнь, не совершив ничего для свободы, я составил на скорбном ложе «Дар отечеству».
Итак, Марат почувствовал надежду на освобождение всех н одновременно надежду для себя лично занять свое место в ореоле славы. Для этого он, больной, даже умирающий, пишет новую работу, брошюру, вышедшую без подписи, в феврале 1789 года под названием «Дар отечеству».
Это слово — «Дар» — кажется претенциозным, особенно на фоне умеренного, даже банального внешне содержания брошюры. При беглом чтении это лишь программа конкретных мер по превращению абсолютистского феодального государства в конституционную монархию. Многие историки и биографы поэтому не обнаружили здесь Марата-революционера, а нашли искреннего монархиста и консерватора. Действительно, он таким и выглядит, если прочитать эти почтительные восхваления Людовика XVI и Неккера. Можно усмотреть также в «Даре отечеству» тактический ход, уступку господствующему настроению. Все это и в самом деле содержится в «Даре». Но не только это. Ведь если вспомнить «Цепи рабства», то революция с целью установления конституционной монархии совершенно не удовлетворяет Марата. В Англии он понял, что она не освобождает простой народ, бедняков от угнетения, нищеты и рабства. Его идеал — иная, народная революция, грозным пророком которой Марат хочет стать и станет. Собственно, «Дар отечеству» — это первое послание Марата-пророка, адресованное народу. Но, подобно предсказанию дельфийского оракула, оно нуждается в расшифровке.
Прежде всего оно отличается от множества брошюр, наводнивших тогда Францию. Как правило, они выражают всеобщую эйфорию и предсказывают торжество третьего сословия. Марат же видит третье сословие отнюдь не единым, хотя и призывает его к единству. Пока. Потому что он мечтает о другой революции, которая якобы осчастливит бедняков. И он рисует образ желанной счастливой Франции, образ, который сначала воспринимается лишь как риторическая концовка брошюры:
«О родина моя, я вижу тебя уже преображенной! Где эти несчастные, изнуренные голодом, лишенные приюта и крова, отданные во власть отчаяния, которых ты, казалось, отталкиваешь от своей груди? Где эти обездоленные, полуголые, истомленные, бледные и тощие, бывало населявшие твои города и селения? Где эти бесчисленные стаи сборщиков-лихоимцев, которые опустошали твои поля, подстерегали у твоих застав и грабили твои провинции?
Народ не стонет больше под тяжким бременем королевских налогов. Крестьянин располагает уже хлебом и кровом и дышит свободно; рабочий разделяет его судьбу, ремесленник не терпит больше нужды, и ревностный служитель церкви не прозябает в бедности».
Это, конечно, утопия, мечта, ибо даже если будут проведены в жизнь все те конкретные меры по установлению конституционной монархии, которые терпеливо и последовательно перечисляет Марат, бедность, нищета не исчезнут. И так может случиться, если народ, усыпленный пышными общими фразами, не проявит упорной революционной энергии. Для этого он должен осознать, что ничего еще не завоевано, что борьба впереди, что пока перед народом лишь возможность, которую легко упустить. Главная забота Марата и состоит в том, чтобы народ не довольствовался общими декларациями, чтобы он поднялся на борьбу за реальные, а не мнимые блага. Обращаясь к народу, к его низшему, самому многочисленному слою бедняков, Марат предупреждает: «Вам представляется теперь единственный случай, чтобы вновь вступить в свои права. Познайте же, наконец, цену свободы, поймите же, наконец, цену свободы, поймите же, наконец, ценность мгновения… Берегитесь, как бы, пренебрегая мудрыми советами и прислушиваясь к соблазнительным речам, вы собственными руками не вырыли пропасть у своих ног. Берегитесь, как бы собственные ваши дети не упрекнули вас позднее в том, что вы выковали им цепи, и как бы они, рыдая над горькими плодами порабощения и жалуясь на свои мучения, не стали проклинать продажность своих отцов».
Да, Марат призывает благословение на «лучшего из королей», он даже восхваляет добродетели дворянства и духовенства. Но здесь же указывает, что среди них есть люди, «полные решимости скорее ввергнуть страну в ужасы гражданской войны, чем отказаться от своих несправедливых притязаний». Еще ничто, казалось бы, не предвещает действий контрреволюции, еще никто тогда, в начале 1789 года, не видел угрозы аристократических заговоров. Но Марат уже прозорливо чувствовал такую опасность и указал на нее. Более того, он обращается в «Даре отечеству» не только к народу, но и к тем, кто будет пытаться препятствовать выполнению его справедливых требований… Марат обращается к привилегированным, напоминая им о возможных грозных и страшных для них действиях народа против своих угнетателей: «Что, если бы он начал с того, что разграбил их жилища и поделил их земли? Как не понимают они, что, будучи раздавлены численностью своих противников, тем из них, кто уйдет от меча, придется искать спасение в изгнании или стонать в оковах? Как же не страшатся они превратностей судьбы, когда воинственная нация стоит перед ними с оружием в руках? Кто в этом случае может поручиться, не будет ли землевладелец, в свою очередь, закрепощен? Кто может поручиться, что какой-нибудь прелат, граф, маркиз, князь не будет, в свой черед, подчинен своему конюху или лакею? Все эти соображения, вполне способные привести в трепет угнетателей и дать понять богатым и сильным, мирно наслаждающимся всеми общественными преимуществами, что не следует доводить до отчаяния огромный и храбрый народ, пока еще требующий лишь облегчения своих страданий и жаждущий еще только воцарения справедливости».
Это «пока» и «только» выглядят весьма многозначительно и могут смениться «жестокой гражданской войной». Правда, это предупреждение. Но это и предвидение. Удивительно точная картина того, что произойдет очень скоро. Итак, в целом весьма умеренный текст содержит в себе нечто грозное и суровое. Марат начинает говорить языком и голосом Друга народа и предвещает гигантскую жакерию, насильственную и кровавую народную революцию в случае, если «сильные и богатые» доведут народ до отчаяния…
Итак, Марат ясно видит будущее вплоть до апокалипсической картины восстания угнетенных. Он даже заглядывает дальше и рисует картину райского процветания Франции, когда народ будет наслаждаться покоем и счастьем. Но как будет устроен этот рай на земле? Здесь фантазия Марата останавливается. Только отдельные детали прорываются искрами, освещающими грядущий золотой век. Прелат, граф, маркиз, землевладелец будет, «в свою очередь, закрепощен». Господами же станут их бывшие «конюхи и лакеи». Но ведь прелатов и маркизов, вообще дворян и богачей всего одна-две сотни тысяч, а бедняков — десятки миллионов. И если они поменяются местами в социальной иерархии, то как сотня тысяч новых крепостных сможет прокормить много миллионов новых господ? Эта неосуществимая, почти евангельская мечта стара как мир и столь же утопична. Марат совершенно не представляет себе сложного социального и экономического механизма окружавшего его мира и тем более мира будущего. Тысячелетняя мечта рабов, крепостных, многих поколений несчастных тружеников понятна и объяснима их наивным невежеством. Но Марат, человек образованный, который, по его собственному признанию, «исчерпал почти все, что человеческий разум сделал в области морали, философии, политики, чтобы извлечь все лучшее»! Неужели это лучшее представляет собой лишь примитивную утопию, очень старую, но вечно возобновляемую, с помощью которой утешали свое горе много поколений обездоленных?
Сам Марат утверждал, что «Дар отечества» имел «большой успех». В действительности только патриотическое общество города Каво удостоило его премии. Произведение потонуло в бурном потоке всяких памфлетов, многие из которых были подписаны более громкими именами. Последовала и критика редкого и возмутительного тона «Дара отечеству».
Марат немедленно отвечает и публикует «Добавление», состоящее из новых четырех «Речей к третьему сословию». Он сделал это очень быстро, ибо уже 12 марта 1789 года последовал приказ о запрещении «Добавления». Что побудило Марата снова нетерпеливо схватить перо? Появилась королевская грамота о созыве Генеральных Штатов, в которой монарх, удостоенный в «Даре» комплиментов как «мудрый и добрый», заявлял, что цель созыва — лишь решение его финансовых трудностей. С нескрываемым гневом Марат пишет: «Я ищу в грамотах слов, идущих прямо к сердцу и вызывающих слезы восхищения, но нахожу в них лишь обычный язык властолюбивого государя, дела которого пришли в расстройство и который готов охотно внимать смиренным просьбам своих подданных, лишь бы они в свой черед помогли ему выпутаться из затруднений…
Это ли язык справедливого государя, наконец, осознавшего, что только одни злоупотребления его властью ввергли государство в пучину бедствий… Не общественные бедствия вовсе, не тяжкие стенания доведенных до отчаяния подданных нарушили его покой; короля тревожит только плохое состояние финансов, истощение его казны — вот что не дает ему спать спокойно!»
А раз так, считает Марат, то Генеральные Штаты должны отказаться обсуждать финансовые дела, пока не будут приняты новые основные законы страны. И далее он излагает основы будущего конституционного устройства, основы которого — суверенное Национальное собрание. Ему, а не королю должна принадлежать высшая власть. Правда, здесь Марат непоследовательно соглашается на право вето короля. Но очень скоро он исправит свою ошибку. Марат предусмотрителен, требуя голосования не по сословиям, а по большинству голосов всех трех сословий, заседающих совместно. Он решительно против предоставления королю права объявлять войну и вообще считает, что общее ограничение его прерогатив лишь пойдет на пользу ему самому. Он тактично, но очень откровенно поясняет, что король обязательно с этим согласится, ибо иначе он поступит как «какой-то безумец» или «гнусный тиран». И он советует ему не слушать «осаждающих трон изменников родины», готовящих заговор против нации, против революции. Кстати, он довольно прозрачно дает понять, что в принципе республика гораздо предпочтительнее монархии. Словом, Марат блестяще предвидит ход событий, а они будут развиваться так, как будто люди послушно и сознательно выполнят все намеченное им. «Дополнение» содержит множество замечательных идей, мыслей и чувств. Пожалуй, главное в нем, мрачное, пессимистическое, но потому и грозное новое предупреждение и аристократам, и богатой либеральной буржуазии, что они напрасно не хотят считаться с яростью, гневом, страданиями большинства угнетенного народа. С необычайной силой, голосом и стилем легендарных библейских пророков Марат обличает их: «Я не сомневаюсь в том, что те вялые люди, которых обычно называют рассудительными, осудят горячность, с которой я встал на защиту народа. Но моя ли вина в том, что люди эти бездушны? Бесчувственные к народным бедствиям, они сухо взирают на страдания угнетенных, на содрогание доведенных до отчаяния несчастных, на агонию бедняков, истощенных голодом, и раскрывают уста лишь для того, чтобы твердить об умеренности и терпении. Возможно ли следовать их примеру, если в груди у тебя есть сердце? И как следовать их примеру по отношению к врагам, не способным ни к какому ответному великодушию, глухим к голосу справедливости, чьи сердца закрыты для раскаяния? В течение стольких веков, пока они угнетали народ, что выиграл он от подобных успокоительных рассуждений? Отказались ли они от своего варварства при виде его бедствий? Были ли они тронуты его стенаниями? Сильные слабостью народа, они с яростью поднимаются против него и кричат «караул!», лишь только он заводит речь об их прерогативах. Неужели, чтобы добиться покоя, народу всегда придется молча позволять себя грабить, неужели он своей трусостью будет позволять им и впредь упиваться его кровью?»
Здесь снова слышатся раскаты грозного, пока еще подземного гула, предвещающего извержение вулкана народной революции! Марат — единственный и первый предсказал ее приближение. И это не революция «вялых…, рассудительных» буржуазных либералов. Это нечто более ужасное. Но заклинания Марата остаются гласом вопиющего в пустыне. Ему выпадает обычная судьба пророков. Правда, запрещение дополнительных речей Марата — это своего рода признание. Напрасно также король пренебрег предупреждениями Друга народа. А ведь в примечании к четвертой речи он упомянул английского короля Карла I, сложившего голову на эшафоте.
В начале 1789 года Марат уже совершенно оправился от болезни и действует в полную силу своего страстного темперамента. Действует очень активно, но, к сожалению, его опять заносит в сторону от его главного революционного пути. В начале 1789 года он пишет свою брошюру «Современные шарлатаны». Марат решил воспользоваться революцией, чтобы разделаться со своими заклятыми академическими недругами. Он предлагает, чтобы Генеральные Штаты упразднили Академию наук вообще (кстати, это и сделает Конвент позже). В этой идее есть зерно истины, ибо научные кланы, корпорации, академии всегда неизбежно вырождаются в касту, спаянную круговой порукой, превращаются в «мандаринов», как говорят во Франции, заимствуя китайское понятие. Однако его грубые нападки на таких выдающихся ученых, как Монж, Лаланд, Лаплас или Лавуазье, совершенно несправедливы и просто смешны. Нелепо также выглядит обвинение Маратом «шарлатанов» в том, что они якобы вставили в опубликованную посмертно «Исповедь» Руссо те места, где автор признается в разных неблаговидных, даже постыдных поступках. У Марата нет никаких доказательств: он просто обижен за обожаемого им кумира, который оказался не столь уж божественно безгрешным. К чести Марата надо заметить, что он, видимо, особенно не добивался публикации своих «Шарлатанов», которые напечатают только в сентябре 1791 года.
Марат испытывает растущее стремление служить революции. Его выбирают членом избирательного комитета дистрикта Карм, где он живет, и он старательно выполняет свои скромные обязанности. Созываются Генеральные Штаты, и больше месяца идет глухая борьба за превращение их в Учредительное собрание. Многим непонятно происходящее в Версале. Марату кажется, что депутатам не хватает усердия и знаний. Он обращается с письмами к депутатам, казавшимся ему наиболее горячими патриотами: Мирабо, Шапелье, Сийесу, Габо, Варнаву, Дюиору и другим. Никто из них не отвечает Марату; настораживает слишком пылкий и безапелляционный тон писем; неизвестный человек предлагает действия, которые кажутся им бессмысленными.
В начале июля Париж охвачен тревогой. В Версаль стягиваются наемные войска. Они уже здесь, на Марсовом ноле. Заговор двора ясен: хотят разогнать Учредительное собрание, усмирить бунтующий Париж. Отставка Неккера как искра вызвала взрыв восстания. 14 июля взята Бастилия. Марат с восторгом и тревогой видит эти события. Но как может влиять на них какой-то незаметный член избирательной комиссии одного из 60 дистриктов столицы? Марат хочет предупредить, предостеречь этих радостных, ликующих людей. Они думают, что уже победили. Глупцы! Революция еще только начинается. Разве аристократы согласятся так легко с поражением? Нельзя допустить, чтобы из-за ошибок наивных и доверчивых людей из парода снова восторжествовал порок!
«Я понял, — напишет позднее Марат, — что нужно гораздо сильнее действовать для того, чтобы бороться с пороками, а не ошибками. Это было возможно только при помощи ежедневной газеты, в которой мог быть услышан голос суровой правды, в которой законодателям напоминали бы о принципах, в которой разоблачались бы мошенники, нарушители долга, изменники, раскрывались все заговоры, выслеживались все тайные замыслы, а при приближении опасности били бы в набат». Марат принял самое важное в жизни решение и определил свою историческую судьбу. Но легко сказать — издавать газету!
Хотя новые газеты в то время десятками появлялись каждый день, сделать это практически оказалось нелегко. 19 июля Марат увлеченно излагает свою идею комитету дистрикта, но его члены, зажиточные буржуа, слушают скептически. Они не склонны доверять этому доктору Марату. Предложение отклонено, Марат выходит из комитета и решает действовать самостоятельно, в одиночку!
Пока же Марат продолжает бомбардировать лидеров левых в Собрании своими письмами. Одно из них, написанное 27 июля, случайно сохранилось, и это поразительный документ. Марат требует в нем создания Революционного трибунала! Значит ли это, что именно он был инициатором террора? Нет, это не так. Марат пишет по поводу расправы народа в дни взятия Бастилии над Делоне, Флесселем, Фулоном и Сертье. Он считает их виновными, но осуждает самосуд. Он против жестоких расправ толпы и, чтобы предотвратить их, считает необходимым учреждение юридического правомочного органа революционного правосудия. Марат предвосхищает то, что в будущем сделает Конвент.
Недруги Марата будут писать, что с началом революции он впал в «разоблачительную истерию». Все зависит от того, какими словами обозначить страстно-нетерпеливое, жгучее, испепеляющее самого Марата желание успеха революции, его истинно пламенное стремление служить ей как орудию освобождения порабощенных и униженных. Он приходит в ужас от того, что чудо освобождения и спасения людей может обернуться для них горем и несчастьем. Поэтому он дрожит от яростного негодования, когда видит эту опасность, и не может сдержать вопль отчаяния при малейшем признаке обмана народа.
Учредительное собрание, которому он еще недавно доверял и на которое надеялся, потеряло его доверие после того, как пресловутой «ночью 4 августа» устроило фарс, возмутившую его сцену лицемерного великодушия. 7 августа он пишет гневное «Разоблачение усыпителей народа». Его негодование совершенно оправданно, хотя призыв Марата немедленно распустить Собрание и заменить депутатов не только поражает и шокирует: он просто неосуществим. Если Марат и прав, то, как с ним будет часто случаться, прав слишком рано! Но ведь это и называется пророчеством…
Можно назвать и демагогией, если вспомнить, что постоянной главной страстью Марата является его стремление к славе. Видимо, здесь снова сложное сочетание всех разнообразных и скрытых импульсов, определявших его слова и действия.
11 августа ему каким-то чудом удается выпустить один номер газеты «Монитор патриот», в котором он раскрывает смысл многочисленных конституционных проектов, обсуждаемых Собранием. Только один Марат по-настоящему смело срывает с них все покровы: права получат лишь буржуазия, богатые, а на долю гигантского большинства голодных бедняков не останется ничего, кроме звонких и пустых фраз.
Итак, он выполнил свой долг, он предупредил. Но кто заметил, а тем более прочитал его жалкий листок? Да и какие могут быть основания для тревоги, если в Версале заседают депутаты, среди которых несколько сотен лучших юристов, законников Франции? Если бы они еще любили народ, как Марат, мучились бы и страдали, болели за него так же, как он… Увы, поверить в это трудно, и надеяться на них нельзя. Значит, Марат должен любой ценой сделать это! И он делает, он пишет в первые дни августа, как сам говорит, «беглый набросок» конституции и Декларации прав человека, объемистый документ в 60 страниц. Он совершенно не похож на привычные конституционные тексты. Это не сухо-торжественный трактат с чеканными, но холодными юридическими формулами. Скорее это какая-то исступленная поэма ярости и гнева, мудрости и наивности, ужаса и восторга. А ведь наш бедняга, наверное, написал ее в своей жалкой каморке при тусклой свече за какую-нибудь одну бессонную ночь, дрожа от нетерпения и жгучего желания подарить людям счастье! И, конечно, обрести славу! Проект конституции Марата напоминает какой-то основной закон сказочной Земли обетованной, а не кодекс меркантильной буржуазии. Да ведь, по правде говоря, Марат и не хочет буржуазной революции, а мечтает об иной, народной революции. Но он не до такой степени слеп, чтобы быть совершенно непрактичным, и поэтому он ссылается на всеми тогда признаваемого Монтескье, сдабривая его резко усиленной дозой утопического эгалитаризма Руссо.
Марат прямо заявляет, что в обсуждаемых в Версале документах «права народа нарушены», и поэтому он решил «раскрыть великие истины» своим голосом, исходящим «из недр народных масс». Если его предостережения не будут услышаны, заявляет Марат, Францию ожидают «страшные потрясения».
Главное в его проекте, и в этом он далеко обгоняет свою эпоху, посягательство на священный для буржуазии принцип частной собственности. Марат заявляет, что на основании естественного права, «когда какому-нибудь человеку недостает всего, он имеет право отнять у другого имеющиеся у него в избытке излишки… Человек вправе покуситься на собственность, на свободу, даже на жизнь себе подобных». Но такое естественное право ограничивается общественным правом, защищающим права других членов общества. Однако эта защита должна содержать принципиальное исключение: «Закон должен предупреждать слишком большое неравенство состояний, устанавливается предел, какой они не должны переступать».
Общество обязано обеспечивать всем равное право на жизнь, оно «в долгу перед теми своими членами, которые не обладают никакой собственностью и чей труд едва достаточен для удовлетворения их насущных потребностей, для обеспечения их средств, которые позволяют им питаться, одеваться, иметь подходящее жилище, лечиться во время болезни, доживать свой век в старости и воспитывать своих детей… Те, кто утопает в роскоши, должны взять на себя заботу о покрытии потребностей тех, кто лишен самого необходимого».
Но это уже далеко выходит за пределы целей буржуазной революции, которую Марат обгоняет на века. Он осмеливается даже на утверждение, что социальная справедливость вправе восторжествовать даже с помощью насилия. Правомерность вооруженного восстания народа и преступность сопротивления ему — вот что провозглашает Марат: «Честный гражданин, которого общество оставляет в нужде и отчаянии, возвращается в естественное состояние и имеет право требовать с оружием в руках тех преимуществ, которых он не сумел добиться раньше, лишь для того, чтобы позднее добиться много больших. Всякая власть, которая этому противится, есть власть тираническая, а судья, который осуждает такого гражданина на смерть, — лишь подлый убийца».
Марат досконально развивает свою идею народного суверенитета, который осуществляют его депутаты. Интересен образ депутата, нарисованный им; ведь это не что иное, как его собственный личный идеал, которому он будет подражать до последнего своего дыхания: «Это — человек прямой и твердый, не торгующий честью служения государству; человек безупречный, рассчитывающий на свою добродетель; человек мудрый, лишенный честолюбия и не боящийся бедности; это, наконец, великий человек, созданный для бессмертия, видящий собственную славу в том, чтобы посвятить свои таланты, свои ночные бдения, свой покой делу благополучия своих сограждан».
Марат детально описывает задачи, принципы организации исполнительной власти. Она, вполне в духе времени, воплощена в монархии. Зато какого жесткого контроля он требует со стороны народа над этой властью! Особенно настойчиво Марат предостерегает против угрозы военного деспотизма. Поразительно, но создается впечатление, что он вполне отчетливо видит призрак Наполеона! Столь же досконально он излагает требование к организации судебной власти, требуя учреждения Верховного трибунала, дабы «карать министров за злоупотребления». В проекте конституции Марата предусмотрено все необходимое и, конечно, вооруженные силы. Он требует в связи с этим «отречения от страсти к завоеваниям». Что касается налогов, то Марата больше всего беспокоит, чтобы богатые не ускользнули от налогообложения, тогда как бедняк у него «не должен платить ничего». В муниципальной организации, в устройстве церкви, во всем Марат неукоснительно требует проведения максимального демократизма. При этом человек, которого уже начали клеймить как опасного проповедника хаоса, анархии, грабежа, беззакония, жестокости и варварства, выступает со всей страстью необузданной души именно за подлинный порядок, честный и справедливый. Он пишет к своему проекту примечание, которое надо рассматривать как его подлинное исповедание веры, как раскрытие необыкновенной, поистине загадочной души Марата:
«Я чувствую омерзение к распущенности, беспорядку, насилиям, разнузданности; но когда я подумаю, что в настоящее время в королевстве имеется пятнадцать миллионов человек, которые чахнут от крайней нужды, которые готовы погибнуть от голода; когда я подумаю, что правительство, доведя их до этой страшной доли, без сожаления бросает их на произвол судьбы и обращается, как с преступниками, с теми из них, что собираются толпой, и преследует их, подобно диким зверям; когда я подумаю о том, что муниципалитеты не предоставляют им и куска хлеба, разве только из страха быть ими сожранными; когда я подумаю о том, что ни один голос не поднимается в их защиту ни в клубах, ни в дистриктах, ни в общинах, ни в Национальном собрании, — мое сердце сжимается от боли и трепещет от негодования. Я знаю обо всех опасностях, каким я подвергаюсь, горячо отстаивая дело этих несчастных; но страх не остановит моего пера; не раз уже отказывался я от забот о своем существовании ради служения отчизне, ради мести врагам человечества и, если понадобится, отдам за них последнюю каплю крови».
Итак, создано одно из любопытных произведений революционной мысли Великой французской революции. Но как оно противоречиво! Постоянное страстное стремление Марата к личной славе смешано с поразительным чувством милосердия и сострадания к угнетенным. Мысль Марата совмещает в себе вещи несовместимые: реальные требования буржуазной революции, интересы революционной буржуазии третьего сословия, с одной стороны, и еще более резкое требование четвертого сословия, бедняков, плебеев города и деревни, с другой. Конечно, прямая защита их материальных интересов не входила в расчеты либерального большинства Учредительного собрания. Категорическое требование Марата ограничить буржуазную собственность в интересах бедняков не могло там найти поддержку. Даже Робеспьер, один из самых левых депутатов, ни за что не поддержал бы его ни тогда, ни позже. Такая позиция определялась не злой волей, не какой-то враждой к беднякам, но трезвым расчетом. Ведь если богатых лишить богатства, то откуда возьмутся средства для создания промышленности, для ведения торговли, для оплаты артистов, художников, ученых? А если голод и нужда исчезнут, что заставит человека, существование которого обеспечено, упорно работать?
Нарисованный Маратом земной рай построен на зыбкой песчаной почве иллюзий, утопий, если не демагогии. Его проповедь можно даже назвать реакционной, ибо ограничение, регламентация частной собственности задержала бы становление капитализма во Франции, а прогресс был реален только на этом пути. Возможно, Марат понимал это, учитывая политический опыт, приобретенный им в Англии. Но он понимал также, что крушение феодализма выгодно и массе бедняков. Он пытался использовать буржуазную революцию для хотя бы частичного удовлетворения задач иной, народной революции. К тому же, мыслима ли вообще задача рационалистической реконструкции мысли Марата? Не следует ли отвести изрядную долю в его деятельности инстинкту, чутью, чувству? В духовном мире человека всегда есть нечто такое, что является иррациональным, что он сознательно не контролирует. Особенно это характерно для таких страстных, экспансивных натур, как Марат. Он отдавался до конца борьбе за свое дело. Но ведь и Спартак дрался героически без всяких шансов на успех, как и множество других отчаянных мятежников всех времен и народов, выражавших гнев и отчаяние угнетенных. Подобно им, Марат не очень верил в торжество народной революции, которую он вдохновлял. Не случайно он часто проявляет мрачный пессимизм, обреченность, даже склонность к мученичеству. Подобно Христу, это человек без улыбки, и он как будто предчувствовал, что его ждет терновый венец мученика. В том-то и состояло величие Марата как настоящего революционера, чтобы бороться даже при самых ничтожных шансах на успех. Даже при отсутствии таких шансов. Бороться ради самой идеи, ради славы…
Он и боролся. Написав проект Конституции и Декларации прав, Марат три недели обивал пороги парижских типографщиков, пытаясь уговорить их напечатать его взрывчатое произведение. Оно появляется лишь в конце августа за два дня до принятия Собранием совсем другой Декларации прав. Марат остается по-прежнему в пустыне, где его пророчество почти никто не слышит. Нужна газета. После случайной удачи в виде выпуска одного листка, 13 августа его арестовали, но после назидательной беседы в тот же день освободили. Марату постепенно становится яснее, что значит начать выпуск своей газеты. Для этого прежде всего требовались деньги. Впрочем, не так уж много. Однако тысяча экземпляров обходилась в 40-45 ливров — цена хорошего обеда на двоих в ресторанах Пале-Рояля и ложи в Опере. Сколько же тысяч он будет печатать? Мирабо издавал тогда газету в 10 тысяч экземпляров, а тираж газеты Лустало «Революции Парижа» превышал 100 тысяч. Марат остановился для начала на тираже в две тысячи. Правда, аудитория газеты окажется значительно больше. Она предназначена для бедных, а среди них мало грамотных. Поэтому газету обычно читали вслух целой группе людей.
Преодолев множество препятствий, 12 сентября 1789 года Марат выпустил первый номер газеты под названием «Парижский публицист». С шестого номера, с 16 сентября, она стала называться «Друг народа». С 15 октября он стал подписываться «Марат, Друг народа». Название газеты стало одновременно как бы частью собственного имени Марата и выражало очень точно его историческую миссию. Внешне эта газета была мало похожа на современные: формат ее напоминает нынешние журналы. В ней было от 8 до 16 страниц серой, рыжей или синей грубой бумаги, бледный шрифт, плохая печать. Всего примерно за три с половиной года Марат выпустит около тысячи номеров, то есть больше 10 тысяч страниц он напишет своей рукой, ибо он один делал всю газету. Такая адская работа, часто в условиях преследований, подполья, без помощников — сама по себе вызывает восхищение. Кроме того, что Марат писал сам, он печатал только письма читателей, в основном людей из народа самых разных профессий и положений. Правда, бывало, что Марату требовался повод для выступления, и он сочинял письма сам, подписываясь вымышленным именем. Ничего предосудительного в этом нет, если учесть, что и сейчас наши газеты постоянно занимаются этим. Но Марат прибегал к таким приемам довольно редко. Вообще эта была честнейшая газета. Случалось, Марат ошибался, и тогда он сразу же исправлял ошибку, извиняясь перед читателями. Важная особенность газеты состояла в том, что в отличие от почти всех других парижских газет она не была информационной, то есть она не печатала все последние новости, происшедшие накануне. Это была проблемная газета; каждый ее номер посвящался тому, что Марат считал самым важным в тот момент для дела революции.
Рождение «Друга народа» (и одновременно второе рождение самого Марата) явилось событием в истории революции. Внешне не случилось ничего особенного, появилась лишь новая, одна из многих сотен рождавшихся тогда газет. Эти многочисленные издания отражали какие-то течения среди буржуазии, взгляды разных буржуазных «разумных» революционеров.
Но с этой газетой впервые обрел свой голос народ! Поэтому она сразу заняла совершенно исключительное место. Стиль, манера, язык Марата, сначала показавшийся многим яростно-нелепым, бредовым, удивительно точно отразил коллективное сознание бедноты, тех, кто голодал, кто проливал кровь, штурмуя Бастилию, и кто на другой день беспечно радовался, наивно торжествуя победу. И этому нисколько не мешала бесцеремонная манера Марата резко, даже обидно высказываться о глупости народа, его невежестве, беспечности, трусости, легковерии. Марат не скупился на уничижительные эпитеты, не льстил народу, не подлаживался под его язык и настроения. Напротив, он ошеломлял, озадачивал жгучей смесью яростной ненависти и острым чувством реальности, обнаженной до конца жестокой правдой.
Спустя недели две после начала издания «Друга народа» Марат напечатал такие слова: «Мне отовсюду пишут, что эта газета производит скандальное впечатление: враги отчизны пишут о богохульстве, а трусливые граждане, никогда не знавшие ни порывов свободолюбия, ни опьянения добродетелью, бледнеют, читая ее».
Что же заставляет бледнеть трусов? Марат решительно разоблачает иллюзии тех, кто думает, что революция уже победила: «В ваших руках лишь призрак власти… вы дальше от счастья, чем когда-либо». Учредительное собрание, обсуждавшее конституцию, он клеймит позором и проклятием и требует его роспуска и выбора нового. Он предлагает разогнать и муниципальное собрание, обрекающее трудовой люд на голод. Однако он ни разу не предложил никакой конкретной меры против богатых, не требовал практических действий, которые облегчили бы участь бедняков. Зато настойчиво предупреждает о «гнусном заговоре» и требует для борьбы с ним концентрации революционной власти, создания Революционного трибунала и Комитета общественного спасения, избрания народного трибуна-диктатора.
Никто, правда, не понимал ясно смысла этих требований. Народ верил в Учредительное собрание. Мирабо оставался его кумиром. По-прежнему огромный авторитет имел Лафайет, верили и мэру Парижа академику Вайи — ненавистному для Марата. Крайние меры, предлагаемые «Другом народа», казались пока ненужными и бессмысленными. «Требовать крайних мер прежде, чем положение вещей сделает возможными или хотя бы постижимыми для достаточно большого числа умов, — это еще не служит доказательством политической прозорливости», — писал Жак Жорес по поводу действий Марата осенью 1789 года.
Многие читатели воспринимают яростные призывы «Друга народа» как плод больного воображения. Однако 3 октября в Париже узнают о королевской встрече с офицерами Фландрского полка, о подготовке войск, и убеждаются, что «гнусный заговор» — реальность. 5 октября утром газета Марата призывает парижан «собраться с оружием в руках… Мы погибнем, если народ не назначит трибунал и не облечет его властью». Не Марат организовал поход на Версаль и насильственное перемещение короля в Париж. Он даже и не призывал к нему. Но он возбуждал революционный дух народа. И это поняли в Ратуше, куда уже несколько раз вызывали Марата для объяснений. А 6 октября отдан приказ о его аресте. Из-за революционных событий выполнение приказа переносят на 8 октября. Но предупрежденный Марат скрывается и уходит в подполье. Итак, открытая борьба Марата за ускорение и завершение революции продолжалась 27 дней. Отныне Марат занял свое место поборника самых крайних революционных действий. Он гордо заявлял руководителям Ратуши, начавшим открыто его преследовать: «Я око народа, а вы лишь его мизинец».
Глава V ОТ ВЕРСАЛЯ ДО ВАРЕННА
В первые дни октября 1789 года революция переживает новое испытание. Все достигнутое за пять месяцев, прошедших со дня открытия Генеральных Штатов, поставлено под вопрос. Скандальный банкет Фландрского полка только один из признаков подготовки нового опасного заговора королевской партии. Она пытается взять реванш за Бастилию, за революционные решения Учредительного собрания и подавить революцию. Задумали собрать вокруг Версаля около 10 тысяч солдат. Людовик XVI намерен двинуть их на соединение с 30-тысячной армией маркиза Буйе, стоящей около Меца. Затем войска пойдут на Париж и раздавят «мятеж». Таков замысел. Его, конечно, осуществляют тайно. Но эпизоды, подобные злополучному банкету, где исполняется военный марш и трубят сигнал к атаке, вызывают тревогу в Париже. Она усиливается из-за поведения короля. Он открыто отказывается одобрить отмену феодального порядка и Декларацию прав человека. Так начинается осуществление контрреволюционного заговора.
Париж волнуется. Народ сильно возбужден сообщениями и призывами революционных газет Марата, Демулена и других журналистов. 4 октября, в воскресенье, расклеена афиша кордельеров, предложенная Дантоном. Она указывает задачу: идти всем в Версаль, чтобы побудить короля переехать в Париж. В народе давно уже зреет убеждение, что это решит больную проблему недостатка продовольствия и предотвратит заговор двора. В Париже король будет под надзором народа. На другой день, в воскресенье 5 октября с утра, несмотря на холодный осенний ветер и проливной дождь, на Гревской площади собирается народ. Бьет набат, и из предместий подходит много вооруженных людей. Больше всего здесь женщин из Сент-Антуанского предместья и Центрального рынка. Герой Бастилии Майяр бьет в барабан и кричит: «Вы страдаете от голода, а Австриячка объедается мясом и вином! У вас нет больше хлеба, а мадам Вето бросает под ноги трехцветные кокарды!» Женщины врываются в Ратушу, разбирают оружейный склад. Захватывают даже несколько пушек. Майяр и «амазонка революции» Теруань де Мерикюр возглавляют первую колонну, отправляющуюся в Версаль.
Колокола продолжают бить в набат. Теперь на площади собирается Национальная гвардия. Она желает последовать примеру женщин. Лафайет пытается отговорить своих подчиненных. Напрасно. Муниципалитет, наконец, решает присоединиться к народной инициативе и выделяет двух комиссаров. Вместе с Лафайетом они должны пригласить короля в Париж. Вторая колонна из 15 тысяч национальных гвардейцев, сопровождаемая пестрой толпой вооруженных жителей Парижа, отправляется в путь.
А в Версале 5 октября происходит нечто такое, что, как будто нарочно, подтверждает безошибочность удивительного революционного чутья народа. Поход на Версаль оказался необычайно своевременным. В тот день на утреннем заседании Учредительного собрания в атмосфере угрюмого молчания депутатов председатель, лидер умеренных Мунье зачитывает ответ короля на требование одобрить Декларацию прав. Это отказ, продиктованный ненавистью, слепотой, высокомерием и глупостью. Правда, он сопровождается лицемерием, псевдоюридической казуистикой, двусмысленностью. Но это отказ! Левые возмущены. Даже умеренные типа Мунье удивлены и забывают о своих распрях с левыми. Слишком откровенно король отвергает конституцию, саму волю нации. Как же он далек от понимания смысла событий!
Слово берет Робеспьер, и он говорит с еще небывалой для него революционной смелостью:
«Ответ короля сводит на нет не только всю конституцию, но и право нации иметь таковую… Он ставит свою волю выше права нации… Вас уверяют, что не все статьи вашей конституции достигли совершенства; не высказывают своего мнения о Декларации прав; разве это дело исполнительной власти — критиковать власть учредительную, которая является ее источником? Нет такой власти на земле, которая имела бы право разъяснять принципы нации, ставить себя над нацией и критиковать ее волеизъявления. Вот почему я рассматриваю ответ короля как противоречащий принципам и правам нации, как несовместимый с конституцией…
У вас нет иного средства преодолеть препятствия, как сокрушить эти препятствия!»
На этот раз мнение Робеспьера разделяют многие депутаты и тоже осуждают короля. Собрание принимает решение послать к нему делегацию во главе с председателем Мунье, чтобы «умолять Его величество соблаговолить безоговорочно принять Декларацию прав». Странное сочетание слов «безоговорочно» и «умолять» отражает крайне двусмысленные отношения монарха и Собрания. По-видимому, было мало шансов заставить короля уступить. Однако именно в этот момент в события вмешивается народ. Едва назначили делегацию, как зал начали заполнять пришедшие из Парижа насквозь промокшие и голодные женщины. От их имени берет слово Майяр. Он требует хлеба для жителей Парижа и наказания офицеров, оскорбивших трехцветный символ революции. Решено присоединить делегацию женщин к группе депутатов, направляющихся к королю. А он уже ждет, ибо его специально привезли с охоты. Пришлось прервать увлекательное занятие при известии, что в Версаль явилось несколько тысяч женщин, а из столицы еще движется бесконечная колонна национальных гвардейцев и просто вооруженных жителей парижских предместий. Придворные перепуганы и некоторые советуют королю бежать в Рамбуйе, а потом и дальше. Но он решает прибегнуть к излюбленному средству: хитрить и обманывать.
Людовик приветливо принял неожиданных посетительниц, хотя после четырех часов ходьбы по размытой дождем дороге и без того бедно одетые женщины выглядели весьма необычно в роскошных залах Версальского дворца. Король даже ласково обнял молоденькую работницу Пьеретту Шабри и обещал женщинам позаботиться о пропитании Парижа.
Иначе он отнесся к требованию депутатов одобрить Декларацию прав и другие декреты. Он велел Мунье подождать, и ожидание продолжалось больше пяти часов.
За это время случилось многое. Голодная, измученная и все растущая толпа разбрелась вокруг дворца, окруженного лейб-гвардией. Сначала завязались дружелюбные беседы, начался обмен насмешками, сменившийся перебранкой и столкновениями. Нескольких женщин ранили шпагами. Потом гвардейцы застрелили одного рабочего. Бойцы Бастилии ответили огнем, и несколько королевских телохранителей остались на земле, остальные отступили к дверям дворца.
Именно в момент стрельбы испуганный король дал, наконец, согласие одобрить Декларацию прав и декреты. «Препятствие», о котором говорил Робеспьер, сокрушили. И сделал это народ. Часть толпы в долгие часы ожидания занимала зал заседаний Собрания. Пришедшие из Парижа женщины прерывали ораторов. Громкими криками требовали закона о снижении цен на хлеб и мясо. Заседание стало невозможным, депутаты попросту разбежались. Одна из женщин уселась в председательское кресло. Когда Мунье вернулся, его окружили и фамильярно стали давать ему полезные советы, например, «остерегаться фонаря». Конечно, народ не пытался, да и не мог взять власть. Но одно лишь его присутствие производило неизгладимое впечатление. Оно было исполнено глубокого исторического смысла.
Между тем в 11 часов вечера 6 октября подходит из Парижа второй кортеж из отрядов Национальной гвардии во главе с Лафайетом и сопровождающей их толпы народа. Генерал встречается с королем и просит его перенести свою резиденцию из Версаля в Париж. Король откладывает решение до завтра. Затем двор, Лафайет, депутаты ложатся спать. Но не спит народ, толпящийся вокруг костров. Сначала оттуда доносятся лишь звуки песен. И это вовсе не революционные песни. Люди поют роялистский гимн «Да здравствует Генрих IV!». Но под утро снова гремят выстрелы и льется кровь. Вооруженный народ начинает охоту на лейб-гвардию. Она укрывается во дворце, но патриоты врываются в здание, взламывают двери. Полуодетая королева спасается бегством. Разбуженный Лафайет кое-как устраивает перемирие и утром уговаривает короля выйти с королевой на балкон и объявить о своем согласии переехать в Париж.
Лафайет ведет короля к мраморному балкону, выходящему на двор, заполненный народом. С ними королева с дофином на руках. Толпа шумит, бурлит и волнуется. Над ней возвышаются длинные пики с отрубленными головами нескольких несчастных лейб-гвардейцев. Среди хаоса звуков легко можно разобрать лишь слова: «Короля в Париж!» Людовик, дрожа от страха, произносит несколько фраз. Он объявляет о своем согласии переехать вместе с семьей в Париж. Толпа отвечает криками «Да здравствует король!». Народ, страшный в гневе, быстро меняет настроение и становится добрым и великодушным. Ведь в его сознании еще безраздельно царит вера в доброго короля… Теперь король будет отделен от дурных советников, и все пойдет хорошо! Как и в июле, новое поражение короля возвращает ему популярность.
6 октября после полудня из Версаля двинулся в Париж огромный причудливый кортеж в 30 тысяч человек. Впереди шествовала Национальная гвардия. На штыках у многих наколоты хлебцы, в стволы ружей воткнуты зеленые ветки. Затем двигались королевские солдаты, включая злополучный Фландрский полк, на этот раз с трехцветными кокардами. Среди них тащилась и карета с королевским семейством, окруженная кричащими, приплясывающими женщинами, с ружьями и пиками, с зелеными ветками. Без конца слышались торжествующие возгласы: «Мы везем булочника, булочницу и пекаренка!» Потом ехали пятьдесят телег, нагруженных мешками с мукой из королевских запасов. Далее следовали многочисленные кареты министров, сановников, депутатов. Толпа торжествующих парижан не оказывала им никакого почтения. С выражением растерянности на лице вблизи королевской кареты гарцевал Лафайет. Уже наступила ночь, когда Людовика XVI, украшенного огромной трехцветной кокардой, Лафайет и Байи вывели при свете факелов на балкон Ратуши. Оглушенный, сбитый с толку король пробормотал, что «он приезжает с удовольствием, с полным доверием к своему народу». Только после этого его отпустили в пустовавший со времен Людовика XIV дворец Тюильри, где королевскому семейству пришлось разместиться по-походному, ибо ничего не успели подготовить к такому неожиданному повороту событий. Итак, если мужчины взяли штурмом Бастилию, то женщины захватили в плен короля.
Всего каких-то полтора десятка километров отделяют старую резиденцию короля в Версале от его нового пристанища во дворце Тюильри. Но какая разница в положении Людовика XVI и его дворца! Теперь они в плену! Каждый шаг короля и его придворных отныне под надзором народа. Людовик лишен даже своего любимого и постоянного развлечения — охоты — и вынужден предаваться другому «хобби» — слесарному ремеслу. Мария-Антуанетта и ее окружение не в состоянии скрыть яростное негодование, и их ненависть прорывается при каждом контакте с новыми властями. Приходится расставаться с провалившимся замыслом разогнать Учредительное собрание. Может быть, вообще стоило бы пойти на примирение с революцией, тем более что положение конституционного монарха с цивильным листом в 25 миллионов ливров не так уж плохо? Мирабо все более настойчиво внушает это двору. Но в Тюильри ненависть к «доброму народу» окончательно ослепляет всех, от короля до его лакеев. Провал двух заговоров ничему их не научил.
Но король лицемерит, и многие, если не все, ему верили не только тогда, но и много позже. Даже Жорес пишет, что Людовик «явно хочет попытаться жить в добром согласии с революцией». Видимо, Жорес не знал, что насильно привезенный в Париж король сразу же направил испанскому королю Карлу IV секретное письмо: «Я выбрал Ваше величество…, чтобы передать в ваши руки торжественный протест, который я выражаю против всех актов, противоречащих королевской власти, вырванных у меня силой с 15 июля этого года. Я прошу Ваше величество держать в тайне этот протест, вплоть до случая, когда его публикация будет необходимой».
Итак, монарх решил водить всех за нос, вплоть до «случая», то есть до нового заговора против революции.
Что касается короля и его сторонников, всех, кто воплощал Старый порядок, то их чувства по крайней мере понятны. Но как обстоит дело с Учредительным собранием? Ведь второй раз его спасает народ! Как настроены депутаты, сама жизнь которых теперь вне опасности? Казалось бы, среди них должно царить удовлетворение и облегчение. Все обстояло гораздо сложнее. Конечно, крайние монархисты, которых скандально представлял Мирабо-бочка, вечно пьяный братец великого трибуна, испытывают такие же чувства, как и в королевском дворце. «Черные», как их называют, то ли потому, что среди них много прелатов, то ли из-за того, что черная кокарда — символ Австрии, а следовательно, Марии-Антуанетты, испытывают самую черную ненависть к народу. Естественно, на противоположной, левой стороне и настроение противоположное. Здесь поняли, что народ — опора революции, что союз с народом, опора на него — решающее условие продолжения и завершения революции.
Именно на этой социальной и политической базе возникнет и приобретет силу и власть партия монтаньяров. Робеспьер сразу почувствовал это, проявив впервые главную особенность своей революционной тактики. Он никогда не будет активно участвовать в подготовке революционных выступлений народа, предпочитая выжидать исход дела. Но как только выясняется, что народ вновь побеждает, он немедленно выступает с разъяснением смысла подготовленной и достигнутой победы. Правда, этот дебют робеспьеристской тактики не слишком удачен.
Робеспьер все понял, когда увидел, что короля буквально поволокли в Париж, как быка на бойню. Бесконечно трудолюбивый и пунктуальный, он засел за составление торжественной речи, прославляющей победу народа. Собственно, он сделал свой выбор давно, благодаря этому он и оказался-то здесь. Он лишь снова, еще раз убедился в собственной прозорливости, и он скажет об этом во весь голос, скажет тем, кто смел издеваться над ним, осмеивать его имя, еще хуже — просто не слушать его. Вот и теперь, 8 октября, когда председатель Мунье подчеркнуто небрежно дает ему слово, шум в зале не только не затихает, но резко усиливается. Все знают, о чем может говорить этот озлобленный маленький адвокат из Арраса. Робеспьер и не ждет, когда установится тишина, он знает: ее не будет. Слишком важно то, что он им скажет, и он начинает: «Народ, вот закон… невидимый и священный для всех…» Какое несчастье, что он не обладает могучим голосом Мирабо! Его не только не слушают, ему кричит один из депутатов: «Довольно гимнов и славословий!» Шум резко усиливается, Робеспьер еще говорит что-то, но ничего не слышно. Мунье злорадно даже не пытается восстановить тишину. В конце концов бледный Робеспьер, освистанный, оскорбленный, но гордый, покидает трибуну.
Да, Собрание действительно не любит проповедей, особенно сейчас, когда оно почувствовало всю меру своей зависимости от буйной парижской толпы. Ведь отныне Собрание разделит участь короля и окажется в Париже под контролем народа. Собрание начнет заседать в Париже 19 октября, сначала в зале Епископства на острове Сите около Нотр-Дам. Но депутат доктор Гильотен высказал глубокую мысль, что находиться столь близко от Гревской площади — постоянного центра народных волнений — было бы непредусмотрительно. С 9 ноября Собрание перебирается в здание Манежа на улице Сент-Оноре. Здание, предназначенное для обучения лошадей и наездников, стало убежищем народных представителей. Построили обширные трибуны для публики. Собрание, конечно, поправело, эксцессы народа испугали его, но без народной поддержки ему тоже не обойтись. Придется лавировать и хитрить.
Безоговорочно высказывается за народ только Робеспьер и еще несколько крайне левых, которых можно пересчитать по пальцам. Но ни один из них не может сравниться с Робеспьером в проведении принципа высшего приоритета народа. Какая бы обструкция ни грозила ему, он не упускает случая выступить в роли выразителя народных интересов.
Однако напрасно было бы искать в его повседневной жизни каких-либо тесных связей, просто контактов с народом. Он теперь живет в Париже, оставив своих коллег из Арраса, с которыми жил в отеле Ренар в Версале. Максимилиан поселяется на улице Сантонж, в отдельной квартире на третьем этаже солидного буржуазного дома. Он очень символично избрал место своего жилища, расположенного как раз на полпути между народными кварталами Сент-Антуанского предместья и аристократическим районом. Роль адвоката интересов народа, кстати, нисколько не отражается на его внешности. Он по-прежнему одет как небогатый дворянин по моде Старого порядка. Подчеркнутая элегантность, напудренные волосы, манжеты и жабо. Он никогда не сменит кюлоты на народные длинные брюки, тем более он не склонен к красному колпаку или карманьоле, в которые вырядятся некоторые депутаты, дабы обрести «народный» облик.
Его близость к народу всегда будет выражаться не так, как у Марата, который проникся не только психологией нищего, но и внешне походит на самого жалкого бедняка; не так, как у Дантона, который при всей своей склонности к яркому буржуазному шику останется разбогатевшим, раздобревшим, процветающим, но прирожденным плебеем со всеми свойственными такого рода французам типичными шумными и бесцеремонными манерами. Нет, Робеспьер близок народу не по внешнему сходству; эта близость носит совершенно особенный, умозрительный, метафизический характер. Ее глубоко почувствовал и определил Жан Жорес, исходя из доминирующей в сознании Робеспьера одной идеи суверенитета нации, которой «он следовал без колебаний, без ограничении, до самых крайних выводов из нее… Для того чтобы нация была суверенной, необходимо, чтобы все составляющие ее индивидуумы, как бы они ни были бедны, обладали частицей этой суверенности. Отсюда и вытекает демократическая тенденция его политики. Более того, именно бедняки или, во всяком случае, классы скромных тружеников, ремесленники, мелкие собственники не имеют кастовых интересов, которые противоречили бы революции. У дворян, у богатых буржуа может возникнуть соблазн урезать суверенность нации, чтобы создать гарантии для своих привилегий или своих богатств. У народа, собственно говоря, нет никаких интересов, которые противоречили бы интересам нации; вот почему, по мысли Робеспьера, суверенитет нации очень скоро превращается в суверенитет народа. Часто говорили, что он употреблял слово «народ» в очень расплывчатом смысле, и это верно… Народ для Робеспьера представлял собой при каждом кризисе революции совокупность граждан, у которых не было интереса ограничивать суверенитет нации и препятствовать его полному осуществлению».
Жорес прав, ибо догматический склад ума Робеспьера всегда ключ к пониманию его личности, его действий. Но кроме того, надо учитывать и некоторые чисто психологические обстоятельства, прежде всего укоренившееся с детства представление о себе как о представителе обездоленных и униженных. Уже говорилось, что фактически для этого не было особых оснований; не так уж он был обижен судьбой, как воображал. Да и в это время, осенью 1789 года, он вовсе не был беден. Его однокашник Камилл Демулен уже приобрел славу остроумнейшего журналиста, но вел призрачное существование нищего студента, обеспечиваемое лишь ненадежными литературными заработками, и мотался из одной дешевой ночлежки в другую. Робеспьер же, с его депутатским жалованием в 18 ливров в день, был просто богачом по сравнению с ним. Так, в это время он нанял секретаря Пьера Вилье, который, между прочим, в своих воспоминаниях осветил некоторые детали тогдашнего быта Робеспьера, поскольку он и жил в его квартире. Дело в том, что у Максимилиана появилась женщина. Пьер Вилье пишет, что это была «женщина из предместья, 26 лет, к которой он относился небрежно, хотя она его боготворила. Иногда он даже не открывал ей дверь». Вильер не упоминает имени этой женщины, которой Робеспьер платил своего рода пенсию. Сердце его совершенно не было затронуто этой практической буржуазной связью. Максимилиан считал удобной молчаливую и покорную любовницу, не отрывавшую его от политической жизни, главного смысла всего его существования. Ради точности, нельзя не отметить, что в 1967 году один из французских историков, дорожащих мифическим образом Робеспьера — образцового и целомудренного пуританина (Р. Гарми), выражал сомнение в достоверности свидетельства Вилье. Однако это свидетельство вполне убедительно, поскольку все остальное, что известно о жизни Робеспьера, подтверждает странный характер его человеческих привязанностей. Если кто и был с ним близок, то только в той мере, в какой это необходимо ему для его особой исторической миссии, выполнению которой он беспредельно посвящал себя.
И здесь появляется еще одно обстоятельство, объясняющее истоки той непреклонно-демократической позиции защитника народа, которую занял Робеспьер в Учредительном собрании. С самого начала выступления Робеспьера с его напыщенной риторикой вызвали насмешливое отношение к нему со стороны коллег. Разумеется, он легко мог завоевать их благосклонность, ведь сам Мирабо, например, проявлял интерес к нему. Для этого необходимо было занять политическую позицию, близкую к той, которую отстаивали наиболее влиятельные группировки вроде триумвирата Барнав — Ламет — Дюпор. Но в таком случае Робеспьер не имел серьезных шансов на выдающееся место. Слишком много там было более талантливых ораторов. Напротив, сама исключительность его крайне левой позиции оставляла за ним монополию на представительство народа. У народа не было в Собрании более последовательного защитника, и Робеспьер решил занять это вакантное место. Он обладал достаточной прозорливостью и чутьем, чтобы из таких фактов, как взятие Бастилии и успех похода на Версаль, сделать вывод, что роль народа в революции неизбежно будет возрастать, и, следовательно, возрастет и значение его собственной деятельности. Важно только не свернуть с избранного пути и твердо следовать по нему. Это он и пытается делать, демонстрируя непреклонную последовательность.
Судьба многих революций обнаруживает закон удивительной неблагодарности истории к тем, кто делает ради революции больше других. И в этом смысле Французская революция поистине является классической. Народ, который во второй раз спасал Учредительное собрание от аристократического заговора, буквально через несколько дней стал жертвой депутатов этого собрания. Мирабо внес проект закона против «мятежных сборищ», то есть против любого нового революционного выступления народа. Видимо, сразу принять этот закон все же стеснялись, пока неожиданное событие не создало удобный повод.
Дело в том, что сразу после 5-6 октября голод в Париже не прекратился; полусотни телег с мукой могло хватить огромному городу не больше чем на день. У булочных по-прежнему с ночи выстраивались очереди. И вот 21 октября булочник Дени Франсуа раньше обычного объявил очереди, что хлеба больше нет. Когда голодные решили это проверить и силой ворвались в булочную, то обнаружили там сотню свежеиспеченных булочек, приготовленных для буфета Учредительного собрания. Народ не любит и не терпит привилегий. Булочника схватили, поволокли к Ратуше, а там, не полагаясь на судебных чиновников, повесили на фонаре; голову несчастного насадили на пику и носили по Парижу в назидание тем, кто прятал хлеб и морил народ голодом.
Подготовленный проект закона немедленно поставили на обсуждение. Он давал властям право объявлять военное положение, вывешивая красный флаг, расстреливать «мятежные сборища» после трехкратного предупреждения, а их подстрекателей приговаривать к смертной казни. Не было никакого сомнения, что закон будет утвержден; жестокая расправа над, в сущности, невиновным булочником не могла не возмутить депутатов, помнивших к тому же и отрубленные головы лейб-гвардейцев в Версале. Шансов добиться отклонения законопроекта не было. Тем не менее Робеспьер берет слово и произносит неподготовленную на этот раз речь, которая великолепно служила другой, важнейшей для него цели — упрочению его репутации непоколебимого защитника народа при любых обстоятельствах. «От нас требуют, — заявляет Робеспьер, — принятия закона о военном положении… Нет! Не это надо делать. Надо принять необходимые меры для раскрытия следов заговора, который, если его вовремя не пресечь, может быть, уже в ближайшее время обречет мужественных и преданных родине граждан на полное бессилие. Я требую создания национального трибунала…»
В речи Робеспьера отсутствует логика, поскольку предлогом для принятия закона был самосуд толпы, которую не предотвратили уже существовавшие судебные органы. Обнаружить же наличие «заговора» в действиях злосчастного булочника вряд ли удалось бы, ибо они были просто следствием общего неблагополучия в снабжении Парижа. Естественно, что закон утвердили. Видно, что сам закон не главное для Робеспьера: важнее для него утвердить свое особое положение в Собрании. Один из депутатов, выступивший на том же заседании, говорил: «Я хотел бы сказать, что я думаю о речи господина Робеспьера. Его речь была произнесена исключительно для жителей Сент-Антуанского предместья, а вовсе не для депутатов Собрания».
Но декрет о военном положении относился к чрезвычайным обстоятельствам. После того как народ заставил короля одобрить Декларацию прав, предстояло составить и утвердить конституцию, то есть установить новый государственный и общественный строй. Началась долгая, запутанная дискуссия, продолжавшаяся до сентября 1791 года. Конституция рассматривалась не сразу, а по частям. Важнее всего установить правила избрания депутатов, определить, как и кто получит право выбирать. Отсюда проистекало все остальное.
Кто же имеет право избирать? Согласно Декларации прав — все граждане. Однако еще 29 сентября 1789 года конституционный комитет предложил дать избирательное право только «активным» гражданам, тем, которые платят налог в размере трехдневной заработной платы. Остальные, «пассивные» граждане, составлявшие около половины населения, все бедняки страны избирательного права не получат. Это вопиющее нарушение Декларации прав, провозгласившей равенство.
Никто в Собрании не выразил протеста, не потребовал отвергнуть посягательство на высший принцип революции. Жан Жорес, один из самых симпатизирующих монтаньярам и Робеспьеру историков, пишет: «Даже крайне левые хранят молчание. Ни Петион, ни даже Робеспьер не произнесли пи слова. По-видимому, они колебались».
Только 22 октября крайне левые «выдвигают кое-какие краткие возражения». Аббат Грегуар выразил опасения, что возникнет аристократия богатых. Представитель триумвирата Дюпор протестовал против лишения бедных права голоса. «Даже Робеспьер, — пишет Жорес, — если судить по довольно краткому протоколу его речи, остался холоден, и его речь была заурядна». Это действительно так. В двухминутной речи он лишь указал, что деление граждан на активных и пассивных противоречит Декларации прав, что «все граждане, кем бы они ни были, имеют право притязать на все степени представительства». Итак, «имеют право притязать». Но почему Робеспьер сам от их имени не притязает на это со всей энергией? Конечно, он и еще несколько депутатов — против несправедливости, но не более. Жорес с горечью признает: «Это отнюдь не решительное сражение, и можно сказать, что ораторы говорят без большой веры, во всяком случае, без всякой настойчивости». Жорес, совершенно справедливо констатируя, что рассуждения Робеспьера неопровержимы, но весьма абстрактны, пишет: «Робеспьер, словно борясь против проекта только ради того, чтобы соблюсти форму, не дал себе труда подвергнуть анализу покушение на идею равенства прав».
Странное, непонятное на первый взгляд отношение Робеспьера к самому коренному, главному принципу демократии проявлялось и во время обсуждения знаменитого вопроса о «марке серебра». Речь шла уже не о том, кто имеет право голосовать, а о том, кто получит право быть избранным. Право выбирать получили все же из 25-миллионного населения Франции 4 миллиона 300 тысяч взрослых и более или менее обеспеченных мужчин. Но избранными могли быть только те, кто платил налог не в 3 ливра, достаточных для получения избирательного права, а в 54 ливра («марку серебра»)! Ясно, что доступ к власти получили только самые богатые.
Прения начались 29 октября и закончились 3 ноября принятием реакционного декрета. Они тянулись вяло, скучно, будто речь шла о какой-то мелочи. Из левых против выступил довольно нерешительно Петион. Будущий монтаньяр Барер протестовал, ибо закон о «марке серебра» закрывал путь к власти интеллигенции. Из будущих монтаньяров возражал Приер из Марны, а также Гара, который разоблачил стремление «создать аристократию богатых». Резко отверг «марку» Ламет и даже Мирабо!
Робеспьер вообще не пытался выступить, хотя он, естественно, тоже был против реакционного извращения Декларации прав. Любопытно, что в письме в Аррас Бюиссару он, как бы оправдываясь в своем бездействии при обсуждении вопроса о «марке», пишет, что «по самой важной части наших совещаний были вынесены постановления без обсуждения, среди шума и как будто под давлением насилия». В действительности обсуждение состоялось, а насилие — выдумка Робеспьера. Жорес считает, что, «несмотря на некоторый шум, левые в Собрании добровольно согласились на ограничение права голоса и права быть избранным». Жорес пытается «насколько возможно разгадать тайну чужой совести» (то есть Робеспьера прежде всего) и объясняет ее «известным инстинктом буржуазной осторожности». Такова печальная историческая правда. Соблазнительно легко было бы изображать Робеспьера безупречным, последовательным и непреклонным демократом, не утруждая себя изучением фактов, документов и источников. А они обнаруживают крайне сложную, противоречивую, часто загадочную личность будущего вождя монтаньяров.
Знаменательный эпизод в этом смысле произошел 25 января 1790 года. Собрание обсуждало вопрос о том, что в некоторых провинциях Франции еще действующая формально старая система налогов и повинностей настолько запутана, что невозможно точно установить, кто сколько платит, и, следовательно, нельзя решить, имеет или не имеет право человек участвовать в голосовании. Робеспьер, который, в соответствии со своими убеждениями теоретически против любого ограничения избирательных прав, вносит предложение о том, чтобы впредь до принятия новых законов о налогах, политические права предоставлялись всем, кто «уплачивает какой-либо налог». Уж не идет ли речь о том, что Робеспьер тем самым требует отмены антидемократического ценза? Ни в коем случае! В предлагаемый им проект решения он заботливо вставляет оговорку, что временный порядок будет применяться при условии, если он «не нарушает правил о других основаниях несовместимости и исключениях, содержащихся в декретах Национального собрания». Но ведь эта казуистически сформулированная оговорка сводит на нет собственное предложение Робеспьера! Декреты-то требуют ценза, а это значит, что выступление и предложение Робеспьера не что иное, как игра! В нем всегда юрист, законник, легист берет верх над демократическими принципами. Он испытывает прямо-таки священный трепет перед законом, каким бы несправедливым он ни был.
Примерно в это же время произошел другой любопытный случай, свидетельствующий, что Робеспьер больше всего боялся прослыть человеком, способным нарушить какой-либо закон. Так вот, Робеспьер неожиданно получает письмо от генерального контролера финансов Ламбера, в котором он сообщает, что у некоего пивовара, уклоняющегося от уплаты повинностей, имеется письмо Робеспьера, где якобы тот «разглагольствует» против налогов и тем самым «производит в народе зажигательное действие». Ламбер просит Робеспьера написать опровержение. Робеспьер отвечает пространным письмом, в котором указывает, что факт, приписываемый ему, есть «сущая клевета». С потрясающим негодованием он выражает министру удивление: как «вы могли дойти до того, чтобы приписать мне зажигательные призывы и изобразить меня, хотя бы в моих собственных глазах, в некотором роде нарушителем общественного порядка, человеком, не исполняющим декретов Национального собрания, хотя, как вы сами заметили… я первый горячо отстаивал своевременную уплату налогов?». Историю с вымышленным письмом Робеспьер называет «интригой, затеянной моими врагами, с целью обесславить мою преданность патриотическому делу». Для Робеспьера «патриотическое дело» отождествляется со строгим соблюдением установленного порядка, оно несовместимо с «зажигательными» призывами. В политической линии Робеспьера обнаруживается зияющее противоречие: он признает и одобряет результаты революционных действий народа 14 июля или в октябрьские дни, но они совершенно чужды ему по существу, ибо трудно вообразить более явного нарушения «порядка» и «законности», чем эти действия. Таким образом, Робеспьер пока революционер только в смысле готовности воспользоваться плодами революционных действий народа, но не в способности призывать к ним или даже просто участвовать в них. И таким «революционером», превыше всего ставящим «законность», он останется надолго, если не навсегда.
Но не противоречат ли этому выступления Робеспьера по поводу крестьянских восстаний в начале 1790 года? Как раз в это время крестьяне многих районов Франции, неудовлетворенные формальной и фиктивной отменой феодальных повинностей, громили и поджигали замки своих сеньоров, и Собрание обсуждало вопрос об использовании войск против крестьян. Какую же позицию занял Робеспьер? Он осуждал действия крестьян, говоря о них, что эти «люди, разум которых помутился от воспоминаний о перенесенных страданиях, не являются закоренелыми преступниками». Он требовал лишь, «чтобы муниципалитеты использовали все средства примирения, увещевания и разъяснения, прежде чем допустить применения военной силы». Таким образом, позиция Робеспьера отличалась лишь степенью понимания действий крестьян, а в остальном она подобна отношению к ним самих владельцев замков, которые тоже предпочитали «примирение» и, подобно Робеспьеру, считали использование силы допустимым, хотя и «крайним средством».
Итак, Робеспьер еще только определяет свою позицию, он еще непоследователен, часто колеблется и проявляет нерешительность. Он как бы идет вслед за революцией, не решаясь пока смело возглавить ее. Слишком смутной, неопределенной была обстановка. В ней трудно разобраться еще неопытному адвокату из Арраса. Но шаг за шагом он все же идет вперед. Он обгоняет постепенно многих, если не всех депутатов Учредительного собрания.
После славных октябрьских дней народ торжествовал победу, а Друг народа Марат вынужден скрываться. Он укрылся вначале у Бассаля, кюре церкви Св. Людовика в Версале, потом у одного трактирщика, который, кстати, на него донес. После этого Марат сначала прячется у Лекуантра, полковника Национальной гвардии Версаля, затем возвращается в Париж и полмесяца живет на Монмартре. Таков далеко не полный перечень убежищ Марата, когда он ускользал от шпионов Ратуши, используя вечные уловки гонимых, вплоть до переодевания в женское платье. Ясно, что долго он не продержится.
Но главное, что его огорчает, невозможность издавать свою газету. А ее успех получил неожиданное подтверждение. Нашлись предприимчивые любители использования завоеванной им столь быстро популярности. Начинает выходить фальшивая газета под тем же названием «Друг народа».
Однако у него нашелся и защитник. Это не кто иной, как председатель самого революционного дистрикта Кордельеров Жорж Дантон. Они познакомились еще в начале революции в одном из заведений сомнительной репутации, множество которых располагалось в Пале-Рояле. Марат и Дантон совершенно не похожи друг на друга, но почему-то у них завязались долгие беседы. От Дантона это требовало немало выдержки и терпения, учитывая вздорный и заносчивый характер Марата. Однажды дело дошло до ссоры, вызванной несходством точек зрения на творчество Корнеля и Расина. Впоследствии Дантон скажет секретарю Собрания дистрикта Кордельеров дю Менилю: «Я не испытываю особого восхищения личностью Марата. Его нельзя обвинить в недостатке ума, но озлобленный характер лишает беседы с ним всякого удовольствия».
Когда Марат стал издавать свою газету, он оказался жителем квартала Кордельеров, обитавшим в дешевой гостинице Фотриер. Он часто приходит на собрания в монастыре Кордельеров, где царила самая демократическая обстановка. Здесь поденщики заседали вместе с поэтами, актерами и другой интеллигентной публикой. Выступления Марата, конечно, столь же яростные и обличительные, как и его газета, нисколько не смущали председателя Дантона. Газета Марата приобрела здесь много активных поклонников. Кстати, прежде чем перебраться в Версаль, Марат в начале октября нашел убежище у друга Дантона мясника Лежандра.
7 октября происходит первое после народного похода на Версаль собрание. Дантона встретили овацией, ведь это по его предложению Кордельеры расклеили по Парижу афишу-призыв, послужившую сигналом к бурным и, как теперь стало ясно, успешным, действиям народа. Затем перешли к вопросу, стоявшему на повестке дня. Дантон оглашает письмо, официально адресованное ему Маратом, в котором тот жаловался на преследования муниципальных властей. Естественно, Дантон целиком на стороне преследуемого журналиста. Тем более что борьба с произволом Ратуши составляла тогда основу его собственной политики. По предложению Дантона собрание выражает в резолюции «убеждение в том, что свобода печати есть необходимое следствие свободы каждого гражданина», и поэтому оно решило «взять под защиту всех авторов дистрикта Кордельеров, используя все свои силы». Это означало возможность использовать для защиты Марата батальон дистрикта из 500 волонтеров. Правда, Дантон заметил, что вряд ли дело дойдет до этого, ибо «Вайи не так глуп, чтобы посылать солдат ради Марата». Будущее покажет, что Дантон недооценил руководителей Ратуши.
Что сближало этого буржуазного, хотя и радикального революционера с Маратом, отличавшимся крайним левым экстремизмом? Видимо, в сознании обоих по-разному зарождалась идея союза революционной буржуазии и беднейшей части народа, союза, из которого вырастет партия монтаньяров. Если Марат — яростный и гневный голос народа, то Дантон практически, путем рассчитанной тактики хочет превратить их смутное, но могучее стихийное стремление к справедливости в реальные успехи Революции. Благодаря ему дистрикт Кордельеров стал местом слияния благородных побуждений талантливой революционной богемы с мечтой парижских санкюлотов о свободе и о лучшей жизни. Когда 21 октября толпа расправилась с булочником Франсуа, Марат разразился яростным, вопиющим, но бессильным гневом против властей. Дантон же ищет практических, реальных успехов в борьбе с голодом. В монастыре Кордельеров бедняки жадно внимают его словам: «Все знают об обильном урожае. Я сам родился в деревне, у меня точные сведения. Давайте призовем другие дистрикты, чтобы они добивались хлеба от властей. Верно говорят о реквизициях продовольствия в Парижском районе, о том, что крестьяне и торговцы прячут продовольствие. Надо терпеливо договариваться с производителями деревни». Голодающие жители столицы одобряют разумный план. Демулен превозносит его в своей газете, поддерживает Дантона. Собрание Кордельеров не зря четыре раза продлевает его полномочия председателя дистрикта. Он оправдывает доверие, громя эгоизм состоятельных жителей, не помогающих голодным. Дантон добивается введения в своем дистрикте чрезвычайного налога и собранные деньги раздает голодным в предместьях Сен-Марсель и Сент-Антуан. Дантон делается все более популярным народным оратором Парижа.
А Марат, без конца меняя свои тайные убежища, страдает от бездействия. Ценой отчаянных усилий он возобновляет с 5 ноября издание «Друга народа». За недели вынужденного молчания в нем скопилось столько яростного негодования, что он действует с удесятеренной энергией, защищая народ и бичуя власти. Прежде всего он хочет раскрыть глаза людям, успокоенным успехами октябрьского Похода в Версаль, и снова пробудить народ. Ведь даже его друг Бриссо в своей газете «Патриот Франсе» осуждает жестокости народа в октябрьские дни и пишет, что тем самым народ «роет себе могилу» мятежными крайностями. Марат, напротив, горячо одобряет их и прославляет восстание. Здесь уже намечается пропасть, которая в будущем разделит монтаньяров и жирондистов. Как бы отвечая Бриссо, Марат обрушивается на «робких граждан», пытающихся усыпить народ, отучить его от самой идеи восстания: «Народ поднимается на восстание, лишь когда он доведен до отчаяния тиранией. Каких только страданий не претерпевает он до того, как начинает мстить!» Марат показывает, что только народным мятежам французы обязаны завоеванием свободы, предотвращением заговоров аристократов.
Марат не может не выразить свое отношение к закону о «мятежных сборищах». Он резко осуждает того, кто внес проект закона, и благодарит тех, кто осудил его: «О, Мирабо, если бы ты причинил Франции только это зло, то твое имя будет вызывать ненависть честных граждан! Если бы Робеспьер не имел другого права на общественное признание, то одно лишь его сопротивление этому закону сделает его имя навсегда уважаемым!»
Марат еще незнаком лично с Робеспьером, но он уже выделил его среди депутатов Учредительного собрания, как человека, который чаще других выступает от имени народа. Революция, которая еще только начинается, уже сводит воедино будущий «триумвират» монтаньяров: Марата, Дантона и Робеспьера.
Впрочем, это лишь зыбкий, смутно мелькающий образ на очень мрачной в глазах Марата окружающей его картине Революции. В ноябре 1789 года он настроен пессимистично, как всегда, впрочем. Он горячо призывает народную Революцию, но не видит впереди ничего светлого. Когда обсуждается закон о рекрутском наборе в армию, призванную защищать родину свободы, он вопрошает: «Где родина тех, кто не владеет никакой собственностью, кто не может надеяться ни на какую должность, кто не извлекает никаких выгод из общественного договора? Они повсюду обречены служить кому-нибудь; если они не находятся под игом одного хозяина, они попадают под власть своих сограждан; и какая бы ни произошла революция, их участью всегда останется рабство, нищета и угнетение».
Выходит, что народ осужден на вечное проклятие рабства и нищеты. Ужасом полной безнадежности веет от таких заклинаний. Самое страшное здесь в том, что Марат и в этом мрачном предвидении будущего окажется, к несчастью, совершенно прав. В Марате всегда будет больше чувствоваться экзальтированный пророк-мученик, чем трезвый и расчетливый политик. Собственно, качества последнего в нем полностью отсутствуют.
Трудно понять, чем руководствовался Марат, выбирая мишени своих нападок и разоблачений. Сначала ими служили все аристократы, все самые богатые, все Учредительное собрание, весь муниципальный совет Парижа. Его гнев обрушивался на коллективных, анонимных врагов, и призывы сокрушить их не получали особой поддержки. События 5-6 октября не были результатом инициативы Марата. Ведь народ выступил против монархии, а «добрый король» по-прежнему получает от него лишь комплименты и не подвергается прямым нападкам.
Уже в сентябре Марат выбирает себе конкретного, личного врага в лице министра финансов Неккера. Чем объясняется этот выбор? Некогда столь популярный швейцарский банкир, отставка которого послужила поводом для штурма Бастилии, быстро терял влияние при дворе и особенно в Учредительном собрании. Его финансовые проекты не имели успеха, он стал бесполезен, и его терпели только до сентября 1790 года, когда он оставил свой пост и, осыпаемый насмешками со всех сторон, уехал обиженный в Швейцарию.
Действительным хозяином в Ратуше, в Тюильри, да и в Манеже, как теперь предпочитали называть Учредительное собрание, становился маркиз Лафайет. Вообще 1790 год окажется временем реванша аристократов. Их влияние возрастает даже по сравнению с дореволюционным временем. Их старые реальные, серьезные феодальные привилегии останутся нетронутыми еще года три. Из 54 председателей Учредительного собрания, заседавшего до осени 1791 года, 33 были аристократами. К ним принадлежали и все министры, за исключением одного Неккера! Когда в сентябре 1790 года король заменит их, то большинство новых — снова дворяне, ставленники Лафайета.
Еще до октябрьских событий Марат в четырех статьях своей газеты резко нападает на Неккера. Возобновив издание в начале ноября, он продолжает кампанию, завершив ее составлением обширной брошюры, более чем в 50 страниц. Марат прямо обращается к Неккеру, как бы вызывая его на дуэль: «Я выступлю против вас великодушным врагом, защищайтесь и вы, как подобает храбрецу…» Эта манера выдает намерение автора: вести борьбу на равных с первым министром — значит стать равным ему по влиянию, весу, авторитету. Естественно, что многие насмешливо отозвались об этом, как о проявлении патологического тщеславия Марата. Это его нисколько не смущает, и он объявляет, что имеет «доказательства» того, как из «отца народа» Неккер превратился во «врага народа». Марат предъявляет обвинение по пяти пунктам. Неккер знал о военных приготовлениях двора, но не сообщил народу об «ужасном заговоре»; он пытался уморить народ Парижа голодом и даже организовал продажу «отравленного хлеба»; его финансовая политика контрреволюционна; начиная с 14 июля он пытается затормозить народное движение и снова заковать народ в его цепи; наконец, Неккер использует «доброту короля», чтобы толкнуть Людовика к деспотии. «Доказательства» Марата сводятся к использованию известных всем событий путем их крайне вольной интерпретации. Чем он доказывает, например, сознательное «отравление хлеба»? Ничем! В Париже не было ни одного случая, чтобы кто-то умер от яда, содержащегося в хлебе. Однако если учесть особенности аудитории Марата, неграмотных, невежественных и легковерных, крайне доверчивых бедняков (а Марат сам много раз именно так и характеризовал их), людей, к тому же страдающих от голода, безработицы и нищеты, озлобленных и недовольных, то ясно, что он добился по меньшей мере нового роста своей популярности! Это и было реальной целью демагогии, хотя, естественно, Неккер не был ангелом добродетели, как, впрочем, все другие министры короля. Во многих отношениях он даже имел на своем счету кое-какие положительные дела, например, содействие решению о созыве Генеральных Штатов.
Естественно, у Неккера хватило ума не ввязываться в полемику с Маратом. Однако Друга народа вновь начинают преследовать, поскольку он непрерывно задевал своими обвинениями кого-либо и некоторые обращались с жалобами в суд. 12 декабря полиция появляется у Марата, производит обыск, кое-какие бумаги конфискует, арестовывает журналиста и приводит его в Ратушу. Марат удостоен небывалой чести: его принимает сам маркиз Лафайет, причем встречает его с аристократической любезностью. Нет и речи о кампании против Неккера. Лафайет лишь интересуется, на чем основаны обвинения некоторых членов его штаба. Марат обещает опубликовать в газете доказательства. А затем Марата просто отпускают! Почему Лафайет проявил такое внимание и такую любезность к скандальному возмутителю спокойствия? Некоторые объяснили это «масонским братством»; оба собеседника были членами ложи. Однако к этому времени революция привела к распаду французской ложи Великий Восток. Даже сам ее гроссмейстер, герцог Орлеанский, по настоянию Лафайета был отправлен после октябрьских событий в Лондон. Дело в том, что Лафайет в это время активно интриговал против Неккера и добивался его устранения. В то же время встреча с Маратом могла быть объяснена им королю как попытка защиты министра, хотя Марат явно играл ему на руку. Торжествующий Марат ознаменовал свою победу над Ратушей в тот же вечер посещением Итальянской оперы. А на другой день, 13 декабря, Марат идет в Ратушу и требует приема у мэра Байи, и тот его немедленно принимает и даже выполняет требование вернуть все конфискованное полицией. Итак, власти не препятствуют дальнейшему изданию «Друга народа».
Но теперь это невозможно по другой причине. Истек срок договора с типографщиком Дюфуром, который отказывается возобновить его, ибо издание «Друга народа» приносит ему только убытки. Ну что ж, Марат сам будет своим издателем. Уже через несколько дней у него своя типография и четверо наемных рабочих. Первый номер новой серии вышел 19 декабря, и она продолжалась до 22 января. На какие же деньги Марат издает газету? Оказывается, дистрикт Кордельеров, возглавляемый Дантоном, дает ему не только убежище, но и деньги на издание. Марат подводит итоги первого года революции. Сделано многое, но он не удовлетворен. Никогда еще Марат не был так известен, его газету читают, о ней много говорят. Но это еще не та слава, о которой он не забывает никогда. Главное, на его призывы к действию не откликаются! И Марат усиливает резкость тона газеты; он становится буквально кровожадным. В номере за 8 января снова призыв к насилию. Но столь отчаянно он еще не писал с начала революции. Марат отбрасывает сравнительно умеренный тон, взятый им в «Даре отечеству», призывает к немедленному вооруженному восстанию: «Взгляните на историю наций; любая из них смогла разорвать свои цепи, только утопив в крови своих угнетателей, только поразив их мечом в день битвы, только предавая их казни в день восстания».
В тот же вечер к Марату является судебный исполнитель в сопровождении 40 гвардейцев, но предупрежденный Марат уже исчез. Теперь он ведет полулегальное существование: днем работает в типографии, ночь проводит у кого-либо из друзей Дантона, поручившего всему дистрикту охрану Марата. Газета приобретает совершенно разнузданный голос, она теперь не щадит никого: Учредительное собрание, Лафайета, Байи. Продолжается и война против Неккера. 18 января Марат печатает собранные в одну брошюру «Обвинения против Неккера».
22 января в Париже разворачивается потрясающе трагикомическая история, которая, впрочем, только чудом не вылилась в кровопролитное сражение. Накануне муниципальный совет под председательством академика Байи выносит постановление об аресте Марата и поручает его исполнение Лафайету. Генерал приказывает батальону Кордельеров провести эту операцию. Однако председатель дистрикта Дантон, в свою очередь, приказывает командиру батальона взять Марата под защиту. Тогда Лафайет направляет 800 национальных гвардейцев в дистрикт Кордельеров для ареста Марата (по словам Дантона, их насчитывалось две тысячи человек, а Марат уверенно утверждал, что всего против него направили 20 тысяч вооруженных людей). Итак, лицом к лицу стояли два отряда. Один из 500, а другой из 800 человек, причем на стороне батальона Кордельеров еще и огромная толпа жителей соседних дистриктов. Оборону вдохновлял Дантон. Наступлением руководили из Ратуши Байи и Лафайет. Поскольку никто серьезно не хотел открывать огонь из-за одного несчастного журналиста, начались запутанные, шумные переговоры, сменившиеся заседанием в монастыре Кордельеров. Кроме многого другого, в ходе этой суматохи Дантон в азарте пригрозил ударить в набат, чтобы на помощь Кордельерам явились 20 тысяч человек из Сент-Антуанского предместья. Однако затем он сам предложил обратиться за арбитражем в Учредительное собрание. Дантона избрали главой делегации, и она отправилась в Манеж. Там начались переговоры, а затем и прения. Собрание решило, что дистрикт Кордельеров должен подчиниться закону. Между тем две враждебные «армии» стояли лицом к лицу, готовясь к братоубийственной войне. А Марат в это время отправил из осажденной типографии весь тираж брошюры против Неккера, а затем побрился и переоделся, сменив обычные для него теперь лохмотья на элегантный редингот и модную шляпу. Улыбаясь, он спокойно прошел через запрудившие квартал войска и толпу, так что его никто не узнал в облике столь изящного господина, и скрылся. На этот раз надолго; на четыре с половиной месяца он укрывается в Лондоне. Оказывается, Друг народа, отчаянно смело призывающий к кровопролитию, очень дорожит своей безопасностью… Но дело, пожалуй, не только в этом. Революционная вспышка октябрьских дней сменилась долгим периодом относительного успокоения. Зима оказалась очень теплой: даже не прерывались строительные работы. Постепенно стали ощущаться плоды хорошего урожая 1789 года. Хлеб и другие продукты поступают в достаточном количестве, снижаются и цены. Сбавили тон и радикальные буржуазные революционеры. Поэтому призывы Марата к вооруженному восстанию не встречали никакого реального отклика. Отъезд Друга народа в Англию явно выражает его обиду из-за равнодушия народа. В написанном им в Лондоне «Обращении к народу» он горько упрекает: «О парижане! Какие же вы еще дети! Вы закрываете глаза на бедствия, вас ожидающие, глупость делает вас беспечными, тщеславие служит вам утешением во всех бедствиях. Но к чему осыпать вас бесполезными упреками? Вы стремитесь к свободе лишь для того, чтобы продаваться — так продавайтесь же! Вы довольны своими цепями — так сохраняйте их! Вы отталкиваете руку, стремящуюся помочь вам выбраться из бездны — так оставайтесь там!.. Друг народа глубоко удручен вашим ослеплением, вашей беспечностью, вашей испорченностью».
К вечеру 22 января Кордельеры отступили и позволили осаждавшим проникнуть в квартиру и типографию Марата. Ни его самого, ни важных бумаг там, конечно, уже не оказалось. В завершение истории Дантон не мог отказать себе в удовольствии и любезно поздравил командира «враждебной» армии «с прекрасной победой», которую он только что одержал, и с огромным количеством пленных, которых он захватил.
На другой день, естественно, многочисленные парижские газеты, каждая по-своему, рассказывали и о «восстании» Кордельеров во главе с Дантоном в защиту Марата и против властей Парижа. Вскоре стал широко с успехом продаваться сатирический памфлет без подписи под названием: «Великое слово о великом преступлении великого Дантона и о великих последствиях этого события».
Автор остроумно высмеивал поведение Байи и Лафайета, напрасно затеявших весь этот фарс. Ведь они обеспечили колоссальный успех брошюре Марата против Неккера. Она была немедленно распродана. Между тем, видимо, этого-то они втайне и добивались, ибо интриговали против министра финансов. Больше всего славы выпало на долю Дантона. Теперь во всем Париже упрочилась его репутация как самого смелого и самого красноречивого защитника слабых и гонимых, патриота и народного вождя!
Итак, 1790 год начался для Дантона с истории, которая внешне может показаться нелепой и крайне непрактичной. Действительно, она произошла в самый неподходящий для него момент. В январе переизбиралось муниципальное собрание Парижской коммуны, и Дантон, который до этого действовал в рамках дистрикта, захотел выйти на общегородскую сцену и выставил свою кандидатуру. На другой день после «сражения» за Марата и против городских властей Дантон направляется в Ратушу как депутат. Нетрудно представить, что ему оказали не особенно теплый прием. Когда по алфавиту до него дошла очередь проверки полномочий и присяги, поднялся шум. Дантон вынужден произнести целую защитительную речь, распинаясь в своем уважении к закону. Его мандат утвердили только потому, что выборщики дистрикта Кордельеров все равно подтвердили бы его. К тому же участие в собрании, осуществлявшем лишь некоторый моральный контроль над Ратушей, где все решалось в Генеральном совете города, мало что значило.
Собственно, едва начавшийся не столько значительной, сколько шумной историей с Маратом 1790 год, да и следующий за ним 1791-й, на первый взгляд кажутся временем, когда не происходит ничего по-настоящему значительного в жизни Дантона, да и других вождей монтаньяров, как и в развитии самой Революции. Если ее первые пять месяцев наполнены бурными событиями, когда взятие Бастилии и пленение короля помогли Учредительному собранию превратить абсолютистскую феодальную Францию Старого порядка в буржуазно-конституционное королевство, то затем наступает спокойное время. Буржуазия, либеральная аристократия, как бы переваривая захваченное, пытается закрепить, узаконить достигнутое и завершить Революцию. Ведь они свое получили. Некоторые историки рассказу об этом времени даже дадут заголовок: «Счастливые годы». Но ничего счастливого для себя не видели, не ощущали в другом лагере, среди революционной демократии. Она-то, то есть народ, ничего реального не получила, а от власти была по-прежнему очень далека. Два лагеря собираются, копят силы. Новая схватка между ними неизбежна. Вопрос в том, когда она начнется и кто ее возглавит. А кандидаты на роль вождей народа уже наметились, выделились. Лидеры либерально-конституционной монархии особенно опасались Дантона, почувствовав на себе его львиные когти. Марата устранили, Робеспьер еще витает в мире абстрактной доктрины народного суверенитета, а Дантон уже действует в первых, пробных авангардных схватках. После того как «дело Марата» решилось и Друг народа хотя бы временно устранен с арены парижской политической борьбы, затевается «дело Дантона». Воспользовались угрозой Дантона поднять 20 тысяч человек из Сент-Антуанского предместья, ему предъявили обвинение в подрыве общественного порядка. Выписали ордер на его арест, и судебный исполнитель пытается выполнить его.
Теперь округ Кордельеров единодушно поднимается в защиту своего председателя и обращается с петицией в Учредительное собрание. И на этот раз дело закончилось не в пользу Байи и Лафайета. Испугались новых народных выступлений и потихоньку судебное преследование прекратили. Тогда используются новые средства. Дантону не дают действовать вне пределов его дистрикта, проваливая все его попытки приобрести какую-либо влиятельную выборную должность в муниципалитете. Сначала проваливают его кандидатуру на должность мэра Парижа, неудачно кончилось и его участие на выборах прокурора Коммуны, затем на выборах заместителя прокурора, не проходит он и в Генеральный совет муниципалитета. Беда Дантона в том, что он завоевал популярность в основном среди «пассивных» граждан, не имеющих права голоса. Но он все равно представляет опасность со своим дистриктом, превратившимся в некую автономную революционную республику на левом берегу Парижа. Главным образом против Дантона и был направлен декрет 14 мая 1790 года о перекройке политической партии Парижа. Вместо 60 дистриктов Париж разделяют на 48 избирательных секций. Отныне им можно собираться и заседать только в момент выборов. Итак, собрания Кордельеров, ставшие уже легендарными, прекращаются. Дантон обезоружен.
Камилл Демулен в своей газете «Революции Франции и Брабанта» изливает горестные чувства: «Прощайте, мои дорогие Кордельеры! Прощайтесь с нашим председательским колокольчиком, с нашими скамьями, с нашей грозной трибуной, с ее знаменитыми ораторами!» Но Дантон не собирается капитулировать. В апреле он узнал, что Робеспьер, самый одинокий и презираемый из депутатов Учредительного собрания, оказывается, избран очередным председателем Якобинского клуба. Дантон с недоверием относится к этому объединению, куда входило большинство депутатов, кроме самых правых. По уставу клуба, составленному герцогом д'Эгийоном, его задача — готовить решения Учредительного собрания и конституцию. Это клуб для привилегированных. Высокий вступительный взнос делал его недоступным даже для людей среднего достатка. Но пример Робеспьера, тоже обращавшегося к народу, хотя и в абстрактных формулах, а не в прямых призывах к революционному действию, как Дантон, выглядел заманчивым.
Правда, Дантон не знал подоплеку этого неожиданного успеха самого левого депутата: лидеры триумвирата договорились с Мирабо выдвинуть его, чтобы преградить путь к председательскому посту Лафайету. Дантону ясно одно: даже представитель самой левой тенденции собрания завоевал авторитет. Почему бы и ему не использовать трибуну Якобинского клуба? Ведь обаяние и сила его красноречия неизмеримо превосходят сухую академическую риторику Робеспьера. Не собираясь пока вступать в члены клуба, Дантон через друзей получает пригласительный билет на заседание 30 мая. Его появление не вызвало приветственных аплодисментов. Но все же по рядам якобинцев, заполнявших старинный монастырский зал, вмещавший около тысячи человек, пробежала волна перешептывания. Председательствует Робеспьер, на трибуне лидер триумвирата Александр Ламет. Он спокойно и убедительно говорит о тяжелом положении солдат, которых не только унижают нелепыми формальностями, но и кормят гнилым хлебом.
Сразу после Ламета Дантон требует слова. Может быть, он хочет что-то добавить по обсуждаемому вопросу? Но он ничего не знает о нем, кроме того, что только что услышал от Ламета. Неважно! Он повторит все сказанное, но по-своему, так, как он делал это в собрании дистрикта Кордельеров. И он говорит в свойственном ему тоне бурной импровизации, с преувеличениями, с громом могучих кулаков по трибуне, словом, так, как он, вызывая восторг Кордельеров, привык зажигать народ. Однако здесь совсем другая публика. Это не те простые люди, грубые, непосредственные и яростные, которым по душе страстная речь Дантона, которые мгновенно вспыхивали от пламенных призывов любимого трибуна. Он особенно шокирует эту благонамеренную публику, когда заканчивает речь совсем в духе Марата, требуя «крови министров!».
Раздаются возмущенные реплики, даже свист. Дантон явно просчитался и потерпел фиаско. Нет, эта аудитория не для него. Впрочем, он сразу осознал свое поражение и долго, около месяца, после этого провала помалкивал. Но не бездействовал. Посовещавшись с друзьями: Демуленом, Паре, Фабром д'Эглантином, он решает основать свой клуб. Если Якобинский клуб назывался «Обществом друзей конституции», то клуб Дантона будет «Обществом прав человека». Естественно, для заседаний клуба очень подошел бы монастырь Кордельеров. Но мэр Байи опечатал его двери, и Дантону трудно было рассчитывать получить разрешение на доступ в привычный зал, ставший уже знаменитым. Но, впрочем, Дантон предоставляет друзьям ломать голову над поиском выхода из положения.
В отличие от Робеспьера или Марата, посвящавших политике все свое существование без остатка, Дантон живет широкой, разнообразной, нормальной, яркой жизнью, не упуская никакой возможности пользоваться и ее радостями. Это действительно был, как писал, Ромэн Роллан, «Гаргантюа в шекспировском вкусе, жизнерадостный и могучий». Дантон с помощью двух клерков не прерывает адвокатской практики. Благодаря удивительной способности приобретать друзей Дантон окружен массой все новых знакомых; не проходит и дня, чтобы в его доме не побывало десятка людей.
18 мая 1790 года Габриель родила второго сына, что смягчило горе четы Дантонов, вызванное смертью первого ребенка в апреле предыдущего года. Появление здорового маленького Дантона наполнило дом радостью и суетой; весь дистрикт Кордельеров праздновал это событие. Из Арси приезжает куча родственников и прежде всего мать Дантона, мадам Рекорден. Все восхищаются жилищем Дантона; квартира теперь заново обставлена красивой, дорогой мебелью. Юного Антуана (ребенка назвали так в честь брата Габриель, Антуана Шарпантье) крестили не в своем приходе, а в другом, подальше. Дантон, дорожа мнением своих демократических друзей, опасался вызвать их недовольство клерикальными склонностями своей супруги, с которой он, будучи атеистом, предпочитал не спорить на эту скользкую тему.
Едва иссякла вереница гостей по поводу рождения ребенка, как Дантона захватывает общий ажиотаж, вызванный праздником Федерации 14 июля 1790 года. На обширном Марсовом поле, до этого действительно представлявшем собой неровное поле, устроили гигантский амфитеатр с грандиозной аркой и алтарем свободы. На праздник прибыли представители Национальной гвардии всех областей Франции. Вместе с парижанами здесь собралось 14 июля свыше 300 тысяч человек. Это было торжество в честь единения всех французов, которых не разделяли отныне ни политические, ни языковые, ни этнические, ни какие иные границы. Король вместе с королевой, шляпа которой украшена трехцветной лентой, присягал на верность нации. Такую же клятву дал и командующий Национальной гвардией генерал Лафайет. Казалось, всеобщее ликование знаменует рождение обновленной и отныне свободной нации. Даже проливной дождь не смог омрачить всеобщего чувства радостного подъема и ликования. Здесь родилась в народе легендарная песня «Са ира» — символ торжества над аристократией. Сама же либеральная аристократия торжествовала завершение, как ей казалось, Революции, так и не задевшей ее главных интересов. Но за внешним помпезным величием церемонии скрывались зияющие противоречия, грозившие в будущем Революции немыслимыми бедами и испытаниями. Двусмысленность происходящего как бы символизировала личность епископа Отенского князя Талейрана, служившего торжественную мессу. Сама личность этого прелата, который войдет в историю как символ лжи, коварства и предательства, отражала иллюзорность всеобщей радости и единения. Почтенный служитель Господа успел в этот день вечером необычайно обогатиться, трижды сорвав банк в карточной игре. «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковские билеты. Я был покрыт ими. Между прочим, и шляпа моя была ими полна», — ликовал епископ.
Торжествовавшая конституционная монархия казалась отныне незыблемо утвердившейся. А между тем своими декретами «счастливого» 1790 года она уже рыла себе могилу. Взяв на себя долги старой монархии, она считала себя обеспеченной выпуском ассигнатов — новых бумажных денег, которые вскоре станут жертвой инфляции и подорвут стабильность нового порядка. Гражданское устройство духовенства, требовавшее присяги на верность государству, вызовет раскол среди церковников и их паствы и даст контрреволюции недостававшую ей армию. Пока только контрреволюционные мятежи в Монтабане и Ниме, а затем жестокое подавление солдатских волнений в Нанси предвещали наступление грозных и кровавых событий в будущем. Королевский двор, клявшийся в верности нации на Марсовом поле, вынашивал авантюристические замыслы, которые обрекут на крах все здание конституционного королевства. Гигантский радостный танец нации на еще дремавшем вулкане предвещал нечто очень страшное, чего еще никто не мог себе вообразить.
Но тогда, вечером, весь Париж предавался беззаботной радости торжественного банкета. В своем квартале Дантон возглавляет застолье, чествовавшее 200 федератов, и произносит воодушевившую всех речь. Вскоре затем семейство отправится погостить на родину в Арси, где земляки будут приветствовать своего преуспевшего в Париже выходца с его прелестной супругой и чудесным ребенком. Правда, местные дворяне, уже наслышанные о демократических подвигах Дантона, явно сторонятся его, но он предпочитает, как всегда, не останавливать свое внимание на темных пятнах жизни, в которой все еще было впереди.
Вернувшись в Париж, Дантон начинает новый этап своей политической деятельности. Убедившись в тщетности попыток использовать для своих целей муниципалитет и Клуб якобинцев, Дантон вместе с Фабром и Демуленом решительно приступают к созданию своего центра политического влияния. «Общество друзей прав человека» должно стать влиятельным революционным клубом, центром притяжения революционных, демократических сил всего Парижа. Наученный крахом прямых атак на Муниципалитет и Якобинский клуб, Дантон действует обходными путями. Под воззванием об учреждении клуба имя Дантона даже не фигурирует, оно подписано малозначительными лицами, но содержит многозначительное начало: «Основная цель Клуба прав человека — разоблачение перед трибуналом общественного мнения пороков различных властей и всяких покушений на права человека. Он намерен приглашать всех граждан для обсуждения различных фактов угнетения или несправедливости, на которые они будут жаловаться или будут о них информировать, и рассматривать доказательства основательности этих жалоб».
Цели клуба, видимо, точно совпали с общественной потребностью масс. Немедленно посыпался поток жалоб. Клуб быстро превращался в главный центр объединения демократических кругов столицы. Очень скоро бальный зал на улице Бушери-Сен-Жермен перестал вмещать растущую аудиторию. Типографщик Молюро, человек с радикальными склонностями, требовал без долгих разговоров занять запечатанную церковь Кордельеров. Но получить разрешение Ратуши, где одно имя Дантона вызывало приступ ярости, было невозможно. Вот тогда-то Дантон и решил использовать подпись герцога Орлеанского в качестве фиктивного председателя клуба. Байи не решился отказать принцу крови, и Дантон с друзьями вновь обрел любимый монастырь Кордельеров.
В отличие от респектабельного Якобинского клуба здесь царила полная демократия. Вступительный взнос составлял всего 2 су, но пускали и вообще без всякого взноса. В Клуб кордельеров принимали даже женщин. Единственное условие для выступавшего с трибуны состояло в том, чтобы он надел на голову фригийский красный колпак. Зал украшала огромная надпись: «Свобода, Равенство, Братство». Этот триптих, придуманный Дантоном, станет девизом всех последующих французских республик, включая нынешнюю, Пятую…
Клуб кордельеров приобретает сразу популярность среди тех, кто считал якобинцев слишком умеренными, какими они в то время и были. Здесь центр, где выражались, выливались, кипели и бурлили страсти, волновавшие революционный народ Парижа. Дантон назвал однажды этот клуб своей «пушкой». Но когда она начнет стрелять, на какую мишень наведет Дантон это орудие народной ярости? Лицемерная и предательская политика двора и шести королевских министров не могла не оказаться раньше других под прицелом «пушки» кордельеров. Вообще Старый порядок явно давал понять, что он еще отнюдь не примирился со своими утратами и рассчитывает вернуть потерянное. В июне Собрание отменило все дворянские титулы и фамильные гербы. Аристократы подчинились решению очень своеобразно: на своих каретах они закрасили раззолоченные геральдические знаки полупрозрачной, легко смываемой краской. Народ это видел.
Дантон решил нанести первый удар по двору и правительству. В октябре Париж взбудоражен разоблачениями королевских министров. Депутат Мену обвинил их в «ошибках, тирании, в сообщничестве с преступниками». Дантон созывает в Клубе кордельеров представителей всех 48 округов Парижа. Он убеждает их проголосовать за петицию, требующую отставки министров. Дантону поручают возглавить делегацию, которая должна добиться от Учредительного собрания поддержки требования Парижа.
Появление Дантона в Манеже 10 ноября вызвало шумную реакцию. Не отвечая на враждебные крики, Дантон произносит громовую, бичующую речь. Но шум в зале продолжается, и даже самый известный оратор правых Казалес требует порядка: «Дайте ему говорить! Мы должны выслушивать все, даже политический абсурд!»
Однако «абсурд» показался убедительным многим депутатам: 340 голосов подано за отставку министров, но большинство — 513 — против. Значит, Дантон потерпел поражение? Нет! Он победил! Два министра сразу подали в отставку, затем ушли и другие, кроме министра иностранных дел Монморена. Его Дантон не критиковал. Именно из-за этого громко прозвучали впервые обвинения в продажности Дантона. «Продажный оратор с перекрестка», — кричали правые. Менее громко, но достаточно уверенно многие говорили, что Дантон именно через этого министра получал деньги от короля. Отсюда пошла и не смолкает уже два века молва о продажности Дантона. Такие обвинения, а их не избежал никто, кроме Робеспьера (даже Марат!), в изобилии содержатся в мемуарах врагов Дантона вроде Лафайета. Гораздо серьезнее выглядят свидетельства таких людей, как Луи Прюдом, издатель, который одно время считался другом Дантона. Он приводит такое заявление трибуна, который будто бы сказал ему однажды без всякого стыда: «Революция должна быть выгодной для тех, кто ее делает… если короли обогащали дворян, надо, чтобы революция обогащала патриотов». Заявление убийственное, если не принимать во внимание гибкости взглядов Прюдома: в начале Революции он написал брошюру о преступлениях королей, а спустя годы, в период ее спада, он же опубликовал брошюру о преступлениях Революции!
Однако есть нечто более серьезное: переписка Мирабо с двором, от которого он получал с мая 1790 года регулярное ежемесячное жалованье. Так вот. 10 марта 1791 года, через четыре месяца после громкого заседания в Манеже, Мирабо напишет графу Ламарку, обычно передававшему его советы королеве: «Дантон получил вчера 30 тысяч ливров, и я имею доказательства, что последний номер газеты Демулена оплачен Дантоном». В том же письме, упоминая о 6 тысячах для оплаты одного агента, Мирабо добавил: «Они затрачены более невинно, чем 30 тысяч ливров Дантона. В сущности, в нашем жалком мире глупо не быть мошенником».
Есть также много косвенных указаний на то, что Дантон получал деньги из Англии. Лорд Голланд в своих мемуарах рассказывает, что в 1791 году, будучи еще очень молодым человеком, он разговаривал с Дантоном и прямо задал ему нескромный вопрос о деньгах и услышал от него в ответ: «Такому человеку, как я, охотно дают 80 тысяч ливров, но такого человека, как я, нельзя купить за 80 тысяч ливров».
Итак, речь идет о самой щекотливой проблеме жизни Дантона. С одной стороны, он заслужил репутацию самого талантливого и самого реалистичного деятеля Революции. С другой, есть немало свидетельств, что он брал деньги из многих, отнюдь не революционных источников и оказался одним из коррумпированных героев Революции. Относительно личности Дантона историки разделились на два течения. Одни его безоговорочно осуждают, другие безудержно восхваляют. Это примитивная постановка вопроса. Историческая объективность требует другого подхода. Существуют ли доказательства того, что Дантон оказал какие-либо реальные услуги контрреволюции? Нет таких доказательств! С другой стороны, его заслуги перед Революцией очевидны, несравненны и блистательны! Дальнейший рассказ о жизни Дантона прояснит обе стороны дела. Верно, что он брал деньги. Но не менее верно, что за эти деньги купить его было невозможно. Действовал он всегда так, как считал нужным, и в согласии со своей совестью, совестью радикального революционного буржуа. Последнее слово особенно важно. История — не школа морали. Тогдашний революционный класс — буржуазия — имел свой кодекс нравственных ценностей. Из этого и надо исходить, не занимаясь ханжескими рассуждениями о добродетели в духе Руссо. Политика вообще грязное дело. Судить о политике надо по ее результатам.
Конечно, не из одной политики состояла жизнь Дантона, как и других людей Революции. Они были очень молоды и находились в самом расцвете сил и способностей. Дантон всегда воплощал жизнерадостность, и, конечно, к нему тянулись многие, по-своему преисполненные страстями, желаниями, мечтами и надеждами молодые люди. 29 декабря 1790 года много их собралось по случаю женитьбы Камилла Демулена и Люсиль Дюплесси. Три года осаждал Камилл эту крепость. Родители невесты, люди благонамеренные и осторожные, долго не доверяли слишком легкомысленному жениху. А с тех пор, как он стал «прокурором фонаря», они еще и стали его бояться. Еще неизвестно, чем она кончится, эта революция. Но в последнее время Камилл обрел достаток, жил в приличной квартире, платил даже «марку серебра» налога. Он близок также с такими великими людьми, как Мирабо или герцог Орлеанский. Родители невесты не только согласились наконец на брак, но и дали в приданое за Люсиль 100 тысяч ливров.
Чего стоил список официальных свидетелей на церемонии венчания в церкви Сен-Сюльпис: депутат Собрания Жером Петион, его собрат и бывший муж мадам Жанлис Бюлар де Силери, Максимилиан Робеспьер, имя которого не нуждается в пояснениях, Луи Себастьян Мерсье, историк и член нескольких академий, автор знаменитых «Картин Парижа», наконец Бриссо, бывший друг Марата и будущий вождь Жиронды в Конвенте. Можно не сомневаться, что Камиллу никак не могла прийти в голову в этот радостный день мысль, что он сам, его юная супруга и многие свидетели кончат эшафотом. Только Мерсье умрет в постели, но в тюрьме придется посидеть и ему.
Пройдет три года, и Камилл Демулен скажет в Якобинском клубе: «Волею судьбы из шестидесяти революционеров, которые присутствовали у меня на свадьбе, у меня осталось только два друга: Дантон и Робеспьер. Остальные эмигрировали или гильотинированы».
До этого еще далеко, и никто, даже Робеспьер, с его пессимистически мрачным видением будущего, не может даже вообразить кошмарный облик близкого грядущего. Новобрачные являли собой совершенную идиллию счастья, восхищавшую даже самых суровых революционеров. Но Робеспьер — исключение. Он даже отказывается от участия в бесконечных дружеских застольях, которые так любили Дантон и его друзья. Отклоняя настойчивые приглашения Демулена, Робеспьер сурово говорил легкомысленному другу: «Это не для меня, шампанское — это яд свободы». Он тем более не мог понять, как можно предаваться радостям семейного счастья в ущерб политической деятельности. Через несколько недель после свадьбы, 14 февраля 1791 года, Робеспьер пишет другу: «Я должен заметить Камиллу Демулену, что ни прекрасные глаза, ни прекрасные достоинства очаровательной Люсиль не являются достаточным основанием, чтобы забыть напечатать объявление о моей брошюре, экземпляр коей на всякий случай прилагается. В настоящий момент нет более спешного и более важного дела». Поистине Неподкупный был закован в броню своей целеустремленности, о которую разбивались даже его собственные, чисто человеческие эмоции. Так, он оказался очарован Аделью, прелестной младшей сестрой Люсиль. Явно намечался роман со счастливым концом. Но Дантон сразу бесцеремонно сказал, что из этого ничего не выйдет: «Он же евнух!» Жизнелюбивый гигант имел в виду историческое происхождение этого слова. В древности, в Византии, евнухи — люди, делавшие политическую карьеру, ради которой отказывались от всего. Действительно, Робеспьер легко подавил свое чувство, которое могло помешать его целеустремленной деятельности. Ради нее он шел на все. Письма сестры и брата из Арраса в это время полны мольбами о помощи, родственники жили в нищете. Но непреклонный старший брат не может отказаться от публикации брошюр со своими речами, что стоило недешево.
Что же сближало его со столь чуждым ему по образу жизни, темпераменту, взглядам кругом друзей Дантона? Необходимость близости с кордельерами подкрепляла его репутацию истинного представителя народа. Ведь никаких конкретных связей с людьми из народа у него не было и быть не могло. Народ у него метафизическая абстракция, хотя идея народа и составляла главную базу всей его политики. Он очень укрепляется на ней именно в этот «счастливый» период в двадцать месяцев, отделяющих октябрьские дни 1789 года до нового кризиса летом 1791 года. Как раз в это время зарождается то, что ускорит, воспламенит революцию, осложнит и драматизирует ее. Знаменательно, что именно в этот же период происходит и политическое созревание Робеспьера, приобретают окончательные формы его взгляды, идеи, его речи, его тактика, то есть все то, что вознесет его на самую высокую трагическую вершину жизни, с которой он рухнет в бездну, увлекая за собой Революцию…
21 декабря 1790 года Учредительное собрание принимает декрет об установлении памятника Жан-Жаку Руссо. Для Максимилиана, по-прежнему одушевленного идеями «божественного» учителя, это решение преисполнено особого смысла. В самом деле, кто в Собрании может сравниться с ним в неуклонном последовательном проведении идеи народного суверенитета? Собственно, это главная и единственная тема, которая всегда определяет все его выступления, на какую бы тему он ни говорил. Именно это придает ему авторитет непреклонной принципиальности и как бы ставит его на тот же пьедестал памятника Руссо, который будет теперь воздвигнут и на котором напишут и его девиз: «Посвятить жизнь истине».
«Воспитанный моралью Руссо, — писал о Робеспьере того времени известный монтаньяр Дюбуа-Крансе, — этот человек имел мужество имитировать свой идеал: он проявлял строгость, твердость принципов, нравов, жесткий характер, дух непримиримости, даже мрачность… Он был горд и завистлив, но справедлив и добродетелен».
Эти качества позволяли ему занимать в Собрании, где он был почти одинок, твердую и все более прочную позицию. 20 января 1791 года при очередной обструкции, когда его перебивали и не давали говорить, он презрительно бросает с трибуны: «Другие могут одобрять или отвергать мои взгляды, но они не в силах предписать мне, где я должен начать и когда я должен закончить. Если Собрание не хочет меня слушать, я замолчу». Робеспьер уходит с трибуны, но его гордость тем, что он вопреки всему и всем сохраняет свою позицию, только укрепляется.
Для Максимилиана в Революции еще далеко не все решено, а в Собрании последовательно с самого начала действуют те, кто хочет Революцию закончить. Сейчас это Мирабо, и Робеспьер оказывается его естественным противником. 3 мая 1790 года он напал на него по поводу административной реорганизации Парижа, замены дистриктов округами. Мирабо пытается одернуть молодого адвоката: «Господин Робеспьер вынес на трибуну усердие более патриотическое, чем обдуманное». Но Максимилиана можно заглушить, но нельзя сбить с уже занятой им позиции даже ораторской мощью Мирабо. 15 и 18 мая Робеспьер вновь нападает на него по поводу роли короля в решении вопросов войны и мира. «Король, — заявляет он, — всегда будет склонен объявить войну, чтобы расширить свои прерогативы. Представители нации всегда заинтересованы даже лично в том, чтобы помешать войне… Как будто войны королей могут быть еще войнами народов». 31 мая Робеспьер выступает по поводу конституционного устройства духовенства и бесстрашно предлагает дать католическим священникам право жениться. Это покушение на священный принцип целибата вызывает бурю протестов и волну… восторга множества священников. Робеспьер на этот раз опередил Мирабо, который сам хотел выступить с таким предложением, и теперь огорченно пишет своему секретарю: «Отныне мы зависим от капризов г-на Робеспьера».
Робеспьер снова добивается успеха, правда, за пределами Собрания. Как писал его секретарь Вилье: «Через несколько дней после обсуждения целибата священников он был завален поздравлениями от церковных мужчин и женщин. Стихи латинские, французские, греческие, даже еврейские прибывали со всех концов Франции. Поэмы в пятьсот, шестьсот, тысячу строк затопляли улицу Сантонж». Правда, в Аррасе против Робеспьера подняли кампанию как против врага церкви.
В декабре 1790 года Робеспьер вступил в Якобинском клубе в особенно ожесточенную схватку с Мирабо по поводу права всех граждан, а не только «активных» служить в Национальной гвардии. Он говорит с небывалым для него ораторским жаром: «Напрасны ваши претензии мелкими приемами шарлатанства и придворных интриг управлять самой Революцией, которой вы недостойны. Ее всепреодолевающий поток захватит вас и повлечет как слабое насекомое». Мирабо не выдерживает бичующих ударов Робеспьера. Он прерывает оратора, но зал протестует. Шум и спор продолжаются более часа. Робеспьер берет верх над самым выдающимся, самым влиятельным оратором Собрания. И это показало необычайную силу Робеспьера, порожденную твердой последовательностью и принципиальностью. В Якобинском клубе он приобретает влияние, значительно превосходящее его еще скромную роль внутри Собрания. 2 апреля 1791 года Мирабо умер, ему устраивают грандиозные похороны, помещают его прах в Пантеон, хотя слухи о его продажности давно уже стали общим достоянием. Максимилиан вместе со всеми депутатами участвует в похоронном кортеже. Он хоронит своего первого, действительно крупного противника. А сколько их еще станут его жертвами уже не косвенно, а в результате прямых ударов Робеспьера!
Робеспьер не щадит своих сил: в отдельные месяцы он произносит более 20 речей, как правило, тщательно подготовленных и написанных заранее. По каждому поводу он не устает требовать всеобщего избирательного права со всевозрастающей силой и настойчивостью. Практически эти выступления не имели последствий в виде принятия каких-либо решений, декретов или поправок. Число депутатов, поддерживающих демократические требования Робеспьера, не превышало десятка. Собственно, он и сам понимал, что изолирован в Собрании. К тому же он никогда не выходит за рамки конституции. Когда его предложение отвергают, то есть почти всегда, он почтительно склоняет голову с уважением к решению большинства. Так, горячо отстаивая право всех граждан подавать петиции Собранию, он подчеркивает: «Не для того я выступаю с этой трибуны, чтобы возбуждать народ к мятежу…»
Никто не говорил столь восторженных слов о народе, как Робеспьер, отвергая малейшие попытки бросить тень на «трогательное и священное имя народа». Он гневно бичует тех, кто употребляет слова «канальи» или «чернь». Он говорит о народе с поистине религиозным пиететом. Чего же он требует конкретно для народа, кроме ликвидации деления на «активных» и «пассивных» граждан? Его требования фактически сводятся к тому, чтобы доказать, что народ больше, чем знатные и богатые, достоин любви и уважения. «Я призываю, — пламенно заявляет он, — всех тех, кого инстинкт благородной и чувствительной души сблизил с народом и сделал достойным познать и полюбить равенство, в свидетели того, что никто не может быть столь справедливым и столь добрым, как народ, когда он не раздражен эксцессами угнетения, что он благодарен за малейшие проявления внимания к нему, за малейшее добро, которое ему делают, даже за зло, которое ему не делают, что именно в народе мы находим под наружностью, которую мы называем грубой, искренние и прямые души, здравый рассудок и энергию, которые мы долго и тщетно искали бы среди класса, презирающего народ. Народ требует лишь необходимого, он требует только справедливости и покоя, богатые претендуют на все, они хотят все захватить и над всем господствовать. Злоупотребления — дело и область богатых, они бедствие для народа. Интерес народа — есть общий интерес, интерес богатых есть частный интерес».
Подобного рода красноречивые речи Робеспьер произносил непрерывно. Но фактически он никогда не предлагал ничего, кроме предоставления всем политических прав, в том числе и беднякам, не платящим налога. Практически это ровным счетом ничего не значило. Ведь даже из числа четырех миллионов «активных» граждан своим избирательным правом пользовались не более одной десятой части избирателей.
Тем не менее неустанные тирады во славу народа, воспроизводимые в газетах, передаваемые из уст в уста, создают ему исключительный авторитет и популярность. Прославление добродетельной бедности выглядело как защита ее прав, хотя речь шла лишь о праве гордиться честной и благородной нищетой. Робеспьер связан с народом, но эта связь была односторонней и выражалась в потоке наивных посланий благодарности, которые Робеспьеру направляли со всех концов Франции. Особенно часто обращались с разными просьбами. Так, 19 августа 1790 года Робеспьеру написал молодой человек, просивший сохранить в его местечке торговый рынок: «К вам, кто поддерживает изнемогающую родину против потока деспотизма и интриг, к вам, которого я знаю только как бога по его чудесам, я обращаюсь с просьбой… Я не знаю вас, но вы — большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества…» Эти неумеренно льстивые строчки, однако, вошли в историю, ибо письмо написал Сен-Жюст — в будущем самый верный и близкий по духу соратник Робеспьера, которому послание явно понравилось и запомнилось…
Робеспьер, проявлявший удивительное политическое чутье, великий мастер парламентской интриги, подозрительный и крайне недоверчивый к людям, с легкостью поддавался на самую низкопробную лесть и обожал фантастические восхваления. Он вел на редкость уединенный образ жизни, хотя в это время у него, естественно, завязались отношения с многими интересными людьми. Взять хотя бы тех, кто обычно собирался у весьма гостеприимного Дантона, где умели весело и умно провести время. Здесь собирались люди, которых можно было бы назвать цветом левой интеллигенции, такие, как Демулен, Фабр д'Эглантин, и им подобные. Но Робеспьер редко бывал здесь, также как, впрочем, у Петиона и других своих коллег. Причем обычно Робеспьер вел себя крайне замкнуто. Так, у Петиона он всегда предпочитал молча играть с собакой. Но вот в начале 1791 года у Робеспьера появляется «друг-патриот» — стареющая графиня де Шалабр. Эта аристократка держала салон, куда приглашала для развлечения своих друзей — разных знаменитостей. А Робеспьер уже стал таким благодаря речам в Собрании. Сначала Робеспьер, получив восторженное письмо, завязывает переписку со старой графиней, затем посещает ее. Письма графини очень любопытны. Это смесь безудержной лести с фантастическими преувеличениями тогдашней политической роли Робеспьера. Читая эти напыщенные послания старой, но игривой дамы, с ее явно притворным патриотизмом, претенциозностью, фальшью, ломанием и позерством, сначала трудно понять, как мог Робеспьер поддерживать эту связь. Макс Галло, автор одной из его новейших биографий, пишет: «Робеспьер любил лесть, обожание, восхищение. При этом он утрачивал критический дух, не замечал искусственности восторгов. Его направляет не разум, но стремление получить знаки одобрения, удовлетворяющие его тщеславие. Он живет ради того, чтобы вызывать уважение и восхищение, он стремится к этому давно и постоянно и готов умереть ради этого». Автор, видный деятель французской социалистической партии, относится к Робеспьеру отнюдь не враждебно, он расценивает все это лишь как «слабости добродетельной политики».
Неужели, кроме роялистского салона, в Париже не нашлось ничего интересного? В действительности общественную активность проявляют многие из тех, кто раньше не поднимался выше дешевого кабака. Кроме народного революционного Клуба кордельеров, возникает множество братских обществ. Здесь бурлила та самая «чернь», которую прославлял Робеспьер в Собрании: поденщики, рабочие, мелкие торговцы, клерки, актеры, подростки, женщины. Часто просто вслух читали купленные в складчину газеты, ну а если появлялся настоящий демократический оратор, то его принимали с восторгом. Возникли объединения вроде «Социального кружка» аббата Фоше, где проповедовались идеи примитивного социализма. В мае 1791 года братские общества объединяются, создают Центральный комитет во главе с другом Дантона республиканцем Робером.
Неподкупный далек от братских обществ, он не принимает их приглашений, опасаясь дружбой со «смутьянами» повредить своей репутации. Он предпочитает выступать с большой общенациональной трибуны Якобинского клуба, хотя он был тогда не народным, а монархическим объединением в основном консервативных людей. Но вот одно исключение: 20 апреля Робеспьер выступает в Клубе кордельеров. Он зачитывает здесь речь, прославляющую народ, которую ему не дали произнести в Собрании.
Большая цитата о народе, приведенная выше, взята как раз из этой речи. Здесь, в народном клубе, она вызывает горячее одобрение. Мистический, почти религиозный образ народа, который риторика Робеспьера окружает божественным нимбом, волнует людей католической страны, веками приученной именно к такому восприятию идей. Впрочем, для Робеспьера обожествление понятия «народ» не является риторическим приемом. Он искренне верит в то, что говорит. Так, он утверждает, что Декларация прав вовсе не творение человеческих умов, а «неизменные декреты предвечного законодателя, вложенные в разум и сердце человека» Богом. Он говорит также о необходимости проникнуться «религиозным уважением к правам людей». Но дело даже не в этой явно религиозной терминологии, а в чисто религиозном, практически просто евангельском представлении о мире, об извечном делении его на богатых и бедных, которое Робеспьер считает естественным и нерушимым явлением, где богатые воплощают неизбежное зло, а бедные — возвышенное добро. Для него бедняк — святой, бедняк чист, он справедлив, добродетелен; бедняк осенен святостью. У Робеспьера не просто отсутствуют какие-либо проблемы понимания социальной и экономической природы мира; она для него просто невозможна, ибо он весь погружен в мир моральных абстракций. Но самое главное в нем — это его убеждение, что именно такое восприятие действительности является истинным, что он один обладает таким образом чудесной способностью и правом быть толкователем, апостолом божественного откровения, правом разъяснять, руководить, направлять, спасать людей. И он действительно личность из ряда вон выходящая, поскольку ему удается убеждать в этом и не одиночек, а все более широкие массы людей.
Естественно, что 20 апреля люди, собравшиеся под сводами монастыря Кордельеров, встречают его проповеди с энтузиазмом. Они принимают решение напечатать текст его речи, ибо «она должна стать учебной книгой новых поколений граждан». Кстати, не это ли и привело его к кордельерам? Возвышенный идеализм его риторики сочетается с трезвым практическим расчетом. Но люди искренне тронуты и направляют ему взволнованный адрес: «Ты, может быть, думаешь, что мы выразили свою любовь к тебе только аплодисментами? Нет, слезами радости мы могли бы воздать тебе за то доброе, что ты стремишься для нас сделать».
Кордельеры не одиноки в восторженном отношении к Робеспьеру. Он действительно получает все больше писем от разных народных обществ. Вот типичные строчки из писем бедняков: «Благородный Робеспьер… открой нам свою душу, чтобы мы могли узнать, как нам себя вести»; «Неподкупный Робеспьер… мы любим тебя… мы уважаем тебя, и ты выражаешь то, что в наших сердцах».
Так зарождается культ Неподкупного. Этому не могут помешать даже факты явного перехода Робеспьера на позиции буржуазии против рабочих. Именно это случилось 14 июня 1791 года, когда Учредительное собрание единогласно приняло закон Ле Шапелье. То был первый крупный конфликт, предвосхитивший на века вперед расстановку классовых сил в новом обществе, рожденном Революцией. В то время еще никто не мог себе ясно и четко представить, что главным социальным антагонизмом будет впредь борьба между капиталом и трудом, буржуазией и рабочими. Тем не менее класс новых, уже не феодальных эксплуататоров с удивительной инстинктивной предусмотрительностью заранее надежно защищает свои позиции, вернее прибыли. Не случайно закон Ле Шапелье будет официально действовать три четверти века.
Произошла эта история летом 1791 года в сравнительно благоприятной экономической обстановке. В Париже шло бурное строительство, и рабочие-строители попытались добиться повышения зарплаты. Бастовали с той же целью рабочие и других городов. В самом деле, почему бы и этим нищим труженикам не рассчитывать на кое-какую свою долю, когда предприниматели так нагло наживались на их труде? Не требовалось никакой такой особой, прямо-таки мистической любви к народу в духе ханжеских проповедей Робеспьера, чтобы увидеть справедливость довольно робких и скромных претензий бедняков. Но Неподкупный словно ослеп и онемел.
Некоторые очень хорошие историки вроде Жана Жореса, которым хочется видеть Робеспьера в роли неустрашимого защитника униженных и оскорбленных, оправдывают его тем, что он якобы не сумел разобраться в том, что происходит. Но это просто смешно, ибо почему же Ле Шапелье сумел разобраться во всем и даже откровенно объяснил в Собрании, что рабочие хотят «избавиться от абсолютной, почти рабской зависимости» от хозяев, защитить свои интересы, что, по мнению этого честного защитника буржуазии, нарушало свободу хозяев, гарантированную Декларацией прав! Предложенный им закон запрещал рабочим любое объединение, любое коллективное требование увеличения платы за труд. Под страхом жесточайших наказаний запрещались забастовки и все виды «сговора» рабочих.
Невозможно было откровеннее сказать, что свобода и равенство, торжественно дарованные каждому «человеку и гражданину», не распространяются на тех самых бедняков, которые штурмовали Бастилию. Вообще существо конфликта рабочие сами очень популярно объяснили в своих письмах, напечатанных за несколько дней в газетах. Об этом писали, например, 560 рабочих, строивших церковь Святой Женевьевы (нынешний Пантеон).
Ясно, что педантичный Робеспьер просто не мог не знать положения дела. Но на этот раз, когда речь шла о самом главном — о хлебе насущном, — не о высоких политических абстрактных материях, у него не нашлось ни слова сочувствия к беднякам, которых он до небес и выше превозносил в десятке речей в предшествующие недели. Бедный Жорес растерянно спрашивает в своей замечательно честной Истории Революции: «Как объяснить полное молчание Робеспьера? Я прекрасно понимаю, что он отнюдь не был социалистом. Но он был демократом и опирался скорее на массу ремесленников и рабочих, чем на промышленную буржуазию».
Действительно, опирался. Но лишь в той мере, в какой это содействовало его патологическому честолюбию. А когда дело доходило до реальных вещей, до хлеба насущного, Робеспьер оказался вместе с Ле Шапелье. Кстати, в 1793-1794 годах Робеспьер достигнет абсолютной власти. Однако закон Ле Шапелье, который называли «страшным» законом, не будет отменен. Почему же рабочие, санкюлоты, которые приобрели после 10 августа 1792 года огромное, иногда решающее влияние на власть, не требовали его отмены? Рабочего класса в его классическом облике времен промышленного капитализма еще не было. Не было и не могло быть и рабочего классового сознания. Иллюзии, порожденные Революцией, причудливо смешанные с предрассудками прошлых веков, составляли очень смутную, противоречивую основу массового сознания. В этих условиях неверно возлагать личную ответственность на великих вождей новой демократии, на монтаньяров прежде всего, на Робеспьера, ибо новая демократия была буржуазной, как и сам Робеспьер всегда представлял буржуазию и находился очень далеко от реального народа, хотя искренне хотел служить созданному его богатым воображением и весьма ограниченным мировоззрением фантастическому «народу». Не надо подражать тем, кто подобно Наполеону считает Робеспьера «козлом отпущения Революции». Он тоже ее жертва.
Известно, что по-настоящему хитер тот, кого никто не назовет хитрым. Робеспьер, всегда объявлявший своих противников «интриганами», сам был прекрасным мастером интриги. Он блестяще показал это в момент, когда завершалась деятельность Учредительного собрания. За два года оно сумело законодательно оформить новое общество. Вместо феодальной абсолютистской монархии возникла буржуазная конституционная монархия. Всемирно-историческая революционная роль Конституанты (то есть Учредительного собрания) бесспорна. В версальском зале Малых забав, а затем в парижском Манеже родилась и возмужала плеяда выдающихся, талантливых законодателей, политиков и ораторов буржуазно-монархического государства. Робеспьер почти один противостоял им всем. И несмотря на свое одиночество, изолированность, он поднимался все выше и выше. Это удавалось ему потому, что каждый раз, сокрушая своих соперников, он опирался на силы других. В успешной борьбе против Мирабо ему активно помогали ораторы «триумвирата». Но затем, заняв место рано ушедшего со сцены «льва революции», именно они во главе с Ламетом, Барнавом, Дюпором, заняли господствующие позиции в Собрании. Устранить их влияние внутри его было безнадежным делом. Тем не менее Робеспьер сумел этого добиться и в конечном счете вычеркнуть их из дальнейшей истории Революции.
Как он, человек неловкий, не умевший заводить связи, необходимые для компромиссов, сумел добиться этого? Швейцарец Этьен Дюмон, живший в первые годы Революции в Париже и близкий к ведущим деятелям Конституанты, писал, что Робеспьер «сохранял мрачный вид, он не смотрел прямо в лицо собеседнику, а в его глазах было какое-то суровое мерцание. Однажды мы разговорились о делах Женевы и его выступлении. Он признался мне, что страдает детской робостью, что всегда дрожит, приближаясь к трибуне, и совершенно не чувствует сам себя, когда начинает говорить».
И вот такой человек вносит 16 мая 1791 года сенсационно смелое предложение. Он требует немедленного принятия декрета, запрещающего депутатам Конституанты выставлять свои кандидатуры в будущее Законодательное собрание. Он требует политического самоубийства от своих коллег. Это предложение, отстраняющее от дальнейшей деятельности наиболее выдающихся людей, выдвинутых народом с началом Революции, людей, которые приобрели уникальный законодательный опыт, какого не будет у тех, кто их сменит, казалось, могло вызвать только возмущение.
Однако оно с самого начала встретило бурный энтузиазм значительной части депутатов! Это были крайне правые монархисты, считавшие своим главным врагом умеренных конституционалистов, особенно людей «триумвирата». Правые, желавшие восстановления абсолютизма, рассматривали их как главную опору нового режима и рассчитывали, что без них он ослабеет. Они рассуждали так: Робеспьер толкает страну к катаклизму, к хаосу, и она в результате устранения либерального большинства упадет как зрелое яблоко в руки короля!
Ведущая газета роялистов, издававшаяся аббатом Руйю, «Ами дю руа» («Друг короля») с восторгом писала: «Никогда Робеспьер не говорил с большей силой и красноречием… Его последовательность и мужество в таких обстоятельствах дают основание верить, что он руководствуется не своими интересами, а высокими принципами».
Монтаньяр Дюбуа-Крансе отметит в своих воспоминаниях: «Я не представлял себе, что Робеспьер так хорошо владеет тактикой Собрания, поскольку это казалось невероятным для человека, посвятившего свои силы и стремления общественному благу… Известно, что роялистские интриганы в Собрании называли его своим человеком, которому давали свободное поле действий для ослабления умеренных, для навязывания большинству политики правых».
Против Робеспьера выступили поэтому не правые, а либералы. Один из триумвиров, Дюпор, говорил: «Те же самые люди, которые каждый день высокопарно говорят о суверенитете народа, растаптывают этот суверенитет».
Робеспьер не стал отвечать сразу на тяжелое обвинение: он знал свою неспособность к экспромту. Но на другой день он зачитывает тщательно подготовленную речь, в которой он касается не конкретных последствий своего предложения, а излагает общие бесспорные формулы: «Франция вполне может существовать, если некоторые из нас не будут ни депутатами, ни министрами… Надо, чтобы интересы и личные стремления законодателей более полно совпадали бы с интересами и стремлением народа, и для этого необходимо, чтобы они сами вернулись к народу… Мы приходим и уходим, преходящи и интриги врагов: но хорошие законы, народ, свобода — остаются».
Устраняя политических конкурентов с помощью декрета о непереизбрании, Робеспьер устранял и самого себя. Он чувствовал себя совершенно истощенным и дошел до крайнего предела своих физических и духовных сил. Основную часть суток отнимали заседания в Собрании, а затем и в Якобинском клубе. Целые ночи Робеспьер сочинял и переписывал свои речи. «Мы победившие, но уставшие атлеты», — признавался он. Робеспьер и сам отказывался от широкой политической деятельности, предусмотрительно подготовив себе должность судьи в Версале и обсуждая в письмах к Бюиссару возможность возобновления адвокатской практики в родной провинции Артуа. Но главный стимул его акции — предчувствие, если не уверенность, что надвигаются грозные события, которые резко изменят ход Революции. Это предвидели многие. Особенно громко и настойчиво их предсказывал Марат.
В январе 1790 года, после «сражения» в дистрикте Кордельеров, Марат уехал в Англию, где его приютил старый друг Брегет. Но он всей душой остается во Франции: с началом Революции она стала незаменимой родиной прежнего скитальца. Он пишет брошюру «Призыв к нации», где снова говорит о необходимости восстания и диктатуры. Марат чаще выступает не только против Неккера и Байи, но и против Лафайета. Затем появляются «Новые разоблачения Неккера» и «Письма» о судебной системе, в которых не было ничего принципиально нового.
Узнав о создании Клуба кордельеров и о провале «дела» против Дантона, Марат 10 мая вернулся в Париж. Оказывается, его популярность не уменьшилась. Напротив, появилось четыре новые газеты под названием «Друг народа».
Первый (106-й) номер подлинного «Друга народа» вышел 18 мая. Откуда нищий Марат достал денег для продолжения своего издания? Этот вопрос историки пока не решили. Высказывают предположение о каких-то английских источниках, о деньгах герцога Орлеанского, наконец, о помощи кордельеров. Последнее — самое вероятное.
Но нельзя исключать и других гипотез, сколь бы страшными они ни показались. Ведь пошел же Робеспьер, несомненный демократ, вместе с крайне правыми в деле о «непереизбрании», со сторонниками восстановления Старого порядка! А они проводили «политику худшего». Ведь нормальное, спокойное функционирование нового режима буржуазной конституционной монархии обрекало на окончательный провал все их надежды на реставрацию абсолютизма. И наоборот, новые острые конфликты, хаос, любая борьба внутри лагеря сторонников Революции играли им на руку. Разжигание страстей «черни» представлялось им особенно выгодным. Разброд, паника, любые эксцессы могли напугать победившую крупную буржуазию и толкнуть ее к союзу с монархией. И почему сам Марат ни словом не обмолвился о том, откуда у него деньги, притом немалые? В июне 1790 года он даже издает в виде приложения к «Другу народа» 13 номеров второй газеты, «Французский Юниус». «Я сражался за родину двумя руками», — с гордостью напишет Марат. В таком невероятно сложном явлении, как Французская революция, много темных, таинственных и необъяснимых вещей. Их еще больше в деятельности вождей Революции.
Теперь тираж «Друга народа» четыре тысячи, газета по-прежнему крайне воинственна: против Мотье (так Марат будет именовать впредь Лафайета после отмены дворянских титулов), против возможной войны, против невежества и легковерия народа, против консервативной социальной политики Конституанты, против всех аристократов, богачей и негодяев, для которых Марат находит самые резкие эпитеты и обвинения. 13 июня он пишет о необходимости «спасительного террора».
Но главное, постоянная тема «Друга народа» — права бедняков. Политические права, то есть право голоса всех без исключения. Социальные права, то есть смягчение имущественного неравенства и экономического порабощения бедняков. По первому вопросу Марат солидарен с Робеспьером. По второму — он видит глубже и дальше, у него есть обостренное чувство социальной справедливости, что отсутствует у Робеспьера, воспринимающего лишь политическую сторону Революции.
Праздник Федерации 14 июля, представлявшийся почти воем триумфом Революции и вызвавший радостную эйфорию простодушных людей, возмущает Марата своим лицемерием и двусмысленностью. Ведь прибывшие со всех концов страны батальоны Национальной гвардии состояли только из «активных» граждан, из буржуазии. Гвардия, возглавляемая либеральным монархистом, овеянным славой «героя двух миров» Лафайетом, легко могла стать орудием расправы с революционным народом. Марат прямо пишет об этом и голосом Кассандры предсказывает угрозу, которая через некоторое время обнаружит свою трагическую реальность. Марат, сам того не ведая, раскрывает раньше всех противоречия внутри третьего сословия, поднимая свой резкий голос от имени «четвертого» сословия.
В конце июля Марат переходит к новой тактике борьбы. Быть может, он решил действовать более гибко, умеренно, ловко лавируя и прибегая к компромиссам? Ничего подобного! Теперь он уже не кричит; он буквально вопит, доходя до еще небывалой силы страсти, ярости и гнева. При этом, кроме газеты, он начинает время от времени использовать метод плакатов, расклеивая их по стенам в разных концах столицы. Теперь он не довольствуется рассуждениями о целесообразности и необходимости народного восстания; он требует немедленного вооруженного выступления. Некоторые историки объясняют это приступом патологической истерики. Даже Жюль Мишле пишет о Марате как эпилептике, маньяке убийства; его страстные призывы он считает исступленным воплем задыхающегося от ярости и ненависти безумца. Великий историк ошибается. Несмотря на свой действительно бешеный темперамент, Марат обладает методикой научного систематического мышления, хотя он и не добился признания как ученый. Он рассуждает крайне эмоционально по форме, но по существу — удивительно логично. Это действительно сильный, большой ум, способный к глубоко обдуманной, рациональной тактике, какой бы парадоксальной она ни казалась на первый взгляд. Возможно даже, что в необычайном сочетании страсти и внутренней логики и заключалась сила Марата. Так вот, новая тактика, казавшаяся кое-кому просто приступом бешенства, в гораздо большей степени основана на глубоком понимании социальной действительности и политической реальности, чем внешне очень рассудочная, но, по существу, утопичная, схоластическая идейная проповедь Робеспьера. Никто так глубоко не почувствовал, что люди, осуществившие подвиг 14 июня 1789 года, а затем совершившие удивительный поход на Версаль, ничего не получили от своей победы, что их обокрали. И он решил объяснить им это трагическое явление и подтолкнуть к борьбе за свою законную долю добычи, пока целиком доставшейся буржуазии.
26 июля на стенах Парижа появился плакат Марата, который демонстрировал его новую тактику. «С нами покончено», — гласил заголовок. В тексте разоблачался страшный заговор двора и аристократов. Марат утверждал, что Людовик XVI готовится бежать на Север Франции, в Компьен, чтобы соединиться с эмигрантами и австрийскими войсками. Марат призывал, не теряя ни минуты, браться за оружие, установить надежную охрану Людовика XVI и его наследника, арестовать «австриячку», графа Прованского (будущего Людовика XVIII), министров, генералов, захватить склады оружия, распределить пушки по дистриктам и т. п.
Торжество деспотизма можно предотвратить, по мнению Марата, только с помощью беспощадных репрессий: «Пятьсот-шестьсот отрубленных голов обеспечили бы вам покой, свободу и счастье; фальшивая гуманность удержала ваши руки и помешала вам нанести удар; она будет стоить жизни миллионам ваших братьев…»
В тот же день, но уже в своей газете Марат публикует статью: «Истинное средство сделать народ свободным и счастливым». Он гневно разоблачает депутатов Собрания, вновь призывает к восстанию и добавляет к своей статье такое заявление: «Если бы я был народным трибуном и имел поддержку нескольких тысяч преданных людей, я отвечаю, что через шесть недель была бы прекрасная Конституция, что хорошо организованная политическая машина шла бы к лучшему, что никакой негодяй не осмелился бы нарушить ее движение, что нация была бы свободна и счастлива, что менее чем через год она будет процветающей и несокрушимой, и так будет продолжаться, пока я буду жить. Для этого я даже не должен действовать; достаточно моей известной преданности родине, моего уважения к справедливости и моей любви к свободе».
Поистине за один день на Париж обрушилось в изданиях Марата нечто фантасмагорическое: разоблачение планов бегства короля, в которое почти никто не мог поверить после праздника Федерации, где король торжественно присягал на верность Конституции и нации (и которые окажутся правдой!), и одновременно невероятное притязание и обещание Марата лично осчастливить Францию, что выглядело действительно бредом сумасшедшего.
29 июля в типографию Марата является полиция, но, не застав его, конфискует кое-какие бумаги и арестовывает старуху, выполнявшую роль сторожа.
Марат скрывается, но 30 июля снова выходит его газета, в которой он жалуется на пассивность народа предместий, не слушающего его призывов к восстанию. Он снова призывает уничтожить тиранов, установить диктатуру, создать подлинный государственный трибунал. Марат обосновывает на этот раз свои призывы к беспощадной расправе с врагами бедняков: «Было бы верхом безумия надеяться на то, что люди, которые на протяжении десяти веков господствуют над нами, безнаказанно грабят и угнетают, добровольно согласятся быть равными с нами». Слова «десять веков» — ключ к пониманию социальной роли Марата. Он вовсе не социалист, не выразитель рождавшегося рабочего класса. Его проповедь звучит от имени угнетенных всех времен. Это тысячелетняя ярость униженных, угнетенных, их стихийная ненависть, гнев, горе, отчаяние и ярость. Лучше всех это понял еще Виктор Гюго…
Зажигательную силу призывов Марата чувствует и буржуазия. 31 июля Учредительное собрание принимает решение «преследовать как преступников всех авторов… побуждающих народ к восстанию против законов, пролитию крови и ниспровержению конституции». Обвинение направлено и против Камилла Демулена, которого за статью в его газете обвиняют в оскорблении короля. Робеспьер, Дюбуа-Крансе, Петион выступают в защиту Демулена. Марата не защищает никто.
Не выступает за него и народ, который, по словам Марата, остается «глух, слеп и усыплен». В действительности народ знает, и любит его. «Друг народа» читают вслух, поэтому реальная аудитория газеты раз в десять больше ее тиража. К Марату бедняки проявляют особое внимание. Конечно, почти буквальное обожествление Марата — дело будущего, плод его мученической гибели. Пока он приобретает популярность, серьезно отличающуюся от известности Мирабо или Лафайета. Они были мифическими идолами толпы; Марат же воплощал образ брата бедняков, особенно с тех пор, как он ведет и на практике образ жизни нищего бродяги, скрывающегося от полиции.
Почему же нет ответа на его призывы к восстанию? Народные восстания — всегда следствие особого психологического состояния народа, к которому его приводят гнев, отчаяние, реальное страдание, страх, пароксизм инстинкта самосохранения. Марат не учитывает конкретного морального состояния бедняков. Он не дает никакого плана восстания, практической, организационной программы. У него отсутствует сама идея организации народного движения. Неизмеримо практичнее действовал Клуб кордельеров, расчетливым тактиком был Дантон. Что касается Робеспьера, то он просто осуждал любые действия «смутьянов», никогда не организовывал народных выступлений, лишь присоединяясь к ним в случае их успеха. Марат воплощает чувства, эмоции, страсть. Никакой программы на будущее. Все очень просто: короткая диктатура и затем всеобщее счастье. Сначала он отводит для диктатора шесть недель, а потом сокращает срок до трех дней… Зато он увеличивает число врагов свободы, которых следует обезглавить, с 500 до 20 тысяч, потом до 100 тысяч, наконец, до полумиллиона. По-видимому, эти цифры, столь часто использовавшиеся врагами Марата, не представляют собой какого-либо рассчитанного плана, а просто служат деталью текстов, написанных в увлечении и продиктованных страстным желанием поднять народ на жестокую борьбу.
Когда говорят о том, что Марат был вынужден скрываться в подполье, то это не образное выражение, а буквальное описание условий, в которых он умудрялся не только скрываться от полиции, но еще и напряженно работать в самых тяжелых условиях. Кто же давал ему убежище? После убийства Марата в 1793 году нашлось очень много охотников присоединиться к славе Друга народа. Но совершенно достоверно, что ему часто и надолго давал у себя или находил у других пристанище мясник Лежандр, один из самых знаменитых монтаньяров.
В письме к Демулену Марат однажды жаловался на «отравленный воздух своего подполья». Но чаще «апостол и мученик свободы» даже гордится тяжкими условиями борьбы. 7 сентября 1790 года он писал: «Надо иметь совсем не возвышенную душу, чтобы не утешаться надеждой вырвать этой ценой двадцать пять миллионов людей из-под ига тирании, угнетения, притеснения, нищеты, чтобы приблизить наконец момент их счастья».
Марат проявляет настоящее мужество, любой ценой выполняя свою миссию. В маленьком кафе на улице Каннет у него свой человек, который связывал его с корреспондентами и читателями. Вопреки всем усилиям полиции газета выходит, громко откликаясь на крупнейшие события. В августе 1790 года волнуются солдаты в Нанси, а затем следует их чудовищно жестокое подавление под руководством генерала Буйе. Марат не только бичует это преступление, он верно предчувствует в нем начало контрреволюционного заговора. И на этот раз прогноз безошибочен: палач Нанси Буйе уже задумал бегство короля в Варенн. Марат возмущен поздравлением, которое король направляет генералу. До сих пор единственной фигурой, избежавшей нападок Марата, был Людовик XVI; Марат монархист, и хотя он не переоценивает личные достоинства короля, его личность оставалась вне критики. Отныне с этим покончено, и в сознании, а значит, и в газете Марата он занимает свое место естественного главы контрреволюции. Уже в начале сентября 1790 года Людовик подписал в сознании Марата свой смертный приговор.
31 августа он пишет, что готов поддержать тех, кто захочет установить республику, 18 сентября он отвергает подозрения в его роялизме, 4 ноября он объявляет грубой ошибкой убеждение, что Франция может быть только монархией, 8 ноября он говорит, что «король во Франции является по меньшей мере пятым колесом телеги». Но 17 февраля неожиданный поворот: Марат утверждает, что «лучше всего нам подходит очень ограниченная монархия», что «республика скоро может выродиться в олигархию».
В начале 1791 года затевается новый судебный процесс против Марата. 12 февраля 1791 года Клуб кордельеров принимает резолюцию, специально посвященную ему. В ней поистине восторженная оценка патриотической деятельности Марата. Кордельеры торжественно предупреждают, что будут вновь защищать его, используя все свои силы и возможности. Любопытно, что Марат не опубликовал этот документ, так красноречиво превозносивший его. Поэтому совершенно несправедливы обвинения Марата в тщеславии. Вот с гордостью дело обстоит иначе: Марат действительно гордится своей миссией. Его связь с кордельерами становится все теснее, по мере того, как все более левеет, демократизируется, точнее — «маратизируется» деятельность Клуба. Марат чаще критикует Якобинский клуб, который в 1791 году допускал в свои ряды только состоятельных людей: «Что можно ждать от этой ассамблеи слабоумных, которые мечтают только о равенстве, хвастают братством и которые исключают из своего состава бедняков, завоевавших им свободу».
Объединение и просвещение этих бедняков — вот задача, которой Марат посвящает много сил с начала 1791 года. Моделью для него служит Клуб кордельеров. Однако здесь слишком много интеллигенции, что ограничивает его влияние. Поэтому Марат стремится объединить бедняков с помощью братских обществ. За несколько месяцев они объявляются почти во всех секциях Парижа. В своей газете Марат дает фактическую программу их деятельности: политическое просвещение людей и подготовка к революционным выступлениям. Благодаря братским обществам Революция становится менее монархической, менее буржуазной и более народной. Марата справедливо назвали тогда в одной из газет «отцом братских обществ».
Вдруг 18 апреля газета Демулена «Революции Франции и Брабанта» публикует сообщение: «Неустрашимый Марат… впал в безнадежность и требует паспорт, чтобы проповедовать свободу среди другой, менее продажной нации». Неожиданное разочарование действительно охватило Марата: он испытывает горестное отчаяние от того, что народ не откликается на его призывы к восстанию. Он уже писал своему другу Брегету в Лондон, что французы предпочитают состояние рабства, что «друзьям свободы остается только бежать за границу». Что вызвало этот приступ пессимизма? Смерть Мирабо 2 апреля и вызванное ею всеобщее чувство горя по поводу ухода политика, которого Марат давно обвинил в продажности. Почести Рикетти (как называл теперь его Марат) глубоко возмутили Друга народа.
Именно 18 апреля, когда Демулен сообщил о решении Марата уехать, происходят события, побуждающие его остаться и продолжить борьбу. Здесь надо вернуться к Дантону. Вскоре после свадьбы Демулена он официально вступил в Якобинский клуб и в начале января на первом же заседании взял слово в защиту республиканца Вестермана, вступившего в Эльзасе в конфликт с местными монархистами. Но это не было повторением его ораторского провала 30 мая прошлого года, когда, будучи в клубе гостем, он выступил в тоне, какой вызывал восторг у кордельеров. Там он выступал перед простым народом, а здесь заседала «благородная» публика, во всяком случае, воображавшая себя таковой. Дантон обнаруживает искусство перевоплощения и произносит речь в изысканно-академическом стиле. Теперь он будет выступать здесь довольно часто, 18 раз за 1791 год.
Вскоре он добивается успеха в муниципалитете. Его выбирают членом совета из 16 администраторов. Это довольно солидная должность, если учесть, что среди его коллег Мирабо, аббат Сийес, епископ Талейран, Александр Ламет, крупные ученые Ласепед и Жюсьо и им подобные «Нотабли».
Новая должность потребовала от него участия в довольно щекотливом деле принятия присяги на верность конституции священнослужителей. Эта злосчастная присяга вызвала не только церковный раскол на «присягнувших» и «неприсягнувших» (раскололась и их паства). Она имела самые драматические последствия для Революции. «Неприсягнувшие» и их прихожане принесли недостававшую массовую опору контрреволюции. Работа в административном департаменте не очень нравилась Дантону из-за бойкота, которому подвергали его знатные коллеги или, как он их называл, «департаментские ослы». Но она давала ему влияние и ценную информацию.
В данном случае речь шла об известном всем деле: о намерении короля бежать с семьей из Парижа с целью борьбы против Революции. Марат давно предупреждал об этом. Действительно, впоследствии документально подтвердится, что уже в декабре 1790 года Людовик XVI принял решение и уже начались тайные приготовления к побегу.
Чтобы «пощупать ветер», как говорят французы, Людовик решил для начала съездить под предлогом Пасхи во дворец и монастырь Сен-Клу, городок к западу от Парижа. Король предупредил Лафайета, получил его одобрение. Генерал, чтобы обеспечить спокойный отъезд, выделил несколько батальонов Национальной гвардии для охраны Тюильри. Среди них оказался и батальон Кордельеров! Естественно, Дантон немедленно узнал об этом.
Накануне стало известно, что король присутствовал на торжественной мессе в Тюильри, которую служил неприсягнувший священник, иезуит Ланфан. Это означало, что глава исполнительной власти, король, поощряет бунтовщика!
Вечером в Клубе кордельеров загремел голос Дантона, разоблачавшего «преступность» Людовика XVI, «первого должностного лица, обязанного поддерживать закон, против которого он восстал». Клуб напечатал афишу, призвавшую батальоны гвардии помешать отъезду короля в Сен-Клу и предотвратить эту «угрозу». Какую же «угрозу» видел Дантон? Демонстративное поощрение неприсягнувшему священнику? Нет, речь шла о возможности того, что Сен-Клу окажется первым этапом поездки короля в Вандею, население которой уже начало восстание против Закона о гражданском устройстве духовенства.
На другое утро к подъезду дворца Тюильри была подана дорожная карета. Вокруг дворца, кроме Национальной гвардии, собралась огромная толпа жителей столицы, возбужденных афишей секции Французского театра (то есть Дантона). Толпа явно демонстрировала свою враждебность отъезду короля. Батальоны, особенно кордельеры, также решили не допустить отъезда. Королевское семейство уселось в карете, но стронуться с места не могло. Два часа Лафайет пытался добиться послушания своих солдат. Все было напрасно. Короля осыпали насмешками, особенно оскорбляли королеву, ее дети плакали. Наконец король и его близкие вернулись во дворец. Вечером якобинцы, а затем кордельеры овацией встречали героя дня — Дантона.
Но радоваться-то, в сущности, было нечему. События 18 апреля только укрепили решимость короля бежать из Парижа. Современники часто заблуждались, считая Людовика глупым, ленивым и слабовольным, действующим только под нажимом «австриячки». Это не так. У него все же была политическая программа, сформулированная еще 23 нюня 1789 года: он соглашался на ограничение абсолютизма, на принятие конституции, но король не допускал отмены привилегий старых сословий за исключением распределения налогов. Он готов был принять принцип политической индивидуальной свободы, но полностью отвергал принцип равенства. В октябрьские дни, когда короля насильно перевезли в Париж, в письме к испанскому королю он дезавуировал, объявил недействительными все свои уступки в отношении ограничения королевской власти. И в дальнейшем все проявления доброй воли с его стороны были ложью, которая превратилась в главное средство королевской политики.
27 мая король назначил дату побега — 19 июня. Потом ее перенесли на сутки. Трем людям доверили проведение операции: барон Бретей должен был подготовить благоприятное отношение других держав; маркиз Буйе, командующий войсками на Севере Франции, отвечал за военное обеспечение и охрану, он определил Монмеди в качестве места прибытия королевской семьи. Самую трудную задачу должен был решать шведский офицер Аксель Ферзен, любовник Марии-Антуанетты. Выбор понятен: Ферзен энергичный человек. Он имел постоянный и бесконтрольный доступ к королеве. Одна дверь из дворца Тюильри, выходящая во двор, не охранялась. Говорили, что Лафайет галантно создавал так условия для ночных визитов графа к королеве. Но другие утверждали, что Лафайет, этот прославленный герой «двух миров», в душе вовсе не возражал против бегства короля, надеясь использовать пустое место власти для собственных замыслов. Беда заговорщиков состояла в том, что Ферзен получал инструкции от самого яростного врага Французской революции — шведского короля Густава III. А этот злобный безумец писал в мае, что королю «надо навсегда покинуть Париж и обречь на гибель это логово убийц, предав его полному забвению, ибо пока во Франции будет Париж, там никогда не будет королей».
Ферзен получил у русской баронессы Корф документы, выданные русским послом Смолиным, заказал дорожную карету — берлину. Король стал лакеем баронессы по имени Дюран, баронессу изображала гувернантка детей де Турзель, королева — ее гувернантку Роше, а принцесса Елизавета — компаньонку Розали. В полночь 20 июня вся эта семейка беспрепятственно вышла из дворца, уселась в экипаж, в котором за кучера был Ферзен, и выехала через заставу Сен-Мартен. Ферзен вывез их из города, они пересели в берлину и продолжали путь без него…
Случилось так, как давно предсказывал Марат. Утром 21 июня на улицах появились газетчики, и все могли прочитать: «Все подготовлено… Королевское семейство готово бежать, как только увидит признаки усыпления народа». Нечто сверхъестественное, казалось, вдохновляло Марата! Ведь почти никто еще ничего не знал! Однако сверхъестественного в предвидении Марата не было; просто он трезво учитывал логику событий и политику Двора. Кроме того, как он сам писал еще 26 марта, его «информировали несколько очень надежных лиц, ежедневно находившихся вблизи короля». Речь шла, видимо, о горничной Решерей, которая из зависти к другой камеристке, доверенной королевы мадам Кампан, задолго до 27 июня рассказывала своему любовнику Гувиону, служившему в Национальной гвардии, коменданту охраны Тюильри, все, что ей удалось услышать или увидеть и что передавали Марату.
«Кассандра-Марат» гениально предугадывал многое по существу, хотя часто ошибался в весьма существенных деталях и крайне вольно интерпретировал их. События 21 июня он представлял осуществлением сговора Людовика XVI, его министров, Учредительного собрания, Лафайета, Буйе и мэра Байи. Такого заговора никогда не существовало. Король действовал, опираясь на очень узкую группу лиц; даже дружественные ему иностранные дворы он как бы ставил перед совершившимся фактом.
Между тем таинственная карета отъехала от Парижа, когда уже начало светать, как нарочно, для бегства выбрали самый короткий день в году. Маркиз все рассчитал: во всех пунктах, где были почтовые станции и где надо менять лошадей (всего их потребовалось больше сотни), уже вторые сутки дежурили отряды гусар и драгун. По графику король должен был прибыть на место, где его ожидал специальный отряд, который взял бы его под охрану в три часа после полудня. Но расписание нарушилось с самого начала: вместо полуночи выехали в третьем часу ночи. Затем король, почувствовав себя на свободе, приказывал часто останавливаться, поскольку ему хотелось размять ноги. При этом Людовик самодовольно говорил: «Как только я почувствую себя прочно в седле, я стану совсем другим». Опоздание составляло уже больше трех часов.
К тому же население, видя, как по дороге непрерывно передвигаются отряды гусар и драгун, забеспокоилось. Крестьяне почувствовали опасность. Поскольку они не платили больше феодальных налогов, то заподозрили возможность военной экзекуции. Солдаты, половина которых были немцами, ничего не могли объяснить, ибо сами ничего не знали. К тому же патриоты в маленьких городах знали об опасности побега короля. В Сен-Менегульде короля узнали. Сын начальника почты Друэ поскакал в Варенн, где поднял на ноги местных патриотов во главе с прокурором. Ударили в набат. Национальные гвардейцы хватали оружие, крестьяне вооружались чем попало. На всем пути от Сен-Менегульда до Клермона отряды гусар подверглись нападениям, их обращали в бегство или разоружали. В Варение, куда беглецы прибыли в 11 часов вечера, короля опознали официальные местные власти. К этому времени здесь собралось уже до десяти тысяч человек национальных гвардейцев. Извещенный о положении, маркиз Буйе во главе королевского немецкого полка поскакал на выручку. Но, увидев гигантское скопление вооруженных патриотов, он не решился даже приблизиться к Варенну. Рано утром прибыли из Парижа представители Собрания, которым поручили обеспечить возвращение короля.
Не прошло и двух лет с октябрьских дней 1789 года, когда король в первый раз вынужден был с позором вернуться в Париж. Теперь происходит второе позорное возвращение. Среди облаков пыли, поднятой несколькими десятками тысяч лошадей Национальной гвардии, в изнурительной жаре двигалась в обратный путь королевская семья, выехавшая в понедельник и вернувшаяся в Париж в субботу. Как и в первый раз, Лафайет гарцевал около запыленного королевского экипажа. Барабаны отбивали какой-то похоронный ритм, ибо на этот раз нигде не видно было улыбающихся лиц. Гнев и страх выражали начало разрыва народа и его монархии.
Глава VI КОНЕЦ МОНАРХИИ
Еще ни один из королей Франции не возвращался в свою столицу с таким позорным «триумфом», как Людовик XVI, когда запыленная берлина под конвоем Национальной гвардии притащилась обратно в Париж. Народ, заполнивший улицы, смотревший из всех окон, с крыш и деревьев, встретил короля угрюмо. Но среди горьких чувств, которые испытывали все, хотя и по разным причинам, меньше всего, пожалуй, было удивления. О планах бегства знали все — от Лафайета до последней торговки Центрального рынка.
20 июня поздно вечером три приятеля вышли из Якобинского клуба. Дантон, Демулен и Фрерон у церкви Святого Роха встретили патруль, и, услышав топот его шагов, Демулен спросил: «А что если сегодня вечером толстый Луи сбежит?» Фрерон нащупал в кармане письмо, извещавшее его именно об этом, но промолчал. Лицемер и хитрец умел скрывать то, что ему стало известно одному. Ответил другу Дантон: «Об этом так часто предупреждали, что я уже больше не верю. С 18 апреля Лафайет опасается нас. Солдаты надежно охраняют Тюильри. Как можно выйти из его дверей?»
Компания разделилась: Дантон и Демулен пошли к Сене, чтобы перейти к себе на левый берег; Фрерон продолжал путь по улице Сент-Оноре. Наутро в восемь часов Дантон еще спал, когда к нему ворвался Фабр д'Эглантин с криком: «Вставай! Король сбежал!» Подымаясь с кровати, Дантон бросил: «Лафайет отвечает за это. Но теперь он попался!» Поспешно одевшись, он направился в Клуб кордельеров, где уже все бурлило. Поднявшись на трибуну, Дантон обрушился на короля, на «австриячку». Казалось, их бегство положило конец каким-то его колебаниям: «Национальное собрание, узаконив наследственность трона, обратило Францию в рабство! Отменим навсегда звание и должность короля; превратим королевство в республику!»
Подготовленные проповедью Марата, санкюлоты, собравшиеся в клубе, бурно одобряли резкую революционную речь Дантона. Немедленно приняли воззвание, в котором члены клуба давали клятву, что каждый из них готов пронзить кинжалом любого тирана, который посягнет на Революцию. На другой день они утвердили гораздо более серьезный текст петиции Собранию, требовавшей свержения монархии и установления Республики, которую тут же написал Робер. Этот документ настолько важен в истории Революции, что нельзя не привести из него хотя бы некоторые, наиболее важные места: «Отныне Людовик XVI для нас ничто, если он не превратится в нашего врага. И вот мы теперь в таком же положении, в каком были при взятии Бастилии: свободные и без короля. Остается выяснить, стоит ли назначать другого.
Общество друзей прав человека полагает, что нация должна все делать сама или через своих выборных и сменяемых должностных лиц. Оно полагает, что ни один человек в государстве не должен обладать по справедливости такими богатствами, такими прерогативами, чтобы иметь возможность подкупать представителей политической администрации; оно полагает, что в государстве не должно быть ни одной должности, недоступной для всех граждан этого государства, оно, наконец, полагает, что чем значительнее должность, тем более кратковременным должен быть срок пребывания на ней.
Уверенное в справедливости и величии этих принципов, оно больше не может скрывать от себя, что королевская власть, тем более наследственная королевская власть, несовместима со свободой.
…Законодатели, вы получили хороший урок; знайте же, что после того, что произошло, вам не удастся внушить народу ни малейшего доверия к чиновнику, именуемому королем… Поэтому во имя отечества мы заклинаем вас либо немедленно объявить, что Франция уже больше не монархия, что она — республика, либо по меньшей мере подождать, пока все департаменты, все первичные собрания не выскажут своих пожеланий по этому вопросу, прежде чем вторично надеть оковы монархизма на самую прекрасную страну в мире».
Это — первый народный политический манифест, не только провозглашающий идею республики, но и требующий ее практического установления. Он отличается поразительной смелостью, поскольку идея республики даже для революционной Франции была совершенно новой и необычайно смелой. Вспомним, что ни один из великих французских мыслителей не выдвигал этой идеи, что Руссо, например, считал республику пригодной только для маленьких стран, но не для таких, как Франция. Дантон, его друзья в Клубе кордельеров без колебаний заняли наиболее передовую, революционную позицию. Тактически был избран благоприятный момент, когда страна, потрясенная бегством короля, его изменой и лживостью, как никогда ранее испытывала недовольство монархией. Казалось, все благоприятствовало тому, чтобы смелое требование кордельеров воплотилось в жизнь. Оно до конца отвечало интересам народа, но не буржуазии. Ведь речь шла о том, чтобы сломать уже почти завершенное здание конституционной монархии и начать постройку нового, республиканского строя. Неизбежно придется считаться с требованиями бедноты, желающей полного равенства. Но на чем остановится Революция? Не посягнет ли она на буржуазную собственность?
Вот о чем беспокоились заседавшие одновременно с кордельерами на другой стороне Сены, в Манеже, депутаты Учредительного собрания. Страх побуждал их действовать. Собрание берет на себя верховную власть. Буржуазия, «собственники», как открыто заявил Барнав, игравший в те дни роль вождя, должны вооружиться и охранять государство. «Следует отметить, — с горечью пишет Жорес, — что ни Петион, ни Робеспьер, ни один из демократов крайне левой не пытались протестовать против столь буржуазных речей Барнава». Пожалуй, скорее они были монархическими. Никакой демократической и республиканской альтернативы никто в Собрании им не противопоставил. Никто среди левых с такой ясностью не понимал остроты и ответственности момента, как Робеспьер. Однако он не возражал против консервативных решений Собрания. Открыто присоединиться к ним он тоже не мог. Ведь так он перечеркнул бы завоеванную им с таким трудом репутацию наиболее последовательного защитника идеи народного суверенитета, всеобщего избирательного права, демократии для народа. И он занимает двусмысленную и противоречивую позицию. Робеспьер ни в коем случае не выступает в защиту Людовика XVI, но он отмежевывается, по существу, и от республиканской программы кордельеров. Шедевром двойственности была знаменитая фраза, произнесенная им в тот день: «Пусть, если угодно, меня обвинят в республиканизме; я заявляю, что мне внушает отвращение всякий образ правления, когда властвуют смутьяны». Но кто в здравом уме мог обвинить его в «республиканизме», если он выражает отвращение к «смутьянам», то есть к кордельерам, требовавшим республики? Робеспьер трезво рассудил, что сила — Национальная гвардия, состоявшая лишь из «активных» граждан, из буржуазии, на стороне Барнава, Ламета, Лафайета. На их стороне и подавляющее большинство в Собрании.
Но эту расстановку сил видел и Дантон. Он помнил также, что 14 июля 1789 года и в октябрьские дни того же года народ победил, действуя в союзе с буржуазией. Клуб кордельеров, даже вместе с тяготеющими к нему многочисленными братскими обществами, нуждался в союзниках. Теперь все помыслы Дантона именно об этом. Естественно, что их следовало искать прежде всего в Якобинском клубе, где левые, особенно Робеспьер, были гораздо сильнее, чем в Собрании.
Неподкупный завоевывал здесь признание своей последовательностью и твердостью в защите идеи народного суверенитета, он не пропускал ни одного заседания и выступал при любой возможности, хотя его речи удивительно монотонны и состоят из повторения общих мест. Но кто может сравниться с ним в добросовестности и трудолюбии? 17 июня срочно потребовалось подготовить проект послания местным обществам, филиалам Якобинского клуба о проведении выборов в будущее Законодательное собрание. Он оказался единственным, кто взялся написать текст за 48 часов. Его включают в состав Корреспондентского комитета, определяющего своими директивами политику местных филиалов клуба. О его растущем влиянии говорит также избрание Робеспьера общественным обвинителем уголовного трибунала Парижа. В клубе знают о широкой популярности Робеспьера в народе.
Сегодня, 21 июня, зал собрания в капелле Якобинского монастыря, где клуб заседает с 29 мая. переполнен. Ведь должен решиться вопрос — пойдет ли клуб за Собранием, поддержит ли он его консервативную политику или отвергнет ее. Не случайно все «умеренные» депутаты Собрания тоже явились сюда. Они опасаются Робеспьера, несмотря на его сдержанность в Собрании. Напротив, Дантон, который ищет союзника для республиканской политики кордельеров, рассчитывает обрести его в лице Робеспьера.
Неподкупный произносит очень решительную по тону речь. Он обвиняет в предательстве все Учредительное собрание. Робеспьер справедливо указывает, что сам Людовик XVI в оставленном им вызывающем послании «подписывается в том, что он совершил побег», что «он уезжает, чтобы вернуться вновь поработить нас». И вот Собрание в своих декретах «притворно называет бегство короля похищением». «Нужны ли вам другие доказательства того, что Национальное собрание предает интересы нации?»
Все это абсолютно верно. Но что же предлагает Робеспьер? И здесь обнаруживается невероятная запутанность, столь странная для него, ибо во множестве речей он поражал логикой своих мыслей. С одной стороны, он утверждает, что родине грозит страшная опасность, состоящая в том, что король появится на границах «при поддержке Леопольда, шведского короля, д'Артуа, Конде и всех беглецов и всех разбойников, которых привлечет в его армию общее дело королей». С другой — он не менее категорически дважды заявляет: «Если даже все разбойники Европы объединятся, повторяю еще раз, они будут побеждены». Но далее он говорит, что все «эти истины не спасут нацию без чуда, совершенного провидением», и лично на это чудо не надеется и предвещает гибель, говоря в заключение, что весь смысл его речи в этом и состоит: «По крайней мере я буду знать, что я вам все предсказал, что я вам указал путь, по которому идут наши враги, и меня ни в чем нельзя будет упрекнуть».
Действительно ни в чем, кроме того, что он не только не предлагает никаких практических мер для предотвращения опасности, но и обходит полным молчанием республиканскую и революционную программу действий, выдвинутую Клубом кордельеров и братскими обществами. Заканчивает Робеспьер тем, что стало с недавних пор постоянным мотивом в его выступлениях: своей готовностью принести себя в жертву: «Я знаю, что этим разоблачением, опасным для меня, но не опасным для общего дела, я знаю, что, обвиняя, таким образом, почти всех моих коллег, членов Собрания, в том, что они контрреволюционеры, одни по невежеству, другие вследствие уязвленной гордости, третьи вследствие слепого доверия, многие, потому что они развращены, оттачиваю против себя тысячу кинжалов, становлюсь мишенью ненависти и злобы. Я знаю, какую судьбу мне готовят… я приму почти за благодеяние смерть, которая не даст мне быть свидетелем бед, представляющихся мне неотвратимыми».
Робеспьер говорит совсем не то, что хотелось услышать Дантону. Но ему нужен союзник. Поэтому, когда Робеспьер провозглашает свою готовность умереть, Дантон громко заявляет с места: «Мы умрем вместе с тобой, Робеспьер!» Оратор сделал вид, как будто он не расслышал, хотя, как всегда, от голоса Дантона задрожали стекла. Робеспьер явно не стремится к союзу с кордельерами. Тем не менее Дантон берет слово и, как бы продолжая и развивая мысль Робеспьера, громит Лафайета. Однако затем Барнав убеждает якобинцев в невиновности короля, и заседание завершается резолюцией: «Национальное собрание — вот наш вождь, Конституция — наш центр объединения». Итог первого дня кризиса — раскол левых: кордельеры требуют Республики, якобинцы следуют за Собранием и высказываются за монархию.
22 июня на стенах Парижа расклеивают афишу с текстом призыва кордельеров к учреждению Республики. Расклейщиков афиш арестовывают. Протесты по этому поводу 23-го обсуждаются в Якобинском клубе. На этом заседании появляется герцог Орлеанский, сторонники которого выступают за передачу ему функций регента. Это путь к короне. Ходили слухи, связанные с дружественными отношениями Дантона с Шодерло Лакло и самим герцогом, что Дантон сторонник орлеанистских замыслов. Этому решительно противоречила инспирированная им республиканская афиша кордельеров, исключающая монархию вообще. Дантону предстояло внести ясность, и он это сделал. В выступлении, по своему резкому тону, похожему на его громовые речи в Клубе кордельеров, он «заявляет, что Людовик XVI либо преступник, либо слабоумный. В последнем случае должен быть избран из 10 или 12 членов Совет по опеке, обновляемый через два года. И не оставляя никаких сомнений, Дантон добавляет: нам нужен не регент, а Совет по опеке. Таким образом он не поддерживает надежды сторонников герцога Орлеанского и его самого. Именно так истолковывает линию Дантона Жорес: «В действительности под видом смехотворного совета по опеке над слабоумным королем Дантон предлагал окончательную организацию республиканской исполнительной власти. Он уже тогда был носителем идей 10 августа, а его проницательная и смелая мысль шла дальше неопределенных и осторожных общих соображений Робеспьера».
Но, странное на первый взгляд дело, грозная по тону речь Дантона значительно более сдержанна по существу, чем республиканская декларация кордельеров; он не употребляет даже слова «республика». Дантон явно опасается отпугнуть якобинцев, он надеется еще найти здесь союзников. Нельзя сказать, чтобы у него не было их. Как это ни парадоксально, но своим бегством король если не основал, то, во всяком случае, создал предпосылки для возникновения республиканской партии. За республику в дни Вареннского кризиса выступили газеты «Железные уста» Бонвиля, «Народный оратор» Фрерона, «Французский патриот» Бриссо. Будущий вождь жирондистов Бриссо выступал за установление республиканского строя и в Якобинском клубе, связывая эту идею с увлекавшим его планом революционной войны против европейских монархий. Подлинно философское обоснование республики дал последний из великих мыслителей Просвещения и энциклопедистов Кондорсе. Естественно, среди республиканцев обнаружились различия. Идеалу народной республики кордельеров противостояла буржуазная республика Бриссо и Кондорсе. Во многих провинциальных городах тоже нашлись пылкие республиканцы. Накануне возвращения «Пропавшей свиньи», как называл Людовика в своей газете Демулен, 24 июня кордельеры организовали на Вандомской площади республиканскую демонстрацию с участием 30 тысяч человек.
Робеспьер не решается присоединиться к сильному республиканскому движению. Но он не выступает и против него. Более того, с 26 июня по 13 июля он вообще не выступает ни в Собрании, ни в Якобинском клубе. Это длительное молчание красноречивее всех его слов. Он еще не видит ясно, куда могут повернуться события, и поэтому оставляет за собой возможность присоединиться к тому, кто победит. Между тем многие подхватывают идею сбора подписей под петицией, требующей отречения Людовика XVI, родившейся в Клубе кордельеров. Здесь хотят добиться присоединения якобинцев, где с серьезными оговорками идею республики поддерживают в принципе Бийо-Варенн, Реаль и Карра. Наконец 13 июля Робеспьер, понимая, что молчание в разгар такой дискуссии угрожает его авторитету, берет слово: «Меня обвиняют в среде Национального собрания, что я республиканец; мне делают слишком много чести: я не республиканец. Если бы меня обвинили в том, что я монархист, мне нанесли бы оскорбление; я и не монархист. Я замечу прежде всего, что для многих слова «республика» и «монархия» лишены всякого значения».
Робеспьер любой ценой хочет остаться пока в стороне. Действительно, его тщательно подготовленная речь не дает возможности зачислить его ни в один, ни в другой лагерь. Тем не менее он не высказывает враждебности к кордельерам, и поэтому позиция левых в Якобинском клубе демократизируется, они присоединяются к республиканцам, выступающим за сбор подписей под петицией. 15 июля петиционеры отправились в Манеж, где их приняли Робеспьер и Петион, заявившие, что петиция беспредметна, ибо Собрание уже приняло декрет о невиновности короля. Однако вечером в тот же день в Якобинском клубе Робеспьер поддерживает идею петиции! В конце концов принимается даже решение о подготовке ее текста, который редактирует Бриссо. На другой день утром Робеспьер, Петион, Грегуар, Приер принимают текст петиции, хотя по существу Робеспьер враждебен ее идее. Правда, он добивается другой цели: «умеренные» якобинцы, то есть сторонники Ламета и Барнава, покидают Якобинский клуб, чтобы основать Клуб фейянов. Робеспьеру оставляют свободное поле действий.
В этот же день, в субботу 16 июля, Собрание принимает решение вернуть власть королю, если он признает конституцию. Теперь у Робеспьера появился повод для отказа от петиции: отныне она нарушает законность. Суть дела, однако, была в другом. В тексте, на который согласились левые якобинцы во главе с Робеспьером, содержались слова о том, что замена власти короля какой-то другой должна произойти «при соблюдении всех конституционных средств». А конституция наделила Францию монархией, она исключала республику. Эти слова вписал в текст Лакло, агент герцога Орлеанского, относя петицию в типографию. Дантону сообщили об этом и орлеанистский подлог устранили. Петиция приобрела республиканский характер. Строгий законник Робеспьер сразу заметил отсутствие монархической формулы, и тогда-то по его предложению якобинцы в последний момент отказались от поддержки петиции, которую утром они одобрили. Но уже поздно, и только на другой день, 17-го, посланный Робеспьером его секретарь де ла Ривьер явился прямо на Марсово поле и объявил, что якобинцы отзывают свое согласие на петицию. Впрочем, они не против того, чтобы были выдвинуты другие петиции. Члены Клуба кордельеров Моморо, Шометт, Эбер, Анрио, Майяр и другие продолжают сбор подписей. Все происходит в невероятной суматохе, которой охвачены тысячи людей, собравшихся на Марсовом поле.
Во время всеобщей свалки произошло случайное и странно подозрительное убийство двух неизвестных бродяг, обнаруженных под «алтарем отечества». Собрание и муниципалитет, вообще буржуазия теперь имеют повод для расправы с народным республиканским движением. Вечером 17 июля батальоны буржуазной Национальной гвардии во главе с Лафайетом и мэром Байи поднимают красное знамя и открывают стрельбу по безоружным людям. На земле десятки убитых, сотни раненых. Это был прямой акт гражданской войны буржуазии против народа, против трудового люда.
Макс Галло пишет о роли Неподкупного в Вареннском кризисе: «На протяжении всех этих дней Робеспьера видели толкающим на борьбу и срывающим ее, наступающим и отступающим, знающим и непонимающим, начинающим и некончающим, неспособным руководить, колеблющимся между соблюдением закона и реальным ходом событий, фактически всегда далеким от народа».
В эти критические дни впервые ярко и определенно проявилась постоянная тактика Робеспьера: сохранить нейтралитет до тех пор, пока не станет ясно, кто побеждает.
На другой день после побоища на Марсовом поле на заседание Собрания явился мэр Байи и возложил всю ответственность за вчерашнюю драму на народ. Не раздалось ни одного голоса протеста. Ни Робеспьер, ни другие левые не выступили. Они не протестовали, когда от имени всего Собрания палачей поздравили с успехом. «Даже Робеспьер, — пишет с горечью Жорес, — не осмелился выступить с оговоркой, тот самый Робеспьер, который впоследствии будет с таким негодованием говорить о крови, обагрившей руки Лафайета».
А Дантон, который с поразительной прозорливостью нащупал в борьбе за республику, в кампании сбора подписей под петицией тактику своего рода «Народного фронта», единства всех антимонархических сил, где был он 17 июля? Ни его, ни других организаторов народного движения на Марсовом поле, таких, как Лакло, Демулен, Фрерон, Фабр д'Эглантин, Сантерр, Лежандр, Марат, печатавших афиши и петиции Моморо и Брюна; никого из них в роковые часы на Марсовом поле не оказалось. Из видных деятелей Клуба кордельеров там был только Эбер, издатель народной популярной газеты «Пер Дюшен». Нечего и говорить о Робеспьере, который в одиночку вел двойную игру.
Дантона предупредили еще 16 июля, что ему лучше уехать в деревню. Утром в день трагедии он собрал своих друзей у себя, чтобы обсудить положение. Решили послать на Марсово поле для выяснения дела на месте Робера, придав ему на всякий случай своего рода «конвой» из трех молодых парней. После этого у Дантона неожиданно появился Лежандр и сказал, что к нему в лавку зашли двое знакомых и просили передать Дантону совет Александра Ламета (он давно лично симпатизировал Дантону, хотя как политик и боролся с ним), чтобы он и его друзья покинули Париж, ибо им угрожает опасность ареста.
Обсудили и это предупреждение и решили остаться на месте; «Подождем развития событий. Наше присутствие здесь необходимо. Будем продолжать борьбу».
Действительно, занялись составлением новых прокламаций. О дезертирстве якобинцев они еще ничего не знали, ведь посланец Робеспьера должен был сообщить об этом на Марсовом поле. Между тем в квартире услышали звуки выстрелов. Вскоре прибежали люди, посланные охранять Робера, которого они потеряли в толпе, и рассказали о расстреле. Дантон разразился проклятиями по адресу Лафайета, а потом властно приказал друзьям, вместе с которыми он оказался побежденным, поодиночке добираться в Фонтенуа-сюр-Буа, в усадьбу своего тестя Шарпантье. Разными путями, пешком, больше двух часов они добирались туда. Когда собрались, то уже вскоре обнаружили, что недалеко от дома околачиваются какие-то подозрительные люди. Решено скрываться поодиночке… Это было необходимо, хотя формальный приказ об аресте Дантона, Демулена, Лежандра и Фрерона будет подписан лишь 4 августа. Дантон уезжает сначала в Труа, 26 июля он уже у себя в Арси. Однако дня через три его навещает мнимый попрошайка, в котором нельзя было не разглядеть полицейского агента. Отчим Дантона Рекорден между тем собирался в Англию за машинами для своей прядильни. Дантон едет вместе с ним. Это не эмиграция; любимую жену и сына Дантон оставляет на родине.
Теперь на досуге Дантон мог подвести итоги Вареннских событий. С самого начала он понял, какие возможности открывает кризис для продолжения революции, и вдохновил своих друзей принять декларацию о республике. Речь шла о демократической, народной республике. Клуб кордельеров добился даже введения в своем округе всеобщего избирательного права. Всем, в том числе и «пассивным» дали право голоса. Но это были ограниченные достижения, и требовалось навязать революционную программу всем демократам. 16 июля, когда левые якобинцы поддержали петицию, возник, выражаясь языком XX века, Народный фронт! Но Робеспьер отозвал свое согласие 17 июля, и этот маневр обескуражил Дантона, который воспринял его как удар в спину…
А что поделывал во время Вареннского кризиса наш старый друг Марат? Вот кто имел основание испытать чувство удовлетворения при вести о бегстве короля! Оно оказалось одним из наиболее точно предсказанных им событий. Однако что касается мер, сразу предложенных Маратом в связи с возникшим кризисом, то они весьма далеки от реальности и тем более от шансов на поддержку их кем-либо. Совершенно естественно, что, как обычно, он потребовал диктатуры. Марат писал в номере от 22 июня, что остается единственное средство уберечься от пропасти, на край которой увлекли народ недостойные вожди. Для этого надо назначить военного трибуна, верховного диктатора, чтобы прикончить всем известных главных изменников: «Пусть трибун будет избран сегодня же. Пусть ваш выбор падет не на придворного лицемера или замаскированного сторонника Старого порядка, но на человека народа, который особенно выделяется своей просвещенностью, своей преданностью родине, своей твердостью во времена кризисов, и если вы назначите его для другой цели, кроме деятельности во главе вас и указания вам на предателей, которых следует покарать, ваша гибель обеспечена, и я ничего больше не могу вам сказать».
Жан Массен, автор одной из лучших биографий Марата, комментируя эти слова, не без основания пишет: «Очевидно, он выдвигает без ложной скромности свою собственную кандидатуру». Кстати, формула «человек народа» позволяет предположить определенную классовую природу требуемой Маратом диктатуры. Другие авторитетные специалисты, например А. Олар, считают, что Марат прочил в диктаторы Дантона, о котором он часто очень лестно отзывался в «Друге народа».
Любопытно отношение самого Дантона к идее Марата. По свидетельствам современников, Дантон, читая статью, яростно скомкал газету и проворчал: «Диктатура; хорошенький подарок! А почему не трон? Почему не коронация в Реймсе и не Святое миропомазание?»
Конечно, никто всерьез не воспринял план Марата, который, кстати, он много раз выдвигал и ранее. В то время как Марата занимала главным образом задача сурового наказания предателей, все демократы, особенно кордельеры, волновались вокруг идеи замены монархии республикой. Но Марат относился к ней отрицательно. 7 июля он писал: «Вы требуете республиканского правительства. Но не получите ли вы неизбежно аристократический строй, при котором вместо одного тирана их будет десять тысяч? Конечно, республика — самая чистая форма демократии. Но созрели ли вы для такого правления?» Не согласен Марат и на регентство, ибо не хочет помогать герцогу Орлеанскому. Он согласился бы, если бы речь шла не о Капете, хотя и из младшей ветви старой династии. Чего же он хочет? Марат находит неожиданное решение: назначить ребенку-дофину, наследнику престола, воспитателя, который и станет фактическим правителем. На роль такого «воспитателя» Марат выдвигает Робеспьера! (в «Друге народа» за 4 июля). Это тем более странно, что Марат незнаком еще лично с Неподкупным, никогда они не занимали общей политической позиции, их не связывает никакое чувство товарищества в общей борьбе. Марат знает лишь его речи, наполненные дифирамбами в адрес народа, и поэтому он чувствует в нем в чем-то родственную душу. Но это лишь очень смутные предположения, ибо Робеспьер прячет свой подлинный характер за риторикой речей и внешним бесстрастием! Оставим, однако, область догадок. Поступки Марата нередко просто непонятны.
С начала июля Марат тяжело болен: страшные головные боли, лихорадка изнуряют его. Мадам Ролан даже писала 15 июля: «Марат умирает. Говорят, что он отравлен, как отравили, по мнению многих, Лустало». Однако «Друг народа» продолжает выходить. Марат не в силах написать ни строчки, и номер за 9 июля весь заполнен текстом одной из речей Робеспьера. Но расстрел на Марсовом поле как будто возвращает ему силы. Марат требует отмщения. Призывает подвергнуть «тиранов всего мира ужасающему примеру народной мести». Он пишет, что «поскольку наша единственная надежда в гражданской войне, я хочу, чтобы она вспыхнула как можно скорее».
С 20 июля по 7 августа «Друг народа» не появляется. Усиливается полицейский надзор, наступает полоса «буржуазного террора». Марат теряет прежние связи и поддержку закрывшегося Клуба кордельеров. Но он упорно продолжает борьбу против реакции. Марат болезненно переживает ослабление революционного энтузиазма среди народа, общую деморализацию после бойни на Марсовом поле. Здоровье его полностью так и не восстановилось. На нем сказывается двухлетняя, почти непрерывная борьба в тяжелых условиях подполья. Ему казалось, что революция надолго замерла, что она стала добычей богатых. К тому же Марату всегда крайне не хватало терпенья. Как пишет Массен, «если Робеспьер был человеком, способным терпеливо и реалистично использовать время, то Марат был человеком немедленного апокалипсиса».
К тому же у него начались личные неприятности с человеком, предоставлявшим ему убежище, — гравером Маке, у которого была 35-летняя служанка, мадемуазель Фуэс. Маке превратил ее не только в любовницу, но просто в рабыню. Она же вдруг оказалась пылкой поклонницей Марата еще до знакомства с ним. Теперь она стала его добровольной сотрудницей, агентом по связям, тем более необходимым, что его постоянный доверенный в кафе Каннет умер. Однако Маке заподозрил, что у Марата и его служанки отношения не только деловые, и устроил громкий скандал, выставив своего гостя на улицу. Марат решил даже уехать в Лондон и передать газету в руки старого друга из Клуба кордельеров, будущего члена Конвента и монтаньяра Буше-Сен-Совера. Скандал с Маке произвел большой шум, Марат поместил об этом в газете две специальные статьи. Друг народа оказался объектом сплетен, насмешек…
21 сентября он публикует «Последнее прощание Друга народа с родиной». Марат подводит итог борьбы, оказавшейся бесплодной. Он пространно описывает свои бедствия и приходит к заключению, что революция погибла: «Я боролся без устали вплоть до сегодняшнего дня и покинул брешь только тогда, когда крепость была взята. Если существует во Франции человек, который осмеливается упрекать меня в том, что я слишком рано отчаялся в общественном спасении и обнаружил недостаток твердости, то пусть он займет мое место и будет отстаивать его хотя бы только в течение недели».
Поскольку Марат пишет, что народ может «даже не сохранять памяти о его имени», чувствуется, что он очень болезненно расстается со своей главной страстью и смыслом жизни: с любовью к славе.
14 сентября он уезжает из Парижа в Клермон. Но, словно забыв, что торжественно простился со своими читателями, Марат пишет свою очередную статью. 15-го он уже в Бретей, где вечером снова не может сдержать искушения и пишет еще одну статью. На другой день Марат уже в Амьене. Здесь его вдруг охватывает страх; ему кажется, что за ним следят и его преследуют аристократы, и он бежит из города и бродит по окрестностям. Сидя на каком-то камне, он размышляет о превратностях своей судьбы… Созерцание природы, дуновение свежего ветра возвращает Марату душевное равновесие. В тот же вечер он решает вернуться в Париж и пишет третью статью. 27 сентября выходит номер «Друга народа» — это свидетельство того, что Друг народа вернулся на свой пост, к своему историческому призванию пророка бедняков, их голоса в Революции.
Робеспьеру, в отличие от Дантона, Демулена, Марата и других вождей кордельеров, не было нужды скрываться, хотя бы потому, что, как депутат, он имел право неприкосновенности. Но он почему-то опасался, что враги революции устроят всем патриотам «Варфоломеевскую ночь». Вечером 17 июля, после расстрела на Марсовом поле, он принимает приглашение члена Якобинского клуба Мориса Дюпле переночевать в его доме на улице Сент-Оноре. Здесь он проводит несколько дней, прежде чем вернуться к себе на улицу Сантонж.
На другой день, 18 июля, Робеспьер появляется в Якобинском клубе, который оказался опустевшим; почти все депутаты Собрания ушли в Клуб фейянов. Осталось только пятеро из них: Робеспьер, Петион, Грегуар, Бюзо. Из 2400 парижских членов клуба почти 1900 ушли туда же. Провинциальные филиалы тоже раскололись: на стороне Якобинского клуба осталось только 26 филиалов, к фейянам присоединилось 45. Однако 150 остались нейтральными, высказываясь за единство. Робеспьеру стало ясно: необходимо привлечь их к старому клубу. И он берется прежде всего за составление послания к провинциальным якобинцам, в котором усиленно открещивается от «мятежников» 17 июля. «Мы не заговорщики», — пишет он. 22 июля он появляется в Собрании, «бледный, с впалыми глазами, с неуверенным, бегающим и злым взглядом», как вспоминал один из современников. Крайне озабоченный вид Робеспьера понятен: полномочия Учредительного собрания скоро заканчиваются, в новое Законодательное собрание он не может быть избран в силу им же проведенного декрета о непереизбрании, Якобинский клуб почти распался. Неужели конец его политической карьере? Неужели напрасны все напряженные усилия двух лет изнурительной борьбы? Нет, Робеспьер не думает сдаваться. С помощью Петиона он делает все для возрождения Якобинского клуба. Прежде всего, учитывая, что буржуазия напугана кампанией кордельеров по сбору подписей под петицией как призраком народного восстания, Робеспьер хочет отмежеваться от них. Он пишет «Обращение к французскому народу», чтобы снять с себя малейшее подозрение в том, что он революционер. Он напоминает, что перед 17 июля он всегда действовал в рамках законности, говорил «в выражениях осторожных, взвешенных и корректных… Если кто-то осмеливался утверждать, что он действительно слышал от меня советы не подчиняться закону, что совершенно противоречит моим принципам, то я объявляю его самым бесстыдным и самым подлым из всех клеветников».
Робеспьер говорит правду. Если он и заколебался в какой-то момент, согласившись поддержать революционеров и республиканцев, то затем, поняв, что они не имеют шансов на успех, быстро взял обратно свое согласие. И он действительно всегда твердо придерживается принципа законности.
Однако, действуя таким образом, не рискует ли он потерять авторитет защитника демократии, народа? К тому же через месяц после расстрела на Марсовом поле настроение в стране меняется. Теперь газеты открыто осуждают действия Лафайета, не боятся напомнить, что стрельбу по толпе открыли без предупреждения, полагающегося по закону. Робеспьер возвращается к прежней роли и протестует против внесения в конституцию реакционных изменений. Отменяется пресловутая «марка серебра», но взамен повышается имущественный ценз для выборщиков. Это еще более резко ограничивает избирательное право. Робеспьер беспощадно громит умеренных, особенно Дюпора. В острой речи 1 сентября он доходит в своей критике до революционной угрозы: «…Что остается нам делать? Либо вновь наложить на себя оковы, либо взяться за оружие». Робеспьер снова верит в народ, а главное — в его силу и способность к революционному действию. Свое последнее выступление в Собрании он заканчивает поистине пророческой фразой: «Я не верю, что Революция закончилась.»
30 сентября при выходе из Манежа после окончания последнего заседания Робеспьера и Петиона ожидает большая группа граждан, восторженно приветствующая самых «чистых и неподкупных» депутатов. Молодые люди распрягают лошадь ждущего их фиакра, чтобы везти их на себе, женщины протягивают к ним детей. Робеспьера и Петиона увенчивают дубовыми гражданскими венками. Многие депутаты скептически посмеиваются при виде этой хорошо импровизированной сцены. Однако Робеспьер действительно достиг за два года исключительной популярности. В народных обществах все чаще появляются его бюсты рядом с бюстами Мирабо, Лафайета. И он явно начинает оттеснять этих старых идолов. Свыше пяти сотен речей с постоянными дифирамбами в адрес народа, их перепечатка и рассылка сделали свое дело; одинокий среди депутатов Собрания и в Якобинском клубе, он стал очень популярным за их стенами.
Блестящим подтверждением его славы послужило письмо мадам Манон Ролан. Молодая обаятельная женщина, дочь скромного ювелира, она усердным чтением развила в себе неуемную страсть к политике. Увы, революция не дала женщинам политических прав! Мадам Ролан с исключительной энергией успешно преодолевает эту преграду. — Она благоразумно вышла замуж за пожилого инспектора лионских мануфактур Ролана де ла Платьера, человека солидного, уважаемого и богатого. Вскоре у нее салон в Париже, где она стремится собрать политических знаменитостей. Манон действует наверняка, зная слабости честолюбивых политиков. 27 сентября она пишет пространное письмо Робеспьеру, в котором восторгается его великой и благородной деятельностью. Умная, молодая, очаровательная. внешне дама (она на 21 год моложе своего послушного мужа) будет самой знаменитой женщиной революции. Письмо от нее — серьезный показатель незаурядного успеха терпеливой, упорной двухлетней деятельности Робеспьера.
Неожиданно, но в высшей степени благополучно устраивается личная жизнь Максимилиана. Уже упоминалось, как в тревожный день расстрела на Марсовом поле якобинец Морис Дюпле пригласил знаменитого молодого депутата в свой дом, где он и провел несколько дней. Ему очень понравилась обстановка в семье Дюпле, который вопреки мифу, повторяемому во многих биографиях Робеспьера, вовсе не был скромным рабочим-столяром. 53-летний Дюпле прошел путь от мастерового до богатого подрядчика столярных работ. Его годовой доход — более 30 тысяч ренты. Сдача принадлежащих ему нескольких домов дает еще 12 тысяч ливров. Наконец, его фирма по производству столярных изделий дает ему солидный доход, конечно в зависимости от наличия заказов. Но сейчас, когда открываются клубы, общества, которым для их заседаний требуются оборудованные залы, заказов много. Дюпле преисполнен чувства буржуазной гордости; по свидетельству его дочери, он говорил, что никогда не опустится до того, чтобы сесть за один стол со своими рабочими. Так вот, один из домов Дюпле на улице Сент-Оноре, где жили богатые люди, станет теперь местом обитания Робеспьера. Холостяцкая жизнь на улице Сантонж имела свои многочисленные неудобства. Максимилиан, не знавший в детстве тепла благоустроенного семейного очага, тем более оценил семейство Дюпле, в котором было четыре дочери. Одна уже замужем, но три другие — Элеонора, Виктория, Элизабет — объект естественной заботы родителей об их «устройстве». Молодые, подающие надежды политики — соблазнительный объект внимания заботливых родителей дочерей. Девушки получили хорошее воспитание в солидном монастырском пансионе. В доме, обставленном дорогой мебелью, клавесин, богатый салон, увешанный портретами.
Максимилиану отводят небольшую, но очень уютную, хорошо обставленную «голубую» комнату. Словом, это была идеальная обстановка для человека, ценившего семейный уют, благоустроенный быт, но не склонного брать на себя сопряженные с собственной семьей обязанности ее главы. Тем более что здесь он занял особое, совершенно исключительное положение домашнего бога. Вскоре вся обстановка, даже внешне, в деталях устройства дома, превращается в подобие храма, где царит мягко, незримо, но безраздельно — только один человек. Семейство Дюпле рассчитывает на благосклонность Робеспьера к 24-летней Элеоноре, засидевшейся в девушках. Но Максимилиан, как восхищенно писала младшая дочь Элизабет, слишком занят великими делами. Тем не менее он покорил все семейство: «Когда мне становилось грустно, — писала Элизабет, — я рассказывала ему все. Он не был суровым судьей, это был друг, очень добрый брат, такой добродетельный… Он относился с восхищением к моему отцу и к моей матери». Семья Дюпле создавала Максимилиану иллюзию жизни среди народа. Конечно, сам Дюпле связан с народом; у него десятки рабочих, подмастерьев. Однако он прежде всего богатый, можно сказать, весьма преуспевающий буржуа из тех, кому революция давала осязаемые выгоды. Почти что родственнику влиятельного депутата легче было получать подряды на крупные столярные работы, связанные с оборудованием залов заседаний, которых требовалось все больше.
Лa Ревейр-Лепо, депутат Генеральных Штатов, а затем и Конвента, так описывал свой визит к Робеспьеру: «Меня встретили очень хорошо, проводили в салон, к которому примыкал небольшой кабинет; дверь его оставалась открытой. Что же я увидел, войдя туда? Робеспьер был возведен в положение главного лица в доме, где ему воздавали почести, которые достаются какому-либо божеству. Кабинет был специально посвящен ему. Его бюст красовался в обрамлении стихов, девизов и т. д. Сам салон был набит этими маленькими бюстами из обожженной глины, на стенах — его портреты всех видов». Конечно, не сам Робеспьер устраивал всю эту бутафорию, а старательные хозяева. Они явно стремились удовлетворить интересы и вкусы своего постояльца. Во всяком случае, он, очевидно, не возражал против культа его личности, что не смущало и не коробило его, иначе он мог бы потребовать убрать свои изображения или уменьшить их количество. Но могло ли быть иначе? Ведь Робеспьер сам часто говорил о своей особой, исключительной судьбе, хотя оставался в обращении с людьми подчеркнуто простым и скромным, несколько замкнутым и холодным. «Сам он, — продолжает Ревейр-Лепо, — аккуратно причесанный и напудренный, одетый в домашнее платье, сидел в большом кресле перед столом, где были прекрасные фрукты, свежее масло, молоко и ароматный кофе. Вся семья, отец, мать, их дети наперебой старались угадать по глазам его желания и немедленно удовлетворить их». Итак, Робеспьер жил в обстановке, весьма далекой от реальной жизни народа, тем более от бедности. Такие условия создавали почву для укрепления в его сознании идиллического образа народа, для очень своеобразного понимания его нужд, забот, стремлений и идеалов.
С 14 октября до конца ноября Робеспьер провел вне Парижа, в родных северных краях. Он посетил Боной, Аррас, Бетюн, снова Аррас, затем Лилль. Непонятно, в чем состояла деловая цель этого продолжительного путешествия. Видимо, он хотел сам познакомиться с тем, как осуществляется революция в провинции, узнать настроения людей, словом, получить информацию на месте. Понятен интерес к тому, чтобы выяснить, насколько же высок его авторитет в провинции. Пространное письмо к Дюпле, которого Робеспьер именует «милым другом», почти целиком состоит из описания торжественных церемоний: «Части Национальной гвардии Арраса, вышедшей ко мне навстречу, проводили меня в Аррас, где народ встретил меня изъявлениями такой преданности, что я не в силах описать ее и не могу вспомнить о ней без умиления. Ничего не было забыто для выражения ее. Толпа граждан вышла за город мне навстречу». Робеспьер цитирует слова представителя муниципальной власти: «Если бы это был король, говорили они наивно, его встречали бы с меньшей торжественностью». Все письмо в том же духе.
28 ноября Робеспьер возвращается в Париж. Здесь после того как король в сентябре присягнул на верность конституции, внешне, формально положение как бы стабилизировалось. Неужели Революция уже закончилась, как твердят умеренные? 1 октября собралось вновь избранное уже в рамках конституции Законодательное собрание. Это 745 совершенно новых и пока неизвестных людей. Только съехавшись в Париж, они начинают занимать определенные политические позиции. 136 из них записываются в Якобинский клуб. Это левые, которые далеко не едины. Среди них выделяется группа блестящих ораторов во главе с уже известным нам Бриссо, человеком богатой биографии, сидевшем в тюрьме в Англии, а затем в Бастилии, некогда другом Марата. В последние годы он приобрел влияние как редактор газеты «Патриот Франсе». Рядом с ним несколько молодых адвокатов из департамента Жиронда Верньо, Гюаде, Жансонне. Это их будут называть жирондистами. Но среди левых «трио» кордельеров: Базир, Шабо, Мерлен из Тионвиля. Здесь Кутон, которому его парализованные ноги не мешают активно заниматься политикой. Он уже симпатизирует Робеспьеру. Здесь и другие будущие монтаньяры, такие, как Р. Ленде или Л. Карно. Депутатом стал и знаменитый философ Кондорсе. Уже в Законодательном собрании крайне левых стали называть монтаньярами. Но левых в новом Собрании мало. Гораздо больше здесь тех, что записывается в Клуб фейянов; их 260. Но самая большая часть — более 300 — пожелали остаться независимыми, ожидающими, куда подует ветер. Итак, хотя новое Собрание больше не включает депутатов привилегированных — дворян и духовенства, — ибо сословия упразднены, оно не стало ни революционнее, ни левее. Пожалуй, по количеству выдающихся, талантливых людей — это гораздо более бледная публика.
В конце 1791 года, во время кажущейся политической паузы, интересным событием было лишь разве избрание мэром Парижа друга Робеспьера Петиона, одержавшего на выборах блестящую победу над Лафайетом.
На первый план выдвигаются не внутренние, а внешние, международные проблемы. В первое время Французская революция не вызывала особого волнения в Европе; ведь и началась-то она «бунтом дворян». Взятие Бастилии и приезд эмигрантов разъясняют дело. Дворяне Европы забеспокоились особенно после ночи 4 августа. В 1789 году вспыхнули революции в австрийских владениях — Бельгии и Нидерландах. Во главе эмигрантов брат короля д'Артуа, к которому присоединился 21 июня 1791 года второй брат — граф Прованский. Они пытаются добиться от европейских монархов вмешательства. Особенно враждебно отнесся к Революции шведский король Густав III. Негодовала и Екатерина II. Но Россия далеко и занята войной с Турцией. Австрийский император — до февраля 1790 года это был Иосиф II, затем Леопольд (оба близкие родственники Марии-Антуанетты) вели себя сдержанно. Австрия тоже воевала против Турции, а затем вместе с прусским королем занялась разделом Польши. Именно от этих двух монархов братья Людовика XVI добились принятия 25 августа 1791 года Пильницкой декларации, в которой объявлялось, что «они рассматривают положение, в каком находится в настоящий момент король Франции, как представляющее общий интерес для всех государей Европы». Император и король объявили, что «они отдадут своим войскам надлежащие приказы, чтобы те пребывали в состоянии готовности начать военные действия».
Конечно, во Франции революционеры расценили декларацию как недопустимое вмешательство в ее внутренние дела. Но это еще не объявление войны. Король Англии прямо отказался поддержать Пильницкую декларацию. Таким образом, во всяком случае, в то время вражеское вторжение не угрожало Франции непосредственно. Однако Франция оказалась на пороге войны и притом по ее собственной инициативе!
Война после Вареннского кризиса — вожделенная цель короля и королевы. В болезненном, взвинченном воображении этих обезумевших царственных особ не воспринимаются простые факты действительности. Счастливым подарком судьбы они должны были бы считать, что вообще остались на троне после бегства в Варенн, а они чувствуют себя униженными и оскорбленными. Теперь все их надежды на войну, в которой победила бы не Франция, а ее внешние враги. Для Двора — они орудие спасения. Фактически король и королева хотели не просто войны, а войны с обязательным разгромом новой, революционной Франции. Они встают на путь чудовищного подлого предательства с радостью, с восторгом. Людовик XVI пишет в секретном письме: «Физическое и моральное состояние Франции таково, что ей невозможно выдержать войну». Вот так начинается заговор, который доведет короля и королеву до гильотины. Только потом из множества секретных писем раскроется до конца тайная дипломатическая активность королевского семейства. Они лицемерят со всеми, не доверяют даже своим министрам. Ведь половина из них против войны. О какой войне может идти речь, если из 8 тысяч офицеров (все они — дворяне) 6 тысяч дезертировали? А как можно положиться на солдат? События в Нанси только самый известный из многих случаев волнений в армии. От старой военной дисциплины нет и следа. Многие солдаты посещают революционные клубы.
Но войны хочет не только король. Хотя и по другим соображениям к ней стремятся Лафайет и его друзья, члены бывшего триумвирата братья Ламет (ведь все трое — офицеры). Они хотят «малой войны» с главами немецких княжеств, приютивших аристократов-эмигрантов. После победы над этим слабым противником победоносные генералы, прежде всего Лафайет, надеются продиктовать стране свои условия. Правда, поборники «малой войны» сейчас слабы, их влияние резко упало.
Неожиданно король приобретает невольного, но зато более верного союзника политике войны там, где были его злейшие враги. В лагере революционеров! По иронии истории, им оказался Бриссо, один из тех, кто в дни Вареннского кризиса выступил за республику. А. Олар утверждал, что Бриссо тогда «был популярен и уважаем в той же степени, как Робеспьер». Но Робеспьеру было далеко до этого маленького ростом человека с длинным бледным лицом по части удивительно богатой и живописной биографии. Он побывал во многих странах, даже в Америке, написал множество сочинений, испытал фантастические приключения. Поистине в его жизни были факты на любой вкус: от бескорыстно-благородных поступков до деятельности в качестве тайного полицейского агента. Правда, последнее не доказано, впрочем, как и многое другое. Во всяком случае, это был талантливый, но сумбурный и неустойчивый человек. Сравнение его с Робеспьером, которое делает такой знаменитый историк, как Олар, несколько странно, ибо Бриссо прежде всего не хватало главного качества Робеспьера — последовательности, настойчивости, упорства в достижении цели, той особой методичности, а главное — веры в себя, чем в изобилии был наделен Неподкупный.
Так вот, Бриссо 20 октября 1791 года поднимается на трибуну, когда Законодательное собрание обсуждало вопрос об эмигрантах. Он призывает подняться на высоту Революции и уничтожить ее врагов, окопавшихся за Рейном, с помощью победоносной революционной войны. Речь Бриссо пространна (регламента по-прежнему не было), противоречива, сумбурна, но пронизана пафосом и революционной риторикой. Жорес писал, что в этой речи Бриссо показал, «отвратительное опьянение невежеством и высокомерием». Действительно, здесь были и отважные угрозы по адресу всех королей всей Европы, и неумеренное торжество по поводу грядущей победы Революции над старой Европой. Вслед за тем Бриссо на протяжении нескольких месяцев произнес, ратуя за войну, еще много речей на ту же тему. Если все эти речи напечатать, то получится целый объемистый том, к которому можно добавить еще несколько томов речей сторонников Бриссо или «бриссотипцев», как сначала называли жирондистов.
Поскольку у Бриссо была в его концепции определенная логика, воспроизведем ее основные принципы, как их формулировал сам лидер «бриссотинцев».
«Война, — говорил он, — является в настоящее время национальным благодеянием: единственное бедствие, которого можно опасаться, это что войны не будет».
Какова же цель войны? Оборона? Нет, война нужна для закрепления и продолжения революции: «Народ, завоевавший себе свободу после десяти веков рабства, нуждается в войне. Война нужна для упрочения свободы, для очистки ее от пороков деспотизма, для избавления ее от людей, могущих ее извратить».
Бриссо справедливо не верил королю и хотел подвергнуть его своего рода испытанию войной. Король не выдержит этого испытания, предстанет как предатель, и тогда можно будет покончить с монархией: «Сознаюсь, господа: у меня только одно опасение, а именно, что мы не будем преданы. Нам нужны великие измены: в этом наше спасение, ибо в лоне Франции есть еще сильные дозы яда, и нужны мощные взрывы, чтобы удалить их».
Но война должна была, по идее Бриссо и его соратников, решить не только проблему Франции: война призвана распространить революцию на всю Европу, на все человечество. Законодательное собрание, а затем и большинство патриотов решительно поддержали Бриссо. Почему его явная авантюра увлекла людей? Вспомним отчаяние Марата в сентябре, решившего, что Революция погибла. Такие настроения уныния, разочарования, усталости оказались широко распространенными. Даже жизнерадостный Камилл Демулен в октябре выступил в Якобинском клубе с мрачной, обескураживающей речью, в которой он с горечью сказал: «Мы были менее измучены при Старом порядке». Политика Бриссо и была рассчитана на то, чтобы толкнуть патриотов дальше по революционному пути, вызвать с помощью войны новый революционный взрыв. В этом заключалась сильная сторона тактики Бриссо, ее реалистичность. Поэтому большинство патриотов пошли за ним и его друзьями. А король? Внешне он старался не показывать своего нетерпеливого стремления к войне. Но в душе он ликовал, и Мария-Антуанетта радостно восклицает (в узком кругу, конечно): «Дураки! Они не понимают, что это идет нам на пользу!»
Вот в такой обстановке вспыхнувшего военного психоза 28 ноября в Париж вернулся с севера Робеспьер. Он больше не депутат, но зато в Якобинском клубе у него огромное влияние. Его появление встречают аплодисментами и тут же избирают председателем. Еще до своей поездки Робеспьер невероятно быстро сумел не только сохранить, но и укрепить обновленный Якобинский клуб. С 14 октября его заседания стали открытыми и трибуны для публики всегда полны. Чтобы попасть на заседания, люди собирались перед дверями за два-три часа до открытия.
Немало усилий приложил Робеспьер, чтобы наладить работу Клуба. Он действовал методически, стараясь не допускать стихийности и случайности. Подобно тому, как все свои речи он писал заранее, он тщательно готовил и заседания. Приходил всегда одним из первых, проверял протокол прошлого заседания, записывался в список ораторов. Жестами или взглядами Робеспьер давал указания своим сторонникам, которые рассаживались в разных местах зала и по его сигналу либо поддерживали оратора, либо заставляли его замолчать. Правда, эта тщательная организованность выдавала в нем качества человека неуверенного в себе, который в глубине души опасается поражения. Но зато его выступления завершались теперь не просто аплодисментами, а бурей энтузиазма, экстаза, восторга…
Еще в Аррасе Робеспьер узнал кое-что о воинственной кампании Бриссо и его сторонников. 28 ноября он почувствовал в клубе накаленную обстановку, вызванную обсуждением вызывающего, наглого поведения эмигрантов в немецких княжествах. Но он не осмелился выступить против Бриссо. Более того, Робеспьер тоже занял воинственную позицию, заявив в своей речи: «Надо сказать Леопольду: вы нарушаете международное право, если терпите сборища кучки бунтовщиков, которых мы отнюдь не боимся, но которые оскорбительны для нации. Мы требуем, чтобы вы разогнали их в указанный срок, иначе мы объявим вам войну».
Жорес считает, что в речи Робеспьера 28 ноября «есть что-то фальшивое и тягостное. Этот первый период воинственности не был периодом искренности». В данном случае, кажется, Жорес слишком суров к Неподкупному. Дело в том, что он не был человеком внезапных инициатив, порывов, неожиданного вдохновения. Ему требовалось время для размышления, для анализа и систематизации всех данных проблемы войны, которая действительно была очень сложной. Тем более что в данном случае необходимо пойти против течения, в которое Бриссо и его красноречивые соратники вроде Верньо или Инара вовлекли большинство якобинцев. Речь шла о том, чтобы поставить на карту свой авторитет в Якобинском клубе с риском оказаться в изоляции. Можно понять колебания Робеспьера. Занимать нейтральную позицию тоже было нельзя, поскольку нашлись люди, не побоявшиеся первыми разоблачить авантюру войны.
Первым, естественно, оказался Марат, которого не смущали никакие соображения тактики или политической карьеры. 1 декабря он публикует статью: «Придворные плуты меняют тактику. Тайные происки министров с целью вовлечь нацию в пагубную войну». Правда, Марат тоже откликнулся не сразу. Может быть, он надеялся на новых депутатов? Но они не внушали ему доверия, за исключением Инара, будущего жирондиста, которого он в начале ноября даже назвал «Робеспьером нового Собрания». Как раз Инар, между прочим, оказался ярым сторонником Бриссо. Увы, пророк часто ошибался. Марат решительно осуждает воинственного депутата из Страсбурга Рюля, выступавшего за войну ради наказания эмигрантов, чтобы потушить «театральный огонь, дым которого нам докучает». Он говорил, что нельзя далее терпеть и «безнаказанно допускать оскорбления этих отвратительных кривляк, наглость которых заслуживает кнута». Марат увидел в самоуверенности Рюля действие агента Двора. Он пишет: «Чтобы погасить театральный огонь, он советует зажечь факел войны ради редкого преимущества не терпеть беспокойства от дыма». Марат даже упрекает себя за то, что он раньше не обращал достаточного внимания на призывы к войне: «Я глубоко сожалею, что не мог ранее заняться этим делом, дабы раскрыть ловушку; я очень опасаюсь, как бы в нее не попались патриоты, и дрожу при мысли, что подталкиваемое шарлатанами, продавшимися Двору, Собрание само согласится увлечь нацию в бездну».
Особенно интересна статья Марата против воинственной политики Бриссо, появившаяся 14 декабря. Марат уловил революционный замысел Бриссо: начать войну, чтобы двинуть вперед революцию. Последнее отвечает самым сокровенным мечтам Марата. Но он предлагает другую очередность: сначала свергнуть монархию Капетов, то есть Людовика XVI (Гуго Капет — основатель династии, занявшей трон еще в 987 году), а взамен установить республику, которая сможет подготовить страну к войне и предотвратить неизбежные «великие измены», о которых мечтает Бриссо. Марат допускает вступление в войну, только исключительно оборонительную, которую следует начать лишь в случае вторжения врага на территорию Франции. «При первом пушечном выстреле народ закроет ворота всех городов и без колебаний расправится с мятежными священниками, с контрреволюционными чиновниками, с известными интриганами и их сообщниками». Затем надо опустошить деревни, развернуть партизанскую войну в лесах, в горах, на болотах; в городах соорудить баррикады, развернуть подлинно народную войну. Итак, Марат, в отличие от Бриссо, учитывает военную слабость Франции, ненадежность командования. План этого одержимого, даже безумного, как твердили враги, человека несравненно реалистичнее, практичнее, чем отчаянно авантюристические замыслы Бриссо.
Но издание «Друга народа» на этом прерывается на четыре месяца. У Марата нет денег, чтобы платить типографам. Число читателей сокращается из-за общего упадка общественной активности. Правда, «Пер Дюшен» Эбера продолжает издаваться. Ему поможет тот грубо-народный, даже вульгарный стиль балагурства, насмешки, который, прикрывая определенные политические идеи, одновременно развлекает массового читателя. Здесь суровый, даже монотонный стиль Марата, да еще и при отсутствии чисто информационного материала, конкурировать не в состоянии. Но что там Марат: даже Камилл Демулен с его остроумной, блестящей в литературном отношении газетой, тоже не выдерживает и с 12 декабря прекращает издание «Революций Франции и Брабанта».
Марат собирался уехать в Лондон, чтобы попытаться получить там помощь от английских патриотических обществ. Однако не уезжает, о чем свидетельствуют документы. Например, вот этот, датированный 1 января 1792 года: «Прекрасные качества мадемуазель Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время поездки в Лондон, которую я намерен предпринять, священное обязательство — жениться на ней немедленно по возвращении, если вся моя нежность казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором».
В жизнь Марата входит новая женщина. Она была дочерью простого плотника из Турню, умершего в 1776 году. Спасаясь от нищеты, Симонна и ее сестры Катрин и Этьенет уезжают в Париж и зарабатывают на жизнь сначала в прачечной, затем на часовой фабрике. Сестра Катрин вышла замуж за рабочего-типографщика, который печатал «Друг народа» в 1790 году. Три сестры жили вместе на улице Сент-Оноре дружной, честной, трудовой семьей, душой и телом преданной Революции. У типографщика Марат и познакомился с сестрами, которым он понравился, стал их другом. Нередко он прятался у них от преследований. Но только с осени 1791 года Симонна стала его сотрудницей и другом, хотя эта девушка имела лишь самое примитивное образование: умела читать и писать. Она стала пылкой поклонницей Марата и его революционного дела. В дни жестокой нужды она отдала Марату свои скромные сбережения работницы. А затем к этой дружбе добавилась любовь, которой не помешала разница в возрасте: ему 50, а ей — 29. Говорят, что она не была красивой. Но ведь и Марат не был Аполлоном, к тому же возраст, его болезни… Сначала этот союз несколько огорчил семейство Симонны. Видимо, в связи с этим и было написано процитированное торжественное обязательство Марата. Симонна станет верной подругой Марата. После его смерти она сблизится с Альбертиной Марат: они поселятся вместе, проживут долгую жизнь, свято храня память о Марате и бережно сберегая его бумаги.
Вернемся однако к войне, к авантюристической кампании, в которой, как тогда говорили, Бриссо «зажег солому». Вслед за Маратом к трезвой позиции призывает 3 декабря газета Прюдома «Революсьон де Пари»: «Станьте сначала свободными внутри страны; избавьтесь от внутренней тирании… вместо того чтобы устремляться за пределы страны против сомнительных опасностей». 5 февраля в Якобинском клубе выступил адвокат и журналист, известный своей прямотой и твердостью монтаньяр Жак Бийо-Варенн с большой, тщательно аргументированной речью. Он особенно убедительно разоблачил опасную политику войны. Робеспьер присутствовал при этом, и многие доводы оратора произвели на него впечатление.
Однако поднималась волна революционно-националистического психоза. В Манеже одна за другой появлялись делегации патриотов многих городов, горячо одобрявших курс на войну. 11 декабря в Собрании выступал от имени секции Французского театра (значит, от кордельеров) Лежандр: «Представители народа, приказывайте: орел победы и слава веков парят над вашими и нашими головами! Если прогремит пушка наших врагов, то молния свободы сотрясет землю, озарит мир, поразит тиранов…» Кто мог предвидеть тогда, что из этого ажиотажа когда-то действительно вылупятся орлы; это будут орлы Наполеона, которые растерзают Революцию…
Угроза войны приобретала все более осязаемый облик, особенно после назначения 7 декабря военным министром графа Нарбонна, авантюриста Старого порядка, любовника мадам де Сталь, салон которой служил центром интриг сторонников Лафайета. Нарбонн «уговорил» короля стать во главе кампании за войну с тем, чтобы обуздать Революцию, поддерживая на словах ее самый революционный лозунг. 14 декабря король в сопровождении Нарбонна явился в Собрание и заявил, что он «как представитель народа» решил предъявить ультиматум курфюрсту Трира, с тем чтобы тот под угрозой войны положил конец сборищам эмигрантов. Речь короля была шедевром лицемерия и наглой лжи. «Пора показать другим нациям, — сказал Людовик, — что французский народ, его представители и его король составляют единое целое». Итак, в один клубок сплелись три разных интриги: интрига короля, надеющегося спровоцировать создание общеевропейской монархической коалиции против Франции; интрига конституционалистов, желающих укрепить монархию и обуздать якобинцев; интрига Бриссо, стремящегося с помощью войны поставить монархию в такое положение, когда она разоблачит себя и ее можно будет заменить республикой.
Нелегко в таких условиях взять верный курс. Гораздо проще следовать по течению, которое уже захватило большинство якобинцев и вначале вовлекло в свой поток и самого Робеспьера. Но это значит последовать за Бриссо, уже выдвинувшимся вперед, потерять собственное лицо, не говоря уже о роли вождя Якобинского клуба. После долгого размышления Робеспьер выбирает свой путь. 12 декабря он занимает в Якобинском клубе позицию, противоположную линии «бриссотинцев»: «Война, — провозглашает он, — самое большое бедствие, которое может угрожать свободе в нынешних обстоятельствах».
Но только через неделю, 18 декабря, Робеспьер выступает уже не в общей форме, а конкретно против Бриссо, хотя пока и не называет его по имени, говоря об «одном патриоте». Тем не менее это явное объявление войны всем сторонникам войны. Речь очень большая, тщательно подготовленная, целый доклад по нашим масштабам. Она производит огромное впечатление своей кажущейся несокрушимой логикой. В самом деле, король занимает явно враждебную демократам позицию, налагая вето на декреты против контрреволюционных эмигрантов и против неприсягнувших священников, открыто сеющих ненависть к революции. Зато он активно поддерживает политику войны, провозглашенную якобинцем и республиканцем Бриссо!
Робеспьер обнаруживает самое слабое место у своего противника: полное совпадение его воинственной политики с политикой Двора, стремящегося использовать войну, чтобы изменить конституцию, укрепить, а то и вернуть прежнюю королевскую власть. Как же может демократ и сторонник революции поддерживать такой заговор? Робеспьер пока не обвиняет «бриссотинцев» в предательстве, прямо называя все своими именами. Но страшный, притом обоснованный фактами намек сделан!
Робеспьер опровергает идеи Бриссо методически, пункт за пунктом. Лидер жирондистов и сам не мог не признавать, что от Двора и генералов-аристократов можно ожидать предательства. Однако он считал, что в этом случае народ поднимется на восстание и покарает заговорщиков. По этому поводу Робеспьер, принципиальный противник «мятежей», заявляет: «Если нас предадут, сказал также тот депутат-патриот, против которого я выступаю, то народ окажется на месте. Да, несомненно; но вы не можете не знать, что восстание, на которое вы здесь намекаете, это лекарство редкое, ненадежное и крайнее». И Робеспьер напоминает печальный опыт расстрела на Марсовом поле, когда народ действительно был на месте, но дело кончилось плачевно для него. Конечно, этот довод убедителен для тех, кого пугает неизбежный риск революционных акций, но не для революционеров…
В ответ на призыв Бриссо к походу на Кобленц, служивший центром эмигрантов, Робеспьер говорит: «Очаг зла не в Кобленце, он среди нас, в нашем лоне. Прежде чем броситься на Кобленц, приведите себя по крайней мере в состояние способности вести войну».
Робеспьер понимал, что сила Бриссо в том, что он сумел вызвать движение патриотов в поддержку войны, что он как бы служил выразителем народного порыва. В противовес этому Робеспьер выдвигает свою концепцию миссии политика-демократа, который не должен идти за слепой толпой, а просвещать ее и вести за собой: «Величие народного представителя не в том, чтобы подлаживаться к мимолётному мнению, возбужденному интригами правительства, но опровергаемому строгим разумом и опытом длительных бедствий. Величие состоит иногда в том, чтобы, черпая силу в своем сознании, бороться одному против предрассудков и клик. Он должен доверить общественное счастье мудрости, свое счастье — своей добродетели, свою славу — честным людям — и потомству».
Заключение речи приобретает особенно зловещий для Бриссо смысл. Робеспьер, по-прежнему не называя его по имени, пророчит ему беду, ибо, как не раз намекает Робеспьер в своей речи, сторонники войны действуют не для блага государства и конституции, а лишь ради своих корыстных, грязных интересов. Здесь вновь появляется все чаще повторяемый Робеспьером мотив морального осуждения противников, их противопоставление людям добродетели, к которым Робеспьер настойчиво причисляет исключительно одного себя: «Мы приближаемся к решающему для нашей революции кризису. Крупные события быстро последуют одно за другим. Горе тем, кто при этих обстоятельствах не освободится от предвзятых мнений, от своих страстей и предрассудков. Сегодня я хотел оплатить родине, быть может, последний долг по отношению к ней. Я не надеюсь на то, что мои слова в данный момент будут иметь большую силу. Я желаю, чтобы опыт не оправдал моего мнения. Но если это даже случится, мне останется одно утешение: я смогу призвать свою страну в свидетели того, что я не способствовал ее гибели».
Присуждая себе заранее лавры ясновидящего, прозорливо предупредившего родину об опасности, Робеспьер действовал безошибочно, наверняка. Ясно, что в войне, в которую Франция вступит неподготовленной, неизбежно, в любом случае будут неудачи и поражения, война обязательно вызовет усиление бедствий народа. И тогда можно будет вспомнить, что ведь был же мудрый человек, который предостерегал нас…
Речь Робеспьера 18 декабря, как всегда, встретили аплодисментами. Но союзников у него оказалось крайне мало. Дантон вначале поддержал Робеспьера. Он говорил в Якобинском клубе: «Да, военные трубы прозвучат! Да, ангел — истребитель свободы обрушится на союзников деспотизма! Но, господа, когда мы должны начать войну?» Когда страна, объяснял он, победит своих внутренних врагов, более опасных, чем сборище эмигрантов на Рейне. Здесь он прямо солидаризировался с Робеспьером. Но это первое его выступление против войны оказалось и последним. В дальнейшем он несколько месяцев наблюдает за дуэлью между Робеспьером и жирондистами, не вмешиваясь в нее. Вообще подавляющее большинство якобинцев оказалось на стороне Бриссо, а Робеспьер был изолирован. Против него выступали наиболее левые, революционно настроенные люди. Изоляция Робеспьера явилась следствием консервативной сути его позиции. Хотя он говорил, что враг не в Кобленце, а внутри Франции, он не призывал ни к каким конкретным действиям против него. Более того, он настойчиво подчеркивал необходимость защиты конституции, то есть выступал за сохранение монархии, которой он сам же и не доверял. Что касается Бриссо, то его план состоял в том, чтобы заменить монархию республикой, когда в ходе войны король неизбежно обнаружит свою антипатриотическую суть. Несмотря на несомненные элементы авантюризма, тактика Бриссо предназначалась для развития революции, тогда как Робеспьер хотел ее законсервировать в рамках конституции 1791 года. Ведь если бы его тактика взяла верх и Франция не вступила бы в войну, то, возможно, восторжествовала бы консервативная тенденция. Таким образом жирондистский авантюризм и идеализм был для левых наиболее реалистическим решением.
Видимо, поэтому Дантон, как и многие другие, воздерживался от поддержки Робеспьера. Однако Неподкупный и не искал союзников, он прямо отвергал их. Искренним поклонником Робеспьера был Марат. Его борьба против войны особенно воодушевила Марата, и в январе 1792 года он настойчиво ищет личной встречи, чтобы разработать и осуществить совместные действия против войны. Марат дал подробный отчет о беседе с Робеспьером 3 мая, когда он возобновил издание своей газеты. «Первым словом, с которым обратился ко мне Робеспьер, — писал Марат, — был упрек, что я частично сам уничтожил необычайное влияние моей газеты на ход революции, обагрив свое перо в крови врагов революции, говоря о веревках, кинжалах, без сомнения, вопреки собственному сердцу, так он предпочитал уверять себя, что это были только слова, брошенные на ветер…»
Марат попытался объяснить Робеспьеру, что влияние его газеты объясняется как раз тем, что он вместо сухого изложения принятых декретов раскрывал вечные заговоры врагов свободы. При этом Марат привлекал читателей именно неистовыми выходками против угнетателей, искренним выражением своего горя, возгласами негодования и ярости, вызванными попытками обмануть народ, ограбить его, заковать в цепи, увлечь его в пропасть. На упреки Робеспьера в излишних призывах к жестокости Марат отвечал, что если бы он мог рассчитывать на народ в столице, то он сам перебил бы каждого десятого из депутатов, одобривших расправу с солдатами, что он сжег бы на костре судей, осудивших участников событий 5-6 октября 1789 года, что после бойни на Марсовом поле он лично заколол бы кинжалом генерала Лафайета, сжег бы короля в его дворце и посадил бы на кол многих депутатов. Марат так завершает свой отчет: «Робеспьер слушал меня в ужасе, он побледнел и некоторое время молчал. Это свидание укрепило мнение, которое всегда у меня о нем было, что он соединяет знания мудрого сенатора с честностью подлинно добродетельного человека и рвением настоящего патриота, но ему в равной степени не хватает дальновидности и мужества государственного деятеля».
Робеспьер позже тоже расскажет об этой встрече, чтобы подчеркнуть, что беседа показала отсутствие какой-либо связи между ним и Маратом: «Он защищал свое мнение, я настаивал на моем».
Действительно, встреча обнаружила между ними пропасть. Тем более знаменательно, что Робеспьер, резко отвергая «крайности» Марата, будет всегда следовать за ним, за его лозунгами, только с опозданием. Страшные насильственные меры, предлагаемые Маратом, заставляют его бледнеть, а впоследствии именно Робеспьер приобретет репутацию самого жестокого деятеля революции, апостола такого беспощадного террора, что от него побледнел бы и сам Марат.
Встреча двух союзников, выступивших против общих врагов, превратилась в диалог глухих. Оба представляли народ. Но для Робеспьера народ — умозрительная абстракция. В конкретном облике народ воплощался для него в таких людях, как Дюпле, состоятельный буржуа с солидной рентой и с солидной собственностью. Марат же сам, всем своим обликом, даже внешне олицетворял бедняков, которые всегда останутся чужды Робеспьеру. Этот респектабельный буржуа инстинктивно морщится при виде грязных, грубых, нищих, пьяных бедняков. Робеспьер-демократ, он даже может допустить, что для бедняков их повседневные социальные нужды важнее политических прав, его тоже возмущают богачи, выгодно использующие революцию, но он остается представителем буржуазии, правда, способным понять и оценить необходимость считаться с бедняками, не нарушая, однако, серьезно интересов буржуазии. В своих бесчисленных речах он только один раз употребит выражение «революция бедняков», да и то в связи с введением всеобщего обучения. Марат же — духовный выразитель этой самой революции. Робеспьер сформировался как юрист, строгий законник; Марат же проповедует бунт против законов. Но — поразительное дело — Марат имеет достаточно широкое сердце, чтобы простить Робеспьеру его холодную отчужденность. В той самой статье, в которой он рассказывает правду о том, как был отвергнут Робеспьером, он пылко, горячо защищает его от нападок жирондистов. Робеспьер не способен проявить такое же величие души и с некоторым презрением отмежевывается от Марата.
Но он не хочет иметь и других союзников, которые по социальной природе ближе к нему. Бриссо настойчиво предлагает ему «священный союз»: «Я хотел бы, — заявляет он, — увидеть во главе народа Петионов, Редереров, Робеспьеров…» Робеспьер предпочитает одиночество. Он вообще не может допустить идею компромисса, сделки. И он отвергает авансы жирондистов с явным презрением. В этом сильно сказывается дух личного соперничества, перерастающий в невероятную ожесточенность.
Робеспьер чувствует, что чисто негативное отношение к политике жирондистов обнаруживает его слабость, поскольку он не выдвигает никакой альтернативной программы. Он уединяется на две недели и пытается создать такую программу, которая выливается в его многочасовой речи 10 февраля и издается в виде брошюры: «О средствах спасения государства и свободы».
Спасение, по мнению Робеспьера, может быть обеспечено «не при помощи бедственных потрясений, а применяя мирные средства» для защиты конституции, то есть монархии. Робеспьер совершенно игнорирует рост республиканских настроений и выступает против любого изменения существующего положения: «Подлинная роль Национального собрания не столько в том, чтобы вызывать смену министров, сколько в том, чтобы с разумной и последовательной строгостью пресекать отклонения наличных министерств». Робеспьер предлагает это, поскольку он слышал пожелания назначить министров из членов Якобинского клуба. Итак, он предпочитает министерство из фейянов, которое следует лишь более строго контролировать. Наиболее конкретная мера контроля состоит в принятии декрета о том, что тот из министров, «кто будет непочтительно говорить о народе, будет приговорен к тюремному заключению».
Он требует также усиления гласности работы Национального собрания. По его мнению, «жалкий зал Манежа» имеет недостаточно мест для публики. Поэтому он предлагает построить новое помещение для заседаний: «Пусть на развалинах Бастилии или в другом месте будет воздвигнуто… величественное здание, которое могло бы вместить по меньшей мере десять тысяч зрителей и где народ мог бы удобно и свободно слушать, как обсуждаются его интересы».
Робеспьер также предлагает «простые и великие меры для быстрого распространения гражданского духа и революционных принципов». «Великие» меры сводятся к проведению национальных праздников, в центре которых будет постановка «драматических шедевров», посвященных Бруту, Вильгельму Теллю, Гракху и т. п. В связи с этим Робеспьер обрушивается на театры, где раздается лишь «голос сладострастия». Он предлагает также еще ряд мер в том же духе, например, «обратиться к французам с адресом, достойным нации».
Нельзя сказать, что Робеспьер совершенно игнорирует социальную обстановку в стране. Он слышал о крестьянских восстаниях, вызванных якобы тем, что «двор при поддержке фанатизма старается сеять недовольство среди сельских граждан». В связи с этим он предлагает строго соблюдать принятые декреты о ликвидации феодализма, хотя восстания ширятся именно потому, что эти декреты отменили лишь второстепенные, а не главные феодальные повинности. Он знает также о движении городской бедноты против дороговизны. В связи с этим Робеспьер говорит: «Почему не назначить малую толику из кассы чрезвычайных расходов, которую поглощает двор… для облегчения положения несостоятельных граждан?»
Дальнейшее развитие Революции Робеспьер видит, таким образом, в виде расширения филантропической благотворительности. «Я всегда считал, — говорит он, — что нашей Революции не хватало двух элементов: глубоких писателей… и богатых людей, которые были бы в достаточной мере друзьями свободы, чтобы пожертвовать часть своих богатств на распространение образования и гражданского духа».
Одна фраза Робеспьера в его огромной речи озадачивает, когда он говорит о том, что в случае слабости Национального собрания «я призвал бы меньшинство чистое и мужественное, чтобы раздавить слабоумное и развращенное большинство». Что это значит? Отказ от легальности или от основного принципа демократии, от подчинения меньшинства большинству? Итак, обширная программа Робеспьера свелась к многословной риторике, к внешне эффектным, но наивным, утопичным требованиям вроде проведения праздников и строительства грандиозного зала заседаний.
Никакого серьезного ответа на вопросы социального и политического положения страны Робеспьер не дал. Он даже не сумел оценить и понять это положение. Между тем среди монтаньяров нашелся человек, предложивший действительно реальные меры в отношении крестьянства. 29 февраля 1792 года Кутон внес предложение, которое требовали от феодальных собственников реального доказательства оснований для выкупа основных крестьянских повинностей. Будущий соратник Робеспьера требовал новых, «справедливых законов» в связи с приближением войны, чтобы пробудить «моральную силу народа», более мощную, чем сила армий».
Не все монтаньяры так ясно понимали обстановку. Тяжелый экономический кризис поразил Францию. В городах снова воцарился голод. На этот раз он был вызван не плохим урожаем, а денежным расстройством. Чтобы покрыть государственные расходы, еще раньше выпустили ассигнаты, которые стали бумажными деньгами. Но их реальная стоимость падает, их выпускали слишком много, а серебро и золото исчезают из обращения. Крестьяне не хотят продавать продукты за ненадежные бумажки. Продовольствие прячут, этим пользуются спекулянты. Голодный народ волнуется. Начинают громить лавки, захватывают запасы хлеба и других продуктов. Бедняки требуют таксы, то есть твердо установленных нормальных цен, позволяющих им не умереть с голода. Но ведь это покушение на принцип частной собственности! Буржуазия, все ее политические представители от умеренного Барнава до левого Робеспьера не могут пойти на это. Надвигающаяся война еще больше обостряет обстановку.
Острее всех чувствует это, хотя и очень сумбурно, Марат. Робеспьер поглощен борьбой с жирондистами. А Дантон, который, несомненно, ближе всех ощущает жизнь и ее запросы?
Он в отличие от Марата или Робеспьера не замыкается целиком в политической деятельности, живет всегда полной жизнью, которой не чуждо ничто человеческое.
Осенью 1791 года, вернувшись из Англии, Дантон выдвинул свою кандидатуру в Законодательное собрание, но провалился. Эта неудача, не первая и не последняя, нисколько его не обескуражила. К тому же в революции наступило время отлива, усталости, спада. 5 октября вместе с женой Жорж отправляется к себе в деревню, в Арси, быстро забывая парижские треволнения. Здесь он живет как средний зажиточный землевладелец, округляет свои владения, покупает лесок за 250 ливров, сад — за 240, огород — за 210. Дантон усердно и с удовольствием занимается хозяйством, приобретает трех кобыл с жеребятами, четырех молочных коров, плуги, бороны, двуколку, две телеги, много другой необходимой утвари. С удовольствием занимается хозяйством, не гнушается взять в руки лопату или топор. Добродушный, веселый, общительный, он завоевывает симпатии всех окружающих своей сердечностью и простотой. Однажды один рабочий в лесу был серьезно ранен, все бросились звать на помощь. Дантон снял с себя рубашку, разорвал на полосы, перевязал пострадавшего и на руках отнес его до дому, где уже ждал врач.
Дом Дантона просто обставлен, но в нем 17 комнат, и хозяин заселяет их, радушно предоставляя приют близким и дальним родственникам. Здесь живут не только его мать и отчим, но и сестра матери, старая дева Анна-Пафетта, его сестра Анна-Мадлена с мужем и пятью детьми. Тетушка Анна Камю, родственница мэтра Камю, знакомого Дантона по Парижу. Его старая кормилица Арко управляет всем хозяйством и держит ключи от всех погребов и кладовок. Габриель беременна и хочет вернуться в Париж, чтобы родить там, где есть хороший доктор. Друзья из Парижа осаждают Дантона просьбами вернуться и возглавить кордельеров. Но он так ленив, жизнь на лоне природы так приятна. Наконец приезжает Камилл Демулен вместе со своей Люсиль, чтобы уговорить его. В конце ноября Дантон уже в Париже. Вскоре освобождается пост заместителя прокурора Коммуны. Дантон получает 1162 голоса, его соперник Колло д'Эрбуа — 654. Безработный актер в ярости, ему не досталась солидная должность с окладом 6 тысяч ливров в месяц.
Хотя в январе Дантона выбирают председателем Якобинского клуба, выступает он здесь редко, ибо разгорающаяся борьба между Робеспьером и Бриссо носит все более характер личного соперничества и позиции каждой из сторон отнюдь не безупречны. Дантон ждет надвигающихся событий, а пока, 20 января, официально вступает в свою новую должность. По этому поводу Дантон произносит, может быть, единственную, заранее подготовленную и написанную речь. До этого он с презрением относился к распространяемым врагами и завистниками сплетням о его продажности, о том, что он платный агент короля, Англии, герцога Орлеанского и еще многих. Практически все это не могло поколебать его авторитет. Но теперь он почему-то решил наконец ответить и изложить свои политические принципы. Может быть, манера Робеспьера, постоянно говорившего о себе, заразила его? Во всяком случае, Дантон сам назвал свою речь «Торжественной исповедью», предназначенной не для друзей или явных врагов, а для тех уважаемых им людей, которые все же способны поддаться инсинуациям клеветников и слишком доверчивы. Поэтому он как бы дает отчет о своей деятельности с начала революции и очень тактично отвергает без особого нажима клевету против него. Так, он говорит, например: «Общественное мнение призывает меня из глубины моего уединения, где я собирался работать на своей скромной ферме, приобретенной на средства от общеизвестного возмещения за должность ныне уже не существующую, что не помешало моим клеветникам превратить эту ферму в огромные владения, якобы оплаченные некими агентами Англии и Пруссии».
Действительно, стоимость земель, купленных Дантоном в Арси, точно соответствует стоимости его должности адвоката Совета короля, некогда с таким трудом им приобретенной. Эту сумму ему вернули по закону об отмене платных должностей Старого порядка.
Интересен своего рода автопортрет, который Дантон нарисовал в своей речи: «Природа наделила меня атлетическим сложением и суровым обликом свободы. Избежав несчастья родиться в одном из семейств, поставленных нашими старыми учреждениями в привилегированное положение и уже вследствие этого почти всегда вырождающихся, я сохранил, своими силами утверждая себя в гражданской жизни, всю свою прирожденную силу, не переставая ни на миг доказывать как в моей частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умею сочетать хладнокровие рассудка с жаром души и твердостью характера».
Затем Дантон с весьма необычной для него гибкостью определяет свою политическую программу. Дело в том, что ему надо было принести присягу на верность конституции, иначе говоря, на верность монархии, королю. Но Дантон уже давно стал республиканцем. Свою верность монархии он сопроводил такими оговорками, что не оставил никакого сомнения в том, что намерен добиваться ее свержения. Вот, например, образчик этой дипломатии: «Общая воля французского народа, выраженная столь же торжественно, как и его одобрение конституции, будет для меня всегда высшим законом. Я посвятил всю свою жизнь этому народу, на который нельзя будет больше нападать и который нельзя будет больше предавать безнаказанно, народу, который вскоре очистит землю от всех тиранов, если они не откажутся от лиги, созданной ими против него. Если понадобится, я погибну, защищая его дело».
Дантон как бы хотел, не запугивая робких, подтвердить свою готовность к новой революции. Заявив, что монархия может существовать века, затем он предъявил ей ультиматум: «Пусть королевская власть покажет себя наконец искренним другом свободы», пусть «она сама предаст возмездию законов всех заговорщиков без исключения».
Речь Дантона внешне выглядела корректной и умеренной, хотя по существу она была революционным манифестом. Чувствуется, что Дантон предвидит наступление грозных событий и он к ним готов.
Их не пришлось долго ждать. В начале марта — кризис правительства из-за разногласий вокруг проблемы войны. Всплывает наверх личность генерала Дюмурье, связанного и с королем и с жирондистами. Его опыт не столько военного, сколько тайного агента внушает ему идею интриги: склонить короля пригласить в правительство якобинцев! Король сразу сообразил, насколько выгодно развязать столь желанную ему войну руками своих врагов. 23 марта четыре министра назначены королем по рекомендации Бриссо (а точнее — по желанию мадам Ролан).
Дюмурье, заняв пост министра иностранных дел, является в Якобинский клуб с фригийским колпаком на голове и произносит воинственную речь. Получив одобрение, он разыгрывает с правительством Австрии быструю дипломатическую интермедию, и 20 апреля Законодательное собрание объявляет почти единодушно (только десяток депутатов против) войну «королю Богемии и Моравии». Такая странная формула потребовалась из-за того, что новый австрийский император еще не короновался.
Патриоты (втайне и роялисты) с энтузиазмом поддерживают войну. Довольны все, включая Робеспьера. Ведь теперь его заклятые враги — Бриссо и другие жирондисты — начнут расплачиваться за свою политику войны: армия дезорганизована, ее возглавляют генералы-интриганы, прежде всего Лафайет, который намерен вести войну политическую, а не военную. Сразу потерпел крах план вторжения в Бельгию. Целые полки старой наемной армии переходят на сторону врага. Вскоре Лафайет вообще прекращает военные действия, вступает в тайные переговоры с врагом, сообщая ему, что намерен двинуть армию на Париж, чтобы уничтожить «якобинскую шайку». Естественно, жирондисты, так рвавшиеся к войне, оказались под огнем критики слева (Робеспьер) и справа (священники и прочие). Конфликт внутри Якобинского клуба между Робеспьером и его противниками приобретает небывало ожесточенный яростный характер. В защиту Неподкупного выступает Марат. Дантон выходит из терпенья и бичует жирондистов за их недостойные приемы борьбы против Робеспьера. Начинается естественное, стихийное сближение вождей монтаньяров, причем не на основе общей политики, которой пока нет и в помине, а есть лишь коренные разногласия, но против общих врагов…
Положение у жирондистов сложное. В поисках выхода они принимают меры революционной обороны и проводят в Собрании три декрета: о новых мерах против неприсягнувших священников, о роспуске королевской гвардии, о сформировании под Парижем лагеря федератов. 20 тысяч национальных гвардейцев со всех концов Франции должны собраться здесь, чтобы отразить возможное вторжение врага или предотвратить контрреволюционный переворот в Париже.
Новый конфликт с Двором; король соглашается с роспуском своей гвардии, но налагает вето на два других декрета. 10 июля министр внутренних дел жирондист Ролан направляет королю письмо, в котором резко предупреждает монарха, что вето превращает его в «соучастника заговорщиков» и вызовет «страшный взрыв». В ответ король увольняет в отставку трех министров-жирондистов, а их друга Дюмурье переводит на пост военного министра. Но он сам уходит в отставку и уезжает в армию.
В события вмешивается народ. Санкюлоты Парижа впервые выступают как независимая политическая сила. Руководители и активисты секций народных предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо решают устроить 20 июня (в годовщину знаменитой клятвы в Зале для игры в мяч) массовое шествие для подачи петиции Собранию и королю. Коммуна Парижа во главе с мэром-жирондистом Петионом использует демонстрацию для давления на короля.
В манифестации участвует более 20 тысяч человек. Вместе с народом и Национальная гвардия, многие идут с оружием в руках. Все требуют отмены вето, возвращения министров-патриотов, энергичных военных мер по защите от вторжения врага. Среди вожаков выделяются давно уже популярные пивовар Сантерр и мясник Лежандр.
Толпа окружает королевский дворец, ломает ворота, проникает во дворец. Людовик XVI окружен народом. Лежандр заявляет ему: «Вы человек вероломный, вы всегда нас обманывали, обманываете и теперь». Так оно и было. При этом король успешно разыграл комедию: напялил на себя фригийский колпак, выпил стакан вина за здоровье нации, приветствовал толпу жестами, но никаких уступок не обещал. В конце концов все обошлось миром. Мэр Петион уговорил народ разойтись. Демонстрация все же была грозным предупреждением, хотя практических результатов не дала.
Более того, сразу же начинается роялистская кампания против «оскорбления» короля. Смещен мэр Петион. 28 июня Лафайет, самовольно оставив армию во время войны, приезжает в Париж, является в Собрание и требует наказания виновников «насилий» во время демонстрации 20 июня. Лафайет рассчитывал, что в Париже он получит сильную поддержку. Но когда ночью он подсчитал своих надежных сторонников, их оказалось всего около сотни. «Герой двух миров» вынужден бесславно вернуться в армию.
Обстановка становится все более сложной и запутанной. В начале июля 1792 года на Францию идет, кроме австрийцев, еще и прусская армия под командованием герцога Брауншвейгского. С ней вместе выступает в поход корпус эмигрантов принца Конде. Французы отступают с бельгийской территории. К Австрии и Пруссии присоединяется Сардинское королевство.
Левые в Собрании, чтобы обойти вето короля по поводу создания лагеря федератов, проводят решение о приглашении их на праздник Федерации 14 июля. Против создания этого лагеря решительно выступает Робеспьер. Его позиция совпадает с позицией Двора. В это время он с финансовой помощью Дюпле издает газету «Защитник конституции». Уже само название газеты говорит, что свою главную цель Робеспьер видит в защите монархии. Во всех своих выступлениях и в своей газете он постоянно высказывается против народного восстания, видит в нем растущую угрозу. «Если через месяц ситуация не изменится, то нация погибнет», — мрачно пророчествует он. Робеспьер показывает себя по меньшей мере беспомощным перед лицом надвигавшейся революции, которая его пугает.
Только в конце июля наконец Робеспьер высказывается за выборы и созыв Конвента, забывая упомянуть, что с этим требованием выступил 15 дней ранее Бийо-Варенн. Он высказывает также и некоторые другие предложения, выдвинутые в левых патриотических кругах еще месяц назад. Но нигде и никогда он не выступает за отрешение от власти Людовика XVI и тем более за вооруженное восстание. Он очень искусно отговаривает от конкретного применения революционной силы, провозглашая лишь ее абстрактную, теоретическую допустимость. Так он оставляет для себя на всякий случай возможность без помех примкнуть к новой революции, если она окажется успешной.
Жирондисты при всей своей растерянности, при своей боязни народа оказываются на более революционных позициях. 3 июля с большой речью, разоблачавшей короля и нанесшей смертельный удар его авторитету, выступает Верньо. Он убедительно развеивает остатки мифа о том, что король служит Франции и уважает конституцию. Жан Жорес, сам великий оратор, пишет по поводу ораторского шедевра Верньо: «Эта речь — чудо сочетания правды и искусства, страсти и тактики… Эта речь Верньо обрушивается на короля, как ужасная молния, но, проносясь вокруг него, она не поражает его насмерть; она дает ему некую последнюю передышку. Я не знаю ничего более прекрасного, более волнующего, чем этот удар, прямой, неистовый и в то же время сдерживаемый».
Восхищаясь ораторским искусством знаменитого жирондистского трибуна, Жорес в то же время признает, что в позиции жирондистов содержится какая-то неуверенность, сдержанность, колебания. Действительно, это доведет Бриссо и его соратников в конце концов до нелепых и жалких попыток тайного сговора с королем с целью возвращения министров-жирондистов к власти.
11 июля Законодательное собрание объявило специальным актом «Отечество в опасности». Не было ли это простой фразой и платоническим лозунгом, поскольку само по себе это не увеличило реальных сил? В действительности это означало не только практическое начало формирования батальонов добровольцев, но и создавало новый нравственный и политический климат. Раз «отечество в опасности», то нельзя было оставлять во главе страны ненадежных правителей, не внушавших полного доверия. Не объявлялось ни о каких принудительных мерах. Народ призывали к добровольному проявлению преданности отчизне. Провозглашение «отечества в опасности» имело не только моральное, но и практическое значение. Оно пробудило и усилило невиданную политическую активность граждан.
Но кто возглавит народ? Нельзя было больше надеяться ни на Законодательное собрание, которое, провозгласив «отечество в опасности», не способно было ничего больше предпринять практически, ни на Якобинский клуб, где в бесконечных речах тонула суть дела. А она состояла в том, что надо отразить опасность. На парижских улицах расклеены афиши с призывом к восстанию.
Вот одна из них с огромным заголовком: «Окончательный приговор». В тексте разоблачается бездействие Якобинского клуба, который «давно превратился лишь в арену споров хороших патриотов с софистами». Афиша осуждает нерешительность Робеспьера и призывает народ: «Восстань! Тираны созрели! Они должны пасть!»
Теперь, после долгого опыта несбывшихся надежд на то, что король будет в рамках конституции служить революции, всем стало ясно: опасность в Тюильри, где ждали только вторжения армий Австрии и Пруссии. Бездействие королевских генералов, не желавших серьезно выступать против внешней опасности, раскрыло глаза самым легковерным. Слухи о том, что Лафайет хочет повернуть армию на Париж вместо того, чтобы сражаться с врагом, подтверждались всем его поведением.
Нужен был какой-то новый центр власти и действия патриотов и революционеров. И он родился в стихийном народном порыве. В июле в Париж прибывают несколько тысяч федератов — отряды Национальной гвардии из разных департаментов страны. Особенно сильное впечатление на Париж произвело прибытие батальона из Марселя. Он прошел по улицам Парижа с новой песней, в словах которой отразился смысл и цель народных действий:
Это была знаменитая «Марсельеза», родившаяся как призыв к новой, народной революции и сразу встретившая отклик в сердцах парижской бедноты и всех патриотов. «Марсельеза» выразила самую жгучую потребность революции.
В середине июля возник Центральный комитет федератов, прибывших в Париж пяти тысяч бойцов, объявивший своей целью борьбу с «вероломным Двором». Затем он создал более узкую тайную Повстанческую директорию.
Другим, гораздо более важным центром действия патриотических сил стали избирательные секции Парижа, которые начали заседать непрерывно. В секциях ликвидируется деление на «активных» и «пассивных» граждан. Официальным выражением этого всеобщего сплочения всего народа с революционной буржуазией явилось знаменитое решение секции Французского театра (дистрикт Кордельеров), принятое 30 июля. В этом решении, под которым стояли подписи председателя секции Дантона, заместителя Шометта, секретаря Моморо, говорилось: «Принимая во внимание, что один класс граждан не может присвоить себе исключительное право на спасение отечества, собрание объявляет, что, поскольку отечество находится в опасности, все мужчины-французы фактически призваны к его защите; что граждане, вульгарно и в духе аристократов именуемые пассивными гражданами, суть повсюду мужчины-французы, что они должны быть призваны и призываются как к оружию на службе в Национальной гвардии, так и к участию в обсуждениях в секциях и в первичных собраниях».
Речь шла о ликвидации главной конституционной несправедливости и о провозглашении демократического равноправия всех граждан. «Я узнаю, — пишет Жорес, — в этом постановлении стиль Дантона. Он был, если можно так выразиться, замечательным юристом революционного дерзания. Он умел превосходно интерпретировать саму конституцию в вольном духе народа и его прав. Он выявлял смысл ее, создавая или преобразовывая ее дух».
Активное вступление «пассивных» граждан в политическую борьбу — важнейшая новая черта «секционной революции», как называют события 10 августа. Их приближение чувствуется с каждым днем. На этот раз, в отличие от таких народных выступлений, как взятие Бастилии 14 июля 1789 года или поход в Версаль в октябрьские дни, их ускоряют не только стихийно возникающие явления. Теперь в гораздо большей степени чувствуется чья-то направляющая воля, осуществление заранее подготовленного плана, заранее принятой тактики. Это назревало давно. Идея опоры на секции в борьбе с властью зародилась еще в начале революции, в борьбе дистрикта Кордельеров во главе с Дантоном против официальных городских властей, против Байе и Лафайета. Затем она проверяется в действиях Клуба кордельеров, куда принимали и «пассивных» граждан и где царили народные, демократические порядки. И сейчас в Центральном бюро секций и в ЦК федератов среди множества новых, никому не известных людей повсюду действуют люди из окружения Дантона: Демулен, Фабр д'Эглантин, Шометт, Вестерман и другие деятели Клуба кордельеров. Нигде не видно только виднейших ораторов Якобинского клуба. Бриссо и его друзья, забыв свой пламенный республиканизм, теперь против восстания. Их соперник Робеспьер выжидает, чтобы выступить в момент, когда ясно будет, кто победит. Всех крупных деятелей Якобинского клуба пугает неопределенность, пугает народ, от имени которого они привыкли произносить речи, но не действовать вместе с народом.
Пока только Дантон осуществляет идею союза революционной буржуазии с народными низами, союза, в котором рождается партия монтаньяров, один из главных плодов успеха революции 10 августа.
Никто заранее не мог надеяться на такой успех. Знали лишь, что предстоит вооруженная борьба, штурм королевского дворца Тюильри. Но он вовсе не был беззащитен. Его обороной руководит маркиз Манда, опытный офицер, преданный королю, занимавший пост командующего Национальной гвардии. В его распоряжении около тысячи швейцарских наемных солдат и офицеров, несколько сотен дворян, среди которых тоже много военных, несколько батальонов Национальной гвардии из буржуазных кварталов, много пушек, оружия, боеприпасов. Штурм дворца со стороны площади Курсель сам по себе труден. Атакующие должны пройти через три тесных двора, где из окон и с террас на них обрушится огонь. А с другой стороны парк, охраняемый солидными силами; на нужных местах продуманно расставлены пушки. Манда особенно позаботился о том, чтобы преградить путь кордельерам и марсельским федератам, которым надо пересечь по Новому мосту Сену. Мост взят под прицел орудий.
Совершенно непредсказуемым фактором было и поведение короля. Что, если он предпримет какой-либо отвлекающий маневр, видимость компромисса? В Законодательном собрании и в Якобинском клубе с радостью поддержат его! Кроме того, вплоть до утра 10 августа король мог вообще спокойно выехать из Тюильри и через Елисейские поля исчезнуть из Парижа, направившись, к примеру, в Нормандию, где его, кстати, ждали. Ничто не помешало бы ему, ибо вокруг Тюильри вплоть до дня восстания не было никаких революционных сил. Но король предпочел остаться: его убедили, что опасаться нечего; он обязательно выйдет победителем из схватки.
Еще один повод для беспокойства — поведение Лафайета. Этот неугомонный монархист хочет любой ценой спасти монархию. В июле он предложил новый план бегства короля из Парижа и гарантировал успех. Помешала только закоренелая неприязнь к Лафайету Марии-Антуанетты.
Наконец, главное — выступит ли достаточно дружно народ предместий? Отзовется ли он в едином порыве на звон набатного колокола? Правда, здесь делу революции помогал враг и его союзники, непрерывно совершавшие глупости, а вернее — провокации. Крупнейшей среди них оказался манифест командующего прусской армии герцога Брауншвейгского, провозглашенный в Кобленце 25 июля и ставший известным в Париже 1 августа. От имени австрийского императора и прусского короля объявлялось, что войска двух держав вступают на французскую землю для защиты Людовика XVI и для жестокого наказания бунтовщиков. Все, кто будет сопротивляться вторжению, будь то солдаты, Национальная гвардия или просто жители, рассматриваются как мятежники. Они будут уничтожаться немедленно, их дома — разрушаться и сжигаться.
Особенно страшными карами грозили населению Парижа. В манифесте говорилось, что если «королю и королеве и королевскому семейству будет учинено хоть малейшее оскорбление, хоть малейшее насилие, если не будут приняты немедленные меры к обеспечению их безопасности, их сохранности и их свободы, то они ответят на это местью примерной и навеки памятной, предав город Париж военной расправе и полному разрушению, а бунтовщиков, повинных в преступлениях, заслуженной ими каре».
Итак, революция и ее люди подлежали уничтожению. Не собирались соблюдать законы и обычаи войны, с французами хотели поступить как с разбойниками и бандитами. Великодушные монархи грозили превратить всю Францию в огромную бойню, надеясь привести патриотов в трепет и ужас. Но случилось иначе. Коронованные идиоты лишь возбудили против себя сильнейшую ненависть, возмущение, ярость французского народа! Бредовый манифест точно отражал желания и чувства обитателей Тюильри; так решили французы, и они были совершенно правы. Позднее, когда будут преданы гласности тексты секретной переписки Людовика и Марии-Антуанетты, это станет очевидным.
Не страх, а гнев вызвал манифест герцога Брауншвейгского. Уже 3 августа мэр Петион вынужден был представить Законодательному собранию петицию парижских секций, которые требовали низложения короля. Впрочем, еще до этого наиболее революционные секции объявили, что они не считают больше Людовика королем. 4 августа секция Гравилье заявила собранию, что если оно не свергнет Людовика с престола, то это сделает народ.
Теперь подготовка к восстанию вступает в решающую фазу энергичных практических приготовлений. Штабом служили Центральное бюро секций и Повстанческая директория федератов. Как пишет Жорес, «Дантон поддерживал связь с обеими революционными организациями. Подписанным им постановлением секции Французского театра он дал толчок повстанческому движению секций. Кроме того, на следующий день после банкета марсельцев федераты Марселя были приглашены секцией Французского театра разместиться у нее. Таким образом, Дантон являлся как бы связующим звеном между обеими революционными организациями».
Дантон готовит восстание давно. Кроме общих политических проблем организации революционных сил, заранее, еще за месяц до штурма, продумывались все чисто военные детали. Необходимо прежде всего обеспечить элементарное военное руководство. Ведь санкюлоты со своими самодельными пиками все же оставались необученной толпой, которая может проявить чудеса храбрости. Но эти чудеса потребуются в нужный момент и в нужном месте. Кто определит это и будет направлять действия атакующих? Дантон поручает военное командование своему другу, эльзасцу Жозефу Вестерману, бывшему офицеру королевской армии (в день победы он станет генералом). Дантон активно использует свое официальное служебное положение заместителя прокурора Коммуны. Оно пригодилось, чтобы дать возможность комиссарам секций заседать в Ратуше пока одновременно и в разных залах с муниципальным советом. Ведь этим комиссарам предстояла особая миссия…
Секции, представляющие народ с активным участием «пассивных», — отныне главная опора, движущая сила революции. 5 августа в Якобинском клубе Робеспьер предлагает лишь вести «наблюдение за дворцом». Энергичный левый якобинец Антуан призывает действовать, оставить клуб и идти в секции. Бурдон требует объявить непрерывность заседаний. Жирондисты молчат. Робеспьер, столь влиятельный в клубе, тоже молчит и не поддерживает эти предложения. Якобинцы голосуют за «переход к порядку дня», отклоняя таким образом участие в восстании.
В суматохе бурного возмущения манифестом герцога Брауншвейгского Дантон подписывает приказ о выдаче из муниципальных запасов пяти тысяч патронов возглавляющему марсельских федератов Барбару. Патроны розданы не только федератам, но и санкюлотам. Дантон с помощью верных людей с 4 августа держит в постоянной готовности марсельцев в своей секции Французского театра. Уже все готово для восстания. 6 августа вожак предместья Сент-Антуан Сентерр предупреждает Дантона, что народное напряжение не может длиться долго, во всяком случае после 9-го. «Начнем 9-го», — отвечает Дантон, зная, что его друзья добились включения в повестку дня Собрания вопроса об отречении короля. Он уверен, что Собрание либо сразу отвергнет требования секций, либо отложит решение вопроса. Это и послужит сигналом к началу выступления.
И вдруг Дантон на два дня исчезает. 7 и 8 августа он находится вдали, у себя в Арси. Что случилось? Уж не струсил ли Дантон? Он понимал, что его ждет неизвестность, может быть, смерть. И в нем заговорило чувство сыновнего долга. Он едет, чтобы подписать юридический акт у нотариуса Фино. Это дарственная, которая обеспечивает его матери и ее мужу, отчиму Дантона, право пожизненного проживания в его доме. Заботы хорошего сына понятны, но неужели он опасается, что после его смерти Габриель выставит свою свекровь за дверь? Об этом можно лишь гадать. Дантон осматривает свои земли и размышляет. 8 августа нарочный вручает ему письмо от Фабра д'Эглантина: кордельеры просят Дантона немедленно вернуться. Ночь бурной скачки галопом, и утром он уже в Париже.
В квартире Дантона ждут друзья. Они нетерпеливо рассказывают о новостях. Многие — с тревогой, даже с ужасом. Дантон молча слушает всех. Его самого тревожит неизвестность; все может рухнуть, если Манда организует оборону Тюильри. Люди предместий обладают безумной храбростью, но способны поддаться панике, когда загремят залпы. Дантон сам решает осуществить то, что уже давно запланировано: заранее обезглавить защитников монархии, деморализовать их. «Или завтра народ будет победителем, — говорит он, — или я буду мертв».
Вечером 9 августа Дантон отправляется в Ратушу. Здесь заседает муниципальный совет. Но в соседнем зале — комиссары секций. Вот это пока незаконное собрание и должно взять власть! Дантон дает своим людям советы и указания о создании повстанческой Коммуны. В полночь он вернулся домой и, не раздеваясь, заснул. Загудел набат. Из Ратуши один за другим прибегают посыльные. Но Дантон спит. В два часа ночи он быстро проходит через гостиную, бросив на ходу, что направляется в Ратушу. Здесь, как и было предусмотрено, комиссары секций провозглашают себя Коммуной, изгнав силой своих «законных» предшественников. Вскоре из Тюильри является маркиз Манда. Увидев на Гревской площади толпу вооруженных санкюлотов, он отдает распоряжение командиру батальона Национальной гвардии о том, что, в случае ее движения к дворцу Тюильри, надо «нанести удар сзади». Слова оказались для него роковыми. Командир батальона показывает приказ комиссару секции Кэнз-Вэн Россиньолю, комиссар несет его Дантону. Тот идет в кабинет Манда, хватает его и тащит в зал заседания Коммуны. Решено арестовать Манда и назначить командующим Национальной гвардией Сантерра. Затем Россиньоль ведет маркиза в тюрьму Аббатства, и с лестницы раздается звук выстрела. Позднее Дантон открыто признает: «Я принял решение о смерти Манда, отдавшего приказ стрелять в народ».
Но это еще не все, что предстояло совершить в эту историческую ночь. Хотя оборона Тюильри уже обезглавлена, надо сделать ее совершенно бессмысленной для защитников. Дантон идет к Редереру, прокурору-синдику (должность вроде появившихся позднее префектов). Происходит еще одна любопытная сцена. Редерер в своих мемуарах, вышедших в 1795 году, ничего не сообщает о ней. Он рассказал все много позже, когда можно было не бояться мести роялистов. Войдя к Редереру, Дантон сказал ему: «Все предусмотрено, мы победим. Но хотят сегодня убить короля, а я не считаю это необходимым в данных обстоятельствах, или, скорее, это было бы вредно. Конечно, те, кто за герцога Орлеанского, были бы довольны исчезновением Людовика. Но это слишком осложнило бы дело. Я за то, чтобы короля не убивали. Поручаю тебе припугнуть его. Уговори его покинуть дворец и попытаться получить убежище в самом Собрании. Там мы его поймаем в ловушку и спокойно проведем его отречение».
Редерер испугался опасного поручения и отказался. «Тогда, — продолжает он свои воспоминания, — гигант взял меня за горло и, сжимая его так, что я начал задыхаться, сказал: «Будь осторожен; в этой трагедии каждый должен играть свою роль. Тот, кто хотел бы остаться простым зрителем, может за это поплатиться головой. Не упорствуй, иначе тебе это припомнят. Я не буду терять тебя из виду, и о тебе будут судить по твоим делам».
Напуганный Редерер согласился и отправился в Тюильри, где выполнил все, что ему было сказано. А там, прислушиваясь к звону набата, готовятся к обороне. С раннего утра король обходит боевые посты и возвращается удрученный: многие среди национальных гвардейцев вместо «Да здравствует король!» кричали: «Да здравствует нация!» Потеряв своего командира, они вышли из-под контроля и, видя все прибывающие массы вооруженных санкюлотов и федератов, колеблются, а затем постепенно покидают дворец и присоединяются к Национальной гвардии, возглавляемой теперь Сантерром. Редерер уговаривает короля искать убежища в Манеже, где заседает Законодательное собрание. Королевская семья выходит в парк, на другой стороне которого в пятистах метрах Манеж.
Вскоре дворец полностью окружен. Поскольку король и его семья ушли, то за кого же сражаться? Вначале, казалось, дело кончится миром. Вестерман, знающий немецкий язык, вступает в переговоры с швейцарцами. Многие из них начинают выбрасывать из окон патроны в знак нежелания вступать в бой. Тогда народ предместий и федераты устремляются к открытым дверям и заполняют главную лестницу. И в это время по тесно сгрудившейся толпе открывают ужасный огонь. Атакующие устремляются назад, оставляя множество убитых. Теперь начался настоящий бой. Причем его исход отнюдь не всем казался заранее предопределенным. На происходящее сурово смотрел со стороны 23-летний офицер Наполеон Бонапарт, который заметил своему спутнику Бриенну: «Как можно было впустить сюда этих каналий! Надо смести пушками 500-600 человек, остальные разбежались бы!» Но у защитников Тюильри не оказалось не только Наполеона, но даже маркиза Манда. Впрочем, вряд ли преуспел бы и будущий император, ибо слишком велики силы восставшего народа. Бой продолжался больше трех часов и закончился победой восставших, потерявших убитыми и ранеными 376 человек.
Представители победоносной повстанческой Коммуны явились еще до окончания сражения в Законодательное собрание и заявили, что от имени народа они вновь выражают доверие к нему, если будут приняты неотложные меры общественного спасения.
Собрание только теперь наконец приняло решение о короле, и то не об отречении, а о его временном отстранении от власти. Оно решило созвать Национальный Конвент на основе всеобщего избирательного права. Теперь все граждане стали «активными». Вопрос, который безрезультатно на протяжении трех лет пытались решить депутаты, заставил решить сам народ. Вместо прежнего правительства был создан Временный исполнительный совет, обладавший большей властью, поскольку он заменил еще и короля. В него включили трех бывших жирондистских министров и избрали трех новых. На пост министра юстиции избрали Дантона, признав тем самым победу народного восстания 10 августа. За него проголосовали 222 депутата из 284 присутствовавших. Этим избранием Дантон был обязан победе народа, а не своему личному авторитету. Кондорсе, прежде выступавший против Дантона, но на этот раз проголосовавший за него, так объяснял свою позицию: «Меня упрекали в том, что я подал свой голос за назначение Дантона министром юстиции. Вот мои основания. Необходимо было, чтобы в министерстве находился человек, который пользовался бы доверием народа, только что низвергнувшего трон, необходимо было иметь в министерстве человека, который своим превосходством мог бы сдерживать жалкие орудия полезной, славной и необходимой революции; необходимо было, наконец, чтобы этот человек благодаря своему дару слова, уму и характеру не унизил бы ни министерства, ни членов Национального собрания, которым пришлось бы иметь с ним дело. Дантон один обладал этими качествами. Я избрал его и не раскаиваюсь в этом. Быть может, он преувеличивал принципы народных конституций в смысле слишком большого уважения к идеям народа, слишком большого пользования в делах его движениями и его мнениями. Но принцип действовать с народом и через народ, руководя им, это — единственный принцип, которым можно в эпоху народной революции спасти законы; все партии, которые отделяются тогда от народа, кончают тем, что губят себя, а быть может, и его вместе с собой».
Ближе всех к народу оказался Дантон. Но и все монтаньяры именно теперь выдвигаются на авансцену. Революция 10 августа заменила конституционную монархию буржуазной демократией. Но сама она в лице якобинского блока раскалывается по вопросу о том, насколько далеко должна пойти буржуазия в уступках народу. Теперь это будет осью политической борьбы между жирондистами и монтаньярами, хотя на поверхность выступят иные дела и страсти разгорятся из-за личных столкновений. Действующие лица все те же, но роль их уже иная. Роль Дантона выясняется уже 10 августа; вождь революции закономерно сделается главой правительства, и наступит, как пишут новейшие историки, «период диктатуры Дантона».
Деятельность Робеспьера начинается на ином, вначале очень жалком уровне. Ведь 10 августа он устранился от борьбы, хотя, пожалуй, никто так напряженно не вслушивался в звуки стрельбы около Тюильри. Когда после полудня исход дела стал ясен, Максимилиан смело вышел из своего уютного убежища в доме Дюпле и решительно направился на Вандомскую площадь, на заседание секции Пик. Его появление оказалось как нельзя более своевременным. Стрельба стихала, настало время для политических речей. А в революционной Коммуне, не говоря уже о секциях, крайне недоставало ораторов, способных закреплять результаты вооруженной борьбы в политических формулах. Секция выбирает его своим представителем в Коммуне. Вечером в Якобинском клубе Робеспьер развивает программу закрепления власти революционной Коммуны. Для этого она должна направить в 83 департамента своих комиссаров, чтобы они разъяснили там истинное положение и, естественно, подготовили успех сторонников Робеспьера на предстоящих выборах в Конвент.
Коммуна — орган восставшего народа, — конечно, раздражает Собрание, особенно жирондистов, у которых в Коммуне нет никакого влияния. Собрание 12 августа принимает решение об избрании Директории Парижского департамента, которая должна контролировать Коммуну. Там, естественно, это вызвало возмущение, и в тот же день от ее имени в Собрании выступил Робеспьер и обосновал требование не создавать директорию. Он заявил, что Коммуна, призванная спасти Революцию, должна обладать «всей полнотой власти, подобающей суверену», что назначение директории есть покушение на эту власть путем создания другой власти. Робеспьер знает, что не столько право, сколько сила на стороне победившей Коммуны, и поэтому он позволяет себе говорить небывалым для него языком революционной угрозы: «Чтобы избавиться от этой власти, разрушительной для его суверенитета, народу придется еще раз взяться за оружие отмщения. В этой новой организации народ видит между собой и вами некую высшую власть, которая, как и прежде, только затруднила бы действия Коммуны. Когда народ спас отечество, когда вы распорядились о созыве Национального Конвента, который должен прийти вам на смену, — что иное остается всем, как не удовлетворить его желание? Или вы боитесь положиться на мудрость народа, пекущегося о спасении отечества, которое может быть спасено только им?»
Собрание, не столько убежденное, сколько напуганное «оружием отмщения», соглашается. Директория сможет контролировать только финансовую сторону дела. Так провалилось первое покушение на Коммуну.
Эта победа воодушевила засевших там «мятежников». Став узаконенной властью, они действуют поразительно активно по сравнению с Законодательным собранием, еще недавно вяло колебавшимся между надеждой на сговор с королем и возможностью положиться на Лафайета. Если собрание делает все, чтобы смягчить последствия революции 10 августа, то Коммуна стремится закрепить и продолжить ее. Она все усиливает и обостряет. Ее действия смелы и радикальны. Если собрание, отрешив Людовика, решает разместить его в Люксембургском дворце, то Коммуна приказывает заключить его в мрачную, древнюю башню Тамиль, фактически тюрьму. Коммуна немедленно начинает готовить столицу к обороне от врага. Она реорганизует Национальную гвардию, в которую вливаются бывшие «пассивные» граждане, организует изготовление оружия, собирает в церквах женщин, где они шьют лагерные палатки, готовят перевязочный материал для раненых. Коммуна закрывает газеты роялистов, передает их типографии журналистам-патриотам. Она сажает в тюрьмы всех, кто связан с Двором, или вообще вызывает подозрения, берет под контроль почту, устанавливает контроль над въездом и выездом из Парижа. Она требует от Собрания строгих мер по пресечению спекуляции звонкой монетой. В Коммуне раздаются требования установить твердые цены на продукты, вообще проявляются уравнительные тенденции в отношении собственности. Коммуна конфискует здания монастырей. Антицерковные настроения восставшего народа выливаются в похоронное «равенство». Процедура похорон регламентируется; богатые отправляются на кладбища по такому же ритуалу, как и бедняки. Смешно видеть в этом какие-то социалистические меры; эгалитаристские стремления простой народ выражал и в средневековых восстаниях, в событиях Лиги и Фронды. Это «извечный» социализм в духе Марата, выражение тысячелетних страданий бедняков, не более.
По распоряжению Коммуны свергают статуи королей, монархические эмблемы и символы, переименовываются улицы. К счастью, решение об уничтожении ворот Сен-Дени и Сен-Мартен просто не успели осуществить. Обращение «господин» заменяется словом «гражданин».
Коммуна навязывает Законодательному собранию небывало активную законодательную работу. Немало декретов принимается по прямому требованию Коммуны, даже в области внешней политики. Так, Собрание провозглашает, что Франция отвергает завоевательные намерения, но не отказывается от помощи народам, выступающим за свободу. Особенно важными были декреты по упразднению феодальных рент без возмещения и других остатков феодализма; они привлекли массы крестьян на сторону революции.
Сразу после 10 августа Коммуна требует наказания для тех, кто пытался защищать короля. Торжественные похороны, устроенные павшим при штурме Тюильри, усиливают гнев народа против монархии и роялистских заговорщиков.
Робеспьер на этот раз без колебаний берет на себя роль представителя народа, требующего мести и расправы. Отныне он видит в борьбе против контрреволюционных заговоров едва ли не главную свою миссию. Требования расправы с заговорщиками, которые давно выдвигал Марат и которые некогда приводили его в ужас, ныне все чаще исходят от Робеспьера. В своей газете «Защитник конституции» (а она продолжает выходить под этим двусмысленным названием, означающим то же самое, что и «Защитник монархии») он сразу после 10 августа пишет: «Граждане! Вы только тогда будете жить в мире, если будете зорко следить за всеми изменниками и ваша рука будет занесена над головой всех предателей».
Робеспьер, бледневший, слушая «кровожадного» Марата, теперь проповедует народное мщение. Этот воплощенный легист, строгий законник, благоговеющий перед нормами права, оказывается способен пренебрегать ими. 15 августа он выступает в Законодательном собрании и от имени Коммуны добивается упрощенного судопроизводства, упразднения системы двух инстанций. Приговор сразу должен быть окончательным, не подлежащим пересмотру: «С 10 августа, — заявляет он, — жажда мщения народа еще не получила удовлетворения». Его поддерживают монтаньяры Собрания. Мерлен из Тионвиля требует, чтобы жены и дети эмигрантов были взяты как заложники.
17 августа Собрание учреждает Чрезвычайный судебный трибунал, и Робеспьера выбирают его председателем. Ему доверяют дело народного мщения! Но это оказывается для него чрезмерным. Он готов идти с народом, использовать союз с ним. Но не до такой степени, чтобы потерять свою независимость. Ведь эта почетная миссия может преградить ему путь для дальнейшего политического возвышения: впереди выборы в Конвент.
Жорес так объясняет отказ Неподкупного от должности: «Робеспьер уклонился из боязни ответственности и из обдуманного честолюбивого расчета. Робеспьер не любил брать на себя решающие функции, когда точные действия влекут за собой определенную ответственность. Он предпочитал роль советчика, когда умело уравновешенные слова и искусные комбинации тактических ходов позволяют уклониться от определенной и прямой ответственности. Может быть, если бы у него хватило мужества согласиться, то у народа не было бы яростного взрыва нетерпения и подозрительности, происшедшего в сентябрьские дни».
Оправдывая свой отказ от участия в Чрезвычайном трибунале, Робеспьер указывал, что он не может быть беспристрастным судьей врагов нации, против которых он всегда боролся. Но в таком случае судьями над роялистами надо было назначить роялистов! Это был жалкий софизм, речь шла не о личной вражде! Удивительно другое, Робеспьер обладал магической способностью придавать подобным доводам убедительность и серьезность там, где другой вызвал бы просто смех.
Не только Робеспьер уклонялся от суровой обязанности осуществления правосудия. Жирондисты особенно провокационно не хотели пачкать себе руки. А неторопливая работа Чрезвычайного трибунала, покаравшего нескольких второстепенных лиц, возмущала санкюлотов. Их словно намеренно толкали самим осуществить правосудие. И эта драма произошла.
В подстрекательстве обвиняли Марата, тогда как он лишь отражал настроения самого народа. Сразу после 10 августа он обрел небывалое для него состояние удовлетворенности, радости и гордости. Он ожидал теперь наказания тех, кто вынудил народ взяться за оружие и пойти на смерть в защиту революции. «Если меч правосудия поразит наконец интриганов и нарушителей долга, — писал он, — от меня больше не услышат призыва к народным расправам, жестокому средству, какое может предписать народу, доведенному до отчаяния, единственно закон необходимости».
Но проходит два дня, и Марат снова призывает к народной расправе. Подозрительная вялость жирондистов в Собрании, бездействие Чрезвычайного трибунала, поток тревожных слухов о происках роялистов возмущают его. В отчаянии он требует расправы с Законодательным собранием, «возобновившим свои адские происки». Возможно, пишет Марат, «решение более верное и разумное — отправиться с оружием в руках в тюрьму аббатства, вырвать из нее изменников, особенно швейцарских офицеров и их сообщников, и перебить их всех».
Примерно так и началось 2 сентября кровавое побоище, и на Марата поспешили свалить ответственность за него. В действительности не он один призывал к избиению в тюрьмах. Стихия мщения — порождение массового возмущения, вызванного угрозой гибели революции, голодом, политическим хаосом, а главное — страхом. Сразу после 10 августа первая радость победы быстро сменилась тревогой. Почему Собрание не пошло на отрешение короля, а лишь на его временное отстранение? Почему Собрание хочет ликвидировать Коммуну? Почему молчит Якобинский клуб? С каждым днем растет число тревожных, мучительных вопросов, терзающих сознание патриотов. Приходит грозное известие о выступлении против Франции 80-тысячной армии Пруссии. А ее жестокие и кровавые цели известны еще из манифеста герцога Брауншвейгского. Затем следует предательство Лафайета и его бегство к врагу. Сбылось еще одно мрачное пророчество Марата. 23 августа в Париже узнают, как из-за измены враг захватил город Лонгви. Он наступает на Верден, а затем откроется дорога на Париж. Множество сообщений о роялистских мятежах на юге страны, на западе, в Вандее. Жирондисты хотят, чтобы правительство бежало из Парижа. Только Коммуна лихорадочно формирует батальоны добровольцев. И в это время, 30 августа, когда Коммуна воплощает последние надежды патриотов, ей наносят удар в спину: Собрание принимает решение о ее роспуске!
Такая провокация не может не вызвать самой яростной реакции. Собрание отступает, пересматривает решение, но хаос все равно усиливается. Страх переходит в психоз массового стремления к действию. 2 сентября из уст в уста передают известие о падении Вердена. Добровольцы собираются на Марсовом поле. И тогда, как искра, распространяется зажигательная идея: прежде чем идти против внешнего врага, надо уничтожить заговорщиков в тюрьмах! Никто не в состоянии трезво подумать о целесообразности такого кровавого предприятия. Люди слишком возбуждены, потрясены лавиной все новых тревожных и подозрительных слухов. Вооруженный народ врывается в тюрьмы, и начинается стихийная расправа, которую не в силах остановить отдельные проявления хладнокровия и рассудка. Половину заключенных парижских тюрем (около полутора тысяч человек) за несколько дней предают смерти. Только четверть из них — политические заключенные, остальные просто уголовники, воры, фальшивомонетчики. Яростное народное мщение направляет свои удары вслепую, в беспорядочных, неуправляемых метаниях. Бурный взрыв народной ненависти хаотичен и страшен. Он порожден настолько противоречивыми и разными причинами, что сразу, в свою очередь, становится поводом для усиления междоусобной борьбы всех враждебных партий. Ход революции в этот момент, когда над Парижем гудит набат и каждые пятнадцать минут гремят пушечные выстрелы, приобретает поистине апокалипсический смысл, горизонт как бы затянут беспросветным мраком. Неужели же не появится проблеска света, ясности, признака уверенной, спокойной, мужественной силы? К несчастью, ясность не отсутствовала в сознании многих деятелей революции. Более того, драма сентября хладнокровно учитывалась, даже использовалась в политических расчетах.
Смехотворны попытки многих революционеров ссылаться на «неведение». Все знали, что должно произойти избиение и что это будет 2 сентября. Генеральный прокурор Коммуны Манюель накануне приказал освободить знаменитого драматурга Бомарше из тюрьмы Аббатства. Робеспьер, Тальен также добились освобождения священников, которые были раньше их преподавателями в лицее Людовика Великого. Дантон, Фабр д'Эглантин спасли нескольких человек. Военный министр Сержан, противник избиения, специально накануне уехал из Парижа, чтобы снять с себя всякую ответственность.
Избиения продолжались пять дней, так что при желании их можно было остановить. Но Робеспьер, Дантон, мэр Парижа Петион, министры-жирондисты, прежде всего Ролан, командующий Национальной гвардией Сантерр не шевельнули и пальцем. Министр внутренних дел Ролан писал 3 сентября, когда убийства только начинались: «Вчера произошли события, на которые, вероятно, надо закрыть глаза» (буквально: «набросить покрывало»). Он добавил, что в них, может быть, надо видеть «своего рода правосудие». Потом жирондисты постараются забыть эти слова, когда начнут использовать сентябрьские расправы в борьбе против монтаньяров.
Но первым в межпартийной борьбе использовал их Робеспьер, который на вечернем заседании Коммуны 2 сентября выступил против Бриссо, обвинив его в том, что он возглавляет заговор с целью сделать королем Франции герцога Брауншвейгского. Единственным доказательством оказалась ссылка на то, что близкий к жирондистам журналист Карра в своей газете еще в июле отзывался о герцоге как о весьма просвещенном и либеральном человеке, достойном короны. Речь не шла определенно о французской короне. Многие считали, что это был просто наивный намек на то, чтобы заинтересовать герцога в австрийском троне. Замысел Робеспьера состоял в том, чтобы, воспользовавшись оргией убийств, направить возбужденных санкюлотов на жирондистов и уничтожить их. Вначале, казалось, эта затея обещала успех. Наблюдательный комитет Коммуны приказал произвести обыск у Бриссо, который не дал никаких компрометирующих материалов. Робеспьер добился даже выдачи ордеров на арест Ролана и жирондистских депутатов. Дантон вмешался и приказал прекратить эту нелепую затею, а уже через несколько дней Робеспьер решительно отвергал свое участие в этом деле, хотя и очень неубедительно. В конечном итоге Жорес, откровенный сторонник Робеспьера, после тщательного исследования документов называет Неподкупного «великим клеветником» и так объясняет его действия: «Мне кажется почти несомненным, что в этот момент Робеспьер надеялся на почти полное уничтожение Жиронды, я имею в виду уничтожение ее политического влияния. Он был убежден в том, что она представляла большую опасность для Революции, что она ослабляла ее энергию, которая растрачивалась на никчемные политические интриги».
Революция стала суровой, жестокой; отныне в межпартийную борьбу французских революционеров входят смерть и кровь…
Ответственность Коммуны за сентябрьский разгул слепого беспощадного террора, особенно ее Наблюдательного совета, вдохновляемого Маратом, подтверждается многими документами. Но понять Коммуну можно. Ее явно хотели уничтожить, а в ее лице ликвидировать и результаты революции 10 августа. Она защищалась, вынужденная прибегнуть к отчаянным средствам, от которых сама будет вскоре открещиваться. Даже Марат признает «пагубный» характер сентябрьских убийств.
И все же они произошли, и произошли в самый момент выступления в качестве самостоятельной силы партии монтаньяров. Трудно закрыть глаза на это совпадение. Конечно, после кровавой оргии последуют военные победы Вальми и Жемаппа, которые спасут Революцию. Если не сентябрьский террор вызвал революционный порыв, то все же он усилил мужество и уверенность добровольцев 92-го года, одновременно терроризируя и ослабляя контрреволюцию, осмелевшую от приближения армий Пруссии и Австрии. Дантон, который в этот момент целиком отдался делу спасения революционной Франции, трезво, хотя, возможно, цинично и жестоко учитывал все с точки зрения высших интересов нации. Если верить мемуарам герцога Шартрского, будущего короля Луи-Филиппа, Дантон говорил в частном разговоре: «Я хотел, чтобы эта парижская молодежь прибыла на фронт, покрытая кровью, что было для нас залогом ее верности. Я хотел проложить реку крови между нею и эмигрантами».
Проливая кровь в тюрьмах Парижа, Революция заходила туда, откуда для нее не было возврата. Становился невозможным какой-либо компромисс с монархией, со Старым порядком. Действительно после сентября Революция должна была либо победить, либо погибнуть. Но, к несчастью, она одновременно приобрела нечто такое, что окажется пагубным для нее самой. До сентябрьского террора Революция сохраняла ясный, чистый, лучезарный облик. Ее враги воплощали тиранию, жестокость, преступления. Она противопоставляла им знамя свободы, равенства, братства, справедливости. Поэтому она вызывала энтузиазм передовых людей во всем мире. Но в первые трагические сентябрьские дни с Революцией стали связывать преступления, жестокость. Рассказы о сентябрьских событиях, об их отвратительных эксцессах, часто преувеличенные, распространялись во всей Франции и за ее границами. Множество людей содрогнулись от ужаса. Буржуазия еще хотела реформ и прогресса, но она боялась крови, и кровь обильно пролилась.
Революция потеряла многих союзников, поклонников и попутчиков. Не могли не произойти изменения в моральном состоянии самих революционеров. Коррупция, столь редкая в их рядах, теперь воспринималась и практиковалась гораздо легче, ибо раз все дозволено, то глупо хранить нравственную чистоту. Склонность ко всяким крайностям, к жестокому насилию, к террору усиливается. К чему это приведет? Конечно, тогда невозможно было кому-либо вообразить предстоявшие 25 лет войны, пять миллионов убитых и восстановление монархии. И еще труднее было почувствовать зародыш всего этого в сентябрьских избиениях, казавшихся неизбежными, а многим — целесообразными.
В сентябре 1792 года Революция оказалась впервые в таком критическом положении, что оно угрожало стать роковым для нее. В страну вторглись войска двух сильнейших военных держав Европы. Остатки старой армии находились в жалком состоянии. Большинство офицеров дезертировали, предательство Лафайета бросало тень подозрения на других генералов. Волонтеры с энтузиазмом рвались в бой, но это не могло заменить им опыт, выучку, дисциплину.
Внутри страны царил ужасающий разброд. 10 августа революция смела с политической сцены сторонников конституционной монархии — фейянов. Но они не собирались складывать оружия — и, разъехавшись по всей Франции, возбуждали страсти против революционного Парижа. Им усердно помогали священники, обозленные новыми жестокими мерами против непокорного духовенства.
Победившие в августе якобинцы, словно забыв обо всем на свете, вступили в яростную схватку между собой, разделившись на жирондистов и монтаньяров. В столице сложилось двоевластие: жирондистское Законодательное собрание соперничало с монтаньярской Коммуной. Разгорались страсти из-за выборов в Конвент. Сентябрьские убийства повергли многих французов в глубокий моральный кризис.
Кто же возьмет в свои руки знамя Франции и поведет страну за собой, чтобы спасти Революцию? В такой смутной, тревожной, драматической обстановке внезапно возвышается во весь рост фигура Дантона — государственного деятеля.
Формально Дантон — министр юстиции, всего лишь один из шести членов Временного исполнительного совета, как именовалось теперь правительство. В министерстве Дантон сразу назначил на высокие и высокооплачиваемые должности своих друзей. Здесь Камилл Демулен, Фабр д'Эглантин, Парэ, Робер. Дантон занимает роскошную министерскую квартиру. Свои апартаменты получили и его друзья. Дантон доверяет им все. В том числе и печать со своим факсимиле. Поэтому из министерства выходит множество бумаг с его подписью, которых он никогда не читал. Печатка работала без его ведома, особенно когда дело касалось денег. Сначала утверждались расходы в 2-3 тысячи ливров. Потом пошли суммы покрупнее, вплоть до 20 тысяч. Эта беззаботность и доверчивость дорого обойдется Дантону… Друзья хозяйничали вовсю, а Дантон смотрел на это сквозь пальцы. Только Фабру он строго запретил приводить в министерство свою любовницу актрису Каролину Реми.
Впрочем, Дантону было не до них. Он берет на себя заботы войны, чистку кадров, дипломатию. Хотя по результатам голосования в Собрании при назначении его министром Дантон имел преимущество, он, чтобы не вызывать зависть и недовольство, предложил председательствовать по очереди. Но его личное превосходство, сила характера и авторитет обеспечили ему главную роль. И это при том, что он был одинок, ибо его коллеги были жирондистами, а он пришел из огня народного восстания 10 августа. Вскоре же представился случай, когда Дантону пришлось дать понять это обстоятельство, причем второму по влиянию человеку, министру внутренних дел Ролану. Как-то тот начал высказывать свое возмущение по поводу народных волнений в провинции, и с его уст слетело презрительное слово «чернь». Дантон немедленно прервал Ролана: «А разве мы сами не из черни? Мы тоже вышли из сточной канавы. Ведь это ваша чернь привела нас к власти! Если мы об этом забудем, то совершим худшую из ошибок!»
Поскольку никакой правительственной программы или принятой по соглашению политики не было, то все зависело от личных данных министров. И здесь энергия, воля, решительность Дантона брали верх. Началось с того, что сразу после 10 августа надо было отправить комиссаров в провинцию, чтобы разъяснить и получить одобрение народной революции. Ролан предложил коллегам обдумать этот вопрос, на что Дантон немедленно откликнулся: «Я беру все на себя. Парижская коммуна даст нам превосходных патриотов». На другой день утром Дантон является с готовым списком, и дело сделано в интересах революции. Мадам Ролан в своих мемуарах, пронизанных ненавистью к Дантону, писала: «И вот появляются полчища малоизвестных людей, интриганов из секций или клубных крикунов, экзальтированных патриотов или еще более — патриотов из выгоды, большей частью без всяких средств к существованию, но очень преданных Дантону и увлеченных его нравами и непристойной доктриной… Он беспрестанно добивался в канцеляриях военного министерства отправки в армии своих людей, он не пренебрегал никаким делом, где бы можно было устроить этих людей, подонки развращенной нации, как накипь, всплывающие на ее поверхности при потрясениях».
Сколько здесь презрения к людям из народа, которые выдвинулись 10 августа, и сколько невольного, но тем более ценного признания плодов кипучей деятельности Дантона! Он действительно не терял времени даром, он в себе самом вынужден был воплощать все правительство в момент грозной опасности. Хотя военные дела не входили в круг обязанностей министра юстиции, именно Дантон определяет здесь все. Он согласился с назначением вместо Лафайета генерала Дюмурье, которого он знает давно, еще со времен масонской ложи «Девяти сестер». Он знает цену этому способному, но ненадежному авантюристу и поэтому добивается прикомандирования к нему своего верного друга генерала Вестермана.
Но Дантон пытается осуществлять свою диктатуру в бархатных перчатках, действуя мягко. Ведь смысл его деятельности в том, чтобы объединить всех патриотов, все силы нации, обеспечить внутреннее единство перед внешней грозной опасностью. Он не испытывает уважения к Ролану. Но что делать? И Дантон по вечерам наносит регулярные визиты мадам Ролан, которая царит в своем салоне, обожаемая вождями жирондистов и своим послушным супругом-министром. Это нелегко дается Дантону, который очень не любит притворяться, и однажды он признается Фабру д'Эглантину: «Я слишком пренебрегал ею. Черт бы побрал женщин, которые вмешиваются в политику! Но поскольку мадам Ролан делит министерство со своим мужем, я должен оказать ей уважение, к которому эта шлюха так чувствительна, и обсуждать с ней дела страны!»
Увы, Дантон напрасно теряет время, просиживая много вечеров в кресле у Манон Ролан и стараясь поменьше говорить. Он ей антипатичен, и она не скрывает этого. Тем более что политика жирондистов настолько несерьезна, опасна, даже гибельна, что Дантону все равно приходится вступать с ними в конфликты. В конце августа, когда войска герцога Брауншвейгского, заняв Лонгви, явно направляются к Парижу, в салоне мадам Ролан был задуман и подробно разработан план бегства правительства из Парижа! На совещании, проходившем 28 августа в саду министерства внутренних дел, эмиссар главного штаба мрачно докладывал: «Через 15 дней Брауншвейг достигнет Парижа. Он войдет в него также наверняка, как клин входит в трещину, когда бьют по нему сверху». Это пророчество привело многих в ужас, тем более что Ролан предложил, чтобы все правительство покинуло Париж. Предлагались в качестве цели переезда Орлеан, Севенны в Провансе и даже остров Корсика!
Дантон возмутился: «Пойдемте со мной на площадь Пик (так называлась тогда Вандомская площадь). В моей квартире вы встретите мою жену, вы увидите там двоих моих детей. Вы даже увидите там мою мать, которой семьдесят лет. Вы увидите всю мою семью. Так вот, прежде чем пруссаки войдут в Париж, вместе со мной моя семья погибнет. Тогда двадцать тысяч факелов в одно мгновение превратят Париж в груду пепла. Ролан, берегись говорить о бегстве, боюсь, что народ тебя не услышит… Не забывайте, что сейчас Франция здесь, в Париже. Если вы оставите этот город врагу, вы погубите и себя и родину. Париж надо удержать любыми средствами».
План жирондистов отвергнут. Твердую решимость защищать Париж выразила и Коммуна. Необходимо было, однако, нанести удар по всем паническим настроениям. В тот же день Дантон произносит в Собрании речь, в которой рисует правдивую, суровую, но не безнадежную картину положения Франции. Он говорит, что хотя Лонгви пал, это не означает падения Франции, которая располагает еще двумя нетронутыми армиями Дюмурье и Келлермана. Все может быть спасено, если напрячь все силы: «Мы свергли деспотизм судорожным напряжением сил. Мы заставим деспотизм отступить только судорожным напряжением всех сил нации… До сих пор мы вели только показную войну, в духе Лафайета. Надо вести более беспощадную войну. Пора сказать народу, что он должен всей массой обрушиться на врагов». Дантон спокойно, уверенно излагает план неотложных мероприятий, которые должны быть проведены в Париже, чтобы сделать его неприступным. Речь дышит твердой уверенностью, хотя Дантон и говорит о предстоящей жестокой борьбе, призывает к наступлению: «Каким образом народы, завоевавшие свободу, пользовались ею? Они устремлялись навстречу врагу, а не ждали его. Что сказала бы Франция, если бы Париж в оцепенении ожидал появления врагов? Французский народ захотел быть свободным и будет им».
В этот момент ожесточенных внутренних распрей Дантон никого не упрекает, ни с кем не спорит. Он хочет потушить всякое соперничество, которое смертельно опасно сейчас. Он внушает надежду и пробуждает энергию. Но у него самого нет оснований для спокойного удовлетворения. Попытка Собрания распустить 30 августа Коммуну провалилась. Но ведь найдутся озлобленные интриганы, которые могут какой-либо провокацией снова попытаться разрушить столь необходимое сейчас единство. Вечером 1 сентября Дантон первый получает тайную информацию о критическом положении Вердена. И он решает на другой день еще раз выступить в Собрании, чтобы внушить крайнюю необходимость единства. Дантон готовится к своей речи. Конечно, речь не идет о подготовке текста: в этом он не нуждался. Он просит Габриель приготовить ему его парадный красный костюм и приглашает ее пойти послушать его в Манеж.
Сначала здесь, в этот воскресный день, выступает лучший оратор жирондистов Верньо. Сегодня в его речи нет явных нападок на политических соперников. Верньо понял драматизм момента, он одобряет военные меры Коммуны и явно пытается внушить надежду на победу. Это успокаивает Дантона. Пусть его речь прозвучит символом единства перед лицом внешнего врага. Она короче, но гораздо значительнее своим торжественно грозным тоном и серьезностью. Никогда еще громовой голос Дантона так точно не отвечал общему настроению тревожной решимости, как в тот день: «Господа, для министров свободного народа большое удовлетворение сообщить ему, что отечество будет спасено. Все поднялось, все всколыхнулось, все горят желанием сражаться».
И затем он перечисляет главное, что должно внушить уверенность: меры по обороне Вердена, по подготовке Парижа к усиленной обороне. Заканчивает Дантон легендарными словами: «Набат, который должен прозвучать, отнюдь не будет сигналом тревоги, он будет залпом по врагам отечества.
Чтобы их победить, господа, нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость — и Франция будет спасена!»
Благодаря поразительной способности к импровизации Дантон оставил множество чеканных изречений, ставших знаменитыми. Но именно эти слова в связи с обстановкой, в которой они были произнесены, стали бессмертными. Огромное впечатление они произвели и на современников, их передавали из уст в уста и повторяли в моменты крайней опасности.
В тот же день, 2 сентября, как уже упоминалось, с речью в Коммуне выступил Робеспьер и сказал: «Никто не осмеливается назвать предателей, но ради общественного спасения я их назову. Я разоблачаю убийцу свободы Бриссо, заговорщиков Жиронды… Я разоблачаю их в том, что они продали Францию герцогу Брауншвейгскому, в том, что они получили деньги за свою измену».
Примитивная ложь понадобилась Робеспьеру, чтобы в день начала массовых убийств натравить обезумевших от страха добровольных палачей на своих политических противников. Он мечтал, чтобы они разделили участь мадам де Ламбаль, отрубленную голову которой носили на пике по Парижу. Конечно, на совести жирондистов уже много темных пятен, хотя главное — еще впереди. Они сделали все, чтобы втянуть Францию в войну. Однако когда она началась, предоставили дальнейшие события на волю случая, отдали армию Лафайету или старым генералам монархии. Вся энергия Бриссо и его друзей посвящена риторике, бесконечным речам. Они упиваются высокопарной болтовней, а перед лицом кризиса проявляют беспомощность, колебания. Бриссо из республиканца в решающий момент, накануне 10 августа, становится защитником монархии. Главное, они не доверяют народу, боятся его, возмущаются его властным вмешательством в решение судьбы революции. Нет никакой нужды искать еще какие-то дополнительные доказательства их несостоятельности и тем более — выдумывать их, предъявлять им явно необоснованные, просто фантастические обвинения. Не только честность, но просто здравый смысл подсказывает нелепость и опасность обвинения жирондистов в тайном сговоре с врагом. Доказать это нельзя. Выступление Робеспьера лишь свидетельствует об ослеплении личной ненавистью. Он практически не участвует в каких-либо реальных мероприятиях по организации обороны. Он поглощен исключительной борьбой за власть, опускаясь до использования в этой борьбе низкопробной лжи.
Продиктованная ненавистью, но не здравым смыслом, эта неуклюжая затея породила лишь ответную смертельную ненависть жирондистов. Она обрушится уже не только на одного Робеспьера, но и на остальных монтаньяров, которым придется вскоре отбиваться от яростных атак. Но в данном случае высказывание Робеспьера приведено лишь для того, чтобы стала ясна разница в тактике наиболее выдающихся монтаньяров. В момент грозной внешней опасности Дантон стремится отложить внутренние распри, чтобы добиться сплочения всех сил для отпора врагу. Робеспьер лишь использует опасность для расправы с соперниками, не задумываясь о конечных последствиях своих обвинений для дела революции.
После речи 2 сентября Дантон долго публично не выступает, целиком отдавшись практической организации обороны. Задача невероятно трудна, она кажется просто неосуществимой. Несмотря на весь шум и крики, Париж отправит в армию лишь 18 тысяч волонтеров, что не так уж много по сравнению с численностью вражеских сил.
Положение отчаянное. Военный министр Сервен объявляет «войну до последней крайности». Он приказывает генералам, отступая, «разрушать мельницы, уничтожать запасы корма, уводить лошадей и скот к Парижу и Суассону». Это тактика выжженной земли на французский манер. «Мы сейчас, — пишет в приказе Сервен, — почти в таком же дезорганизованном состоянии, как американцы, когда они были босыми, без одежды, без оружия». Все это верно, но как победить? В Париже тратят гораздо больше времени и сил на внутреннюю борьбу между собой, на пышные театрализованные демонстрации, чем на обеспечение обороны. Дантон трезво оценивает обстановку. Он ищет способов спасения революции в отчаянно смелых, неожиданных дипломатических комбинациях, в организации сети агентов и шпионов, способных расстроить замыслы врага. Даже частичные, отрывочные документальные сведения об этом, доставшиеся историкам, позволяют представить картину необычайно активной тайной войны. Чего стоит, например, сорванное Дантоном роялистское восстание в Бретани, организованное маркизом де ла Руэри, предотвращенное благодаря использованию двойного агента доктора Шеветеля. Франция не может рассчитывать на обычные дипломатические средства, ибо все монархи Европы, даже и не воюющие с ней, яростно враждебны революции. Дантон прибегает к подкупу, используя продажность иностранных дворов. Стирается грань между политикой и авантюрой. В борьбе не на жизнь, а на смерть хороши все средства. Так считает Дантон. Крайний недостаток денег на секретные операции вынуждает его прибегать к самым немыслимым махинациям…
После падения Лонгви и Вердена необходимо иметь какой-то успех, чтобы не допустить деморализации и распада. Но разве можно надеяться на французскую армию, на эту пеструю смесь остатков бывших королевских войск и пылких, но необученных волонтеров?
Тем более необычайный восторг охватил Париж, когда 21 сентября разнеслась новость, что французы одержали блестящую победу над соединенной австро-прусской армией и над менее многочисленными, но более озлобленными отрядами аристократов-эмигрантов около какого-то неизвестного местечка Вальми! Патриоты боялись верить сообщениям, слишком уж велика была радость первой настоящей победы. Уже два века она продолжает восхищать историков. Правда, в одной из новейших французских книг о Революции глава о ней названа так: «Вальми, победа без сражения».
Хотя в дальнейшем придется лишь упоминать о многих других и более крупных сражениях, не вдаваясь в подробности, Вальми заслуживает больше внимания, хотя бы потому, что эта битва была первой и она действительно спасла революцию.
Герцог Брауншвейгский, объявивший о походе на Францию пресловутым манифестом, пользовался репутацией одного из лучших европейских полководцев, которую он заслужил еще во время Семилетней войны. Насколько безрассудным был его манифест, настолько же осторожной была теперь его тактика. Он предпочитал передвигать войска медленно, обеспечивать все переходы, принуждать противника отступать не с помощью сражения, а путем угрозы его обхода. После нескольких недель маневрирования он, однако, отказался от такой любимой манеры, поддавшись давлению эмигрантов и прусского короля Фридриха-Вильгельма. Казалось, уже достигнутое обещало успех, легко захвачены Лонгви и Верден, удалось преодолеть горную лесистую гряду Аргонн и выйти в Шампань, два-три перехода оставалось до Парижа, если удастся отбросить с пути войска Дюмурье, напрасно похваставшего, что Аргонны будут «французскими Фермопилами».
Армии заняли позиции в несколько странном положении: за спиной французов была граница, а пруссаки, стоявшие южнее, имели в своем тылу Париж. 20 сентября утром густой туман, пронизывающий и холодный, закрывал горизонт. Началась слепая артиллерийская перестрелка. Накануне к войскам Дюмурье присоединилась армия генерала Келлермана, занявшая высоту Вальми. Этот 57-летний эльзасец не любил Дюмурье, который претендовал на верховное командование, хотя и был на четыре года моложе. Но соединение уравновесило силы, французов было теперь примерно 52 тысячи.
Между тем к грохоту пушечной канонады прибавились звуки барабанного боя и шум каких-то передвижений в прусском лагере. В 13 часов, после колебаний и споров с герцогом Брауншвейгским, король Пруссии решил начать атаку. Все пушки сосредоточили огонь на холме Вальми, к которому двигались ровные ряды пруссаков. Келлерман, выстроив свою пехоту в три колонны, решил ждать атаки врага, не стреляя и не бросаясь пока навстречу ему со штыками. Внезапно из-за облаков выглянуло солнце, и картина прояснилась. Король увидел, что ряды французов в стройном порядке стоят, а не разбегаются, как предсказывали эмигранты. Келлерман, именовавший себя «первым истинно санкюлотским генералом», воодушевлял своих солдат, размахивая шляпой, нацепленной на шпагу. Солдаты дружно кричали «Да здравствует нация!». Музыка играла революционные марши.
Артиллерия Дюмурье открыла огонь, когда пруссаки приблизились на 800 метров. Тогда прусский командующий остановил королевскую атаку, назвав ее «опасной и бесполезной». Но артиллерийская дуэль — 36 пушек французов и 54 пруссаков — продолжалась до семи часов вечера. 30 тысяч зарядов использовали, чтобы убить или ранить 300 французов и 184 пруссака! Келлерман в тот же день направил в Париж бюллетень о победе. Австро-прусские войска, простояв еще день, начали отходить. К 7 октября они очистили французскую территорию. Все происходило так, будто враждующие стороны заключили соглашение о перемирии, французы следовали по пятам, но не нападали на прусские и австрийские войска. Без боя они оставили Верден и Лонгви.
Ликование французов по поводу «туманной канонады» у Вальми было столь же горячим, как и негодование эмигрантов, обвинивших герцога Брауншвейгского в том, что он отступил, получив взятку от Дантона в 5 миллионов ливров. Обвинение выглядело совершенно нелепо, поскольку в тот момент, вскоре после 10 августа, такой суммы просто неоткуда было взять. Но сама мысль о том, что победу в сражении можно купить, далеко не всем казалась нелепой. В сентябре 1793 года, когда обсуждался вопрос о том, как вернуть Тулон, захваченный англичанами, Дантон предложил заплатить им четыре миллиона. В своей речи 6 сентября 1793 года он сказал: «Там, где не пройдет пушка, проползет золото!» Но в 1793 году правительство будет иметь 50 миллионов, ассигнованных для «секретных расходов». Годом раньше, вскоре после взятия Тюильри, денег в казне не было. Однако одержать победу, чтобы не только преградить врагу путь к Парижу, но хоть как-то стабилизировать обстановку в столице, где порой царила атмосфера, близкая к паническому безумию, представлялось Дантону совершенно необходимым. Полагаться на изменчивое военное счастье или вообще беспомощно опустить руки было не в характере Дантона, когда он переживал периоды подъема, так противоречившие его заслуженной репутации великого лентяя.
С его именем связана таинственная махинация, якобы обеспечившая заранее победу при Вальми. По мнению одних — это легенда, а по убеждению других — научно установленный исторический факт.
…Темной ночью с 16 на 17 сентября 1792 года по площади, ныне именуемой площадью Конкорд (Согласия), а тогда носившей имя Революции (до 10 августа она была площадью Людовика XV), проходил патруль Национальной гвардии. В то время здесь была окраина Парижа, поросшая травой. Площадь была мощеной только около двух, в то время еще сравнительно новых симметричных зданий с колоннами, в одном из которых помещалось Гард-Мебль, хранилище ценностей монархии. Только здесь и светили два тусклых фонаря. Благодаря этому начальник патруля разглядел группу людей. Одни что-то бросали со второго этажа, другие торопливо собирали какие-то вещи. Начальником патруля по странному совпадению был некий Камю, с которым Дантон познакомился еще в масонской ложе «Девяти сестер». Вспомним, что Камю — девичье имя матери Дантона. Заметив подозрительных людей, Камю не отдал приказ солдатам задержать их, а пошел вокруг здания к его главному входу. Пока будили охрану и начальника Гард-Мебль, прошло немало времени. Наконец Камю и разбуженные им люди пошли в помещение, где хранились сокровища. Они увидели выбитые стекла и взломанные шкафы. После того, как сличили оставшееся в них с описью, выяснилось, что из сокровищ на сумму 26 миллионов ливров осталось лишь на 600 тысяч. Остальное было украдено в несколько приемов с 10 по 16 сентября большой группой уголовников, которые свободно выходили целыми шайками из тюрьмы Ла Форс, где они сидели, забирались в Гард-Мебль и, нагруженные сокровищами, исчезали.
Среди украденного были знаменитые бриллианты, накопленные за много веков французскими королями. Похитили и «Голубой бриллиант Золотого руна» весом более 120 карат. Его особенно любила Мария-Антуанетта. Отбросим множество подробностей и знаменательных деталей, нити от которых шли либо к министру юстиции Дантону, в ведении которого были тюрьмы, либо к министру внутренних дел жирондисту Ролану, ведавшему охраной Гард-Мебль, а затем и следствием по этому делу. Следствие, вызвавшее много шума, хотя и позволило поймать часть воров, совершенно запутало его. Его уже стали забывать, но вот в 1806 году герцог Брауншвейгский умер, и нотариус при описи его наследства обнаружил несколько ценнейших драгоценностей, принадлежавших французским королям и украденных в сентябре 1793 года, в числе которых и знаменитый «Голубой»! Может быть, герцог, обладавший несметными богатствами, просто купил эти краденые вещи? Если бы это было так, то покупка была бы зафиксирована. Дело в том, что знаменитые драгоценности хорошо известны и имеют свою биографию. Точно известно, где, когда, у кого находился тот или другой из прославленных бриллиантов. Всего после герцога осталось свыше 2400 крупных камней. Дело в том, что он был страстным коллекционером бриллиантов. Поскольку известно, что страсть к собирательству превращает людей в маньяков, то понятно, что какие-то 5 миллионов не могли быть соблазнительной приманкой для одного из богатейших людей Европы, тогда как ради пополнения своей коллекции собиратели, подобные герцогу, идут на все. Кстати, известна и последующая судьба «Голубого бриллианта». Газета «Монд» сообщила 18 июля 1963 года о смерти миллионера Виктора Леона в возрасте 85 лет и упомянула, что он «владел знаменитым Голубым бриллиантом».
Вернемся, однако, к 15 сентября 1792 года, когда из Гард-Мебль похитили бриллианты. Уже 17 сентября из Парижа в штаб генерала Демурье выехал в качестве специального комиссара Коммуны журналист, а затем член Конвента Карра, который одновременно поддерживал дружеские отношения с жирондистами и с монтаньярами. Карра до революции жил в Германии, где познакомился с герцогом Брауншвейгским. Не зря он превозносил его в своей газете «Патриотические анналы». Дюмурье еще до его приезда вступил через посредников в тайные переговоры с Брауншвейгом. Карра, у которого будто бы и были самые ценные украденные бриллианты, естественно, встретился со старым знакомым… Нельзя не напомнить, что все (Дюмурье, Брауншвейг, Камю, Карра, Дантон, Ролан) были масонами.
Хотя жирондист Ролан и монтаньяр Дантон политические противники, у них был общий враг — роялисты. Даже Лафайета, сторонника монархии, австрийцы надолго упрятали в тюрьму. В глазах монархистов в то время разница между Роланом и Дантоном казалась ничтожной. Поэтому политические противники естественно и легко могли договориться о том, чтобы «обеспечить» победу под Вальми. Дантон опасался только одного, как бы Ролан не проговорился обо всем своей знаменитой супруге Манон Ролан. Чтобы выяснить это, он на другой день после того, как Камю «обнаружил» ограбление Гард-Мебль, послал к ней Фабра д'Эглантина, так сказать, на разведку. Фабр не застал хозяйку дома и два часа дожидался ее, а потом, хотя она не предложила ему даже присесть, затеял с ней долгий разговор, в котором, между прочим, поинтересовался, не слышала ли она о том, кто бы это мог совершить такую чудовищную и наглую кражу, лишавшую нацию столь больших богатств? Мадам Ролан в своих мемуарах рассказывает об этом странном визите, заключая описанием своего разговора с мужем: «— Сегодня утром, — сказала я мужу, когда мы увиделись, — я принимала одного из воров, обокравших хранилище королевского имущества, он приходил разузнать, не подозревают ли его. — Кого же? — Фабра д'Эглантина. — Откуда ты знаешь? — Откуда? Такое смелое предприятие может быть только делом рук дерзкого Дантона. Не знаю, будет ли эта истина когда-нибудь точно доказана, но я живо ее чувствую, и Фабр приходил только в роли его сообщника и его шпиона».
Многие считают эту истину доказанной. Не сомневался в ней, например, Виктор Гюго в своем романе «Девяносто третий год». Уверен в ней французский историк Робер Кристоф, опубликовавший в 60-х годах нашего века специальное исследование о деле с бриллиантами и сражении при Вальми. Но знаменательнее всего уверенность самого Дантона, который, как сообщал в своих мемуарах король Луи-Филипп, приказал ему, в то время молодому полковнику и адъютанту генерала Дюмурье, за два дня до Вальми: «Скажите вашему шефу, что он может спать спокойно. Он победит Брауншвейга, когда его встретит». Действительно, пушками или бриллиантами, французы победили при Вальми. Революция была спасена.
Глава VII КОНВЕНТ
Романтической патетикой дышат слова Виктора Гюго, когда он в своем знаменитом романе о Французской революции доходит до описания Конвента: «Мы приближаемся к высочайшей из вершин. Перед нами Конвент. Такая вершина невольно приковывает взор. Впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека». Гюго, конечно, имел в виду не довольно невзрачное здание Манежа, в котором заседал Конвент, а его обобщенный образ, его историческую роль. Скучное, прямоугольное сооружение в 80 метров в длину и 30 в ширину, построенное для обучения юного Людовика XV верховой езде, выглядело убого по сравнению, например, с находившимся неподалеку дворцом Тюильри. Впрочем, великий писатель явно снижает тон, когда переходит к рассказу о тех, кто заседал в Конвенте: «Невиданная дотоле смесь самого возвышенного с самым уродливым. Когорта героев, стадо трусов…»
Конвент собрался 20 сентября 1792 года, в день пушечной канонады у Вальми. Это было третье с начала революции представительное собрание и второе — учредительное. Первое создало конституционную монархию, просуществовавшую ровно год. Конвент тоже примет конституцию, но она никогда даже не вступит в действие. И все же Гюго прав: Конвент — действительно громадное явление, в котором сконцентрировано множество идей, страсти, мужества и предвосхищения будущего. В истории человечества не было подобного взлета извечного человеческого стремления к наилучшему устройству жизни людей.
Само слово «конвент» — английского происхождения, ставшее знаменитым еще в борьбе американцев за независимость, определяло его двойную задачу: разработать новую конституцию и осуществлять в это время суверенитет народа. Формально Конвент избирали впервые всеобщим голосованием, но от выборов отстранили фейянов, противников революции 10 августа. Бывшие «пассивные» граждане тоже редко пользовались вновь обретенным правом голоса.
Конвент по социальному составу мало отличался от Законодательного собрания. Представительство низших слоев народа увеличилось незначительно. Среди 749 членов Конвента оказалось, правда, двое рабочих, не игравших заметной роли, зато были избраны три десятка дворян, около 60 священников, но больше всего — около 500 — адвокатов или чиновников.
Последствия 10 августа сильно сказались лишь на представительстве от Парижа. Среди 24 его депутатов 16 вышли из Коммуны. На выборы в столице оказал большое влияние Робеспьер. Он провел метод открытого голосования, полностью устранившего жирондистов. Но если не считать того, что он протолкнул в Конвент своего младшего брата Огюста, никому не известного в Париже, состав парижских депутатов оказался скорее дантонистским, чем робеспьеристским. Интересно, что Дантон получил 638 голосов (из 700 выборщиков), Демулен — 465, Марат — 420, Робеспьер — 338. Избраны также в Париже Фабр д'Эглантин, Колло д'Эрбуа, Манюель, Бийо-Варенн, Робер, Фрерон, Сержан, Панис, Лeжандр и Филипп Эгалите (как теперь именовался герцог Орлеанский, примкнувший к монтаньярам). Секция Французского театра, заповедная политическая вотчина Дантона, одна дала 11 депутатов. Поэтому Робеспьер вначале почувствовал себя в Конвенте изолированным, хотя деятельность в Коммуне сблизила его с самыми левыми, с кордельерами. Ему предстояло совершить немалые усилия, чтобы сотрудничать с этими еще очень чуждыми ему людьми. Впрочем, жирондисты помогут, а вернее, вынудят его совершить этот шаг. Изгнанные из Парижа, жирондисты добились успеха в провинции; в Конвенте оказалось около 200 их сторонников против примерно 100 монтаньяров. Остальные сидели в Болоте, позиция которого определялась направлением политического ветра; от поддержки жирондистов они в свое время перейдут на сторону монтаньяров, чтобы в конце концов отвернуться и от них. Словом, Конвент — буржуазное собрание, склонное в большинстве к тому, чтобы поскорее закончить революцию и свободно пользоваться ее плодами. Этим надеждам не суждено осуществиться из-за войны, вызванной жирондистами, из-за жирондистского тщеславного эгоизма, сектантства и неприязни к народу. Конвент, который один из жирондистов назвал в первый же день «собранием философов, готовящих счастье, всему миру», будет иметь удивительную и трагическую судьбу. Шарахаясь от революционной смелости к роковому ослеплению, от высокой самоотверженности к трусливому отречению, от великодушного бескорыстия к мелкому классовому эгоизму, он приведет революцию к краху.
Начали этот роковой путь жирондисты, которые уже в первый день, 20 сентября, постарались захватить все руководящие посты в президиуме собрания, а потом и в комиссиях. Этим они обнаружили свои жалкие корыстные намерения. Собственно, еще до начала работы Конвента в газетах и в разных выступлениях лидеры Жиронды начали атаку против революционных сил, против Коммуны, против вождей монтаньяров. Воспользовавшись призывами Марата к диктатуре, создают миф об угрозе триумвирата (Робеспьер — Марат — Дантон), хотя лидеры монтаньяров не только не помышляли об этом, но не имели еще никакой основы для простого политического сотрудничества между собой. Стоило Момору, типографщику, активному члену Клуба кордельеров, посланному комиссаром Коммуны в провинцию, высказать довольно смутно свои личные идеи о разделе земельной собственности, как жирондисты создают страшный призрак «аграрного закона», посягательства на частную собственность вообще. Наконец, коварно используются для нападок на монтаньяров сентябрьские избиения в тюрьмах, хотя жирондисты — министр Ролан или мэр Парижа Петион — сами ничего не сделали для их предотвращения или прекращения. Жирондисты не скрывали своего нетерпеливого желания разделаться с монтаньярами, с революционной Коммуной, с Робеспьером и Маратом. Возникла опасность превращения Конвента в арену сведения счетов, а не в центр мобилизации, объединения сил революции, чем он мог и должен был стать. Эту угрозу уловил Дантон и попытался ее ослабить.
21 сентября Дантон поднимается на трибуну Конвента, чтобы предотвратить опасную для революции междоусобную борьбу. Как всегда, истинное величие соединяется у него с лукавством и хитростью. Ни на кого не нападая, никого конкретно не упоминая, он хочет помирить всех во имя высших целей революции:
«— Необходимо, чтобы вы, вступая на широкое поприще, которое вам предстоит, в торжественной декларации ознакомили народ с чувствами и принципами, которыми вы будете руководствоваться в вашей деятельности. Не может существовать иной конституции, кроме той, которая текстуально при всеобщем поименном голосовании принята большинством первичных собраний. Вот это вы и должны объявить народу. И тогда все пустые призраки диктатуры, все бредовые идеи о триумвирате, все нелепости, придуманные для того, чтобы нагнать страху на народ, рассеются, ибо ничто не будет считаться конституционным, кроме того, что будет принято народом. После этой декларации нам придется выступить с другой, не менее важной для свободы и для общественного спокойствия. До сих пор мы будоражили народ, ибо надо было поднять его против тиранов. И сейчас еще необходимо, чтобы законы были столь же беспощадны против тех, кто эти законы нарушает, чтобы народ оставался таким же беспощадным, каким он был, громя тиранию: необходимо, чтобы законы карали всех виновных, чтобы народ был в этом отношении вполне удовлетворен. По-видимому, некоторые достойные граждане опасались, как бы пылкие поборники свободы не нанесли вред социальному порядку, доводя свои принципы до крайности. Ну что ж! Откажемся от всяких крайностей; провозгласим, что всякого рода собственность — земельная, личная или промышленная — будет сохранена навеки и что государственные налоги будут взиматься по-прежнему. Вспомним далее, что нам предстоит все пересмотреть, все воссоздать заново; что сама Декларация прав не лишена изъянов и что ее тоже должен подвергнуть пересмотру истинно свободный народ».
Итак, Дантон не только дал программу Конвенту, но и предлагал Жиронде примирение и успокаивал все страхи. Народные расправы можно предотвратить, если народ будет удовлетворен строгими законами против врагов революции. Угроза диктатуры, триумвирата исключается общенародным принятием конституции. Страх собственников перед «аграрным законом» рассеется в результате торжественного провозглашения неприкосновенности собственности. Если бы жирондистов действительно волновали все эти вопросы, если бы их опасения были искренними, то они сразу бы успокоились. Но Жиронда не хотела знать ничего, кроме войны на уничтожение монтаньяров.
Дантон вел частные переговоры с лидерами Жиронды и заклинал их не нарушать единства в момент смертельной опасности. Все его предложения были отвергнуты. Теперь Дантон повторял их публично, поскольку Жиронда боялась их открыто отклонить. И они были приняты. Конвент единодушно утверждает декрет: «Национальный Конвент объявляет: 1. Что не может быть иной Конституции, кроме той, которая принята народом. 2. Что личность и собственность находятся под охраной нации».
Могут сказать (и говорят!), что этот декрет является доказательством «ограниченности» Французской революции. Так рассуждают историки и «теоретики», полагающие, что социалистическая идея замены частной собственности собственностью коллективной, общественной желательна и возможна в любую эпоху и в любых условиях. Между тем в конце XVIII века утверждение неприкосновенности частной собственности являлось проявлением революционного прогресса; без этого невозможно было открыть дорогу для социально-экономического движения вперед, для развития буржуазного способа производства, представлявшего собой гигантский шаг в человеческой цивилизации. Утопические планы раздела собственности, земельной или промышленной, остановили бы этот прогресс, лишили экономику единственно возможного стимула, побуждающего к труду и предприимчивости. Требование раздела, «аграрного закона» было реакционным и гибельным для революции. Его осуществление грозило парализовать все экономическое развитие страны, вызвать всеобщий хаос, разруху, голод, нищету.
Это означало бы поднять против революции на восстание не только крупную, среднюю, но и мелкую буржуазию, то есть крестьянство, составлявшее подавляющее большинство французского населения. Вся Франция стала бы гигантской Вандеей, и все достигнутое в Париже погибло бы в кровавом побоище, после которого быстро произошла бы реставрация Старого порядка в неизмеримо более деспотической форме, чем раньше. Другой вопрос, что утверждение господства буржуазии могло бы произойти так, чтобы и неимущим, санкюлотам, будущим пролетариям досталась максимально возможная доля благ и преимуществ, политических и социальных. К этому-то и стремились монтаньяры: Дантон — с максимальным реализмом, прагматизмом, практичностью; Робеспьер — с примесью морализаторских утопий в духе Руссо; Марат — с выражением гнева, ярости, страсти угнетенных и униженных. Каждый из них (и их сторонников) думал о народе, хотел не только опираться на народ, но и удовлетворить хоть в чем-то его нужды. Они не мыслили революции без народа, не учитывая интересов народа, не отдавая самих себя народу. Они искренне служили народу, но каждый по-своему, со своими убеждениями и предубеждениями, со своим характером, со своими чувствами, страстями и пристрастиями и, конечно, со своими слабостями.
В тот же день, 21 сентября 1792 года, Конвент не только единодушно принял внешне умеренный, а по сути глубоко революционный декрет Дантона, он еще и упразднил монархию. На трибуну вышел монтаньяр Колло д'Эрбуа и потребовал выполнить волю народа — свергнуть монархию. Его пылко поддержал один из самых благородных членов Конвента, епископ Грегуар. Этот прелат церкви, не отрекаясь от своего сана, связанного с ним долга и веры, считался независимым, но фактически примыкал к монтаньярам. «Есть ли необходимость, — сказал Грегуар, — в дискуссии по этому вопросу, коль скоро все в нем единодушны? Короли в моральном отношении являются тем же, что уроды в физическом. Дворы — это кузницы преступлений, очаги разврата и логовища тиранов. История королей — это мартиролог наций!» Конвент единодушно проголосовал за упразднение королевской власти во Франции. На другой день по предложению монтаньяра Бийо-Варенна Конвент решил, что отныне время будет датироваться «первым годом Республики».
Итак, начало Конвента, казалось, предвещало, что революционное собрание в единодушном порыве выполнит свою благородную и революционную миссию, завершит достойно Революцию, защитит ее от внешних врагов и откроет Франции путь процветания и счастья. Не только Дантон с душевной широтой открывал такой путь. Марат, это концентрированное выражение ненависти угнетенных, голос их ярости и гнева, который приводил в содрогание благонамеренных буржуа, резко изменил свой тон и выразил добрую волю!
Марат публикует в первые дни работы Конвента статью «Новый путь автора». Не скрывая недовольства жирондистами, вместе с тем он заявляет, что «готов принять пути, которые защитники народа считают эффективными. Я должен идти вместе с ними». Поскольку для него превыше всего интересы отчизны, он объявляет, обращаясь к ней: «Ныне я приношу тебе в жертву мои предубеждения, мою вражду, мой гнев».
Хотя Марат и подтверждает приверженность своим прежним взглядам и требованиям, тон его явно меняется, он готов ради союза всех патриотов поступиться своими крайними убеждениями. Правда, «новый путь» Марата — следствие давления на него друзей-кордельеров. Фабр д'Эглантин признал 24 сентября в Якобинском клубе: «Это человек, за которым кордельеры гоняются весь день, проповедуя ему благоразумие, иначе он бы натворил всяких дел гораздо больше, нежели те, в которых его упрекают».
Напрасно, однако, Дантон и его друзья пытались утихомирить Марата, предотвратить опасный раскол Конвента, создать единый фронт всех республиканцев, договориться с жирондистами. Они не забыли и не простили Робеспьеру злосчастную затею направить ярость народного террора против Бриссо и его друзей, которых Неподкупный обвинял в измене и предательстве, в сговоре с Брауншвейгом. Сам он, словно спохватившись, после 2 сентября и до созыва Конвента совершенно замолчал. Он не выступает ни в Коммуне, ни в Якобинском клубе.
Робеспьер болен, он смертельно устал, и эта болезнь не столько физическая, сколько психологическая, какой-то временный паралич мысли и действия. Как всегда, в критический момент он охвачен мучительными терзаниями и сомнениями из-за неуверенности в правильности своих действий в последние недели. После 10 августа он объединился с революционной Коммуной. Но санкюлоты по-прежнему чужды ему, как и Марат. Они внушают ему внутреннюю органическую неприязнь своей грубостью, яростным анархизмом. Он мирился с этим, рассчитывая использовать народ предместий против жирондистов, но лишь навлек на себя смертельную ненависть. Теперь он обескуражен успехом жирондистов на выборах в Конвент. Устраненные из Парижа, они взяли реванш в провинции и будут в Конвенте хозяевами, как и прежде в Законодательном собрании. Вот почему он страдает, колеблется, молчит.
Его терзает также прирожденное несчастье, его родная семья, эта незаживающая с детства рана, снова открылась самым нелепым образом. Максимилиан выдвинул на столичную сцену Конвента младшего брата Огюста, а вместе с ним из Арраса является и сестра Шарлотта, 32-летняя старая дева, ограниченная, тщеславная и несчастная женщина. Родственники Робеспьера поселяются в доме Дюпле. Обстановка здесь вызывает ревнивое негодование Шарлотты; она возмущена благоговейной заботой других женщин о ее старшем брате. Вспыхивает вульгарный женский скандал, Шарлотта нанимает квартиру рядом с Конвентом и буквально вырывает брата из хищных рук этих корыстных, как ей кажется, женщин. Впоследствии в своих наивно фальшивых «воспоминаниях» она тщетно попытается облагородить свои истерические метания заботой о больном брате. А он, лишенный привычной атмосферы заботливого уюта и комфорта семьи Дюпле, оказывается в ревнивых, но неумелых и бестактных руках Шарлотты. В конце концов после некрасивых, недостойных сцен он убегает обратно к Дюпле. Конечно, эта трагикомическая история не способствует душевному покою, столь необходимому сейчас Робеспьеру.
В дополнение ко всему Робеспьер, как никогда, одинок. Собственно, эта его постоянная психологическая позиция, хотя политически он часто опирается на поддержку каких-либо союзников. Но сейчас рядом с ним никого нет. Чуждый ему Марат ведет в одиночку газетную войну против Бриссо и «его клики», хотя под влиянием друзей Дантона пытается сдерживать свою ярость. Против жирондистов действует Дантон, все еще надеясь склонить их к миру. Многие монтаньяры пытаются противостоять Жиронде. Против них суровый и энергичный Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Фабр д'Эглантин, Базир, Шабо и другие. Но это все еще действия одиночек. А с Робеспьером никого, если не считать его брата Огюста, который еще ни разу не выступал не только в Конвенте, но и вообще где-либо в Париже. Будущие близкие соратники Максимилиана пока не с ним. Филипп Леба, член Конвента из Па-де-Кале, как неопытный провинциал только пытается разобраться в обстановке. Также избранный в Конвент юный Сен-Жюст, некогда приславший Робеспьеру восторженное письмо, в таком же положении. Более опытный и зрелый Кутон только еще отходит от жирондистов, поняв пагубный характер их действий. Робеспьер изолирован. Вообще монтаньяров пока объединяет, кроме сходства взглядов, только соседство на левых скамьях Конвента.
Они явно нуждаются, чтобы кто-то объединил их в момент, когда им объявлена война не на жизнь, а на смерть, в которой они пока выступают как бы вслепую, разрозненно и хаотично. По иронии судьбы это сделают, сами того не желая, жирондисты!
А они, казалось, достигли апогея влияния и могущества, располагая подавляющим большинством в Конвенте и в правительстве. Всего год назад шумным выступлением Бриссо за войну началась сложная двусмысленная и противоречивая история Жиронды. Сейчас, после победы у Вальми и ликвидации монархии, как бы подтвердивших мудрость их политики, жирондисты хотели возглавить и завершить революцию.
Но как завершить? Вот в чем вопрос! Сами жирондисты, особенно наиболее красноречивые среди них, рисовали будущую идеальную «республику талантов», в которой ради общего блага, счастья и радости будут править Францией самые одаренные, благородные, честные и прекрасные люди, то есть они сами! Существует до сих пор миф о жирондистах, и современный французский историк Франсуа Фюре, признавая их преступления, пишет, однако, что память о жирондистах «окрашена вечным блеском молодости, безответственности и соблазнительности». Но это очень старый миф, который пытался романтизировать еще знаменитый поэт прошлого века Альфонс Ламартин в книге «Жирондисты». Увы, узнав факты, он сам развенчал своих героев, признав, что «они изучали Макиавелли и смотрели на презрение к справедливости, как на доказательство гениальности. Им было мало дела до крови народа, лишь бы она послужила цементом для их честолюбия». Ламартин видел в жирондистах «узел Французской революции», слегка распутав который он сокрушенно обнаружил, что «никогда слабости не порождали так скоро ошибки, ошибки — преступления, преступления — наказания».
Если от фразеологии обратиться к действительной истории, то сначала выступает Бриссо, о котором уже шла речь. Французы вскоре начнут употреблять глагол «бриссотировать», что означало интриговать и хитрить.
В Законодательном собрании вокруг этого депутата от Парижа объединяются четверо молодых друзей из департамента Жиронды, из Бордо. Здесь прежде всего Пьер Верньо, адвокат, отличившийся редким ораторским даром, основной чертой которого была модная тогда напыщенность. Гораздо серьезнее и глубже этого легкомысленного краснобая был Гюаде, мастер личных нападок; Жансонне, тоже адвокат, которого из-за дефекта в произношении прозвали «канарейкой Жиронды». Самый молодой из них — Дюко — не адвокат, а торговец из Бордо, разумно сопротивлявшийся разрыву с монтаньярами. Наиболее знаменитый из людей, симпатизировавших Жиронде, — Кондорсе, отличавшийся независимостью мысли.
Главным ядром, вдохновляющим центром жирондистов служило семейство Роланов; не сам почтенный и добродетельный министр, конечно, а его молодая супруга Манон. Давно прошли времена, когда она помышляла об объединении демократов, писала льстивые письма Робеспьеру. Теперь она ненавидела Неподкупного, а особенно — Дантона, посмевшего завоевать осенью 1792 года непререкаемый авторитет в правительстве и к тому же явно презиравшего тщеславную и пылкую дамочку. В своем салоне, в этом штабе «роландистов», она заражала ненавистью своих обожателей: романиста, автора «Фоблаза» Луве, энергичного марсельца Барбару и особенно влюбленного в нее тщеславного и экзальтированного Бюзо. Тщетными оказались все шаги Дантона к примирению и согласию, тщетно Марат поступился своей непримиримостью, тщетно Робеспьер воздерживался от всяких агрессивных акций. Жиронда решила их уничтожить.
Собственно, они оказались мишенью нападок не сами по себе, а как представители революционной Коммуны, люди близкие к народу. Еще до созыва Конвента Ролан стал изображать Париж притоном разбойников. Верно, что жирондисты в конце концов станут жертвами революционного террора. Но еще более верно то, что они первые стали громко требовать репрессий и террора. В первые же дни жирондист Керсен провозгласил: «Пора воздвигнуть эшафот!» Естественно, для казни Робеспьера, Марата, Дантона и их друзей. 24 сентября Жиронда навязала Конвенту решение о назначении шести комиссаров, которым поручили подготовить обвинительный материал о «преступлениях» в Париже. Решено также создать для Конвента департаментскую стражу, составленную из представителей департаментов, где жирондисты имели влияние. Речь шла о формировании контрреволюционной гвардии. На 25 сентября назначили то, что вошло в историю под названием «неудавшегося 9 термидора», то есть контрреволюционного заговора против «триумвирата» монтаньяров. Этим жирондисты совершают первую тактическую глупость, развязав наступление одновременно и сразу против Дантона, Марата и Робеспьера, обвиненных в заговоре с целью установления диктатуры.
Несмотря на внезапность нападения, вожди монтаньяров приняли вызов. На трибуну поднялся Дантон. Он все еще пытается обезоружить злобного врага миролюбием и точно рассчитанной тактикой. Он предложил, чтобы попробовали обвинить его конкретно за его деятельность на посту министра. Естественно, желающих не нашлось, ибо невозможно было упрекнуть человека явно, очевидно сделавшего больше кого-либо для спасения отечества. Затем он отмежевался от Марата, предложив понять причины его крайней ожесточенности: «Я объясняю эти преувеличения теми преследованиями, которым подвергся этот гражданин. Я полагаю, что подземелья, в которые он был загнан, ожесточили его душу».
В ответ на обвинение в стремлении к диктатуре он сделал предложение: «Примем закон, карающий смертью каждого, кто выскажется в пользу диктатуры или триумвирата. Но, заложив эти основы, гарантирующие царство равенства, давайте уничтожим тот фракционный дух, который нас погубит. Утверждают, что среди нас есть люди, которые хотели бы раздробить Францию, покончим с этими абсурдными идеями, осудив на смерть их авторов».
Последнее было мягким по форме, но острым по существу обвинением жирондистов в федерализме, то есть в стремлении ослабить влияние Парижа и усилить власть департаментов. Закончил Дантон призывом к «святому единству», вызвав горячие аплодисменты. Напрасно Бюзо попытался ослабить эффект выступления Дантона; он подтвердил мысль, что «святого согласия» Жиронда как раз и не хочет.
Затем выступил Робеспьер. Уже говорилось о том состоянии упадка, в котором находился Максимилиан. Все обычно свойственные ему недостатки обнаруживаются как никогда ярко. Около часа он говорит только лично о себе, монотонно перечисляя свои заслуги с момента начала революции. Эта утомительная апология собственного «я» приобретает какой-то особенно навязчивый и злосчастный для него характер. Конвент откликается лишь непрерывным ропотом большинства и колкими насмешливыми репликами. Робеспьер отвлекся от собственной личности, лишь отрекаясь от Марата, и в конце речи, когда он поддержал предложения Дантона о гарантии против диктатуры и о единстве Франции. Это была одна из самых неудачных и слабых его речей.
Но вот на трибуну поднимается Марат. Разыгрывается потрясающе трагикомическая сцена. Человек, которого называют помешанным, одержимым, безумным, проявляет выдержку, самообладание, хладнокровие и блестяще полемизирует. А ведь это его ораторский дебют! Представители просвещенной, высокообразованной Жиронды, эти глубокие мыслители, знаменитые ораторы, государственные люди, ведут себя как взбесившиеся звери!
«У меня в этом собрании много личных врагов», — произносит Марат первую фразу, вызывая взрыв бешеной, истерической злобы, проявляющейся в диких криках. Марат спокойно призывает постыдиться, повторяет несколько раз призыв к стыду и… укрощает буйный Конвент. Затем он проявляет смелость и подлинное величие души: только что Дантон и Робеспьер отреклись от него, а он без всякого озлобления берет всю ответственность на себя!
«Господа, — говорит он, — мой долг перед справедливостью заявить, что мои коллеги, а именно Дантон и Робеспьер, постоянно отклоняли всякую идею диктатуры, триумвирата и трибуната каждый раз, когда я ее выдвигал; мне приходилось даже по этому поводу часто ломать с ними копья».
Марат не отрекается от идеи диктатуры. Напротив, он логично доказывает, что в борьбе против заговоров и козней королевской власти и аристократов не только допустимы, но и необходимы суровые и крайние меры. Он спокойно и уверенно объясняет, что его предложения направлены на то, чтобы наказание врагов свободы осуществлялось не путем стихийных и слепых народных расправ, а разумно и законно, без злоупотреблений.
Марат призывает к спокойствию и единству: «Перестанем, господа, растрачивать драгоценное время на бесполезные пререкания, на скандальные дебаты. Страшитесь подкрепить нелепые слухи, искусно распространяемые врагами отечества с целью задержать великое дело конституции».
Марат заставил Конвент выслушать себя до конца. Но тогда против Марата бросают лучшего оратора жирондистов Верньо, который не придумал ничего умнее, чем напомнить то, что Марата не зря обвиняли старые королевские власти или маркиз Лафайет. Теперь уже Верньо вызывает законное возмущение, ибо речь идет о солидарности лидера жирондистов с врагами революции! Образованный юрист забыл также правовую азбуку: избрание Марата депутатом Конвента автоматически аннулирует все старые обвинения против него.
Но позорный не для Марата, а для Жиронды спектакль продолжается: с трибуны зачитывают наиболее резкие призывы Марата к восстанию и к диктатуре. Тогда Марат требует зачитать заявление о его «новом пути» и добивается выполнения этого требования. Однако вносят проект декрета о немедленном аресте Марата, «этого тигра, который пишет кровавыми когтями». Два жандарма уже приближаются к Марату, ожидая лишь голосования, чтобы арестовать его. Марат снова требует слова, ему отказывают, но в конце концов он на трибуне и заявляет прежде всего, что он гордится обвинениями монархии против него, о которых говорил Верньо. Затем он вынимает пистолет, приставляет его себе к виску и заявляет, что убьет себя, если его попытаются арестовать. Жиронда отступает, а затем по предложению Кутона утверждается внесенный Дантоном декрет, объявляющий республику «единой и неделимой».
Народ, заполнивший трибуны, горячо приветствует Друга народа, одержавшего победу. У выхода из Манежа его ожидает толпа, восторженно встречающая его и провожающая до дома. Конечно, жирондисты будут продолжать яростные нападки на Марата. Но он, обнаруживая способность к тактическому маневру, обезоруживает их, делает беспредметной слепую ненависть жирондистов. Впрочем, он остается самим собой. Издаваемая им теперь «Газета Республики» украшается эпиграфом: «Пусть благосостояние покинет богатых и придет к бедным». Такое утопическое пожелание, конечно, импонирует санкюлотам, но отнюдь не укрепляет союз буржуазии и народа, столь необходимый для рождающейся Республики, ведущей войну с внешним врагом.
Итак, 25 сентября замысел жирондистов ниспровергнуть сразу трех виднейших монтаньяров потерпел провал. Ораторское фиаско Робеспьера и эскапады Марата не меняют исхода дела. Ну а Дантон просто выглядит победителем, ведь этот бурный день в Конвенте закончился принятием предложенного им антижирондистского принципа о «единой и неделимой» Республике. Однако именно ему жирондисты в это время наносят весьма ощутимый удар; Дантон вынужден оставить пост министра, занимая который он полтора месяца оказывал решающее влияние на судьбу Франции. Правда, формально он сам отказался от министерской должности, а вместе с тем и от министерского оклада. Это может показаться несколько странным, поскольку слабость Дантона к деньгам известна. Будучи министром, он получал бы 1250 ливров в месяц, а в качестве депутата Конвента лишь 547 ливров, да и то если не будет пропускать ни одного заседания: за участие в каждом полагалось 18 ливров. Но дело оказалось сложнее. От министров жирондисты коварно потребовали отчета об израсходовании крупных сумм. Ролан демонстративно представил детальный отчет. Дантон отказался сделать это, поскольку никаких документов о деньгах, выплаченных шпионам, которых активно использовал Дантон, просто не могло быть. Дантон прямо заявил в Конвенте: «Есть расходы, о которых здесь нельзя говорить. Есть оплаченные агенты, которых было бы неполитично и несправедливо называть. Есть революционные поручения, требуемые свободой и неизбежно связанные с огромными денежными жертвами. Когда враг захватил Верден, когда отчаяние охватило лучших и наиболее смелых граждан, Законодательное собрание нам сказало: «Не экономьте! Расточайте деньги, если это необходимо, чтобы оживить доверие и дать импульс всей Франции». Мы сделали это…»
Правда, с деньгами был связан еще один щекотливый момент. Вспомним о печати с факсимиле подписи, которую Дантон доверил друзьям в министерстве. Дантон любил своих друзей, хотя и знал об их легкомысленных склонностях. Но и это не все. Дантон уже почувствовал, что его политика примирения с жирондистами не будет иметь успеха. Ведь мадам Ролан так яростно ненавидит и презирает Дантона за его плебейские замашки, за дружбу с ненавистными кордельерами. Дантон понимает, что на посту министра жирондисты не дадут ему работать так, как он может и хочет. Он понимает, что борьба против жирондистов неизбежна, и поэтому, сжигая мосты, дает волю своей неистребимой склонности к циничной насмешке. 29 сентября, когда Конвент обсуждал предложение жирондистов о том, чтобы Ролан оставался на посту министра внутренних дел (который он использовал для борьбы с монтаньярами), Дантон не удержался от такой реплики: «Никто больше меня не сможет воздать должное Ролану, но я должен сказать, что если вы приглашаете его остаться на этом посту, то сделайте такое же предложение и мадам Ролан, ибо всем известно, что Ролан не один действовал в своем департаменте. Вот я действительно действовал один в своем».
Эта несколько скандальная реплика явно свидетельствовала об обострении отношений между Дантоном и жирондистами. Наконец, еще одно соображение, вернее гипотеза, выдвигаемая некоторыми французскими историками в связи с отставкой Дантона. А они считают эту отставку подтверждением реальности версии о бриллиантах, герцоге Брауншвейгском и сражении при Вальми. По условиям тайной сделки Дантон обещал, что французские войска дадут пруссакам спокойно уйти с территории Франции и после этого сами они не перейдут границу. Между тем попытки Дантона добиться от Конвента необходимого решения не удались. Оставаясь на посту министра, ему пришлось бы подписать приказ о наступлении французской армии. Дантон органически, по своей природе не мог нарушить какое-либо обещание, устное или письменное, любое. Поэтому он предпочел отставку.
Схватка 25 сентября в Конвенте была лишь эпизодом в борьбе против монтаньяров, которую жирондисты ведут, используя все средства. В распоряжении министра внутренних дел Ролана секретные фонды Бюро общественного мнения. Все департаменты наводняются потоком пасквилей против Парижа и захвативших его Коммуну «анархистов», против Робеспьера, отождествляемого с Маратом. Неподкупный пытается отвечать, издавая на личные средства «Письма к своим доверителям». Есть еще Якобинский клуб, хотя в бурных событиях августа и сентября 1792 года он как-то отходит на второй план. Вплоть до начала сентября большинство якобинцев не решалось вообще поддержать Республику. Неудивительно, ведь жирондистское засилье сохранилось и здесь. К счастью для монтаньяров, они сами начинают пренебрегать Якобинским клубом. Только около сотни вновь избранных депутатов Конвента записываются в клуб. Лидеры жирондистов предпочитают уютную обстановку салонов. У мадам Ролан, а кроме того, — в салоне богатой вдовы откупщика мадам Доден на Вандомской площади или на квартире у жирондиста Валазе можно было с комфортом, не встречая возражений, изливать злобу на Робеспьера, Марата или Дантона. В октябре происходит второй раскол Якобинского клуба (первый произошел годом раньше из-за ухода фейянов). Жирондисты покидают клуб. Зато туда вступает все больше кордельеров; сначала Моморо, Ронсен, а позже Шометт, Эбер и многие другие. Якобинский клуб начинает активно защищать Коммуну от атак жирондистов. Здесь Робеспьер не только получает трибуну, но и поддержку симпатизирующей аудитории. В октябре он шесть раз выступает перед якобинцами. Именно в Якобинском клубе решительно объявил о разрыве с Жирондой Кутон, человек, вызывавший не только сочувствие тем, что беззаветно служил обществу при своей физической немощи, с парализованными ногами, но и симпатию честностью и зрелостью своих суждений. 12 октября, сидя в своем инвалидном кресле (оно поныне хранится в музее Карнавале), Кутон смело объявил войну жирондистам и призвал сделать Якобинский клуб центром этой борьбы. Характеризуя жирондистов, он говорил, что их «партия состоит из людей хитрых, ловких, интриганов и, главное, крайне честолюбивых. Эти последние хотят Республику. Они хотят ее потому, что общественное мнение высказалось в этом духе. Но они хотят создать аристократию, они хотят увековечить свое влияние, иметь в своем распоряжении посты, должности и особенно богатства… Именно на эту партию, которая хочет свободы только для себя, надо обрушиться всей силой… Я прошу моих коллег по Конвенту собираться здесь, чтобы договориться о мерах борьбы с этой партией; я ничего не опасаюсь для себя, но я опасаюсь всего, что может грозить отечеству».
Кутон в отличие от Робеспьера видит конечную социальную основу разгоравшейся борьбы («особенно богатства»), Кстати, он и раньше проявлял эту способность, например, в вопросе о ликвидации феодальных повинностей. Робеспьер же предпочитает витать в облаках только моральных факторов. 28 октября он выступает в Якобинском клубе с большой речью «О влиянии клеветы на Революцию». Слов нет, клевета расцветает пышным цветом в яростной полемике между жирондистами и монтаньярами. Что касается Робеспьера, то он в этом деле не уступал Бриссо, Верньо или Бюзо. Беда в том, что Максимилиан принимал следствие за причины событий, второстепенные явления за главное, определяющее. «Проследите за развитием клеветы с самого начала Революции, — говорил он, — и вы увидите, что именно из-за нее происходили все несчастные события, которые потрясали ее или кровавыми возмущениями нарушили ее ход». Борющиеся классы, столкновение их реальных интересов, экономические причины «кровавых возмущений» вроде голода — все это остается в тумане. Социальный механизм Революции ему неведом; для Робеспьера все сводится к борьбе добра и зла, людей честных и порочных, интриганов и благородных, а в конечном итоге к борьбе между ним — Неподкупным — и остальными, развращенными интриганами.
Чрезмерным было бы, однако, требовать, чтобы все без исключения бесчисленные речи Робеспьера были удачны и успешны. Важно то, что бывали критические моменты, когда он действительно поднимался на высоту слова и дела Революции. Именно такой подъем наступил очень скоро после морализаторского эссе о клевете.
29 октября в Конвенте Жиронда снова пытается раздавить Робеспьера. Министр Ролан представил доклад, напичканный анонимными полицейскими фальшивками, якобы подтверждающими существование преступного и кровавого заговора с целью установления диктатуры Робеспьера. Это действительно концентрат клеветы, но также и ловушка для Неподкупного, который сначала неосторожно попался в нее. Он вышел на трибуну, чтобы опровергнуть вымысел, и сразу же началась немыслимая обструкция, вопли, свист. Всем этим с откровенной наглостью дирижирует председательствующий Гюаде. Вмешивается Дантон: «Председатель, дайте возможность говорить оратору. И я, я тоже прошу слова: пора разобраться во всем этом».
Робеспьер наконец получает возможность сказать: «Здесь нет никого, — говорит он, — кто бы осмелился обвинить меня открыто, кто привел бы против меня определенные факты; ведь нет ни одного, кто осмелился бы подняться на трибуну…»
Это как раз то, что хотели услышать жирондисты. Вскакивает Луве, маленький, тщедушный, какой-то болезненный человек, в нашумевшем романе наделивший своего неотразимого героя Фоблаза всеми качествами эротически неотразимого кавалера, которые полностью отсутствовали у автора. Луве заявляет: «Я выступаю против тебя, Робеспьер, и я прошу слова, чтобы обвинить тебя». Это прямо формула вызова на рыцарский поединок, явно придуманная и утвержденная заранее в салоне мадам Ролан. А затем Луве произносит свою пресловутую «Робеспьериаду». Изложенный им жалкий роман оказался, однако, пародией на его собственные сочинения. У бедняги не было фактов, и все свелось, если не считать сразу же опровергнутых вымыслов, к таким общим заявлениям: «Робеспьер, я обвиняю тебя в том, что ты издавна клевещешь на самых честных, на лучших патриотов… Я обвиняю тебя в том, что ты постоянно выставлял себя в качестве объекта идолопоклонства, что ты допускал, чтобы в твоем присутствии о тебе говорили как о единственном во Франции добродетельном человеке…»
Конечно, Неподкупный действительно любил сказать о себе, он действительно проявлял неумеренное тщеславие, но, как бы ни неприятны были такие личные склонности, от этого еще очень далеко до какого-то кровавого заговора или до планов установления диктатуры. Здесь же Луве не смог привести никаких фактов. Луве не доказал в своей речи ничего, кроме своей личной ненависти к Робеспьеру. А он мог бы, конечно, ответить ему сразу, однако предпочел попросить восемь дней отсрочки для подготовки ответа. Жирондисты сочли это за проявление слабости и уже испытывали злорадное удовлетворение.
5 ноября им пришлось испытать жестокое разочарование. В этот день Робеспьер произнес одну из самых своих замечательных речей, оказавшуюся крупной вехой, событием в истории Конвента. Он не зря попросил отсрочки, ибо за это время сумел найти и использовать самое слабое место в обвинительном опусе Луве, в котором писатель увлекся напыщенной формой и пренебрег необходимостью осознать саму суть обвинений. Дело в том, что Луве фактически обвинял не Робеспьера, а саму революцию 10 августа. Робеспьер же на этот раз, не пренебрегая, конечно, защитой собственной личности, защищал именно революцию, отождествляя себя с ней. Он сливается с революцией, и в результате величие и торжество революции становится и торжеством, величием Робеспьера! Если раньше Робеспьер, очень часто употреблявший местоимение «я», связывал себя с абстрактными категориями «свободы», «народа», «революции» вообще, то сейчас он связал себя с конкретными революционными событиями, с деятельностью таких органов, как революционная Коммуна или Якобинский клуб.
Робеспьер начинает с обвинения его в стремлении к диктатуре, которая подкреплялась указанием на его связь с Маратом. Он рассказывает о своей единственной личной встрече с Маратом в январе 1792 года, рассказывает честно и объективно. Он даже приводит нелестное высказывание Марата о том, что Робеспьер не обладает «ни кругозором, ни отвагой государственного деятеля». Отмежевавшись от Марата, Максимилиан, таким образом, легко опроверг обвинение в стремлении к триумвирату.
Луве обвинил Робеспьера также в том, что он деспотически навязывал свою власть Якобинскому клубу. И это обвинение было успешно опровергнуто, ибо, как сказал Робеспьер, «речь идет о естественной власти принципов. Эта власть не принадлежит, однако, тому лицу, кто эти принципы излагает».
Затем Луве возложил на Робеспьера ответственность за действия революционной Коммуны, членом совета которой Робеспьер стал 10 августа после успешного штурма Тюильри. Робеспьер не снимает с себя этой ответственности, более того, он очень охотно берет ее на себя и подробно рассматривает деятельность Коммуны. Он даже признает, что действия Коммуны действительно незаконны, поскольку они революционны. И он заключает знаменитыми словами: «Все эти вещи незаконные, они так же незаконны, как революция, как свержение тирана и взятие Бастилии, как сама свобода». А к этому он еще страстно добавляет: «Граждане, неужели вам нужна была революция без революции?»
Тем самым по логике вещей следовало, что обвинения Луве являлись контрреволюционными!
Наконец, Луве предъявил Робеспьеру обвинение, что он несет ответственность за сентябрьские убийства в тюрьмах, поскольку Коммуна не остановила их. Робеспьер не оправдывает эти убийства, но показывает, что они были естественным продолжением штурма Тюильри 10 августа, что поэтому остановить народный порыв тогда было невозможно. И он завершает цитатой из газеты самого Луве, писавшего 2 сентября: «Хвала Генеральному совету Коммуны. Он приказал ударить в набат. Он спас отечество».
Вот так, пункт за пунктом, Робеспьер успешно опроверг все обвинения жирондистов. Он сделал больше, ибо не воспользовался своим успехом для мстительного торжества, а великодушно и мудро предложил в заключение примирение!
«Если это возможно, — сказал он, предадим эти презренные уловки вечному забвению. Постараемся скрыть от взоров потомства те бесславные дни нашей истории, когда представители народа, введенные в заблуждение подлыми интригами, казалось, забыли о том великом поприще, на которое они были призваны. Что до меня, то я воздержусь от каких-либо личных заявлений… Я отказываюсь от законного мщения, которого я мог бы добиваться в отношении моих клеветников. Лучшим отмщением для меня будет восстановление мира и торжество свободы».
Вот такими прекрасными словами закончил Робеспьер свою поистине историческую речь, в которой он, одержав победу, протягивал руку согласия и примирения своим врагам и соперникам. Если даже все это лишь тщательно рассчитанная тактика, то это великолепная тактика. Ведь в Конвенте все зависело от поведения большинства, Болота, которое до этого неизменно поддерживало жирондистов. Теперь это решающее большинство еще не переходит на сторону монтаньяров, но сдвиг в этом направлении уже явно намечается. Робеспьер закончил речь под гром аплодисментов. Конвент, который за неделю до этого буквально гнал его с трибуны, теперь даже отказался заслушать незадачливого романиста Луве, пытавшегося что-то сказать в свое оправдание. Это был серьезный провал жирондистов, собиравшихся уже окончательно растоптать Робеспьера, а вместо этого добившихся небывалого роста его авторитета и популярности. Как пишет Жорес, «именно Жиронда, обвиняя его в «диктатуре», подготовляла ее… Жиронда резко отбросила к Робеспьеру тех, кто хотел только широкого революционного единения».
В самом деле, только что вместо Сервена на посту военного министра появился до этого скромный, незаметный и крайне послушный сотрудник Ролана Паш. И вдруг он даже перестал отвечать на письма самой мадам Ролан и начал открыто сближаться с монтаньярами. Тот же путь проделывает и назначенный вместо Дантона министром юстиции Гара. Не случайно также 15 ноября «независимый», епископ Грегуар, фактически примыкавший к монтаньярам, был избран председателем Конвента, сменив жирондиста Петиона. Вечером 5 ноября Робеспьера с энтузиазмом встречает толпа в Якобинском клубе, где происходит настоящее народное торжество с пением «Марсельезы» и с факелами. Робеспьер идет в ногу с Историей.
Правда, это не та история, в которой сталкиваются реальные жизненные интересы, порожденные материальными условиями простого человеческого существования. В Истории, порожденной воображением Робеспьера, созданной и направляемой божественным Провидением, сталкиваются добро и зло, черное и белое, высокие идеи и принципы с происками негодяев и интриганов. Надо победить их, и восторжествует справедливость…
Но эта утопическая картина мира грубо нарушается реальной жизнью. Революция, провозгласив свободу, равенство, братство, правда, принесла крестьянам осязаемую выгоду, многим дала землю, освободила хотя бы частично, а то и полностью от феодальных повинностей. Но беднякам городов, которые больше всех сделали для революции, достаются лишения и тяготы. Сколько народу зарабатывали на жизнь, производя предметы роскоши, обслуживая аристократов! Теперь этой работы нет. Нарушилась внешняя торговля, и труднее сбывать знаменитые изделия лионских ткачей. Жизнь бедняков стала труднее. Да и как могло быть иначе, если война потребовала создания почти полумиллионной армии, которую надо кормить и одевать? Министр финансов монтаньяр Камбон не видит другого выхода, кроме печатания новых денег. И вот уже за бумажку, на которой напечатано «100 тысяч ливров», дают в два раза меньшую сумму в звонкой монете. Какой же смысл крестьянину продавать зерно или скот на мясо за бумажки, реальная стоимость которых падает каждый день? Поэтому хлеба все меньше, а цена его растет. У дверей булочных приделывают железные кольца, за них привязывают веревку, держась за которую выстраиваются очереди. Что же делать? Знаменитый пивовар Сантерр предлагает два дня в неделю питаться картошкой и перебить в Париже всех собак, которых тоже ведь едят! Народ не в состоянии оценить мудрость таких советов. Повсюду, в крупных городах требуют твердых цен на продукты, таксации. В Конвент идут петиции, являются делегации, требующие накормить бедняков за счет богатых. Все чаще вспыхивают бунты и погромы. Жирондисты решительно отвергают все просьбы народа. Министр Ролан требует суровой кары для тех, кто посягает на свободу торговли.
Монтаньяры занимают на словах совершенно иную позицию. Робеспьер в Конвенте говорит, что «использование штыков для подавления голода чудовищно», что «первый общественный закон состоит в гарантии всем членам общества средств существования». Однако эту гарантию Робеспьер видит лишь в том, чтобы богатые прониклись добродетелью и помогли бедным.
С пафосом и страстью он пространно развивает эту тему: «Богатые себялюбцы, поймите, к каким странным последствиям может привести борьба, которую спесь и низменные страсти ведут против справедливости и человечности… Учитесь вкушать прелести равенства и радости добродетели или по крайней мере довольствуйтесь теми преимуществами, которые дает вам богатство, и оставьте народу хлеб, работу и добрые нравы».
Трудно сказать, чего больше в подобных тирадах: утопических иллюзий, ханжества или просто врожденного сознания буржуа? Во всяком случае, Робеспьер, как и жирондисты, не допускает и мысли о том, чтобы ограничить свободу торговли путем регламентации, таксации или других принудительных мер, задевающих интересы буржуазии. Единственные конкретные меры, предложенные им, смехотворны: учет продовольствия и запрещение перевозить его по ночам!
В это время в Конвенте начинает выступать с пафосом и поразительной самоуверенностью самый юный из монтаньяров Сен-Жюст. Он смутно понимает значение социальных проблем, хотя придает им больше значения, чем Робеспьер. Он мыслит более конкретными категориями, чем Неподкупный, много говорит об опасности инфляции, но, как и он, не согласен с каким-либо ограничением свободы торговли. Пока социальная политика монтаньяров ничем по существу не отличается от политики жирондистов. 8 декабря Конвент единогласно отвергает любые меры по регламентации хлебной торговли.
Это трогательное единодушие по вопросу, затрагивающему непосредственные интересы буржуазии, особенно знаменательно на фоне ожесточенной борьбы между жирондистами и монтаньярами во всем остальном, борьбы, достигающей кульминации в деле короля.
Действительно, что же делать с королем? С 10 августа Людовик XVI со своей женой, двумя детьми и сестрой заключен в древней средневековой башне Тампль. Его бдительно охраняет Коммуна, хотя министр внутренних дел Ролан очень хотел освободить ее от этой заботы. Впрочем, Коммуна возмущена непонятной проволочкой, она первая начала требовать суда над королем, представила Конвенту документы, захваченные в Тюильри. Они подтверждали тайные связи короля с эмигрантами, с Австрией и Пруссией. А 20 ноября к Ролану явился слесарь Гамен и выдал мучившую его тайну. Оказывается, Людовик, увлекавшийся слесарным ремеслом, с помощью слесаря сделал в стене своего дворца нишу с железным шкафом, где хранится множество секретных бумаг. Ролан поспешил в Тюильри и без всяких официальных свидетелей забрал бумаги, разоблачавшие множество других преступных происков свергнутого монарха. Теперь суд над королем откладывать больше нельзя.
Однако идея суда никому не казалась простой и ясной, хотя с самого начала она была поставлена с ошеломляющей простотой и резкостью Сен-Жюстом. Это было его первое выступление в Конвенте, сразу показавшее, что на трибуне очень необычный, очень смелый и очень парадоксальный молодой человек. Он потребовал судить Людовика не за его действительные преступления, а просто за то, что он король: «Мы должны не столько судить его, сколько поразить его… Нельзя царствовать, не будучи виновным; нелепость этого слишком очевидна. Каждый король — мятежник и узурпатор».
Сен-Жюст фактически потребовал не суда, а простого решения о казни. Но это предложение, казавшееся Сен-Жюсту «слишком очевидным», показалось софизмом и парадоксом большинству депутатов. Тысячелетия у всех народов правили короли, история подтвердила, что это естественное, обычное явление и уже поэтому не является само по себе преступлением.
Сходную, но только внешне, позицию занял и Робеспьер, который тоже поставил вопрос с крайней остротой: «Народы судят не как судебные палаты, не приговоры выносят они. Они мечут молнии, они не осуждают королей, они повергают их в небытие». Логика Робеспьера тоже поражала воображение. Он считал, что революция 10 августа уже была осуждением короля. Устраивать суд — значит решать, была ли права революция, значит судить ее. Поэтому не должно быть никакого судебного процесса. Робеспьер заключил категорически: «Поторопитесь, не теряйте больше времени на соблюдение лицемерных и трусливых формальностей».
Однако подавляющее большинство членов Конвента, включая монтаньяров, не могло согласиться с такой беспощадной, но практически невыгодной и опасной логикой. Почему революция, имея доказательства преступной измены короля его долгу главы исполнительной власти, должна не использовать возможность показать всем французам, всему миру свою правоту и справедливость? Ведь огромные массы французов, простых людей, еще не освободились от власти тысячелетней традиции, по которой король есть нечто священное, неприкосновенное и неподвластное осуждению, как любой другой человек.
Даже Марат, больше и громче всех взывавший к расправе над тиранами и их приспешниками, не мог принять предложение покарать короля без суда. Слушая свирепые изречения Сен-Жюста и Робеспьера, Марат сказал своему соседу монтаньяру Дюбуа-Крансе: «Подобными доктринами республике причинят больше зла, чем все тираны мира, вместе взятые». Марат считал, что надо провести процесс над королем с соблюдением всех формальностей. Он писал, что «такой образ действий был необходим для просвещения народа потому, что нужно убедить различными путями, соответствующими степени развития умов, всех жителей Республики». Марат хотел, чтобы суд проходил в суровой и торжественной обстановке. Занятная деталь: Друг народа, обычно облаченный в лохмотья бродяги, явился на заседание, посвященное допросу короля, в новом, очень приличном костюме!
Конвент воспринял предложение Робеспьера и Сен-Жюста как парадокс (кто мог представить, что такие парадоксы станут в один прекрасный день нормальными буднями Революции?). Решили судить короля с соблюдением революционной и демократической процедуры. 10 декабря огласили обвинительное заключение. Королю предоставили право иметь защитников, и они взялись за дело всерьез. Защита заявила, что если Людовика судят как короля, то это незаконно, ибо личность монарха неприкосновенна. Если его судят как простого гражданина, то должна соблюдаться обычная процедура с присяжными, с правом апелляции и т. п. «Я ищу среди вас судей, — сказал адвокат де Сез, — но нахожу только обвинителей».
Действительно, процесс носил необычный характер. Но ведь и обвиняемый, его преступление, сама революция — все было необычным. 21 декабря Людовика доставили в зал Конвента и подвергли допросу. Король был жалок, ибо он изворачивался и лгал, хотя внешне держался с достоинством, ибо рассчитывал на благополучный исход. Для этого были некоторые и весьма серьезные основания. Суд превратился в арену ожесточенной схватки между жирондистами и монтаньярами.
Монтаньяры добивались осуждения и казни короля, чтобы сделать революцию необратимой, а республику — окончательной формой французского государства. Жирондисты пытались с помощью разных уловок затянуть дело, спасти короля, чтобы оставить открытым путь к какому-либо компромиссу с монархистами. Главное же, они стремились использовать суд для расправы не с королем, а с монтаньярами. Для этого затеяли сложную, запутанную игру, в которой можно выделить некоторые основные методы.
Прежде всего это было запугивание. Депутатов пугали грозными последствиями казни монарха. Восстанут темные крестьяне, сохранившие любовь к «доброму королю». Все монархи мира объединятся и пойдут походом на Париж. В замаскированной форме, а то и прямо повторялись мотивы манифеста герцога Брауншвейгского. Пустили слух, что столица кишит агентами роялистов, что они перережут всех, кто проголосует за смертный приговор. 16 января Ролан направил Конвенту письмо, в котором сообщал, что многие перепуганные люди спешно покидают Париж, где готовится страшная резня. Депутатам присылали анонимные письма с угрозами.
16 декабря Бюзо предпринял коварный маневр, предложив немедленно принять декрет об изгнании из Франции всех представителей семейства Бурбонов. Речь шла о бывшем герцоге Филиппе Орлеанском, который теперь под именем Филиппа Эгалите заседал среди депутатов-монтаньяров. Ведь в случае казни Людовика XVI он автоматически становился возможным претендентом на трон, если по новой конституции Франция станет монархией. Бюзо тем самым давал понять, что монтаньяры, которых уже до этого обвиняли в стремлении к диктатуре, могут вынашивать и роялистские замыслы. Иначе зачем им держать в своих рядах принца крови из дома Бурбонов? Робеспьер считал, что надо согласиться с предложением Бюзо, чтобы снять все подозрения. Но Марат был другого мнения: «Не дадим себя дурачить, не позволим сторонними комбинациями затемнять смысл великого революционного акта, который мы собираемся совершить!»
Но самый коварный маневр Жиронды состоял в том, что после вынесения смертного приговора этот приговор следовало передать на утверждение народа. 40 тысяч первичных собраний должны были бы заново решать то, что решал с таким трудом и напряжением Конвент. Под внешним демократизмом здесь скрывалось намерение развязать гражданскую войну. Какую лакомую пищу дало бы это роялистской пропаганде для возбуждения жалости к королю-мученику! Пришлось бы обсуждать все события Революции, вроде сентябрьских избиений. Под судом контрреволюционеров оказалась бы вся революция в то время, когда самые активные патриоты отправились на войну. Избиратели сказали бы себе: раз Конвент не решается принять на себя ответственность за роковое решение, то почему мы должны быть смелее Конвента?
Жирондисты рассчитывали использовать свои связи в провинции, мобилизовать верных людей и обрушить на парижских анархистов, как они называли монтаньяров, ярость, которая уничтожит их. Робеспьер, гневно разоблачая Жиронду, изображал такую картину осуществления их коварного замысла: «В то время как все самые мужественные граждане проливали бы кровь за отечество, подонки нации, самые подлые и развращенные люди, все ползучие гады сутяжничества, все надменные буржуа и аристократы, все люди, рожденные для раболепия и угнетения под властью короля, став хозяевами собраний, покинутых благородными, но простыми и бедными людьми, безнаказанно уничтожили бы все созданное героями свободы, обратили бы их жен и детей в рабство и одни нагло приняли бы решение о судьбах государства».
Да, в Конвенте, разоблачая противника, не стеснялись в выражениях. Особенно Робеспьер умел изобразить замыслы своих врагов в такой осязаемой форме, с неизбежными преувеличениями, что это доводило дебаты до высшей степени напряжения. Ведь противники, то есть жирондисты, подкрепляли идею отсрочки приговора королю путем обращения к народу на первый взгляд совершенно неотразимыми доводами. Это в особенности проявилось в использовании ими внешнеполитического фактора. В самом деле, разве казнь Людовика XVI не усилила бы ненависть других королей Европы к революции, разве не возросла бы их агрессивность в войне против Франции? Безусловно, так и должно было случиться, и тогда Франция, в верности которой клялись жирондисты, вынуждена будет вести невероятно тяжелую войну против всей Европы. Лучший оратор Жиронды Верньо красноречиво рисовал грядущие неизбежно тяготы отечества: «Естественным ходом событий, даже самых благоприятных, оно будет принуждено делать усилия, которые его истощат. Его население сократится, ибо война унесет огромное количество мужчин, не будет ни одной семьи, которая не оплакивала бы отца или сына; земледелию вскоре не хватит рабочих рук, мастерские будут покинуты; истощение вашей казны потребует новых налогов; общество, уставшее от нападок могущественных врагов за рубежом, от внутренних потрясений, вызываемых партийными группировками, впадет в смертельное изнеможение».
Но если, по мнению Верньо, война ведет к таким последствиям, то почему же он сам и его жирондистские друзья сделали все для вступления Франции в столь опасную игру? Далее, если казнь короля вызовет резкое расширение и усиление войны, тогда почему же жирондисты не хотят, чтобы Конвент воздержался от осуждения Луи Капета? Только для того, чтобы не Конвент, а сам народ взял на себя ответственность? Однако процесс суда над королем даже в Конвенте оказался невероятно сложным и острым. А если он будет перенесен в десятки тысяч местных избирательных собраний, то вопрос о судьбе короля может просто вызвать гражданскую войну. Все делалось с одной целью: уничтожить монтаньяров. Если народ не утвердит смертный приговор, то монтаньяры, активнее всех требовавшие казни, понесут за это ответственность, на них обрушится ярость, а торжествовать будет Жиронда! Замысел был настолько ясен, он так явно противоречил, угрожал революции, что это поняли все. Очень быстро в нем разобрались депутаты Болота. А они вовсе не хотели реставрации Старого порядка, они дрожали за приобретенные ими церковные земли.
Критической вехой, наметившей переход большинства Конвента на сторону монтаньяров, оказалась 4 января речь Барера, одного из самых гибких и ловких политиков Конвента. Чаша весов теперь явно склонилась в сторону рокового приговора.
Не помогли новые уловки, тайные интриги, шантаж, угрозы. Большинство понимало, что благо Революции требует смерти короля. Это, впрочем, не исключало чисто человеческих эмоций, проявления к Людовику сочувствия не как к королю, а как к человеку. Кто бы мог думать, что на это способен Марат, «кровожадность» которого многих давно пугала? Что Эбер, издатель «Пер Дюшен», человек не менее резких крайностей, способен расплакаться, глядя на короля?
14 января наконец решили прекратить прения и начать голосование. По трем вопросам: виновность, обращение к народу, мера наказания. Долго, мучительно проходила эта процедура, особенно долгая из-за того, что голосование сделали поименным и многие при этом высказывали свои мотивы и соображения. Всего было четыре голосования. Виновным короля признал единодушно весь Конвент (только пять воздержавшихся). Сразу после этого отвергли, хотя и меньшим большинством обращение к народу. Заговор Жиронды — использовать процесс против монтаньяров — провалился. Тогда 16 января жирондист Ланжюине попытался хотя бы спасти жизнь короля, предложив установить для принятия решения о казни большинство в две трети голосов. Но Дантон добился голосования простым большинством. Наконец 19 января отвергли предложение об отсрочке казни.
При поименном голосовании Дантон сказал: «Я отнюдь не принадлежу к тому множеству государственных людей, которые не знают, что на тиранов не опираются, которые не знают, что королям наносят удар только в голову, которые не знают, что от королей Европы нельзя ничего добиться иначе, как силой оружия. Я голосую за смертную казнь тирана».
«Государственными людьми» уже давно иронически называли жирондистов, и заявление Дантона, несмотря на его краткость, послужило осуждением всей двусмысленной и порочной тактики Жиронды на процессе короля. В ходе этого процесса монтаньяры показали еще невиданное единство. К ним присоединилась окончательно значительная группа до этого колебавшихся депутатов. Наконец вместе с ними пошла значительная часть Болота. Более того, процесс короля показал, как крепнет союз монтаньяров с Коммуной, которая особенно рьяно добивалась казни короля, намечается союз с парижскими санкюлотами.
21 января 1793 года в дождливый, туманный день состоялась казнь короля Людовика XVI. От древнего замка Тампль до площади Революции плотными рядами стояли отряды Национальной гвардии. Историческая литература, особенно роялистская, полна описаний множества мельчайших деталей этого знаменательного дня. В грозном и величественном спокойствии совершилось событие, открывшее новую, суровую страницу в истории Революции. Эта казнь была победой, но она же несла новые испытания. Смерть короля, с одной стороны, сняла тяжелое бремя, с другой — возложила на монтаньяров еще более тяжелую ответственность.
«И вот наша судьба решена, — писал молодой монтаньяр Филипп Леба, — пути назад отрезаны, добровольно ли, или поневоле, но надо идти вперед, и теперь в особенности можно сказать, жить свободными или умереть».
Леба не самый выдающийся монтаньяр, но один из самых верных своим убеждениям и привязанностям. 27-летний депутат, он теперь один из немногих твердых робеспьеристов, всегда идущий за Неподкупным. Он и лично близок ему, ибо женится на Элизабет Дюпле, одной из дочерей в семействе, где нашел свой странный, но уютный очаг Робеспьер. Леба преисполнен решимости идти вперед, и его настроение показательно для большинства монтаньяров в те драматические дни и часы. В напряженной борьбе из-за судьбы короля, в ожесточенной схватке с Жирондой монтаньяры сознают, чувствуют необходимость сплочения своих рядов. В лихорадочно суровой обстановке продолжавшихся в те дни и ночи голосований каждый вынужден ясно, определенно занимать четкую позицию. Справедливо принято считать голосование за казнь Людовика и против обращения к народу отражением реального нового соотношения сил в Конвенте. Оно показывает возросшую численность депутатов Горы, поскольку никакой другой определенной формы закрепления их политической принадлежности к партии монтаньяров просто не было. Правда, это еще не окончательные цифры, впереди более решительные схватки.
О необходимости единства и сплоченности теперь говорит даже столь независимый всегда Марат. К единству монтаньяров теперь решительно взывает Дантон, почти уже расставшийся с надеждой на более широкое объединение патриотов в Конвенте. Робеспьер, убедившись в силе свой партии, стремится закрепить победу. Он ободрен присоединением к Горе ранее колебавшихся, а теперь твердо избравших наконец, подобно Бареру, свой лагерь. Робеспьер прославляет «здоровую партию» Конвента и стремится объединить вокруг себя прочное большинство. Он особенно дорожит поддержкой Дантона, хотя в глубине души давно недолюбливал трибуна за его не слишком добродетельную жизнь, за цинизм, за жизнерадостно-беззаботное, самоуверенное поведение. Но он знает силу обаяния этого могучего человека, его энергию, его влияние на народ. Хотя теперь Робеспьер обрел как никогда прочную почву под ногами, он нуждается в союзниках. Особенно он нуждается в друзьях, поддержка которых необходима для окончательной победы над всеми интриганами. Неподкупный как бы меняется, растет, раскрывается, выходя из своей обычной позиции гордого одиночества. Личный успех, конечно, дает ему ощущение своей исключительности, но отнюдь не обеспечивает победу, торжество.
В начале 1793 года горе обрушивается на Дантона. Его верная супруга Габриель, вновь ожидающая ребенка, чувствует себя плохо. К тому же в последнее время Жорж редко находится дома. Весь декабрь, первую половину января он в Бельгии, на войне как комиссар Конвента. Вскоре после казни короля события снова требуют его присутствия на фронте, и ему приходится оставить тяжело страдающую Габриель. Рядом с ней чаще всего ее юная соседка и неожиданная подруга Луиза Жели. 10 февраля, не перенеся четвертых родов, Габриель умирает. Дантон необычайно тяжело переживает несчастье, он буквально обезумел, и его чувства по поводу собственной смерти пустяк по сравнению с той полной потерей хладнокровия, почти с безумием, охватившим его. Все окружающие поражены страданием этого могучего, несокрушимого гиганта. Совершенно неожиданно он встречает пылкое сочувствие такого холодного обычно Робеспьера. Максимилиан пишет Дантону письмо: «Если в том несчастье, которое одно способно потрясти душу такого человека, как ты, уверенность в сердечной преданности друга может принести тебе какое-либо утешение, ты найдешь его во мне. Я люблю тебя больше, чем когда-либо, и буду любить до самой смерти. В эти минуты я нераздельно с тобой. Не закрывай своего сердца перед другом, который переживает все твое горе. Будем вместе оплакивать наших друзей, и пусть действие нашей глубокой печали вскоре почувствуют тираны, виновники наших общих и личных несчастий…»
Это потрясающий человеческий документ в отношениях самых выдающихся вождей монтаньяров. События, связанные с бренностью человеческого существования, такие, как смерть, неожиданно дают возможность заглянуть в то таинственное, что именуют душой человека, окутанной, как известно, потемками. Особенно если речь идет о таком замкнутом человеке, каким был Неподкупный. Что в нем таится: любовь или ненависть, искренность или лицемерие? В последнем качестве Робеспьера подозревали особенно часто. Понятно поэтому, что поражающее своей трогательностью и искренностью послание приобретает особый смысл и значение в еще неведомом, но близком трагическом будущем отношений Дантона и Робеспьера.
Казнь Людовика Капета не столь уж сильно потрясла саму Францию. Страна уже приняла Республику, а король еще своим бегством в Варенн, ложью и явной изменой подготовил французов к сравнительно легкому прощанию с тысячелетней монархией. Иное дело за границей. Монархическая Европа содрогнулась. Каждый из монархов задрожал не только за свою корону, но и за голову.
«Вам угрожают короли, вы объявили им войну, вы бросили им перчатку, и этой перчаткой была голова тирана», — заявил 31 января в Конвенте Дантон. Грозная фраза тем более не встревожила депутатов, что Франция уже воевала против монархий Европы. Если битва при Вальми была скорее моральной, нежели военной победой, то вскоре 6 ноября Дюмурье выиграл настоящее тяжелое сражение при Жемаппе. Австрийцы буквально бежали от французов, которые вскоре заняли Брюссель, а затем Антверпен. Бельгийцы радостно встречали французские войска под звуки «Марсельезы». Другая, Вогезская армия генерала Кюстина вступила на германские земли. Один за другим пали Вормс, Майнц, Франкфурт. Жители немецких княжеств, если не считать знати и духовенства, встречали армию революции еще восторженнее, чем в Бельгии. Французские армии действовали и на юге, освободили Савойю и Ниццу — владения сардинского короля, жители которых настойчиво просили присоединить их к Франции.
Жирондисты ликовали, злорадно вспоминая предостережения Робеспьера против войны. «Мы успокоимся только тогда, — писал Бриссо, — когда Европа, и вся Европа, будет в огне». Победы кружили голову и их политическим противникам. Левый монтаньяр Шометт провозглашал: «Вся территория, которая отделяет Париж от Петербурга и Москвы, будет вскоре офранцужена, муниципализирована и якобинизирована». Епископ Грегуар, приветствуя делегацию английских радикалов 22 ноября, выразил надежду, что республика будет скоро существовать и на берегах Темзы!
Да, такое и не снилось даже прославленному захватчику «королю-солнцу» Людовику XIV, создавшему даже для оформления завоеваний особые «палаты присоединения». Неужели же революционная Республика возродила традиционную аннексионистскую политику французских королей? Нет, Республика называла это иначе. 19 ноября 1792 года Конвент решил, «что французская нация предоставит братскую помощь всем народам, которые захотят вернуть себе свободу». Правда, 15 декабря министр финансов монтаньяр Камбон напомнил о том, что война стоит больших денег, хотя она и идет под замечательным лозунгом: «Мир — хижинам, война — дворцам». Конвент предписывал французским генералам уничтожить в освобожденных странах феодальные порядки, как и во Франции. Кроме того, их население должно дать освободителям продовольствие, одежду, деньги на ведение войны. Это само по себе таило в себе непредсказуемые сложности, особенно если речь действительно зайдет о завоевании земель вплоть до Москвы.
Однако 31 января Дантон, предлагая аннексировать Бельгию, несколько ограничил завоевательные планы: «Я утверждаю, что напрасно высказываются опасения по поводу чрезмерного расширения границ Республики. Ее границы определены самой природой. Мы ограничены ею со всех четырех сторон — со стороны Рейна, со стороны океана, со стороны Альп и Пиренеев. Границы нашей Республики должны закончиться у этих пределов, и никакая сила на земле не помешает нам достигнуть их».
Увы, таких сил в Европе, да и в самой Франции оказалось слишком много. В Англии казнь короля премьер-министр Питт объявил «самым гнусным и самым жестоким злодеянием» в истории, за которое она намерена отомстить. Правительство Питта разрывает официальные отношения с Францией, устанавливает эмбарго на вывоз хлеба. В Голландии тоже проявили крайнюю враждебность. Конвент 1 февраля по докладу Бриссо объявляет Англии и Голландии войну. Против Франции вместе с Англией оказался папа римский, герцог Пармы, Модены, король Неаполя, все многочисленные государства Германской империи. В марте Конвент объявил войну Испании. Соглашение о втором разделе Польши позволило Пруссии активнее вести войну против Франции, а России сблизиться с Англией. За исключением северных держав, Швейцарии, Венецианской республики и Тосканы, вся Европа объединилась против Франции.
Наступает трагическая военная весна 1793 года. За несколько недель потеряны все «естественные границы», все завоевания Франции. К концу марта пришлось оставить Бельгию, в начале апреля левый берег Рейна. За своими границами Франция удерживает только Майнц, осаждаемый врагом. Сокрушительные поражения только частично объяснялись военно-стратегическими обстоятельствами вроде запоздания в соединении двух французских армий. Главная причина была политической. Население «освобожденных» стран не только не поддержало свободу, связанную с тяжелым бременем оккупации, но и выступило против французских войск. Они сами оказались в плачевном материальном и моральном состоянии. Дюмурье передал снабжение в руки своих поставщиков. Военный министр Паш, справедливо недовольный ими, создает свою систему снабжения. В результате неразберихи солдаты голодают и остаются босыми. Множество волонтеров, записавшихся на одну кампанию, отправляются домой. Растет дезертирство. Численность армии за два зимних месяца уменьшилась с 400 до 230 тысяч. Между тем по докладу монтаньяра Дюбуа-Крансе минимально необходимая численность составляла полмиллиона. К тому же армия нуждалась в реорганизации, ибо состояла из двух разнородных частей: «белых», то есть солдат старой армии, и «синих» — волонтеров, получавших больше денег, выбиравших своих командиров и не знавших суровой дисциплины. Напрасно Дюбуа-Крансе требовал «амальгаму», слияние армии в одно целое. Генералы возражали, а их поддерживали жирондисты в Конвенте.
За всем этим стояла роковая слабость: отсутствие единого и эффективного руководства. Жирондисты отвергали многократно предлагавшееся Дантоном и от лица Болота Барером правительство национального единства. Сами же они оказались совершенно неспособными руководить войной, не признавая никаких энергичных мер. Они создали Комитет общей обороны, занимавшийся лишь бесконечными дебатами. Войной пытался руководить министр Паш. Но жирондисты вместе с Дюмурье вели против него яростную борьбу, поскольку он взял в свое министерство много монтаньяров. Дюмурье добивался при поддержке Жиронды замены Паша (он стал мэром Парижа) Бернонвилем, но это только запутало дело. Неспособность жирондистов руководить войной и оказалась главной причиной поражений.
Дюмурье вообще имел собственные авантюристические замыслы. Он планировал поход на Париж и восстановление монархии в пользу герцога Шартрского, сына Филиппа Эгалите. Он мечтал также о создании независимого бельгийско-голландского королевства, корону которого он предназначал лично себе!
Действия Дюмурье загадочны и тревожны. Марат уверенно предсказывает его измену. Плохие вести приходят и с Рейна, где действует армия генерала Кюстина. Храбрый рубака, но слабый полководец, он теряет один город за другим. Кюстин удерживает пока Майнц, но он осажден врагом. Множатся признаки надвигающейся военной катастрофы. Противоречивые слухи тревожат Париж.
А здесь и без того хватало поводов для волнений народа, страдавшего от голода и дороговизны. В очередях у лавок женщины с грустью вспоминали, сколько стоили продукты раньше. Конечно, в разных местах цены росли неодинаково, но в среднем они выросли на 200 процентов по сравнению с 1789 годом. В Париже было легче, поскольку булочникам власти выплачивали дотацию, чтобы хлеб стоил не дороже 3 су за фунт. В других городах цена поднималась до 6-8 су при дневном заработке в 20 су.
Зимой страдания от голода особенно тяжелы. Бедняки не в состоянии понять решение Конвента, отклонившего еще в начале декабря требование остановить рост цен. Парижские секции непрерывно заседают. Понятно, что больше всего надежд и претензий к монтаньярам. В феврале секции печатают гневную листовку об ораторах, выступающих с прекрасными речами и лучшими поучениями, которые «ужинают каждый день». «К их числу, — говорится в народном листке, — принадлежит гражданин Сен-Жюст; сорвите с него отвратительную маску, которой он прикрывается». Ученик Робеспьера, смирив свою гордость, встречается с людьми из секций и повторяет им суровые истины о благодетельности свободы торговли. Его слушают угрюмо…
12 февраля 1793 года в Конвент представлена угрожающая петиция представителей всех 48 секций Парижа: «Граждане законодатели, недостаточно объявить, что мы — французские республиканцы. Надо еще, чтобы народ был счастлив; надо еще, чтобы у него был хлеб, ибо там, где нет хлеба, нет более законов, нет свободы, нет Республики». А дальше петиция требовала жестко контролировать цены, сурово наказывать торговцев за нарушения. Санкюлоты захотели ограничить права торговой буржуазии!
Конвент возмутился. Не нашлось никого среди депутатов, кто бы поддержал голодных. Напротив, их стали гневно осуждать! И кто? Сам Друг народа Марат, заявивший с трибуны: «Меры, только что предложенные вам у барьера для восстановления изобилия, настолько крайне странные, настолько ниспровергают Старый порядок, так явно стремятся уничтожить свободу торговли зерном и вызвать волнение в Республике, что я удивляюсь, как они могут исходить из уст людей, считающих себя разумными существами… Я требую, чтобы те, кто собирался навязать эту петицию Конвенту, были преданы суду как возмутители общественного спокойствия».
Марат был так разгневан, что, закончив речь, уже с места крикнул: «Я знаю, что среди петиционеров есть подлые аристократы».
Выступление Друга народа с иронией одобрил жирондист Бюзо. Петицию отвергли. В зале Конвента пронеслось суровым дуновением то, что позже будут называть классовой борьбой. Интересы буржуазии и санкюлотов оказались, и не могли не оказаться, различными, а партия монтаньяров была буржуазной. Но почему так говорил Марат, который всегда выступал рупором обездоленных? А он проводил свою линию «нового пути» и отныне поддерживал Робеспьера и Сен-Жюста.
Голодные бедняки не хотят и не могут знать этих тонкостей. У них есть свои вожди, хотя и уступающие в ораторском искусстве некоторым депутатам Конвента, но превосходящие их своей беспредельной одержимостью в борьбе за униженных и оскорбленных. Таким был священник Жак Ру, сочетавший ревностное пастырское служение христианским идеалам и отчаянно смелую революционную деятельность. Священника, неустанно навещавшего больных, умирающих, отдававшего все несчастным, усыновившего сироту, особенно любили в секции Гравилье. Он с пламенной экзальтацией апостола отдался революционному идеалу равенства. И ничего не боялся. Он укрывал у себя от преследований Марата, и когда Друг народа стал нападать на него, то он с горечью напомнил ему: «Я не только в течение шести дней спал из-за тебя на полу, но и готовил для тебя пищу и даже выносил твой ночной горшок». Революционный пастырь и вождь секции Гравидье стал идеологом санкюлотов, идеологом часто наивным, неустойчивым, но искренним даже в своих нелепых крайностях. Это он в феврале 1793 года развернул движение санкюлотов против спекулянтов-скупщиков.
Остановить это движение было невозможно. 24 февраля Конвент атакуют две делегации женщин-прачек, возмущенных повышением цен на мыло и требующих смертной казни для скупщиков и спекулянтов. А на другой день толпы разгневанных санкюлотов во главе с женщинами осаждают лавки, заставляют торговцев продавать мыло, свечи и сахар по низким ценам, которые они установили сами. Начались грабежи лавок и складов.
Из-за простого совпадения виновником этих событий объявили Марата. Именно в этот день он напечатал довольно сумбурную статью, которую можно было истолковать как угодно. Марат писал, что все капиталисты, спекулянты, торговцы, судейские, бывшие дворяне являются приспешниками Старого порядка и что он не видит «иного выхода, кроме полного уничтожения этого проклятого отродья». Сурово осудив спекулянтов, Марат утверждал, что «разграбление нескольких складов, у дверей которых были бы повешены скупщики, быстро положило бы предел злонамеренным действиям».
Статья Марата выглядит странным зигзагом, возвращением к прежнему идеалу насильственной народной революции. Но это временное, явно случайное отклонение от «нового пути». Ибо в тот же вечер 25 февраля в Якобинском клубе Марат подтверждает сближение с Робеспьером, с монтаньярами и свое намерение защищать буржуазную революцию в самый критический момент ее развития. Марат, Дюбуа-Крансе и Робеспьер выступают один за другим и резко осуждают происходившие в тот день продовольственный мятеж и погромы лавок.
Речь Робеспьера обнаруживает столкновение его абстрактного образа народа с реальным народным выступлением из-за простых материальных жизненных нужд, которые Неподкупный не может и не желает понять. Заявляя, что «народ никогда не бывает не прав», он видит в событиях 25 февраля «коварные происки врагов свободы, врагов народа… Я не говорю вам, что народ виноват; я не говорю вам, что его волнения являются преступлением. Но разве, когда народ поднимается, он не должен иметь перед собой достойную цель? Разве должны его занимать какие-то жалкие товары?».
Итак, Робеспьер не замечает реальных нужд народа («жалких товаров»), он далек от народа в своем изолированном комфортабельном окружении богатого буржуазного дома Дюпле, в своем иллюзорном видении народа как исторической абстракции, а не в облике голодных мужчин и женщин, доведенных до отчаяния тяжелыми условиями жизни.
Однако здесь не только иллюзии, идеализм, полное непонимание социальных вопросов. Не проявляется ли здесь лицемерие, политический расчет?
Пока этот расчет явно чувствуется в намерении использовать народное движение против жирондистов, объявив их его тайными подстрекателями. Но он также напуган движением, возглавляемым Жаком Ру, соратников которого начинают именовать «бешеными». Ближе к пониманию положения народа был Эбер, издатель популярной газеты «Пер Дюшен». Но и он считал стихийное движение 24 февраля «заговором» врагов Революции и описывал его в своей газете в виде какого-то нелепого маскарада: «Бывшие маркизы, переодевшиеся угольщиками и парикмахерами, графини, нарядившиеся торговками рыбой, те самые, что готовы были взывать о пощаде в тот день, когда Капет сыграл в ящик, разбрелись по предместьям, по рынкам и базарным площадям, чтобы подстрекать народ к бунту и разбою». Эбер также как и Робеспьер хочет повернуть народное движение против жирондистов: «Больше зла, чем скупщики, вам причиняют бриссотинцы и роландисты; задайте им трепку, и я ручаюсь вам, что дело пойдет на лад».
Из левых монтаньяров только прокурор Коммуны Шометт, хотя он тоже осуждает агитацию Жака Ру, проявляет понимание положения и нужд народа. Он выступает за установление таксы, предельных цен не только на хлеб, но и на другие основные продукты. 27 февраля он говорит в Конвенте: «Бедняк участвовал в Революции, как и богач, и даже больше богача. Все изменилось вокруг бедняка, только его положение осталось прежним, и он выиграл от Революции только право жаловаться на свою нищету».
Но Шометт среди монтаньяров в Конвенте пока почти одинок, большинство, подобно Робеспьеру, считают, что народ должен бороться лишь за высокие цели Революции, которые служили главным образом буржуазии, а не за какие-то «презренные товары». Монтаньяры еще не видят необходимость союза с народом, с санкюлотами, и только крайнее усиление опасности для Революции и интересы борьбы с жирондистами заставят их встать на этот путь, чтобы использовать «бешеных» для победы над жирондистами.
А пока Конвент безнадежно поглощен борьбой между фракциями, охвачен страхом и негодованием перед народным движением. Он парализован тем, что Робеспьер подобно жирондистам видит только внутренних врагов, жирондисты же ненавидят его, а контролируемые ими исполнительные органы бездействуют, тогда как Францию, против которой объединилась вся Европа, ход событий влечет к самому роковому, смертельно опасному тупику, угрожающему гибелью Революции. Кто же напомнит об этом, вернет депутатов к суровой действительности и укажет путь спасения? Кто же вновь пробудит единый патриотический порыв, как это было в сентябре прошлого года?
8 марта на трибуну Конвента впервые за шесть недель поднимается Дантон. Все знают, что за это время он перенес большое личное горе — смерть жены, — что он непрерывно занят делами войны и дипломатии. Только пять дней назад он отправился в Бельгию, и вот после нескольких дней бешеной скачки он снова в Париже. Неожиданное возвращение Дантона уже само по себе настораживает депутатов.
Он знает о распрях, охвативших Париж и Конвент, но отзывается о них одной общей, хотя и многозначительной фразой: «Когда здание охвачено огнем, я не занимаюсь негодяями, которые хотят украсть мебель; я стремлюсь прежде всего потушить пожар». А пожар там, на фронте. Пока Дюмурье авантюристически надеется захватить Голландию, австрийцы завоевывают Бельгию. Дантон срывает завесу успокоительной лжи, распространяемой генералами и жирондистами. «Французскому характеру, — говорит он, — нужны опасности, чтобы обрести всю свою энергию. Что ж! Этот момент наступил». Дантон объясняет, что если армия Дюмурье будет окружена в Голландии, если она сложит оружие, то Францию ждут неисчислимые бедствия. Чтобы предотвратить их, нужны великие действия, быстрые и внезапные, Париж должен стать главной пружиной этих действий. Он обязан объединить усилия всей Франции: «Надо, чтобы Париж, этот прославленный и столь оклеветанный город, который хотели раздавить в угоду нашим врагам, страшившимся его пламенного патриотизма, помог своим примером делу спасения отечества».
Дантон здесь явно намекает на жирондистов, давно уже добивавшихся, чтобы столица, которую они объявили очагом анархии и хаоса, рассматривалась бы просто как «1/83 часть Франции». Однако Париж, от которого зависит спасение Франции, охвачен голодом и народным возмущением. Дантон знает, что незадолго до его приезда законные требования санкюлотов единодушно отвергнуты жирондистами и монтаньярами. Даже Робеспьер и Марат не нашли ничего лучшего, как объявить возмущение народа, вызванное эгоизмом богачей, контрреволюцией. Они еще не понимали, что спасение Революции только в союзе с народом. Значит, надо помочь ему, поддержать его требования и положить предел хищничеству торговой буржуазии.
Дантон — передовой буржуазный революционер, одаренный гением революционной тактики, глубоко чувствующий народный характер Революции. Среди вождей монтаньяров именно он оказался способным найти выход из кризиса Революции. Политика Робеспьера, поддержанная Маратом и другими монтаньярами, отвергнувшими требования санкюлотов Парижа в борьбе с голодом, дороговизной и буржуазной спекуляцией, неминуемо обрекала монтаньяров на изоляцию от народа. Дантон, этот явный буржуа, редко говоривший о своей любви к народу, указал путь к союзу монтаньяров с народом. Дантон предлагает послать представителей Конвента в департаменты, в парижские секции прежде всего, призвать их к формированию новых батальонов волонтеров. Дантон требует: «Пусть ваши комиссары отправятся в путь немедленно, в эту же ночь. Пусть они скажут этому подлому классу, пусть скажут богачам: ваши богатства должны пойти на пользу отечества, как идет наш труд. У народа есть только кровь. Он ее расточает. А вы, жалкие трусы, жертвуйте вашими богатствами… Национальный долг будет покрыт за счет врагов народа. Восстановится равновесие между ценой товаров и стоимостью денег, тогда народ по крайней мере сможет воспользоваться плодами свободы».
Это лишь отдельные фрагменты, лишь бледное отражение пламенной трехчасовой импровизации Дантона, которой он потряс всех, включая депутатов Болота и жирондистов. Конвент словно пробудился к жизни и приветствовал Дантона многократными бурными аплодисментами и криками одобрения. Особенно ликовали монтаньяры, когда Дантон спустился с трибуны, к нему бросились с объятиями Марат, Робеспьер, Колло д'Эрбуа и Фабр д'Эглантин.
Но никто пока не мог сказать, что означала эта трогательная сцена. Эмоциональный порыв или знак неразрывного единства монтаньяров? Как ни эффектно прозвучала речь Дантона 8 марта и выдвинутая им программа, она не могла немедленно изменить ни политический климат в Конвенте, ни крайне напряженную обстановку в Париже. Сам по себе призыв к секциям о срочной помощи армиям, сколь бы благоприятно ни откликнулись на него санкюлоты, мог только усилить тревогу. Ведь призыв потребовала катастрофическая ситуация на фронте. И все новые события дополняли и обостряли ощущение крайней опасности, добавлявшееся к страданиям голода. Моральное состояние политически активной бедноты Парижа превращалось в какую-то взрывчатую смесь тревоги, неуверенности, паники, в комплекс подозрительности, мстительности, склонности к крайним мерам.
Каждый день можно было ожидать новых тревожных событий. Они обрушивались как лавина. Едва отгремели отзвуки могучего голоса Дантона, как в ночь с 9 на 10 февраля предпринимается попытка восстания за очищение Конвента от депутатов-изменников. На этот раз его организовали самые нетерпеливые и яростные из «бешеных» во главе с Жаном Варле, известным своей неистовой революционностью. С недавних нор вместе с ним в кафе Корацца стали собираться его единомышленники, чтобы совещаться и действовать. Они стали обходить секцию за секцией, призывая к оружию. Большинство секций отклонили смелую, но неподготовленную затею. Дело ограничилось лишь разгромом типографий двух жирондистских газет, вызвавшим страх буржуазии. Боялись повторения прошлогоднего сентябрьского побоища, боялись за свою собственность, боялись новых стихийных кровавых расправ.
9 марта прокурор Коммуны Шометт потребовал от ее имени в Конвенте учреждения Революционного трибунала, не связанного юридическими ограничениями. Началось бурное обсуждение. Жирондисты один за другим разоблачали опасность новой затеи, которую поддержали монтаньяры. Из сада Тюильри доносились угрозы толпившихся там множества санкюлотов. «Вам предлагают, — говорил Верньо, — декретировать учреждение инквизиции, в тысячу раз более ужасной». Даже монтаньяр Камбон высказывал опасения и требовал лишь суда присяжных. Судьба этого декрета к концу вечернего заседания 10 марта оказалась под вопросом. Тогда на трибуне снова появился Дантон. Он рисует страшную дилемму: либо немедленное создание трибунала, либо неуправляемые народные расправы. Он напоминает, что сентябрьские расправы прошлого года — следствие нерешительности Законодательного собрания, не пожелавшего создать законных форм кары для врагов Революции. «Совершим же то, — говорит Дантон, — чего не совершило Законодательное собрание. Будем же грозными, чтобы избавить народ от необходимости быть грозным. Учредим трибунал, не хороший (ибо это невозможно), но наименее плохой, дабы меч закона висел над головой всех его врагов».
Закон о чрезвычайном трибунале был принят. В дальнейшем в дополнение к нему последует целая серия декретов, усиливающих террор против врагов Революции. До определенного момента все террористические декреты Конвента оправдывались суровой необходимостью защиты Революции.
И в этот тяжелый момент Революция получила новый удар ножом в спину: 10 марта вспыхнуло восстание в Вандее. Почему крестьяне, которым Революция дала реальные выгоды, восстали? Повод был один, а причин — множество. Началось проведение набора в армию в счет объявленного призыва 300 тысяч человек. Конечно, набор вызывал недовольство и в других районах, но только в Вандее и в соседних с ней департаментах оно вылилось в яростную вооруженную борьбу. Дело объяснялось прежде всего крайней отсталостью, даже дикостью здешнего населения. Огромным влиянием пользовались священники, конечно, «неприсягнувшие». Они давно уже вели контрреволюционную обработку своей паствы, особенно в связи с казнью короля. Но нельзя считать восстание только роялистским или религиозным движением.
Скорее это было восстание деревни против города. В городах жила буржуазия, а она главным образом и воспользовалась Революцией, занимаясь скупкой национальных имуществ, то есть земель. Вот против новых городских «сеньоров» и поднялись крестьяне. Восстание расширялось, вскоре оно охватило около 100 тысяч человек. Сначала это была аморфная, но страшная, темная, зверская сила. Впрочем, когда его возглавили офицеры-дворяне и священники, жестокости и крови стало еще больше.
Вандейское восстание, несмотря на его внешнюю стихийность, с самого начала наводило на мысль об организованном заговоре. Почти одновременно в течение недели после 10 марта вооруженные выступления произошли в десятках мест, хотя у восставших пока одно ружье приходилось на четверых. Большинство использовали вилы, топоры, молоты и все, что было под рукой. Мятежники с самого начала стремились жестокостью посеять среди патриотов страх и панику. В Машкуле, городке из 1500 жителей, убили 542 человека. Их не просто расстреливали, убийству предшествовали зверские пытки.
Когда все это стало известно, 19 марта Конвент единодушно принимает Закон о наказании мятежников. В нем говорилось, что всякий участник контрреволюционного мятежа, даже если он просто нацепит белую кокарду, объявляется вне закона. Если означенные лица будут арестованы с оружием в руках, «они в 24 часа будут переданы в руки палача и преданы смерти». Никакого другого наказания даже не предусматривалось. Наиболее грозные пункты в закон внесли по требованию жирондистов. Однако против смертной казни за простое ношение белой кокарды выступил «кровожадный» Марат. «Мера, предложенная Ланжюине, — говорил он, — самая бессмысленная, самая недостойная человека мыслящего, преданного Республике. Она ведет как раз к уничтожению истинных патриотов. Быть беспощадным следует не к людям, введенным в заблуждение, а к их руководителям». Закон о мятежниках, за который голосовал весь Конвент, создал юридические основания для большинства казней в эпоху террора не только в Вандее, но и во всей Франции.
Теперь с каждым днем создаются в обстановке страха все новые орудия террора. 21 марта принят закон о создании в каждой коммуне страны, а в Париже — в каждой секции Наблюдательных комитетов. Главной функцией таких комитетов вскоре становится выявление и арест «подозрительных». Под эту категорию могли подвести кого угодно. Наблюдательные комитеты, особенно в Париже, будут важными поставщиками жертв гильотины. Очень часто они становились орудием всевозможных злоупотреблений. 28 марта Конвент утверждает закон об ужесточении наказаний эмигрантов и неприсягнувших священников. Любой из эмигрантов, кто будет обнаружен на территории Франции, подлежал смертной казни.
Чистейшим мифом, выдумкой являлись утверждения, что террористическое законодательство весны 1793 года явилось плодом деятельности только монтаньяров или их уступкой «бешеным» и санкюлотам. В действительности — это результат общего критического положения страны. Буржуазия поняла, что ее собственные интересы находятся под угрозой и что придется ради их защиты временно отказаться от обычных либеральных буржуазных принципов. Перед лицом опасности вторжения и восстания в Вандее многие депутаты центра или Болота при всей их ненависти к Робеспьеру и Марату, как и жирондисты, решаются голосовать за крайние революционные меры.
18 марта Барер, выступая от имени этого центра, произнес речь, которая явилась своеобразным манифестом. Он порицал и крайне правых и крайне левых, осудил давление улицы, критиковал сопротивление жирондистов революционным мерам. Барер, самый ловкий из депутатов Конвента, который переживет всех, сформулировал программу из трех пунктов: в исключительных обстоятельствах не управляют обычными методами, и надо принимать революционные меры; буржуазия не может изолироваться от народа, и поэтому надо удовлетворить его требования; однако буржуазия должна сохранить руководство в этом союзе с народом, и Конвент должен проявлять революционную инициативу.
Однако Барер сразу призвал принять декрет, который определил предел уступок буржуазии народу даже в исключительных обстоятельствах. Этот декрет, единодушно одобренный Конвентом, установил смертную казнь всякому, кто будет требовать какого-либо посягательства на земельную, торговую или промышленную собственность. Именно на основе этого принципа и происходило теперь расширение влияния Горы, к которой присоединяется все больше центристов, то есть людей Болота.
Вандея была не последним ударом, который обрушился на осажденную со всех сторон Францию. Таким новым ударом оказались измена и переход на сторону врага генерала Дюмурье — главной военной надежды Республики. Генерал давно был подозрительной личностью в глазах многих. Не случайно Дантон, когда он в начале марта срочно явился из Бельгии в Париж, чтобы потребовать принятия чрезвычайных мер для предотвращения катастрофы на фронте, в своем рассказе о положении дел произнес загадочную фразу по поводу Дюмурье: «История вынесет суждение о его талантах, его страстях и пороках». Дантон знал, что положиться на генерала, с которым он познакомился еще до Революции в масонской ложе «Девяти сестер», можно лишь тогда, когда личные интересы этого авантюриста совпадают с интересами Франции. Но это случалось не всегда, что и побуждало относиться к нему настороженно. Дюмурье вызвал сомнения и дружбой с жирондистами, для которых он был любимым героем, своими попытками оказать влияние на процесс Людовика XVI, ради которого он в январе оставил свои войска и был в Париже. В марте 1793 года, однако, Дюмурье не видели замены и потому вынужденно доверяли этому авантюристу. Не только Робеспьер, но даже Марат, давно предсказавший, что он предатель и пойдет по пути Лафайета, говорили о своем доверии к генералу. После сообщения Дантона и Делакруа, рассказавших о тревожном положении с армией Дюмурье, которой грозило окружение в Голландии, Конвент направил ему приказ вернуться в Бельгию со своей армией, чтобы соединить все французские силы. Дюмурье не выполнил приказа и в ответ прислал наглое письмо, в котором возлагал ответственность за поражения на политику Конвента в Бельгии. Генерал открыто говорил всем, что Конвент — сборище дураков, руководимых негодяями, что надо покончить с анархией и восстановить монархическую конституцию. И все же Дантон, отправляясь в марте снова в Бельгию, говорил о Дюмурье: «Либо я смогу его убедить, либо я привезу его обратно».
Ни убедить, ни предупредить измену Дюмурье оказалось не в силах Дантона. 16 марта Дюмурье потерпел тяжелое поражение в сражении при Неервиндене. После этого он вступил в тайные переговоры с австрийским герцогом Кобургским. Он получил обещание, что австрийцы приостановят военные действия, чтобы дать возможность французскому генералу восстановить «порядок и законность» в Париже. Но Конвент, еще не зная этих подробностей, уже направил для ареста Дюмурье военного министра и четырех комиссаров. Дюмурье сам арестовал их 1 апреля и выдал врагу. Затем он попытался повести свою армию на Париж, но, натолкнувшись на решительный отказ солдат и офицеров, 5 апреля бежал с кучкой верных ему людей к австрийцам. Патриотизм армии еще раз спас Революцию, но Бельгия была потеряна.
Измена Дюмурье, конечно, не могла не вызвать болезненного отклика в Париже. Понятно также, что надо было попытаться не допустить новых раздоров в Конвенте из-за этого, ибо Франция еще больше нуждалась в единстве ее руководства. Жирондисты, тесно связанные с предателем, должны были бы, казалось, быть особенно сдержанными. Но они поддались гибельному для них искушению использовать дело Дюмурье против Дантона. Гибельному, ибо среди вождей монтаньяров именно Дантон старался больше всех не раздувать разногласий в Конвенте и до сих пор относительно сдержанно выступал против Жиронды. Но они безрассудно решили взвалить ответственность за измену Дюмурье на Дантона, хотя не располагали никакими доказательствами какого-либо его попустительства. Итак, будучи сами сильно скомпрометированы, они начали атаку на Дантона.
И он вынужден был объясниться, а это нельзя было сделать, умалчивая о всех известных связях Жиронды с Дюмурье. Сначала он говорил мягко: «Я приведу вам только один факт, а затем прошу вас забыть его. Ролан писал Дюмурье (и именно этот генерал показал это письмо Делакруа и мне): «Вам нужно вступить в союз с нами, чтобы раздавить эту парижскую партию, и прежде всего этого Дантона…» Но давайте опустим занавес над прошлым, нам необходимо единство…»
Это было предупреждение жирондистам о том, что им лучше всего помалкивать о Дюмурье, ибо у Дантона есть что рассказать по этому поводу. Но они не вняли здравому смыслу и еще больше усилили нападки на Дантона, заявив, что это Дантон создал в Конвенте такую обстановку, которая побудила Дюмурье затеять поход на Париж!
И вот только после этого Дантон стал действительно грозен. Еще на ходу, направляясь к трибуне, он бросил: «Негодяи, им хочется свалить свои преступления на меня». А затем он обрушился на Жиронду со всей силой своего темперамента и впервые заговорил об истинной роли жирондистов. И это было неотразимое обвинительное заключение. Он даже прибег к самокритике, рассказав о том, как убеждали его монтаньяры в том, что примирение с Жирондой невозможно, а он все еще на что-то надеялся. «Да, граждане, это моя ошибка. Слишком долго оттягивал я сражение. Но теперь это война, беспощадная война против трусов, которые не осмеливались поразить тирана».
В течение двух часов он последовательно и беспощадно разбирал все дела жирондистов, начиная с того, как они легкомысленно преступно втянули Францию в войну, как пытались сторговаться с королем незадолго до Революции 10 августа, как они пытались использовать процесс короля, чтобы втянуть Францию в хаос гражданской войны.
Монтаньяры с восторгом слушали Дантона, Марат даже привставал на месте и машинально повторял вслух особо резкие и меткие слова оратора. А затем в своей газете «Публицист Французской республики» 3 апреля Марат опубликовал восторженную статью. «Я сожалею, — писал он, — что не располагаю временем для изложения его речи. Замечу только, что она была мастерской и тем более ценной, что содержит взятое Дантоном определенное обязательство бороться отныне с неукротимым мужеством. От этого знаменитого патриота должно ожидать многого, взоры народа обращены на него, и он ждет его на поле чести».
Теперь борьба между монтаньярами и жирондистами вступила в фазу смертельной схватки, которая могла кончиться только гибелью одной из партий.
За шумной, лихорадочной общественной активностью, кипевшей повсюду — в Конвенте, в секциях, на улицах, скрывалась беспомощность, слабость высшей власти. Происходила главным образом отчаянная и слепая борьба за власть. На это расходовались энергия и время. Жирондисты обладали большинством голосов в Конвенте, но при решении самых острых и важных вопросов верх брали монтаньяры. Они пользовались мощной психологической поддержкой волновавшегося народа. Под лавиной все новых бедствий и ударов долго так продолжаться не могло.
Измена Дюмурье словно подхлестнула события. «Настал момент спасти государство или допустить его гибель», — заявил Робеспьер в последние дни марта. Но как? «Народ должен спасти Конвент, а Конвент, со своей стороны, спасет народ», — отвечает на этот вопрос Робеспьер. За этой риторической формулой стоит план удаления жирондистов из Конвента, не нанося при этом никакого ущерба его власти и авторитету. Сложная и пока непонятная никому задача. Сначала Максимилиан выдвигал ее туманно и осторожно. 3 апреля вечером он формулирует ее конкретно и резко. Он требует принять действенные меры для спасения родины: «И я заявляю, что первою такою мерою я считаю декрет о привлечении к ответственности тех, кто обвиняется в соучастии с Дюмурье, а именно Бриссо».
В том же выступлении еще одна сенсация, Робеспьер объявляет о своем выходе в отставку с должности члена Комитета общей обороны, органа, контролировавшегося жирондистами. В этот комитет его избрали всего неделю назад. Посидев на трех заседаниях, Робеспьер пришел к выводу о беспомощности органа, призванного осуществлять высшую власть, о том, что комитет служил лишь орудием Дюмурье. Поэтому Робеспьер не хочет «казаться их сообщником».
Но не является ли это отказом от власти? Нет, ибо комитет — всего лишь призрак власти. А реальная власть медленно, но верно ускользает от Жиронды.
Удивительно ослепление тех, кого Марат постоянно с иронией именует «государственными людьми»! Они отказались от постов комиссаров, направляемых Конвентом в департаменты, а затем и в армии. Все комиссары оказались монтаньярами. Изменяется не в пользу жирондистов и состав исполнительного совета, правительства. В феврале они добились смещения монтаньяра Паша с поста военного министра и заменили его Бернонвилем, которого Дюмурье выдал австрийцам. На его место назначается полковник Бушот, министр-санкюлот. Морским министром стал друг Дантона Дальбард. 5 апреля Якобинский клуб направляет циркуляр своим провинциальным филиалам с призывом «обрушить на Конвент дождь петиций» с требованием отозвания «вероломных депутатов», выступавших против казни тирана, то есть жирондистов. Циркуляр подписал Марат, который в этот день занимал кресло председателя. Влияние Друга народа растет: ведь сбылось еще одно его пророчество: измена Дюмурье. Причем с точностью до недели!
Все эти сложные, запутанные, стремительные события до сих пор сохраняют на себе печать таинственности. Как призраки, на политической сцене появляются, а затем исчезают люди, проявляющие историческую инициативу. Но кто был истинным вдохновителем их действий? Часто это остается неизвестным, иногда люди добиваются принятия решения, которое их же в скором будущем и погубит! 6 апреля Конвент учреждает Комитет общественного спасения, которому предстоит со временем стать знаменитым орудием власти монтаньяров. Инициатива его создания принадлежит жирондисту Инару. Еще в марте Конвент согласился сделать Комитет общей обороны более эффективным, сократив число его членов с 25 до 9. Комитет имеет не только новое название, его заседания должны проходить тайно, а решения выполняться немедленно. Среди его членов — только двое монтаньяров: Делакруа и Дантон, которому поручают военные, а затем и дипломатические дела. Остальные члены Комитета общественного спасения — центристы во главе с Барером. Так осуществляется идея, которую еще продолжает лелеять Дантон: власть без участия крайних, умеренных, то есть жирондистов, с одной стороны, робеспьеристов — с другой. Однако все обстоятельства дела даже в этом случае не могут радовать жирондистов, ведь в старом комитете они были хозяевами.
Как и следовало ожидать, жирондисты закричали о «диктатуре». Им ответил Марат: «Свободу должно насаждать силой, и сейчас настал момент, когда надо немедленно организовать деспотизм свободы, дабы смести с лица земли деспотизм королей».
Так родилась знаменитая формула, которую будут, без ссылки на автора, многократно повторять Робеспьер и Сен-Жюст, выражая идеологию тех монтаньяров, кого вскоре начнут называть «робеспьеристами».
10 апреля, после пяти дней молчания (а значит, и пяти дней тщательной подготовки), Робеспьер выступает с новой, более суровой и гневной обвинительной речью против жирондистов, этой «влиятельной клики, которая вступила в сговор с тиранами Европы, чтобы дать вам короля вместе с аристократической конституцией». Неподкупный создает грандиозную эпопею о преступлениях Жиронды, рукою мастера пишет их мрачную историю. Робеспьер говорит о них с презрением, ненавистью, повторяя не в первый десяток раз все те же факты, но в новом словесном обрамлении. С сарказмом говорит он об этих людях, «защищавших права народа так долго, чтобы поверить, что он в них нуждается».
Бичующие слова падают с грохотом, как тяжелые камни: амбиция, зависть, продажность, лицемерие, карьеризм, предательство… Вождь голосом прокурора истории требует, чтобы Мария-Антуанетта предстала перед Революционным трибуналом вместе с Филиппом Эгалите, первым монтаньяром, уже заключенным в тюрьму по требованию Максимилиана.
Верньо выступает с импровизированным ответом: «Это мы умеренные? Разве я не участвовал в событиях 10 августа, Робеспьер, когда ты прятался в подвале?» Напрасно! Максимилиан, как обычно, не ввязывается в полемику, но выносит окончательные приговоры, не надлежащие пересмотру, его суждения бесспорны, ибо он в них убежден. Наивный Жорес отмечает, что в словесной войне Жиронды и Горы много «отвратительных клеветнических измышлений». Великий социалист в связи с этим задается вопросом: а осталось ли у противников в этой смертельной борьбе что-нибудь общее, например, идейные, нравственные ценности, общее достояние Революции, что, по его мнению, когда-то существовало? «Но, — заключает он, — в том состоянии крайнего ожесточения, которое охватило их всех, они уже не верили в это». Однако борьба еще далеко не кончилась. Жиронда от обороны переходит к наступлению.
12 апреля Гюаде, в свою очередь, выступает с длинной речью против монтаньяров, в заключение которой выдвигает обвинение против Марата за его подпись под циркуляром 5 апреля. Как по команде, все жирондисты требуют декрета об аресте Марата. Они выбрали удачное время, большое число монтаньяров командированы в департаменты. Дантон попытался остановить атаку, предложив перенести вопрос в комиссию. Марат проявляет выдержку и молчит. Декрет принят большинством в 226 голосов против 93, причем поименным голосованием. Марат удостоился большой чести: за всю историю Конвента такая процедура использовалась всего два раза — против Людовика XVI и Марата! К Другу народа приближается офицер, чтобы арестовать обвиненного, но окружившие его сразу плотной толпой монтаньяры требуют предъявления мандата. Документ имеется, но он оформлен не по правилам! Как хорошо, что в Конвенте под рукой так много юристов! Марат беспрепятственно удаляется, чтобы скрыться в подполье. На другой день в своей газете он оценивает жирондистов как «сбежавших из сумасшедшего дома, как изменников». В Конвенте 96 монтаньяров подписывают, поднимаясь на трибуну, злополучный циркуляр, чтобы солидаризироваться с Маратом. Однако Дантон даже не шевельнулся, а Робеспьер встал, сделал несколько шагов и вернулся на место.
Правда, он сказал, что, хотя Марат «не является его другом», обвинение несправедливо: «Обвинительный декрет направлен не только против него, но против вас, против истинных республиканцев, против самого меня, может быть». Марат скрывался, но добровольно явился в назначенный день в трибунал, где и был блистательно оправдан. Толпа санкюлотов торжественно принесла его на руках в Конвент, где он спокойно занял свое место. При этом Марат сказал о жирондистах: «Теперь они у меня в руках. Они тоже пройдут с триумфом. Но это будет путь к гильотине». В общем, жирондисты совершили в истории с Маратом еще одну глупость. Тем более непростительную, что сами они уже стали кандидатами в обвиняемые.
Еще в начале апреля Люлье, бывший сапожник, ставший политиком и другом Робеспьера, потребовал от имени секции Бонконсей суда над жирондистами как «сообщниками Дюмурье». А 15 апреля Русселен, друг Дантона, выступил в Конвенте от лица 35 секций Парижа с требованием обвинения 22 главных жирондистов «как явно обманувших доверие своих избирателей».
Так, народ, санкюлоты предлагали монтаньярам поддержку. Великодушный, благородный народ протягивал руку помощи тем, кто совсем недавно клеймил его за стремление к каким-то «презренным товарам», за желание спастись от голодной смерти! Сами монтаньяры тоже сознавали, чувствовали неизбежность уступки народным требованиям. Конечно, это возмущало их буржуазное классовое сознание. От них требовалось несомненное мужество, смелость, а главное — трезвое понимание положения дел. Словом, то, чего не оказалось у жирондистов. Монтаньяры наконец нащупывают единственно верный путь к победе над Жирондой. Еще 26 марта Жанбон Сент-Андре писал Бареру (подсказав тем самым тактику, которую Барер изложит 15 апреля): «У бедняка нет хлеба, между тем как нет недостатка в зерне, но оно спрятано… Настоятельно необходимо дать возможность жить беднякам, если вы хотите, чтобы они помогли вам закончить революцию. В экстренных случаях надо считаться только с великим законом общественного спасения».
Публично и громогласно, в предельно четкой форме, как всегда, ту же мысль выразил Дантон 5 апреля в Конвенте: «Я хочу внести еще одно предложение. Необходимо, чтобы по всей Франции цены на хлеб стояли в правильном соотношении к заработку неимущих. Этим декретом вы одновременно обеспечите народу и его существование, и его достоинство. Вы побудите его всецело примкнуть к революции, вы приобретете его уважение и его любовь».
Вынужден занять позицию и Робеспьер. Он сделал это не прямо и откровенно, как Дантон и другие монтаньяры, а в свойственной ему возвышенной риторической и помпезной форме туманных абстракций. Поводом для него служили не бесчисленные петиции бедняков об их нуждах, а проект новой Конституции, подготовленный комиссией Конвента под руководством Кондорсе. В нем, естественно, содержалась Декларация прав с формулой, гарантирующей право на собственность. Робеспьер забраковал проект, и в то время, когда страну и народ терзали тяжелые известия о поражениях республиканцев в Вандее, когда со всех сторон грозило вторжение врага, когда бедняки городов голодали, а Конвент раздирала жестокая борьба, он произнес пять пространных речей о «вечных» принципах конституции.
Заботы нынешнего дня не имеют значения: «Помните только о вселенной, которая взирает на нас!» Робеспьер отбрасывает все ради создания монумента для будущих веков в виде «вечного закона». В действительности он все это делает именно ради самой злободневной проблемы борьбы с жирондистами, в которой он поразит всех своим величием политического деятеля, воодушевленного лишь высокими идеалами, а не «презренными товарами». Первую речь о Декларации прав, произнесенную в Якобинском клубе 21 апреля и прочитанную второй раз в Конвенте 24-го, он прямо начинает с вопроса о собственности. Нельзя не признать, что рассуждения Робеспьера на эту тему — просто шедевр ловкой политической тактики. Он поистине гениально решает двойную задачу: практически успокоить буржуазию и одновременно морально заклеймить презрением богатых, что понравится санкюлотам, беднякам, разделяющим благородный удел нищеты. «Пусть грязные души, — говорит он, — уважающие только золото, знают, что я отнюдь не хочу касаться их сокровищ, каким бы нечистым ни был их источник. Знайте, что тот аграрный закон, о котором вы столько говорили, лишь призрак, созданный плутами, чтобы напугать дураков… Мы убеждены в том, что имущественное равенство есть химера… Гораздо важнее сделать бедность почтенной, чем осудить богатство».
Но, кроме этой двусмысленной фразеологии, Робеспьер предложил свой проект Декларации прав с такой формулой собственности, которую горячо поддержала бы Жак Ру, Варле, другие «бешеные», все, кто хотел, чтобы Революция дала что-то и беднякам. Она гласила: «Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться тою долею имущества, которая ему гарантирована законом».
Из этого положения вытекало, что имущество может быть ограничено какой-то «долей». Значит, могут быть удовлетворены требования о максимальных ценах, о преследованиях скупщиков, об обложении богатых чрезвычайными налогами! Даже требуемый некоторыми «аграрный закон», раздел земли и другой собственности оказывался возможным делом! Правда, забегая вперед, заметим, что когда после уничтожения Жиронды с помощью народа монтаньяры утвердят свою конституцию, то в ней этого пункта уже не будет. Его сформулируют вполне в жирондистском духе. Но кто мог допустить тогда, в конце апреля 1793 года, что речь идет о демагогической приманке, о тактическом маневре с целью привлечения народа на борьбу с Жирондой? Таким образом, Робеспьер тоже шел к союзу с народом, правда, в присущей ему всегда особой манере.
Как это ни странно, но жирондисты, заслужившие прочную репутацию «интриганов», оказались неспособны даже на время покривить душой и призвать буржуазию к временным уступкам санкюлотам, ведь в конце концов монтаньяры в социальной политике и не сделали ничего большего. Но в каком-то ослеплении они отталкивали от себя народ громогласной заботой о буржуазной собственности, причем в самое неподходящее для них время.
Сделал это Петион, тот самый, вместе с которым Робеспьер начинал свою политическую карьеру еще в Генеральных Штатах. В конце апреля в «Письмах к парижанам» он призвал парижскую буржуазию к отпору посягательствам на собственность. «Ваша собственность находится под угрозой, — писал Петион, — а вы закрываете глаза на эту опасность. Разжигают войну между имущими и неимущими, а вы ничего не предпринимаете для ее предупреждения… Парижане, очнитесь наконец от вашей летаргии и заставьте этих ядовитых насекомых бежать в свои щели!»
Итак, жирондисты наконец поняли то, что уже раньше осознали монтаньяры: судьба событий решается не столько в Конвенте, сколько в народе, практически в секциях, непрерывно заседавших в 48 округах Парижа. Это были странные, необычные собрания людей, проходившие в неуютных залах, иногда в подвалах, часто ночью при колеблющемся свете масляных ламп или дрожащем пламени свечей, отбрасывавших тени еще более причудливые, чем все происходящее. Богатые, «порядочные» люди не любили бывать здесь и смешиваться с чернью. Действительно надо было обладать исключительной страстью, темпераментом, необычайной заинтересованностью в общественных делах, чтобы терять время на выслушивание нередко бессвязной и неграмотной болтовни, прерываемой резкими перепалками и грубыми выкриками. Картину секционной борьбы в Париже трудно представить реально, если не учитывать наблюдавшуюся ранее слабую политическую активность столичного населения. В крупнейших выборах участвовало лишь около десятой части 700-тысячного населения города. Только в трех-четырех секциях, кстати с наиболее богатым населением, проявлялось больше активности. Но чаще собиралось не более сотни человек, а то и меньше. Но зато это были настоящие политические бойцы, одержимые люди, действительно «бешеные». Голосовали открыто, часто просто криками, и санкюлоты, всегда более смелые, чем осторожные состоятельные люди, обычно брали верх. Но вот по призыву жирондистов буржуа устремились в секции. Они сразу убедились, что все выборные должности уже заняты беднотой, часто людьми крайних убеждений. Презрительно третируя долгое время секционные собрания, буржуа упустили время. Добиться перелома настроения в пользу жирондистов теперь уже трудно. Убеждение, что их надо устранить из Конвента, уже укоренилось, а многие сторонники Жака Ру считали, что для пользы дела следовало бы разогнать и весь Конвент, заменив его революционной Коммуной по образцу той, которая возглавила восстание 10 августа прошлого года. Но и в таких условиях буржуазии часто удавалось захватывать руководство, например в секции Елисейских полей. И хотя в целом по Парижу большинство секций оставалось за санкюлотами, соотношение сил колебалось. Ведь была еще и Национальная гвардия, состоявшая из вооруженных граждан. Даже по подсчетам самых левых и самых революционных вожаков санкюлотов буржуазные батальоны насчитывали 160 тысяч человек, они явно превосходили батальоны санкюлотов из восточной и северной частей Парижа. Поэтому в случае прямой атаки на буржуазную собственность и тем более осуществления лозунга некоторых «бешеных»: «Грабь награбленное!», исход дела мог оказаться плачевным для них. Это понимали далее самые яростные из «бешеных» и поэтому не шли дальше требования лишь частичного ограничения частной собственности вроде максимума цен и чрезвычайного налогообложения богатых. Так, Коммуна Парижа по инициативе Шометта установила налог на богатых в размере 12 миллионов на покрытие военных нужд, конкретно на борьбу с восстанием в Вандее. В общем, дальше стихийных рукопашных схваток где-нибудь в Люксембургском парке или на Елисейских полях между богатой молодежью и санкюлотами дело не доходило.
Социальная борьба не выходила из рамок законных петиций секций и Коммуны. Народные представители сами склонялись к компромиссу. Так, депутация граждан предместья Сент-Антуан прямо заявляла 1 мая в Конвенте: «Пусть будет установлен максимум, и мы все будем защищать вашу собственность и еще больше собственность отечества». Однако, чтобы навязать это предложение об условиях сделки, использовалась и угроза: «Если вы их не примете, то мы заявляем вам, что мы находимся в состоянии восстания, десять тысяч человек стоят у входа в зал».
Только в результате такого давления Конвент принял 4 мая декрет о максимуме цен на муку и зерно. Впрочем, до реального выполнения его пройдет еще много времени и событий. Итак, давление народа и собственный интерес буржуазии, отнюдь не заинтересованной в реставрации феодальной системы, определяли социальную политику монтаньяров. Это проявилось даже в таком внешне весьма революционном мероприятии, как заем у богатых на огромную сумму в один миллиард ливров. Министр финансов Камбон, разъясняя буржуазии смысл этого мероприятия, говорил, как бы от имени бедняков, имитируя их соображения: «Ты богат… Я хочу уважать твою собственность, но я хочу вопреки тебе самому связать тебя с Революцией, я хочу, чтобы ты ссудил свое состояние Республике, и, когда свобода будет установлена, Республика вернет тебе твои капиталы». Впрочем, это была вовсе не «жертва» богатых, а выгодная сделка: квитанции займа принимались в уплату при покупке имений эмигрантов. В условиях обесценения денег заем оказался очень выгодным для буржуазии. Если монтаньяр Камбон, богатый коммерсант, рассуждал как деловой человек, то иначе подходил к социальным проблемам Робеспьер.
Даже сугубо материальные, денежные дела, а тем более политические он всегда переносит в область морали. Как и Камбон, Робеспьер стремится усилить общий фронт Горы, буржуазии и санкюлотов. Он говорит 8 мая в Конвенте: «Не различайте людей по их имущественному положению или по их должности, но по их характеру». У него всегда упрощенная, но зато доходчивая и понятная народу нравственная, этическая схема: «Существуют только две партии, партия продажных людей и партия людей добродетельных».
В том же выступлении Максимилиан умудряется с помощью своей удивительной логики внушать, причем на примере собственной личности, как прекрасно быть бедным и какое несчастье быть богатым: «Часть защитников народа позволила себя подкупить. Я тоже мог бы продать свою душу за богатство. Но я в богатстве вижу не только плату за преступление, но и кару за преступление, и я хочу быть бедным, чтобы не быть несчастным».
Разумеется, и в этой речи Максимилиан говорит о народе, говорит, как всегда, с патетической взволнованностью и трепетом: «Доверенные мне народом обязанности были бы для меня мучением, если бы при виде лицемерия, от которого он страдает, я не поднимал мужественно голоса в его защиту». Естественно было бы ожидать, что оратор скажет о тех страданиях, которые испытывал тогда народ от голода. Ведь достаточно было взглянуть на длинные очереди у хлебных лавок или просто слушать то, о чем говорилось в многочисленных петициях, непрерывным потоком поступавших в Конвент. Нет, Робеспьер имеет в виду не это, а то, что на народ клевещут, будто он возмущен роскошью, богатством буржуазии и своей нищетой, столь явной из-за имущественного неравенства. И Робеспьер «мужественно» опровергает эту клевету: «Санкюлоты, неизменно руководствуясь любовью к человечеству… никогда не претендовали на имущественное равенство, а на равенство прав и счастья». Здесь та же самая логика: лучше быть бедным, голодным и счастливым, чем богатым, сытым и несчастным!
Правда, не вся речь состоит из самовосхваления и обычного перечисления всего того, что Робеспьер сделал для Революции. Он перечисляет конкретные действия, которые уже и без его призывов осуществляет Коммуна. Что касается своих намерений, то Робеспьер заявляет: «Я презираю все опасности ради того, чтобы нанести поражение тиранам и спасти свободу».
На другой день политический агент Дютор, присутствовавший на заседании Якобинского клуба, пишет в своем донесении министру внутренних дел: «Робеспьер теряет доверие к себе по причине своей трусости».
Действительно, надвигаются грозные события. 12 мая в Епископате собираются представители секций, чтобы обсудить идею восстания против Конвента. Они делают это не по призыву Робеспьера, ибо он призывает к борьбе только в рамках законности: «Вы находите в законах все необходимое для того, чтобы законным образом истребить ваших врагов». Но восстание противозаконно, да еще и против Конвента! Между тем тот же полицейский агент в своем следующем донесении пишет: «В этот грозный момент объединяются те, кто действовал 2 сентября». А в первые дни сентября 1792 года происходили массовые избиения в тюрьмах. Представитель вооруженных санкюлотов заявляет, почти текстуально повторяя прошлогодние призывы: «Подумайте о том, что, отправляясь в Вандею, вы оставляете здесь роландистов, бриссотинцев и болотных жаб». Правда, тогда речь шла об аристократах, заключенных в тюрьмах. Робеспьер знает, что положение обостряется, и это доводит его до болезни. В период решающих событий между 13 и 24 мая он не занимается никакой деятельностью. Как всегда, перед наступлением революционных дней усталость, тоска, страх охватывают и парализуют его.
Вожди монтаньяров — Робеспьер, Марат, Дантон — действуют, думают и говорят по-разному. Мнение некоторых историков — преимущественно советских, — что они составляют в мае 1793 года реальный триумвират, спаянный единством слова и дела, видимо, продиктованное благими намерениями показать единство революционных сил, это якобы обязательное условие и особенность любой народной революции — всего лишь иллюзия. Увы, жизнь и на этот раз оказалась сложнее. Существует, правда, сомнительная мемуарная версия о том, что будто бы в это время где-то на улице Шарантон, в предместье Сент-Антуан, происходили тайные совещания Робеспьера, Дантона и Марата. К сожалению, это не подтверждают никакие надежные источники. Конечно, они были едины против общего врага — жирондистов. Но не более. Во всем остальном они действуют каждый по-своему и без всяких признаков какого-либо определенного соглашения между собой. Слишком это разные люди.
Марат, вероятно, смеялся про себя, слушая пылкие излияния Робеспьера о том, как он счастлив быть бедным. Уж кто-кто, а Марат знал настоящую бедность. Жил в подвалах, скрывался в жалких каморках самых бедных санкюлотов, одевался в лохмотья. Что общего у него могло быть с Робеспьером, этим чопорным буржуа, всегда безупречно, тщательно одетым и напудренным на манер старых аристократов? Робеспьер с презрением относится к манере многих революционеров носить фригийский колпак, красную вязаную шапку или карманьолу, короткую куртку. Ему претила всякая простонародность в ее реальном жизненном облике. Кстати, как писал младший брат Максимилиана Огюстен, Марат «жил как спартанец». Конечно, как депутат Конвента он получал теперь 18 ливров в день (если присутствовал на заседании). Но Марат раздавал беднякам все, что у него было. Огюстен рассказывал, что, когда Марату нечем было помочь кому-либо из его многочисленных нищих друзей, он направлял их за помощью к своим политическим единомышленникам, наивно полагая, что и они должны поступать таким же образом. Кстати, после смерти Марата осталось состояние в 25 су, меньше дневного заработка рабочего. Интересно, что состояние братьев Робеспьеров (на двоих) после их смерти, по справке нотариуса, насчитывало 12 тысяч ливров. Тоже не великое богатство. Дюпле, у которого жил Робеспьер, в год имел доходы раз в пять больше. Все же 1 ливр 5 су — вот какое наследство оставил Марат, никогда не считавший бедность счастьем, подобно Робеспьеру!
Единство партии монтаньяров — понятие неустойчивое, зыбкое, хотя число их в Конвенте росло, приближаясь уже к 250 депутатам. Ну а что касается прочности связывавших их уз, то, по мнению того же Дютара, весьма проницательного, хотя и полицейского наблюдателя, то, судя по его донесению 17 мая, дело обстояло так: «Якобинцы, стало быть, делятся на две партии, весьма различные и обособленные: с одной стороны, образованные люди, собственники, которые немного думают о себе, как бы против своей воли, — сюда относятся Сантерр, Робеспьер и большая часть членов Горы: с другой стороны — анархисты, обосновавшиеся частью у якобинцев, но главным образом у кордельеров, которых возглавляет Марат».
Народ любил Марата, как никого другого из монтаньяров и вообще из деятелей Революции. Конечно, его считали немного одержимым, но восхищались тем, как сбываются все его предсказания. Марат не только не льстил народу, но часто резко порицал его. Он явно не искал популярности, не подлаживался под настроения массы санкюлотов, часто действовал вопреки им. Простые люди это понимали и ценили. Главное — верили в его искренность. Авторитет Марата особенно укрепился в мае 1793 года, и это играло огромную роль. Для монтаньяров Марат оказался особенно ценной фигурой, ибо он являлся как бы посредником между ними и санкюлотами. Тем, что народ пошел за монтаньярами, они в значительной мере обязаны Марату.
Если Марат прикрывал монтаньяров слева, то Дантон — справа. Хотя он и объявил войну Жиронде, в глубине души у него еще теплилась надежда на какой-то компромисс, который позволил бы избежать опасного кризиса республики, если Конвент будет разогнан, как требовали многие из «бешеных». Не привлекала его и перспектива, столь дорогая сердцу Робеспьера: превращение Конвента в однопартийное собрание монтаньяров. «Он отлично понимал, — пишет Жорес, — что с устранением Жиронды он уже не сможет проводить ту широкую политику, в которой был особенно силен, и окажется замкнутым вместе с Робеспьером в несколько узком кругу сектантского якобинизма».
Однако его не слишком энергичная борьба против жирондистов в апреле — мае 1793 года объяснялась не столько этими сомнениями, сколько тем, что он возглавил Комитет общественного спасения. Собственно формально он вовсе не был его главой. Но почему-то все говорили о «Комитете Дантона». Вновь обаяние и сила личности, помимо воли Дантона, отодвигали на второй план его коллег. Конечно, здесь играло роль и то, что в Комитете на плечи Дантона легли тогда самые тяжелые и неотложные заботы: война и дипломатия. Он сумел внести существенные изменения во внешнюю политику. Война началась под трубные звуки авантюристических лозунгов Жиронды, намечавших революционное завоевание всей Европы. Еще в конце 1792 года Дантон ограничил эти претензии «естественными границами». Сейчас он идет дальше и объявляет, что Франция вообще не хочет вмешиваться в дела других стран и поддерживать «горсточку патриотов, которым вздумалось бы устроить революцию в Китае».
Довольно авантюр и завоевательных замыслов! И Дантон провозглашает: «Граждане, нам прежде всего следует подумать об охране нашего государственного существования и об усилении мощи французской нации… Вынесем решение не вмешиваться в дела наших соседей, но постановим также, что республика будет существовать, и приговорим к смертной казни всякого, кто предложит мир, не основанный на принципах нашей свободы и независимости». Последнее грозное предложение призвано лишить почвы всякие подозрения в отношении дипломатических маневров Дантона, направленных на раскол антифранцузской коалиции путем отрыва от нее Пруссии, а еще лучше Англии. Бездна забот у Дантона с ведением войны. Где взять оружие для формируемой 300-тысячной армии? Все внешние связи Франции разорваны, и Дантон затевает рискованные комбинации по тайному приобретению оружия, вроде покупки 53 тысяч ружей у драматурга и торговца оружием эмигранта Бомарше…
Конечно, внутренние враги — жирондисты тоже требуют внимания Дантона. Это он подсказал своему другу Камиллу Демулену идею памфлета, окончательно срывающего маску с Жиронды. Камилл на этот раз особенно блистательно подтвердил свой талант безудержной фантазии. Вся Французская революция оказалась исключительно плодом заговора английского премьера Питта, а Бриссо такой же его агент, как раньше Мирабо и Барнав. Истоки заговора жирондистов Демулен обнаруживает, впрочем, еще в делах Ришелье и Мазарини, два века назад! Демулен предлагает очень оригинальную теорию обнаружения заговора: «Было бы недобросовестно требовать от нас фактов, доказывающих наличие заговора… Достаточно существенных признаков».
Так, с бесподобным легкомыслием Демулен сформулировал теорию, всю «ценность» которой он сможет оценить на собственной судьбе. Когда он, как всегда заикаясь, прочитал за ужином памфлет жене Люсиль и Дантону, те смеялись до слез. Демулен с гордостью говорил о памфлете: «Тот, кто его выслушает, тотчас спросит: «Где эшафот?» Вот так, в азарте межпартийной борьбы создавалась особая обстановка, небывалая атмосфера, которая не имела ничего общего с теориями великих французских просветителей, идейно готовивших революцию. Ведь они определяли лишь ее цели, но ничего не писали о средствах, которые рождались стихийно, неожиданно для самих деятелей революции. А они думали лишь о задачах сегодняшнего дня, совершенно не представляя себе день завтрашний. Революция как бы жила, росла, развивалась сама по себе, роковым, но неизвестным путем, определяя судьбы тех, кто творил революцию.
Жирондисты, действовавшие еще более слепо, проявляли не меньшую ожесточенность. Возмущенные поведением Парижа, вернее его политически активной части, секций, Коммуны, Якобинского клуба, народных обществ, они готовят контрнаступление. 10 мая Конвент перебрался из Манежа во дворец Тюильри. Изящный и пышный зал бывшего королевского театра с помощью драпировок, деревянных столбов, гипсовых статуй преобразился. Продолговатый зал длиной сорок два метра, шириной в десять, а высотой — в одиннадцать стал скучным унылым помещением, которому суждено было стать ареной еще небывалых по ожесточенности страстей. Люди, затеявшие это переселение, стремились сделать Конвент менее доступным для толпы, чем Манеж, слишком открытый со всех сторон. В действительности это не спасло никого. Именно из этого зала многим депутатам придется проделать путь к эшафоту. Теперь жирондисты начали здесь последние битвы.
18 мая они переходят в наступление. Его начал Гюаде, адвокат из Бордо, как и Верньо, хотя и не такой блестящий оратор. Считалось, что он зато более серьезен и солиден. Гюаде потребовал свергнуть парижские городские власти, «анархистские и жадные до власти и денег». Конкретно он требовал замены муниципалитета председателями секций. На случай роспуска Конвента его роль будут выполнять заместители депутатов, которые должны собраться в Бурже.
Здесь все неясно, странно и необъяснимо, кроме ненависти жирондистов к Парижу. Конвент никто не собирался распускать, кроме особенно неистовых «бешеных». Неясно также, будут ли председатели секций более послушными Жиронде? А если среди них окажется большинство из санкюлотов? Находчивый и гибкий Барер, еще колебавшийся между жирондистами и монтаньярами, отверг смутный план Гюаде и вместо него предложил избрать Комиссию двенадцати, которая проверила бы деятельность парижских властей. В состав комиссии вошли одни жирондисты.
Наступление Жиронды просто выдохлось бы, если бы случай не дал комиссии желанного повода для действий. 19 мая два полицейских чиновника Марино и Мишель выдвинули сногсшибательный план: тайно похитить два десятка самых видных жирондистов, в укромном месте прикончить их, а потом распустить слух, что они эмигрировали! Великолепный материал давал также в своей газете «Пер Дюшен» Эбер. Почти в каждом майском номере появлялись призывы вроде, например, такого: «Огонь тлеет под пеплом, и бомба вот-вот взорвется. Бриссотианцы, роландисты, скоро зазвучит набат свободы, и час вашей смерти пробьет. Те, кто уничтожил королевскую власть, сумеют истребить интриганов и предателей».
Вечером 24 мая Комиссия двенадцати начинает действовать: выписывается ордер на арест Эбера, Варле, Добсана, Марино и Мишеля. Все парижские секции подчинялись контролю Комиссии, и начиналось расследование их деятельности.
Реакция последовала немедленно. Секции непрерывно заседают, идут бурные споры, вносятся предложения одно другого воинственнее и непримиримее. 25 мая к Конвенту устремляются возмущенные представители секций. Трибуны для публики в новом помещении специально построили так, чтобы народ был подальше от депутатов. Но сегодня они грозят рухнуть под тяжестью переполнивших их людей.
Делегация Коммуны гневно протестует против преступления Комиссии двенадцати, арестовавшей заместителя прокурора Коммуны Эбера. Возмущение вполне обоснованное…
Но председательствующий жирондист Ипар словно взрывается. Этот южанин из Прованса вообще отличался склонностью к громким и эффектным фразам. На этот раз он в состоянии яростного экстаза.
«Если когда-либо Конвент будет унижен, если когда-либо одно из этих восстаний, которые после 10 марта возобновлялись беспрерывно и о которых муниципалитет уведомляет нас в последнюю очередь (слева возмущенный шум, справа — аплодисменты)… если в результате этих постоянно возобновляющихся восстаний случится так, что на национальное представительство будет совершено покушение, то я вам заявляю от имени Франции… (слева крики: «Нет!», справа: «Говорите от имени Франции!»).
Я вам заявляю от имени всей Франции: Париж будет уничтожен; вскоре на берегах Сены будут разыскивать то место, где был этот город!»
В зале неописуемый шум. Еще бы, ведь жирондист почти буквально повторил угрозу герцога Брауншвейгского! Крики сливаются в сплошной рев.
Шум смолкает только тогда, когда на трибуну поднимается Дантон. Уж он-то сумеет ответить на наглую угрозу со своим громовым красноречием! И вдруг Дантон начинает говорить нечто такое, что на него совсем не похоже. Он уговаривает, рассеивает недоразумение: «Зачем предполагать, что когда-нибудь на берегах Сены будут тщетно разыскивать то место, где был Париж? Совсем не подобают председателю подобные настроения! Он должен выступать только с утешительными идеями… Даже среди лучших граждан встречаются люди слишком запальчивые… Объединимся же!»
Вспомним Дантона накануне 10 августа 1792 года, когда он энергично готовил народное восстание. Теперь говорит как будто другой человек. Возможно, это происходило потому, что надвигавшееся восстание серьезно отличалось от народных выступлений 14 июля и 5-6 октября 1789 года, 10 августа 1792 года, которые были направлены против монархии, против короля, против аристократов. Но сейчас речь идет о восстании против Конвента, созданного революцией, о восстании одной части революции против другой. Народ угрожает уничтожением собственного творения — революционного Конвента! И это обескураживает Дантона. Он все еще рассчитывает на примирение…
26 мая, после десяти дней полного молчания, в Якобинском клубе выступает Робеспьер и, как обычно пишут историки, призывает народ к восстанию. Действительно, в своей речи Максимилиан говорит: «Когда народ угнетен, когда он может рассчитывать только на самого себя, было бы трусостью не призвать его к восстанию… Этот момент настал».
Однако после этой смелой общей формулы следует вдруг нечто более конкретное: «Я призываю народ объявить в Национальном Конвенте восстание против всех подкупленных депутатов». Это уже нечто иное, чем восстание против власти Конвента. Речь идет лишь о петиции, о демонстрации внутри Конвента. Ясно, что Робеспьер за время своего молчания понял, что только революция может решить исход дела. Он опасается отстать от событий и произносит слово «восстание», но при этом он озабочен больше всего тем, чтобы Конвент не пострадал, чтобы законность не была нарушена. И как всегда, он больше думает не о коллективных, не о массовых действиях, но о своей личной роли: «Я заявляю, что, получив от народа право защищать его права, я считаю своим угнетателем того, кто меня перебивает или не дает мне слово, и я заявляю, что я один поднимаю восстание против председателя и всех членов, заседающих в Конвенте».
Оказывается, речь идет о «восстании» Робеспьера против нарушения регламента заседания Конвента, восстании за право свободно произносить речи. Это совсем не похоже на революционное восстание народа с оружием в руках! Робеспьер горячо желает устранения жирондистов, но он боится народного восстания.
Когда на другой день 28 мая Робеспьер берет слово в Конвенте, он еще более ясно обнаруживает страх и замешательство, которые он испытывает. «Я прошу вашего внимания и снисхождения, — говорит он, — ибо я физически не в состоянии сказать все то, что мне подсказывают чувства, вызванные во мне опасностями, нависшими над родиной». Для чего же тогда он вообще поднялся на трибуну? Оказывается, он хочет вновь повторить обвинения против жирондистов, напомнить им их маневры перед 10 августа 1792 года. Но его прерывают напоминанием о том, что сам он в то время выступал в роли защитника монархии, издавая газету «Защитник конституции». Возразить ему нечего, и он откликается жалкой репликой: «Вы видите, как пользуются слабостью моего голоса, чтобы мешать мне сказать правду». Робеспьер ни слова не говорит о бурлящем, волнующемся движении народа Парижа, о мобилизации революционных сил, которая происходит без него и помимо него. Значит, задача его выступления в том, чтобы просто напомнить о своем существовании в момент, когда еще не определилось соотношение сил. В заключение он фактически капитулирует: «Я предоставляю этим преступным людям завершить их гнусное поприще. Я оставляю им эту трибуну… Я жалею, что физическая слабость не позволяет мне полностью разоблачить все их козни».
Конечно, Робеспьеру действительно не давали говорить. Жирондисты, чувствуя, что после провокационной речи Инара Конвент окончательно выходит из-под их контроля, что резко усиливается давление санкюлотов Парижа, возмущенных арестом Эбера и других левых, ведут себя крайне резко, устраивают обструкцию любому, кто осмеливается их критиковать. Напряженность усиливалась, с трибун, заполненных до предела, неслись грозные крики, бурлящая толпа стояла у дворца Тюильри.
Это уже начинало напоминать яростные споры внутри осажденной крепости. Когда жирондисты пытались с помощью процедурных уловок лишить слова своих противников (как было и с Робеспьером), Дантон, молча и мрачно наблюдавший весь этот хаос, не выдержал, вскочил и загремел прямо с места: «Такое бесстыдство начинает нас утомлять. Я заявляю Конвенту и всему французскому народу, что если будут продолжать держать в заключении граждан, все преступления которых заключаются в крайностях патриотизма, если постоянно будут отказывать в слове тем, кто хочет выступить в их защиту, — я заявляю, что, если есть здесь сто честных граждан, мы вам окажем сопротивление. Комиссия двенадцати держит в заключении в Аббатстве должностных лиц народа, не соизволив представить об этом никакого доклада».
Только на другой день Робеспьер решается. Нет, он не присоединяется к подготовке восстания. Он лишь дает согласие на то, чтобы другие руководили восстанием, предоставляя эту задачу Коммуне Парижа. 29 мая он произносит в Якобинском клубе слова, пронизанные страхом, безнадежностью, бессилием: «Я не могу предписать народу, какими средствами надлежит спасаться. Это не в силах отдельного человека. Это не в моих силах, ибо я изнурен четырьмя годами Революции и душераздирающим зрелищем торжества тирании и всего, что есть самого подлого и самого развращенного. Не мне указывать эти средства, ибо я снедаем длительной лихорадкой и особенно лихорадкой патриотизма. Я сказал, и в данный момент у меня нет другого долга».
Марат тоже болен. Болен не от страха, неуверенности или сомнений. Это настоящая серьезная болезнь, и Марат, будучи врачом, знал, что дни его сочтены, и спешил действовать. Еще 26 мая он тоже выступил в Якобинском клубе. Его краткая речь — это программа действий. «Заниматься разоблачением клики государственных людей значило бы попусту терять время. Эта клика достаточно хорошо известна… Важно собраться завтра, чтобы противостоять их замыслам. Важно уничтожить Чрезвычайную комиссию двенадцати, которая задумала сразить мечом закона энергичных друзей народа. Нужно, чтобы вся Гора восстала против этой презренной Комиссии, да будет она предана общественному проклятию и бесповоротно уничтожена».
Марат дает ясный и точный лозунг, хотя неясно пока, кому он его адресует: Якобинскому клубу, Конвенту или народу? Видимо, он рассчитывал подтолкнуть нерешительных, колеблющихся монтаньяров, таких, как Робеспьер, и еще более робких.
На другой день, 27 мая, Марат выступает в Конвенте, как только началось заседание. Он повторяет свой вчерашний лозунг, выдвинутый у якобинцев: война против Комиссии двенадцати и против клики «государственных людей», то есть против жирондистов. Он связывает социальную и политическую стороны дела: «С того момента, как был декретирован принудительный налог на богатых, вы пытаетесь расколоть секции Парижа… Если патриоты будут вынуждены прибегнуть к восстанию, то это будет вызвано вами. Я требую, чтобы эта Комиссия двенадцати была упразднена как враждебная делу свободы, которая вызовет очень скоро народное восстание, из-за пренебрежения, проявляемого к чрезмерному росту цен на продовольствие…» В этот день Конвент осаждают делегации секций, и среди народа из уст в уста переходят слова Марата: «Мы уйдем только тогда, когда убедимся в том, может ли Конвент нас спасти или надо, чтобы народ спасал себя сам».
Заседание Конвента 27 мая заслуживает того, чтобы хоть кратко рассказать о нем особо. Дело не только в том, что в конце этого очень долгого, очень бурного собрания осуществилось одно из требований Марата, чего он и сам не ожидал. В этот день обнаружилось, как народное движение начало буквально затоплять Конвент. На заседании произошла прямая непосредственная встреча монтаньяров с народом Парижа, показавшая всю сложность взаимных отношений этих двух сил.
Председательствовал на заседании все тот же Инар, который грозил уничтожить Париж. Напряженность усиливали не только обычные перепалки между двумя враждующими партиями, но делегации парижских секций, которых в этот день собралось особенно много.
Делегация от секции Сите, председателя которой Добсана арестовали вместе с Эбером, требует не только его освобождения, но и роспуска Комиссии двенадцати: «Время жалоб миновало. Мы пришли предупредить вас: спасайте Республику, либо же вставшая перед нами необходимость самим себя спасти вынудит нас это сделать…»
Председатель отвечал высокомерным отказом и назидательной речью, прерываемой возмущенными репликами левой. Затем следуют выступления, Робеспьер произносит свою сбивчивую речь, звучит реплика Дантона, выступают еще несколько депутатов… В семь часов вечера на заседание является министр внутренних дел Гара. Его известили о напряженном положении в Конвенте и вокруг него, о том, что жирондисты вызвали на всякий случай отряды Национальной гвардии из «умеренных», то есть буржуазных округов.
Когда министр через боковую дверь с трудом пробрался в зал заседания, то перед ним предстала картина, напоминавшая, по его собственному признанию, «поле боя». Гара, жирондист по своим симпатиям, произнес пространную речь, в которой хотел показать себя объективным и беспристрастным. В результате получилась такая картина, что ему аплодировали монтаньяры, а жирондисты роптали. Во всяком случае, закончил он заверением, что Конвенту нечего опасаться какого-либо насилия и депутаты могут спокойно отправляться домой. Многие жирондисты сразу начали покидать свои места. Председательствующий Инар, занимавший кресло больше десяти часов, уступил председательствование другому жирондисту, члену Комиссии двенадцати. Это вызвало протесты монтаньяров, и тогда председатель объявил заседание закрытым. Новые протесты Горы, депутаты которой требовали принять делегации секций, ожидавшие уже несколько часов. В этот момент кресло председателя занял монтаньяр Эро де Сешель и под аплодисменты объявил о продолжении заседания.
Своеобразие этого человека — колоритный пример пестрого и сложного социального состава Горы. Молодой красавец, заслуживший прозвище «Алкивиада Французской революции», происходил из богатой аристократической семьи. Достаточно сказать, что он был кузеном герцогини Полиньяк, любимой подруги Марии-Антуанетты. В 20 лет он уже занял должность прокурора королевского суда. Но он не утруждал себя службой, предпочитая развлечения в кругу молодежи, воспитанной в духе Вольтера, скептической, насмешливой и вольнодумствующей. 14 июля 1789 года он оказался вблизи Бастилии, включился в ряды осаждающих и одним из первых поднялся на башни крепости. С тех пор он связал свою судьбу с революцией и прошел политический путь от фейянов до монтаньяров, которых он теперь и представлял, сохраняя, впрочем, и в кругу санкюлотов аристократические манеры и весьма независимые, скептические воззрения. Эро де Сешель был одним из близких друзей Дантона.
Председатель объявил о приеме делегаций секций, требовавших освобождения Эбера, Варле и других, ликвидации Комиссии двенадцати.
Делегации необычайно живописны. Революция даже в трагические дни грозных внешних и внутренних смертельных опасностей выглядела празднично, торжественно. Страдающие от нищеты санкюлоты ощущали Революцию как праздник. Грандиозные общественные манифестации, талантливо оформленные знаменитым художником-монтаньяром Давидом, задавали тон, создавали определенный неповторимый стиль, в который народное творчество вносило свои демократические штрихи. Делегации всегда после оглашения петиций требовали права продефилировать перед Конвентом. Одни в лохмотьях, другие в щегольских мундирах Национальной гвардии, с огромными трехцветными кокардами и шарфами, с развернутыми знаменами секций, они при этом не только пели новые, рождавшиеся в изобилии революционные песни, но еще и танцевали на ходу. Народ с наивной гордостью ощущал и демонстрировал свою силу.
Революционный народ Парижа говорил с депутатами поистине революционным языком. Делегация секции Гравилье, где духовным вождем был «красный кюре» Жак Ру, заявляла 27 мая в Конвенте: «Горе предателям, которые, упившись золотом и властью, хотят заковать нас в цепи. Депутаты Горы, своей тяжестью вы раздавили голову тирану, мы заклинаем вас спасти отечество…»
Здесь делегацию прерывают крики монтаньяров: «Да, да, мы спасем его!»
…Если вы можете и не хотите этого сделать, то вы трусы и предатели. Если же вы хотите, но не можете этого сделать, то скажите об этом открыто, это цель нашего прихода сюда: сто тысяч рук вооружены, чтобы вас защищать!»
От таких слов бледнели добропорядочные буржуа, но они восхищали утонченного аристократа Эро. А ведь когда-то сама королева Мария-Антуанетта подарила ему собственноручно вышитый шарф! Это был особый новый тип человека, плод века Просвещения, когда философская культура воспитала любовь к человеку в любом его облике, плод Революции, возвещавший прекрасную зарю обновленного человечества.
Эро де Сешель охотно согласился поддержать требования секций и повторил их лозунг: «Республика или смерть». Он заявил, что «сила разума и сила народа», Конвент и народ должны сливаться воедино. Это братание депутатов-монтаньяров и делегатов секций символизировало согласие на народное восстание. Многие делегаты после подачи своих петиций занимали места и оставались в зале Конвента. Около полуночи председательствующий Эро де Сешель по предложению Дантона поставил на голосование предложение об упразднении Комиссии двенадцати. Правда, это голосование имело во многом символическое значение. На другой день после горячих прений провели решение о восстановлении Комиссии и об отмене принятого накануне декрета. Тогда Дантон взорвался гневной речью: «Если эта Комиссия сохранит тираническую власть, которую она осуществляла и которую она хотела, я это знаю, распространить на членов этого Собрания, тогда, после того как мы доказали, что превосходим наших врагов в осторожности, в благоразумии, мы превзойдем их в смелости и в революционной силе».
Угроза возымела действие: Конвент решил освободить арестованных Эбера и его товарищей. Тем самым Комиссия была дезавуирована, провокационный характер позиции жирондистов обнаружился с новой ясностью. Идея прямого народного вмешательства в решение проблемы Конвента для восстановления его эффективности получает сильнейший импульс. Все происходящее бурно обсуждалось в секциях; резко возросло количество активных сторонников восстания.
Это внешне пока не слишком эффектное новое положение означало неудачу попыток Дантона примирить враждующие фракции. Не дала успеха и линия Робеспьера решить вопрос внутри Конвента, используя только «моральное» воздействие народа. Возобладал лозунг Марата, призывавшего к спасению республики путем народного восстания. Так, ощупью, от случая к случаю, вслепую прокладывала себе путь революционная тенденция выхода из кризиса. Инстинкт народа, санкюлотов играл более значительную, определяющую роль, нежели соображения, маневры или интриги политиков Жиронды и Горы. Но пока это только тенденция. Враждебные политические армии лишь занимают позиции для предстоящего впереди неизбежного жестокого боя. Будет ли он кровопролитным? Кто выиграет сражение? Пока никто не мог определенно ответить на эти вопросы.
Жиронда отнюдь не собиралась сдаваться. Напротив, она наступала. Мобилизуя буржуазные, «умеренные» секции Парижа, она главным образом рассчитывала на провинцию. Жирондисты готовили восстание департаментов против Парижа, они решили развязать гражданскую войну в момент, когда Франция была в смертельной опасности. Так они поставили свои жалкие личные интересы выше интересов Революции. Они отрекались от нее, ослепленные ненавистью, уязвленные в своем тщеславии, они сами копали себе могилу.
А в провинции все, казалось, играло им на руку. Комиссары Конвента, все монтаньяры, слали тревожные донесения. Впрочем, друзья жирондистов сами давали о себе знать. Из Бордо 8 мая направили Конвенту угрожающее послание, что там готовы пойти в поход на Париж: «Да, мы все жирондисты, и мы будем ими до смерти». Но это была вотчина Жиронды. Плохо для монтаньяров обстояли дела и в Марселе. Еще недавно там царили якобинцы. Ведь в Революции 10 августа славную роль сыграл марсельский батальон, отсюда пришла «Марсельеза». Но в конце марта секции захватывают жирондисты и… роялисты. Неумолимая логика борьбы, потребность в союзниках толкнула жирондистов к прямому союзу с врагами Революции. Комиссаров Конвента фактически выгнали из Марселя. «О, благодатная контрреволюция!» — восклицал Гюаде с иронией, за которой скрывалось предательство.
В Нанте в начале мая принимают резкий манифест против монтаньяров. Повсюду на юге и на западе страны складывается тревожная обстановка. 12 мая вспыхнуло восстание в Тулоне. И здесь жирондисты при поддержке роялистов захватили власть. Тулон — важная база флота перешел в руки мятежников. Комиссаров Конвента заключили в тюрьму. Особенно тревожно в Лионе, где жирондисты и монархисты создают единый фронт против якобинского муниципалитета и готовят восстание. Партия жирондистов становится почти роялистской, хотя ее вожди в Париже еще продолжают обвинять монтаньяров в роялистских замыслах.
Вот почему они самоуверенно отвергают все попытки примирения, хоть какого-то соглашения перед лицом внешних врагов. Дантон, гордый, самоуверенный человек, идет даже на уговоры, на унижение, идет на все. Это он устроил неофициальную, тайную встречу монтаньяров с группой жирондистов. Он взывал к ним от имени родины. Как патриот, он просил и уговаривал: «Из наших раздоров возродится королевская власть с неутолимой жаждой мести. Питт и Конде наблюдают за нами». Некоторые жирондисты уже склонялись к примирению. Один Гюаде оставался непреклонным: «Война! — кричал он. — И пусть одна из партий погибнет!» Его друзья неохотно подчиняются авторитету этого фанатика ненависти. Дантон берет его руку и с грустью говорит: «Ты хочешь войны, и ты получишь смерть».
Что там Дантон, сам Робеспьер склонялся к примирению. Член Конвента Мор 17 марта подошел к нему в Якобинском клубе и рассказал о примирительном настроении Петиона. «Этот разговор, — сообщает он, — привел к очень дружескому объяснению между Робеспьером и Бюзо. Вчера надеялись на слияние. Но мои надежды подверглись жестокому разочарованию, и я убедился, что союз был невозможен».
Борьба обострялась с каждым днем. Причем наступательной, агрессивной была политика жирондистов. С их стороны не только не предпринималось никаких попыток примирения, напротив, они-то все и обостряли.
Последняя попытка примирения делается 29 мая Комитетом общественного спасения, до сих пор державшегося как бы над схваткой. Ее предприняли Дантон и Барер, подготовившие циркулярное письмо комиссарам Конвента в армии. Хотели, чтобы парижские распри не распространились и на войска, что могло вызвать катастрофу перед лицом внешнего врага. Но письмо оглашалось в Конвенте, и, возможно, именно для воздействия на него оно и было составлено. Дантон, который почти никогда ничего не писал, на этот раз сочинил большой раздел письма на тему о жизненной необходимости единства. Он мечтал и пытался увлечь этой мечтой других, как можно скорее создать Республику, сильную своим единством, заключить мир и дать народу наконец какие-то реальные плоды Революции. Он предупреждал: «Если вы упустите эту возможность учредить Республику, вас все равно заклеймят, и ни один из вас не ускользнет от победителей-тиранов. Вы погубите права народа, на вашей совести будет 300 тысяч человек. И о вас скажут: «Конвент мог дать свободу Европе, но своими раздорами он выковал цепи для народа и своими склоками услужил деспотизму».
Запоздалые усилия Дантона оказались уже напрасными, и приведенные слова интересны как тоскливое пророчество, которое осуществится в таких масштабах, перед которыми померкнет картина, нарисованная Дантоном. Судя по той вялости, по отсутствию страстной энергии, на которую в критические моменты способен Дантон, он уже и сам отдает все на волю, инициативу и энергию народа. Фактически никто из видных монтаньяров не проявил желания возглавить народное движение или тем более возглавить восстание санкюлотов, хотя все понимали, что восстание неизбежно.
К концу мая в Париже накопилось слишком много взрывчатого материала, чтобы можно было рассчитывать на какой-то более или менее спокойный выход из кризиса. Слишком много вспыхивало искр и вспышек пламени в виде все новых сообщений или слухов о поражении на фронтах, о победах вандейцев, о заговорах аристократов. Взрыв должен был произойти. По иронии истории его ускорили жирондисты, заключившие в тюрьму вместе с Эбером председателя секции Сите Добсана и неутомимого яростного революционного агитатора Варле. Им предоставили тюремную камеру, чтобы они смогли наконец, вырванные из обычной для них сутолоки, обдумать положение и составить какой-то план действий. Естественно, что, как только их выпустили 27 мая, они сразу начали действовать.
Вечером 29 мая по призыву Добсана в Епископате собралось общее революционное собрание Парижа. Явились представители 34 секций из общего числа 48. Собрались люди «14 июля» и «10 августа», которые горели желанием действовать, используя свой прошлый опыт. Нашлось и руководство в виде Комиссии шести, которую возглавил инженер Добсан, член клубов Якобинского и Кордельеров. Беспорядочное бурное собрание с частично обновляющимся составом заседало непрерывно. Вечером 30 мая Париж был объявлен «в состоянии восстания против аристократической н угнетательской клики». В событиях этих дней, как, впрочем, и вообще в революции, напрасно было бы искать точного соответствия слов и формул с фактами и реальностью. Господствовали страсти, после того как образованные люди «точных» формул из Конвента обанкротились. Важно другое: в то время как Конвент, облеченный официальной властью и ореолом законности, оказался совершенно бессильным, здесь теперь центр реальной власти, которая действовала и которой подчинялись. Слово не расходилось с делом: закрывают городские заставы, назначают командующего Национальной гвардией Анрио, человека с очень темной биографией и с очень ясными признаками склонности к выпивке. Комитет шести становится Комитетом девяти, в него входят Варле и Добсан, другие секционные активисты. К ним присоединяется приехавший из Лиона Леклерк, тоже молодой человек самых крайних взглядов.
Вечером 30 мая в Епископат явился мэр Парижа Паш. Он предлагает представителям секций собраться вместе с Коммуной в Якобинском клубе, чтобы совместно решить вопрос о восстании. Революционный Комитет десяти тоже не прочь сблизиться с Коммуной, но осуществляет это другим способом. Рано утром 31 мая Комитет в сопровождении сильного вооруженного отряда является в здание Ратуши. Добсан от имени Комитета объявляет мэра, прокурора, муниципалитет, словом, все законные власти Парижа отстраненными от власти. Но вслед за тем он провозглашает их восстановление, но уже в роли Революционной Коммуны. Комитет обосновывается в Ратуше, расширяет свой состав и дает себе новое название: Революционный комитет Парижского департамента. Впрочем, его называют также Центральный комитет. В нем представлены все направления и оттенки левых: «бешеные», эбертисты, кордельеры, просто революционно настроенные люди без ясной политической принадлежности.
Какова программа нового революционного центра? Фактически здесь столько программ, сколько и людей. Но можно условно выделить две основные линии. Первая — крайняя, ультрареволюционная. Ее цель не только изгнание из Конвента жирондистов, но и разгон самого Конвента. Для людей, представляющих это направление, неприемлемы не только жирондисты, но и монтаньяры, включая Робеспьера и даже Марата. Некоторые из самых крайних требовали: «Истребите всех этих злодеев: родине достаточно, чтобы в ней остались санкюлоты и их добродетели».
Вторая линия более умеренная, сдержанная и осторожная. Она предусматривает лишь очищение Конвента от лидеров Жиронды, причем не с помощью применения оружия, а методом «морального восстания». Эту линию поддерживают мэр Паш, прокурор Шометт, Эбер, Добсан и вообще большинство Революционного комитета. По некоторым данным на формирование такого курса оказал влияние прокурор-синдик Коммуны Люлье, который якобы был близок к Робеспьеру.
Но каких бы взглядов ни придерживались вожаки революционного движения Парижа в конце мая 1793 года, по одному вопросу они не только стояли на общей позиции, но и подтвердили ее особо торжественной клятвой. Самая воинственная и самая инициативная из всех секция Сите так выразила эту позицию устами своего видного представителя и члена Революционного комитета Ассенфранца: «Обсуждение было посвящено вопросу о том, как рассеять тревоги собственников. С этой целью секция постановила, что все имущества находятся под охраной санкюлотов, которые все возьмут на себя обязательство предавать мечу правосудия всякого, учинившего малейшее посягательство на собственность, и все члены этой секции поклялись умереть, но заставить соблюдать этот закон».
Как обычно, в дни революционных кризисов Неподкупный осторожно выжидал появления признаков решающего перевеса той или другой стороны, чтобы занять окончательную позицию. Дантон, со своей стороны, сделал все, чтобы не дать Комитету общественного спасения воспрепятствовать восстанию. Правда, Барер в своих мемуарах показывает, что он играл значительно более важную роль: «После 31 мая, но уже слишком поздно, я узнал, что Дантон и Лакруа, хотя они были членами Комитета общественного спасения, стояли во главе этого движения, которое приписывали Парижской коммуне». Если дело обстояло так, то Дантон действовал скрытно, оказывая свое влияние через своих многочисленных друзей.
Непосредственную, огромную роль в восстании играл Марат. Вечером 30 мая он прямо явился в Епископат и согласно запискам его сестры Альбертины выступил там с речью: «Он призвал народ подняться наконец, окружить Конвент с оружием в руках и потребовать выдачи наиболее скомпрометированных жирондистов. Он отнюдь не призывал к избиениям. Он хотел передать Жиронду в руки революционного правосудия». Марат официально не связывался с Центральным комитетом. Его имя пользовалось такой одиозной известностью среди буржуазии, что его прямое участие резко усилило бы сопротивление батальонов «умеренных» секций и тем самым повредило бы восстанию, за которое он усиленно ратовал.
Рано утром 31 мая набат и барабанный бой быстро собрали батальоны Национальной гвардии. Несколько «умеренных» отрядов жирондисты расположили у Конвента. Но никто на него не нападал! На прилегающих к Тюильри улицах собралось около 30 тысяч вооруженных людей, но никто не знал, что же делать. Во второй половине дня набат прекратился.
А в Конвенте царила напряженность. Делегация повстанческого Центрального комитета потребовала обвинительного декрета против 22 жирондистских депутатов, членов Комиссии двенадцати и двух министров. Начались прения, бурные, смутные и неопределенные.
Одновременно в Ратуше заседала и Коммуна. Здесь колебались и предлагали самые противоречивые меры. Прокурор Шометт призывал к осторожности. Об этом же твердил и Эбер. Мэр Паш прямо осудил «бесноватых» и предостерегал от гражданской войны. Только неугомонный Варле требует ареста депутатов-жирондистов. Но его никто не поддерживает. Коммуна колеблется и бездействует.
В Конвенте также не происходит ничего решающего, хотя словоизвержение ораторов не прекращается. Монтаньяры явно не готовы к решительной атаке. Жирондисты тянут время, считая, что оно работает на них, ибо департаменты, провинция, как они надеются, обязательно должны прийти им на помощь. Поэтому Верньо предостерегает: «Если будет бой, то, каков бы ни был его исход, он будет гибельным для Республики». Жирондисты уводят дебаты в сторону спором о том, кто же посмел дать выстрел из набатной пушки на Новом мосту?
Наконец слово берет Дантон, и все настораживаются. Однако могучий голос отдан лишь риторике. Все слушают и ждут, чего же он потребует. «Сигнальная пушка гремит, — грохочет не хуже пушки голос Дантона, — и некоторые лица, по-видимому, боятся ее. Тот, кого природа создала способным плыть по бурному океану, не испугается, когда молния ударит в его корабль. Вы, бесспорно, должны действовать так, чтобы дурные граждане не могли использовать в своих целях это великое потрясение…»
Дантон затем распространяется о пресловутой сигнальной пушке. Но все ждут, что же он потребует, что предложит?
«Я предлагаю упразднить Комиссию и учинить суд над действиями каждого из ее членов. Вы их считаете безупречными? Я же считаю, что они тешили свою злобу. Надо внести ясность в это дело; но надо воздать должное народу».
Гора родила мышь. Ведь народ, от имени которого здесь сегодня выступил и повстанческий комитет и Коммуна, требовали нечто более серьезное, чем упразднение уже обанкротившейся Комиссии. А они требовали обвинения 22 жирондистов, 12 членов Комиссии и двух министров! Об этом Дантон не сказал ничего. Значит, он, выражаясь языком XX века, продолжает соглашательскую политику оппортунизма! Неужели среди монтаньяров не найдется никого, кто предложил бы что-то серьезное? Но вот слово берет их представитель Кутон, который говорит, не вставая со своей механической инвалидной коляски. Он тоже настроен явно миролюбиво, даже нейтрально. «Я ни за Марата, ни за Бриссо», — заявляет этот друг Робеспьера и поддерживает предложение об упразднении Комиссии двенадцати.
А затем хитроумный Барер вносит компромиссное предложение об упразднении Комиссии двенадцати и одновременно о передаче Национальной гвардии Парижа под контроль Конвента. Речь шла о том, чтобы ради условного успеха в деле с Комиссией Париж лишился своего главного и единственного оружия. Дело шло к явному поражению монтаньяров. За свою нерешительность, колебания они могли поплатиться утратой своей важнейшей опоры.
Но Париж протягивает руку помощи Горе в ее уже почти проигранной битве с Жирондой. От имени Коммуны Парижа слово вновь получает Люлье. В резких и четких формулах он кратко и резко разоблачает попытки жирондистов ограничить влияние Парижа, умалить, принизить центр, сердце и душу Революции. Люлье великолепно использовал недавнюю угрозу Инара уничтожить даже след от Парижа: «Он обесчестил Париж предположением, будто этот город может когда-либо заслужить столь ужасную судьбу… Есть и другие, не менее жестокие люди, против которых мы требуем обвинительного декрета». И далее он перечисляет поименно лидеров Жиронды и требует их обвинения. Бывший сапожник Люлье решительно вернул Конвент к жгучей проблеме, от которой он уже, казалось, отделался к радости жирондистов.
Вот тогда взял слово Робеспьер. Он решительно отвергает компромиссное предложение Барера. Соглашаясь с требованием об упразднении Комиссии, он выступает против передачи Национальной гвардии Парижа в распоряжение Конвента, где жирондисты еще имеют большинство. Он обосновывает подробно свое мнение, и в этот момент Верньо перебивает его: «Давайте же ваше заключение!»
«Да, — резко отвечает Робеспьер, — я сейчас дам свое заключение против вас. Против вас, пытавшихся после революции 10 августа погнать на эшафот тех, кто ее совершил. Против вас, непрестанно провоцировавших разрушение Парижа. Против вас, пытавшихся спасти тирана. Против вас, замышлявших заговор с Дюмурье… Итак, я заключаю предложением обвинительного декрета против всех сообщников Дюмурье и всех тех, на кого указывают петиционеры».
Верньо, который намеревался выступать, был так поражен резким, необычайно смелым заявлением Робеспьера, что отказался от речи. И все же день революционного выступления остался днем нерешительности, экивоков и двусмыслицы. Конвент с поправками принял предложение Барера, батальоны Национальной гвардии расходились. «Что же делать?» — спрашивали растерянно представители секций Марата, который в ярости отвечал: «Как, вы всю ночь били в набат, вот уже целый день, как вы вооружились, и вы не знаете, что вам делать? Мне нечего сказать людям, лишившимся рассудка!»
Вечером после окончания заседания Конвента монтаньяры собрались в Якобинском клубе. Впрочем, не все, Марата не было. Он уже так болен, что его сил едва хватало на Конвент и на выпуск газеты. Не пришел и Робеспьер, видимо, обескураженный результатами заседания в Конвенте. Он всегда испытывал необходимость сначала тщательно обдумать все, прежде чем говорить. А говорили в клубе с досадой и горечью. Только Бийо-Варенн, непоколебимый, несгибаемо твердый и суровый, еле державшийся на ногах от усталости, он с трудом сдерживал очередной приступ бешеной злобы. Он недоволен поведением своих коллег-монтаньяров, он возмущен колебаниями Коммуны и Епископата. Но он не считает дело конченым и требует продолжать борьбу: «Остановиться на полпути — значит нести бремя событий, не реализуя никаких преимуществ. Жирондисты будут и дальше клеветать, до тех пор, пока не будут уничтожены, и этот день, который занес над ними меч, но не нанес им удара, сам усилит их бесконечные клеветнические причитания. Париж должен остаться в боевой готовности. Нам надлежит, подобно Бруту, заколоть себя кинжалом, если свобода погибла, или погибнуть под ее развалинами».
Много горьких слов было сказано якобинцами. Но никто не признавал поражения. Все сознавали, что восстание огромного города не состоялось, рассеялось как дым. Но под пеплом тлел огонь.
Его разжег вновь Революционный комитет в Епископате. Ночью комитет отдает приказ об аресте Ролана. Но он уехал, и арестовали его жену, вдохновительницу Жиронды Манон Ролан, и отвели в тюрьму Аббатства. Комитет исполнен теперь решимости довести дело до конца. Принимается тайный план, который комитет решил не сообщать Коммуне. Решено окружить Конвент только преданными Революции батальонами, чтобы умеренные секции не смогли приблизиться к нему. Конвенту представят энергичную петицию, чтобы, окруженный стеной, он без пролития крови вынужден был выдать жирондистов.
1 июля энергично действует Марат. Он в Конвенте, в Комитете общественного спасения, в Коммуне. Друг народа будоражил, воспламенял монтаньяров. Как-то случилось, что все незаметно для себя стали воспринимать его как вождя восстания, хотя для этого не было никакого формального основания. В Коммуне председатель Детурнель прямо спросил его, должен ли народ строго придерживаться законов. «Граждане, — отвечал Друг народа, — вам не на что рассчитывать, кроме как на свою энергию. Внесите в Конвент свое обращение, потребуйте наказания депутатов, неверных своему отечеству, оставайтесь на ногах и не складывайте оружия, пока вы не добьетесь своего». А жирондисты уже ночью собрались на квартире у одного из своих депутатов. Их роковая слабохарактерность проявилась в полной мере. Многие мрачно повторяли: мы погибли. Уже гудел набат. Идти ли 2 июня в Конвент? Барбару рвался в бой, а маленький, истеричный, нервный Луве предлагал всем бежать из Парижа и твердил: «Только восстание департаментов может спасти Францию. Нам следует подыскать какое-нибудь убежище на этот вечер, а завтра и в следующие дни разъехаться поодиночке, используя свои различные средства, а затем собраться либо в Бордо, либо в Кальвадосе, если уже появившиеся там повстанцы заняли достаточно сильную позицию. Но больше всего надо избегать опасности остаться заложниками в руках Горы, ни в коем случае не следует возвращаться в Собрание». Неуверенность и разброд охватили Жиронду. Как всегда, это люди слова, но не действия.
Гора тоже далека от монолитного единства. Но среди монтаньяров много энергичных людей. Они действуют, хотя у них нет центра или штаба, общей программы. Однако именно 1 июня монтаньяры выпускают первый номер своей официальной газеты «Журналь де ла Монтань». Эро де Сешель придумал для нее эпиграф: «Сила разума и сила народа составляют единое целое».
Фраза? Абстрактная формула? Туманный афоризм? Да, но и нечто большее; в этих словах программа, идея союза радикальной революционной буржуазии, монтаньяров и народа. Но как осуществится эта идея?
2 июня происходит развязка драмы Жиронды. Начинается внешне все так же, как и два дня назад. При звуках набата Национальная гвардия окружает Конвент. Но сегодня осуществляется «тайный план». Впереди, прямо у стен Тюильри, пять-шесть тысяч специально отобранных отрядов из самых революционных секций… Всего же собралось 80 тысяч человек. Основная их масса располагается в отдалении от Конвента и слабо представляет, что же происходит.
А в Конвенте тягостная атмосфера замешательства, путаницы. Угроза насилия над национальным представительством возмущает и многих монтаньяров. Барер от имени Комитета общественного спасения вносит обычное для него компромиссное предложение: принять не обвинительный декрет против жирондистов, как требовали секции, а лишь постановление о временном аресте. Выходит, что «иезуиты Жиронды» могут быть и оправданы? Со стороны монтаньяров раздаются протесты. Заседание проходит в замешательстве, многие просто выжидают. Вдруг хитроумный Барер предлагает Конвенту в полном составе выйти из зала непосредственно к войскам. В чем смысл этой театральной затеи? Только 40 монтаньяров, среди которых Робеспьер и Марат, остаются в зале, остальные идут с Эро де Сешелем во главе. Перед их глазами лес пик и штыков, плотные ряды вооруженных санкюлотов. На Конвент направлены пушки. Впереди на белом коне командующий Национальной гвардией Анрио. С ним разговаривает Эро. Мемуаристы излагают несколько версий беседы. Во всяком случае, в ответ на требование Анрио арестовать и удалить жирондистов Эро не может сказать ничего определенного. Здесь и Дантон, к которому подходит адъютант Анрио и что-то тихо говорит. Дантон пожимает ему руку и заявляет: «Да-да, правильно, все хорошо». О чем шла речь? История уже не узнает ничего больше об этой таинственной фразе… Правда, Олар высказывает такое предположение: «Дантон старался предупредить народное восстание. Когда оно вспыхнуло, он притворился сторонником его, чтобы спасти престиж правительства перед Европой». Но вот Анрио прерывает разговор с Эро и отдает знаменитую команду: «Канониры по местам!» — и те с зажженными фитилями встают у пушек. Что же дальше? Депутаты беспорядочной толпой идут к воротам парка Тюильри, но их не пропускают. Появляется Марат и советует вернуться в зал Конвента.
А здесь на трибуне монтаньяр Кутон. Он предлагает подвергнуть разоблаченных депутатов домашнему аресту, как и двух министров. Предложение принимается без голосования, лишь одобрительными аплодисментами. Конец Жиронды ничуть не походил на величественную трагедию. Вся сцена представляла собой смесь фарса, унижения и страха.
Верньо, правда, уже ждал чего-то страшного. Он бросил Кутону: «Дайте же Кутону стакан крови, он изнывает от жажды». Но пока никто не хотел крови. «Арестованные» жирондисты сохраняют возможность свободно передвигаться по Парижу, они получают по-прежнему свои 18 ливров в день. Правда, каждого сопровождает жандарм, которого арестованный депутат обязан кормить за свой счет.
2 июня монтаньяры сменяют у власти жирондистов. Но в отличие от 10 августа 1792 года трудно назвать это революцией. Не только потому, что на этот раз обошлось без пролития крови. Главное — 10 августа свергли монархию и открыли путь Республике. Сейчас же в государственном устройстве пока ничего не изменилось, кроме изменения парламентского большинства. Правда, Конвент стал жертвой не «моральной революции», о которой говорил Робеспьер, против которой не возражали Дантон и большинство монтаньяров. Когда задымились фитили пушек, а депутатам преграждали путь штыками, Конвент подвергся угрозе прямого военного насилия. Опасный прецедент! Мишле писал, что если 2 июня вооруженная сила была плебейской, то 18 брюмера (1799 года) она станет преторианской и даст Наполеона. Так явилось ли в конечном счете 2 июня победой революции или ее поражением? Особенно для тех, кто ее реально сделал, для санкюлотов? События скоро ответят на этот, пока еще неясный вопрос.
Глава VIII РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
Триумф монтаньяров 2 июня оказался далеко не бесспорным и не окончательным. Их власть в представлении народа и революционной буржуазии связывалась с именами Дантона, Робеспьера и Марата. Но в каждом из них она проявлялась неопределенно, случайно, временами. Дантон утратил героический ореол вождя 10 августа, революционного министра, человека «Отечества в опасности», завоеванный осенью 1792 года. В борьбе между жирондистами и монтаньярами его позиция примирения кажется неустойчивой и колеблющейся. Собственно, он колеблется вплоть до 2 июня. А реальную силу Робеспьера можно было точно измерить вечером того же дня. Наглядно выяснилась численность его армии из тридцати монтаньяров-робеспьеристов, оставшихся на местах, когда подавляющее большинство депутатов Конвента совершило свой жалкий выход. Робеспьер не приобрел массы единомышленников даже среди монтаньяров, общее число которых в Конвенте перевалило за 250. Что касается Марата, то народ именно в нем видел таинственного вождя переворота 2 июня. Когда в Конвенте оглашали в тот вечер имена 20 изгоняемых жирондистов, то он потребовал исключить нескольких из списка, но зато добавить других. И с ним безропотно согласились даже без голосования. А разве не он вернул депутатов в зал Конвента после их смехотворного выхода?
Но депутаты возмущались: Национальный Конвент оказался жертвой насилия и унижения! Один Марат играл роль хозяина. Маленький, невзрачный в своей грязной головной повязке, он вел себя вызывающе. А его и без того ненавидели. Его друзей в Конвенте много было на трибунах для публики. В рядах депутатов их можно пересчитать по пальцам. Когда страх прошел, осталось негодование, озлобление, ненависть. Авторитет Друга народа пострадал.
Итак, сразу после 2 июня власть не только не укрепилась, но раздробилась, ослабела по крайней мере на несколько недель. А именно в это самое время ее как раз и не хватало, ибо Франция оказалась в невероятно опасном положении. Она стояла у самого края пропасти.
Лавина военного краха и контрреволюции, начавшаяся изменой Дюмурье, потерей Бельгии, внутренними мятежами в Вандее, на Юге и Западе, рушилась на Францию. В день, когда французские пушки по приказу Анрио наводили в Париже на Конвент, австрийцы подтягивали свои орудия для осады французских крепостей на северных границах. Временную передышку в июне давала лишь бездарность австрийских генералов и медлительная, осторожная тактика герцога Кобургского, осаждавшего крепости Конде, Волансьенн, после которых настает очередь Ле-Кенуа и Мобежа. Английский герцог Йоркский подступал к Дюнкерку, а прусская армия герцога Брауншвейгского — к Майнцу.
В Альпах пьемонтцы теснили победителя при Вальми Келлермана, располагавшего жалкими силами; лучшие войска у него взяли для операций по отвоеванию Лиона, Марселя и Тулона. Савойю, присоединенную к Франции в ноябре 1792 года, завоевывали войска Пьемонта. Ницца, также аннексированная Францией, оказалась под угрозой. На Пиренеях испанцы пересекли границу и шли на Байонну к западу и на Перпиньян на восток.
Трудно было ожидать иного. Французские войска, плохо вооруженные и снабжаемые, полураздетые, с плохим командованием, переживали глубокий кризис. Командующие часто сменялись, всех подозревали в предательстве, окружали слежкой, все чаще разоблачали измену. Генерал Кюстин тратил больше энергии на борьбу с военным министром Бушоттом, всего лишь полковником и к тому же левым монтаньяром, чем на стратегию. В Вандее действовал комиссар Конвента, монтаньяр Филиппо, друг Дантона. У него конфликт с Ронсеном, генералом-санкюлотом, тоже монтаньяром, но ставленником Робеспьера. Люди, характеры, политики яростно спорят между собой, действуют на свой страх и риск, без согласованных планов, без инструкций, которые часто нереальны или противоречат друг другу.
Самой болезненной раной, терзавшей Революцию, оказался в первые дни июня Лион. Именно здесь обнаружилось, как жирондисты из-за своего жалкого эгоизма, болезненного тщеславия, из-за ослепляющей ненависти сделались опаснейшим орудием и союзником роялистов. Жирондисты создали в Лионе армию в 20 тысяч и поручили командовать ею графу де Преси, одному из бывших защитников дворца Тюильри 10 августа. 29 мая 1793 года лионские жирондисты восстали против своей монтаньярской Коммуны, учинили кровавое побоище, а ее вождя Шалье, которого называли «лионским Маратом», заключили в тюрьму.
Пожалуй, самым вопиющим примером саморазоблачения Жиронды оказалось ее отношение к восстанию в Вандее. Она изобразила восстание делом рук парижских анархистов, как называли монтаньяров. Уничтожение Горы она считала самым верным средством разгрома вандейского мятежа. Ведь Марат — старый агент Питта; не зря он так долго жил в Англии! Другие монтаньяры также объявлялись орудием Кобурга и Питта. Жиронда становилась фактическим союзником вандейцев. Драма Нанта показала плоды такой позиции. Нант, оказавшийся «синим» островом Республики в восставшем «белом» океане вандейцев, сумели взять под контроль жирондисты. Еще в первые дни мая они направили в Конвент оскорбительный и лживый манифест против Горы. Вместо того, чтобы защищаться от «Великой католической и королевской армии», жирондисты объявили главным врагом революционный Париж. Они решили арестовать комиссаров Конвента — монтаньяров, направленных к ним на помощь вместе с войсками. Но когда в июне началось наступление 40 тысяч вандейцев с целью захвата Нанта, что дало бы им возможность получать через этот порт помощь от Англии, жирондистские власти обратились за помощью к комиссарам. Штурм вандейцев удалось отбить, и тогда комиссаров Конвента опять не стали признавать.
Подобным образом жирондисты действовали в Марселе, Тулоне, Ниме, Тулузе, Бордо. После 2 июня это уже не оппозиция или политическая борьба, а гражданская война. «Домашний арест» вожаков Жиронды позволил большинству из них бежать из Парижа в свои департаменты. Очагом жирондистского мятежа (его называли «федералистским») стал на северо-западе центр Кальвадоса город Кан. Здесь возник из представителей десяти департаментов «Центральный совет сопротивления угнетению». Создали объединенную армию генерала Вимпфена, который начал готовить поход на Париж.
Что же предпримут оказавшиеся в огненном кольце монтаньяры, победившие 2 июня жирондистов? Никакой определенной политической программы у них не было. Однако впоследствии в бумагах Робеспьера обнаружили любопытный документ, написанный им явно для себя, ибо в публичных выступлениях он прямо не отразился. Между тем это настоящий план действий, показывающий Робеспьера государственным деятелем. Воплощение его в жизнь можно, пожалуй, обнаружить позднее, но не сразу после 2 июня. Вот, что он писал в этой записке для себя:
«Нужна единая воля. Нужно, чтобы она была республиканской или роялистской. Для того чтобы она была республиканской, нужны республиканские министры, республиканские газеты, республиканские депутаты, республиканское правительство. Внешняя война — болезнь смертельная, когда политический организм болен Революцией и разделением воли. Внутренние опасности проистекают от буржуазии; чтобы победить буржуазию, надо сплотить народ… Надо, чтобы нынешнее восстание продолжалось, пока не будут приняты меры, необходимые для спасения Республики. Надо, чтобы народ объединился с Конвентом, а Конвент объединился с народом. Надо, чтобы восстание постепенно распространялось по одному и тому же плану, чтобы санкюлоты получали плату и оставались в городах. Надо снабдить их оружием, разжигать их гнев, просвещать их».
Можно не сомневаться, что это план большой речи, составленный сразу под впечатлением событий 2 июня. Это действительно политическая программа, которую Робеспьер по зрелому размышлению решил не провозглашать открыто. Не были ли это тактические соображения и в связи с неуверенностью в возможности осуществить ее открыто и прямо?
Многое в мыслях Робеспьера загадочно и вызывает вопросы. Почему просто «единая воля», а не воля монтаньяров, Конвента, народа? Чья это воля? Может быть, одного человека? Загадка. Почему эта единая воля должна быть «республиканской или роялистской»? Почему не «только» республиканской? Почему надо «победить буржуазию» и одновременно объединить «Конвент с народом»? Ведь Конвент — это и есть буржуазия! Почему надо «сплотить народ», а не удовлетворить нужды народа?
К тому же все это крайне абстрактно. Робеспьер не указывает никаких конкретных практических мер.
Самое же поразительное, что сразу после 2 июня Робеспьер будет активно выступать и действовать исключительно ради удовлетворения буржуазии, но отнюдь не для народа. Почему же эта программа осталась в виде наброска, а не превратилась в тщательно написанную им, как обычно, речь? Может быть, ответом послужат слова, которые он произнес 12 июня в Якобинском клубе: «…Что же касается меня, то я признаю свою неспособность, у меня нет необходимых сил для борьбы с интриганами аристократии. Истощенный четырьмя годами мучительного и бесплодного труда, я чувствую, что мои физические и моральные способности не находятся на уровне великой Революции, и я заявляю, что подам в отставку».
В действительности Максимилиан никогда не был так энергичен и деятелен: в июне он выступал 40 раз в Конвенте и в Якобинском клубе! Правда, у него нередко случались приступы слабости духа и страха. В июне Марат писал о нем, что «он так мало предназначен к тому, чтобы быть вождем партии, что он избегает всякой шумной группы и бледнеет при виде обнаженной сабли». Но сейчас, когда его злейшие не только политические, по и личные враги, были устранены, влияние Робеспьера становилось решающим. Поэтому разговоры об «отставке» — политическое кокетство и тактический расчет. Он ведет себя подобно тем кандидатам на престол римского папы, которые, чтобы добиться избрания, притворяются, что они немощны и буквально при смерти, чтобы дать понять своим коллегам из конклава, что недолго будут у власти и вскоре уступят кому-либо свое место. Просто Робеспьер решил, что еще рано, что надо подождать, что надвигаются времена, когда он достигнет «единства воли», естественно, своей собственной.
Если и был среди монтаньяров человек, который мог легко выдвинуться к высотам власти после 2 июня, то это был Дантон. Он пользовался наибольшим влиянием в Комитете общественного спасения, избранном еще в марте. Больше, чем кто-либо другой, он, человек смелого действия, страдал от того, что власть в Париже оказалась парализованной ожесточенной борьбой двух фракций. В течение всего мая его упрекали в бездействии. Но оно было лишь отражением состояния самого Комитета общественного спасения с его жирондистским большинством. Вечером 1 июня на другой день после того, как Жиронда временно уцелела от посягательств народа, он сказал: «Никто не пользуется больше доверием… Абсолютно необходимо, чтобы одна из сторон удалилась».
Кризис 2 июня уничтожил политическое препятствие для него, давал ему возможность действовать, тем более что Франция находилась под угрозой такой беды, когда его легендарное красноречие, столь эффективное в драматические моменты, могло оказаться небывало действенным. И вот, к удивлению непосвященных, Дантон если и действует, то в масштабах, не сопоставимых с его возможностями.
В той же самой статье Марата от 19 июня 1793 года, в которой разоблачается вновь распространяемая старая версия о триумвирате Дантон — Марат — Робеспьер, он пишет: «Я не понимаю, как может быть клика настолько глупа, чтобы превратить трех человек, которые как раз ничем между собой не связаны, в трех братьев-диктаторов».
Так вот, в этой статье после приведенной оценки Робеспьера, сказано: «Что касается Дантона, то он объединяет и таланты и энергию вождя партии. Но его естественные наклонности увлекают его так далеко от какой бы то ни было идеи о господстве, что он предпочитает трону удовольствия».
Иными словами, Марат мог бы сказать, что Дантон слишком любит радости жизни и не испытывает тщеславного стремления к власти. Так оно и было. Но не только этим объяснялась вялость Дантона в июне 1793 года. Увы, для Революции, для Франции, которую хотят растерзать, у великого революционера просто нет времени. 12 июня 1793 года Дантон женится на юной и прелестной Луизе Жели! Ее родители снимали квартиру, расположенную этажом выше Дантона. Луиза давно уже была близким человеком в его семье, старшей сестрой двум его сыновьям и самой близкой подругой скончавшейся 11 февраля Габриель. Умирающая очень переживала за судьбу своих двух сыновей, старшему не было еще и десяти лет. Габриель хотела, чтобы шестнадцатилетняя Луиза заменила им мать… Ласковая, нежная соседка стала утешительницей осиротевших мальчиков, а затем и одинокого вдовца…
Родители Луизы, однако, не столь уж благосклонно отнеслись к идее ее брака со знаменитым политическим деятелем. Отек — чиновник старого режима — принял Революцию скрепя сердце, а мать осталась ревностной католичкой, не признававшей новую конституционную церковь. Родители заявили жениху, явившемуся с предложением руки и сердца, что не могут дать согласия на брак дочери с человеком, который не ходит к исповеди. Словом, если Дантон хочет получить Луизу в жены, ему обязательно надо исповедоваться, притом у «неприсягнувшего» священника. А где его взять? Разве только в тюрьме, ибо этих врагов Революции преследовали беспощадно. Что касается препятствий принципиального характера, то великий революционер о них и не вспомнил. Мастер компромисса попросил лишь дать ему адрес подходящего исповедника. Адрес нашелся, и Дантон отправился в один из дальних кварталов, где на чердаке в тайной каморке скрывался аббат Керавенан. Если бы Робеспьер и другие монтаньяры могли видеть стоящего на коленях перед священником несокрушимого Дантона!
Кроме проблем небесных, были и земные. Если первый брак Дантон заключил на основе совместного владения имуществом, то новый — на основе раздельного. В то время это было редким явлением. Луиза оказалась владелицей собственного капитала в 40 тысяч ливров, которые ей «подарила» старая тетка Дантона. Родители не могли дать такую сумму. Итак, Дантон хотел обеспечить будущее своих детей и Луизы на всякий случай. На какой же? В законе, учредившем Чрезвычайный трибунал, говорилось, что все имущество осужденных на смерть переходит к Республике. Значит, Дантон думал, знал, что его политическая деятельность может стоить ему жизни…
А пока, приняв эти меры предосторожности, он наслаждался своим новым счастьем. Его дом ожил. Он снова принимает друзей и щедро их угощает. Луиза в два раза моложе своего супруга, но прекрасно справляется с положением хозяйки дома. Картина художника Буайи, написанная тогда с натуры, показывает Луизу и старшего сына Дантона. Найти в галерее женских портретов времен Революции столь же прелестную молодую женщину невозможно. Дантон не касается ни религиозных, ни роялистских склонностей жены. Она, подобно Габриель, совершенно не интересуется Конвентом и вообще политикой. Дантону завидовали всегда и по любому поводу, особенно в братском сообществе монтаньяров, где некоторые так много и часто рассуждали о добродетели. 40 тысяч ливров Луизы в газетах превратились в 14 миллионов, а женитьба Дантона — в свидетельство его перерождения. Ему пришлось объясняться в Якобинском клубе и опровергать клевету.
С каких пор недостойно вдовца жениться снова, чтобы дать мать сиротам? С каких пор преступно обеспечивать будущее своей супруги? Его частная жизнь, заявляет Дантон, никого не касается. Нет никому дела до того, что «мне нужна женщина…». Клеветники посрамлены, но член Комитета общественного спасения, занимающего одно из зданий дворца Тюильри, павильон Флор, именуемый теперь павильоном Эгалите (Равенство), пропускает все больше заседаний. Комитет заседает каждое утро с девяти часов до полудня и каждый вечер с семи часов. Дантон пренебрегает вечерними заседаниями, предпочитая общество своей юной жены. Наступает время, когда он не является и на утреннее заседание. Политика надоела ему как раз в то время, когда она требует особого внимания.
Нигде не видно и Марата, который еще 2 июня на глазах у всех обнаруживал бешеную, поистине лихорадочную активность. И вот, когда, по словам жирондистов, восторжествовала «диктатура Марата», сам диктатор исчез.
Здоровье Друга народа уже сильно подорвано страшным напряжением, тяготами подполья и преследований. По мнению медиков, даже без ножа Шарлотты Корде ему оставалось жить несколько месяцев. 2 июня он поражал своей активностью, но это была активность смертельно больного, его последний, отчаянный порыв. «Братья и друзья, — пишет Марат Якобинскому клубу, — я нахожусь в постели, охваченный воспалительной болезнью — последствием моего четырехлетнего бдения для защиты свободы и в особенности мучений, перенесенных мною за последние девять месяцев для сокрушения клики…»
Но дело не только в болезни. Марат оказался в июне единственным депутатом, представлявшим санкюлотов. В какой-то мере он возглавлял их и олицетворял в Конвенте враждебную буржуазии силу. Он отступил от своего «нового курса», шел близко с «бешеными». Как и они, он требовал террора против дороговизны и голода, верил в магическую способность эшафота дать беднякам хлеб. Санкюлоты хотели принудительных цен, принудительного займа и особых налогов для богатых, ограничения свободной торговли. Крайние среди них угрожали посягнуть на самое святое для буржуазии — на собственность.
Революция 10 августа 1792 года свергла короля, либеральных аристократов типа Лафайета, изгнала фейянов. Буржуазия шла вместе с народом, Дантон возглавлял подготовку восстания. 2 июня 1793 года народ выступил против самой буржуазии, и главным действующим лицом оказался Марат. Конвент подчинился вооруженной силе революционных предместий. Перед Тюильри ее олицетворил Анрио, а в зале заседаний Конвента — Друг народа. Поэтому он вызывает небывало единодушную ненависть среди депутатов. Он сразу это почувствовал и 3 июня написал в Конвент, что прерывает участие в заседаниях, ибо не хочет больше выступать в роли «яблока раздора». Он даже не упоминает о своей болезни.
2 июня народ покусился не на неприкосновенность короля, как 10 августа прошлого года, а на неприкосновенность Конвента, буржуазного парламента, национального собрания. На важнейшее принципиальное завоевание буржуазной революции! Конвент сам скоро согласится с ограничением своей власти и авторитета. Но пока он еще для этого не созрел, и потребуется новое обострение обстановки, чтобы так случилось. Поэтому после 2 июня Марат выглядел не столько победителем, сколько козлом отпущения.
Изнуренный, измученный, жестоко страдающий от болезни, Марат остается беспомощным в своем убогом жилище. Но он упорно твердит, что ему в сто раз больнее наблюдать страдания народа. И продолжает борьбу! Он выпускает газету «Публицист Французской республики». Он бомбардирует Конвент и Якобинский клуб письмами, заявлениями, предложениями. Их не только не обсуждают, их даже не зачитывают! Крики ярости Друга народа, требующего выполнения требований санкюлотов, смешиваются у него с нападками на «бешеных», вдохновлявших поход на Конвент 2 июня.
На другой день после восстания никто в Париже и особенно в Конвенте не знал толком, что делать дальше. Одни, как Барер, хотели бы сразу распустить революционные комитеты, лишить Коммуну права распоряжаться Национальной гвардией, словом, наказать революционеров. Робеспьер возражал. Что могла дать открытая война Конвента против санкюлотов? К тому же они одним ударом избавили Неподкупного от опаснейших врагов, от жирондистов. Надо использовать и развить этот успех, постепенно, но неуклонно ослабляя революционные организации. Их требования, конечно, принимать нельзя.
И действительно, все началось с того, что обычно происходит с восстаниями: действуют и рискуют одни, а выигрывают другие. И всегда под лозунгом, подобным призыву Робеспьера: «Необходимо объединяться». Речь шла не об идее Марата: тесный союз Горы и санкюлотов. Робеспьер хотел прежде всего объединить с монтаньярами буржуазию. Тревожной неизвестностью, правда, оставалась позиция революционных секций Парижа. Союз с ними или компромисс? Кто из монтаньяров способен спасти революцию в этот самый отчаянный ее момент? Дантон устал и уходит от ответственности. Марат смертельно болен, его ненавидит буржуазия, он мучительно страдает не столько от своих недугов, сколько от сознания бессилия. Остается Робеспьер, который выдвигается на роль естественного лидера Горы, хотя и он пока предлагает лишь путь лавирования и экивоков.
Монтаньяры последовали за этой еще туманной политикой, за которой скрывалось их желание привлечь к себе депутатов Болота, рассеяв страхи буржуазии. Первостепенной задачей политики примирения становится принятие конституции, для чего, собственно, созывался сам Конвент.
Расширили состав Комитета общественного спасения, включив в него нескольких монтаньяров. Членом Комитета стал друг Дантона Эро де Сешель, а также Сен-Жюст и Кутон, преданные люди Робеспьера. Изящный скептик Эро с улыбкой выслушивал сентиментальные высказывания Кутона и напыщенную декламацию Сен-Жюста. Собственно, писал-то все документы и доклад именно он, проделав эту работу за шесть дней. Дело в том, что они имели готовый проект конституции, написанный Кондорсе. Его упростили и подправили. Любопытно, что Сен-Жюст и Кутон ни разу не предложили обратиться к конституционным идеям Робеспьера, изложенным в четырех его речах и в проекте Декларации прав, где он предусматривал некоторые ограничения права собственности, столь близкое сердцу буржуазии. Теперь она могла не волноваться: смелые замыслы, выдвигавшиеся в борьбе с жирондистами, больше не нужны и право собственности зафиксировали в ортодоксально-буржуазном духе.
А пока шла эта работа, Конвент принял аграрные декреты о порядке продажи земель эмигрантов и об общинных землях. Сделали то, что уже стало обычным: сразу после революционных событий принимаются законы, удовлетворяющие крестьян. Так было в 1789 году и в августе 1792 года. Декреты узаконили уже совершившийся факт: полную отмену феодальных повинностей. Но в целом они не представляли собой ничего особенно революционного. Декреты были подготовлены еще при жирондистах. Главный смысл их поспешного утверждения заключался в том, чтобы показать поскорее буржуазии лояльность монтаньяров, их твердую решимость не допустить ничего похожего на призрак «аграрного закона».
Вскоре Конвент начинает обсуждать конституцию. Конечно, по сравнению с прежней Конституцией 1791 года, она выглядела огромным достижением. Раньше речь шла о монархии, теперь учреждалась республика. Не было и речи о делении граждан на «активных» и «пассивных»; законом становилось всеобщее избирательное право. В Декларации прав даже признавалось право на сопротивление угнетению; восстание не только право, но и долг народа, если правительство угнетает его. Целью общества провозглашалось «общее счастье». Конституция утверждала право на труд, на социальное обеспечение, на образование. Словом, это была демократическая, но благонамеренная буржуазная конституция. Неприкосновенность буржуазной собственности подтверждалась самым категорическим образом.
Все шло гладко, ибо конституция действительно не допускала никаких монтаньярских крайностей. 10 июня Робеспьер признал в Якобинском клубе, что скорейшее утверждение конституции необходимо, чтобы успокоить опасения собственников, возникшие из-за последних революционных событий: «Вот наш ответ всем клеветникам, всем заговорщикам, которые обвиняли нас в том, что мы хотим анархии».
Действительно, буржуазии в данном случае не в чем было упрекнуть Робеспьера и других монтаньяров. Однако им пришлось выслушать горькие истины, когда 25 июня с петицией от имени Клуба кордельеров, секций Гравилье и Бон-Нувель выступил Жак Ру. Этот священник заслужил уважение и любовь бедняков своим поистине евангельским рвением в деле защиты бедняков. Однако, кроме чувства милосердия и сострадания к обездоленным, он испытывал пылкую, яростную ненависть к буржуазии и богатству. Движение «бешеных», которое он возглавлял, видимо, получило свое название потому, что оно могло служить точным определением характера самого Жака Ру. Робеспьер пытался не допустить его выступления в Конвенте, но смог лишь задержать его на два дня.
«Уполномоченные французского народа! — начал он речь, часто называемую Манифестом. — В этом священном месте сто раз звучали слова о преступлениях эгоистов и мошенников. Вы неоднократно обещали нам нанести удар по пиявкам, сосущим кровь народа. Конституционный акт вскоре будет представлен на утверждение суверена. Осудили ли вы в нем спекуляцию? Нет! Запретили ли вы продажу звонкой монеты? Нет! Ну что ж, мы заявляем вам, что вы не сделали всего для счастья народа.
Свобода — лишь пустой призрак, когда один класс людей может безнаказанно заставлять голодать другой. Равенство — лишь пустой призрак, когда богатый посредством своей монополии пользуется правом распоряжаться жизнью и смертью себе подобных. Республика — лишь пустой призрак, когда контрреволюция действует изо дня в день, повышая цены на продукты в такой степени, что они становятся недоступными для трех четвертей граждан, проливающих слезы».
Взволнованно и страстно рассказывал Жак Ру о жизни народа, о растущей нищете, более ужасной, чем при старом режиме. Его речь дышала милосердием и состраданием и одновременно гневной ненавистью к виновникам страданий народа. Но Жак Ру, слишком простодушный и непосредственный, был только голосом страдающего народа, не желающего знать никаких политических тонкостей. Неуместность включения в конституцию статей о продовольственном снабжении, о наказаниях спекулянтов, необходимость единства в момент гражданской войны, разжигаемой жирондистами, все это ускользало от его внимания. Он не понимал, что принятие демократической конституции действительно требовалось для Республики. Ничего этого он знать не хотел; он служил только страдающим людям. И он оскорбил революционный Конвент, заявив что даже Старый порядок был менее жесток к народу.
В зале Конвента происходило нечто невообразимое. Так о народе еще никто не осмеливался говорить. Здесь ссылки на народ, апелляции к его воле служили риторическим украшением и просто демагогией. Но сейчас голодный народ в рубище нищеты предстал в облике грозного обвинителя.
Народ на трибунах для публики приветствовал речь Жака Ру бурными аплодисментами. А депутаты в амфитеатре, расположенном ниже, возмущенно вскакивали с мест. А затем на голову злосчастного оратора посыпались оскорбления и клевета: сообщник вандейских фанатиков, австрийский агент… Жака Ру просто выгнали из Конвента.
Как раз на другой день в Париже вспыхнул «мыльный бунт». Прачки, возмущенные новым подорожанием мыла, растащили мыло из стоявшей на Сене баржи. Десятка полтора прачек бросили в тюрьму и привели в боевую готовность Национальную гвардию на случай новых «грабежей». 27 июня в Конвент явились делегации с требованием остановить рост цен, ввести максимум на все продукты. Выступление Жака Ру теперь стало казаться началом опасного движения. Еще 25 июня в Конвенте, осуждая «вероломное» выступление Жака Ру, Робеспьер предупредил, что поскольку «нищета народа большая, берегитесь, как бы злоумышленники не воспользовались несчастиями, сопровождающими революцию, для того, чтобы сбить с толку народ».
Жак Ру и другие подлинные представители народа поставили Неподкупного перед сложной, болезненной для него задачей. С первых речей в Генеральных Штатах Робеспьер претендует на монополию представлять народ. Он говорит о нем постоянно, возвышенно, патетически. Но сам он не принадлежит к народу; все простонародное, вроде красных шапок и карманьолы, брезгливо отвергается им. Но он продолжает постоянно ссылаться на народ и говорить от его имени, хотя народ для него абстракция, не имеющая ничего общего с санкюлотами, с реальным народом. Но именно теперь он с ним и сталкивается лицом к лицу. Поэтому он так уязвлен едкими, но справедливыми обвинениями в том, что Революция и он сам ничего еще не дали беднякам. Он в замешательстве, ему приходится, чтобы сохранить свою иллюзию народного представителя, создать какую-то оправдательную версию. Легче всего объявить Жака Ру ложным патриотом и самозваным представителем народа. Его подлинными представителями, заявил Робеспьер, являются якобинцы и монтаньяры, «люди, без слов любящие народ, те, кто без отдыха работает для его блага, не кичась этим».
28 июня Робеспьер выступает в Якобинском клубе против Жака Ру, бичует его как агента Питта и Кобурга и определяет суть своей тактики по отношению к народу: «Я не могу хорошо думать о тех, кто под видимостью тесной связи с народными интересами готов продолжить бредовую брань этого бешеного священника. Меры, которые надо принять для спасения народа, не всегда одни и те же. Как и на войне… точно так же, если использование сил в борьбе с врагами бесполезно, мы должны употребить все хитрости и лукавство — оружие, которое все они использовали против нас. Если бы мы не пренебрегали хитростью и коварством, мы бы уже в течение четырех лет одерживали победы».
Пренебрегали ли? Хитрость и коварство легко обнаружить у многих, если не у всех деятелей революции. Но никто не говорил об этом вслух. Неподкупный, например, предпочитал в каждой речи рассуждать о добродетели. И вот теперь, в момент, когда выступление «бешеных» повергло его в замешательство, он оказался первым и единственным, кто не только признал, но и призвал к политическому мошенничеству. Это вырвалось у него не в частном разговоре, а публично на трибуне Якобинского клуба, когда Жак Ру привел его в бешенство! Даже легендарный Макиавелли проповедовал подобные принципы не столь громогласно.
Робеспьер беспощаден к Жаку Ру, Варле, Леклерку, к другим «бешеным». Он навязывает Клубу кордельеров, секциям, Коммуне осуждение Жака Ру. Напрасно незадачливый священник оправдывается. Ему затыкают рот, и этот простак, не обладающий ни коварством, ни хитростью, прячется в своей мансарде, утешая себя в обществе собаки игрой на любимой арфе…
Робеспьер одновременно доказывает буржуазии свою лояльность. Он выступает против жестких мер по размещению среди богатых принудительного займа в миллиард ливров, добивается отсрочки суда над жирондистами, отклоняет любые требования по ограничению разгула скупщиков и спекулянтов, вздувающих цены. Так он рассеивает старое предубеждение против него, завоевывает доверие депутатов Болота. Робеспьер всегда довольно откровенно презирал их, но теперь подобострастно превозносит их политическую мудрость. В этом ему помогает преданный молодой соратник Сен-Жюст.
«Болотные жабы», как называли депутатов Болота, становятся в его устах «благородным и умеренным большинством». 8 июля в Конвенте Сен-Жюст красноречиво рисует монтаньяров гуманными, а жирондистов — беспощадно жестокими. «Архангел террора», как его вскоре станут называть, выступал проповедником милосердия: «Только мудрость и терпенье могут создать Республику, и ее вовсе не хотели те среди нас, кто мнил успокоить анархию любым иным способом, кроме справедливости и мягкости правления».
Сен-Жюст бичевал жестокость уже изгнанных из Конвента жирондистов во время сентябрьских убийств в 1792 году. Правда, убивали не жирондисты, а другие. Тем хуже для них! И Сен-Жюст изрекает любимые им чеканные фразы: «Тот, кто без жалости смотрит на резню, более жесток, чем тот, кто убивает».
Нет, деятели Революции вовсе не были всегда прямодушными и честными. В жестокой борьбе со старым миром они одновременно боролись между собой, охваченные ненавистью, соперничеством, завистью друг к другу, тщеславием. Конечно, это были истинные герои, но со всеми человеческими слабостями и пороками. Возвышенное благородство и низменные вожделения смешивались в их мыслях и чувствах в обостренной форме, как всегда бывает с людьми в моменты сверхчеловеческого напряжения. Прекрасное и чудовищное: здесь все соединилось.
Робеспьер — великий мастер политического маневра. Он понимает, что откровенная политика примирения с буржуазией и одновременно решительное отклонение всех требований санкюлотов могут лишить его ореола защитника народа. Опасно порывать совсем с санкюлотами, когда положение столь неустойчиво. И он использует доклад Лепелетье де Сен Фаржо о всеобщем народном просвещении. Лепелетье — монтаньяр, убитый бывшим телохранителем Людовика XVI накануне казни короля. Его единодушно провозгласили первым мучеником Революции. Лепелетье был знатным аристократом, одним из самых богатых людей Франции. Но он великодушный филантроп и, движимый самыми благородными чувствами, составил план, по которому все социальные проблемы бедняков решались путем их просвещения. Их дети обучались бы в приютах, за счет налога на богатых. 13 июня Робеспьер зачитывает план Лепелетье в Конвенте, с особым пафосом выделяя такую формулу: «Это революция бедняка… но революция мягкая и мирная, революция, которая совершается, не затрагивая собственности и не попирая справедливости. Усыновите детей неимущих граждан, и нищета исчезнет для них».
Именно таков социальный идеал Робеспьера. Он говорил об этом замысле: «Это изумительно, это — первое творение, отвечающее величию Республики». В то время выдвигалось множество социальных проектов, вплоть до коммунистических. Однако Неподкупный отдавал предпочтение филантропической утопии Лепелетье, утопии «мягкой и мирной революции», возмущенно отвергая любые замыслы о принудительном перераспределении собственности.
Поведение Робеспьера можно объяснить двойственностью его натуры. Ученик Руссо, склонный к возвышенно-туманным утопиям, он воспринял у Жан-Жака и ожесточенный характер, сделавший из него честолюбца с маниакальной подозрительностью к соперникам, со слепой ненавистью к ним. Иное дело Марат, человек более открытый и цельный. Но и Марат неожиданно для многих, с несколько странным запозданием, 4 июля выступил против Жака Ру.
Что же побудило Друга народа сурово осудить человека, трогательно заботившегося о Марате, прятавшего его от полицейских агентов и горячо прославлявшего его как великого защитника угнетенных?
Увы, он стал жертвой интриги. Колло д'Эрбуа, этот бывший актер, игравший теперь роль крайнего революционера, которому всегда не хватало искренности и убежденности, явился к нему. Перед этим он вместе с Робеспьером занимался развенчанием Жака Ру в Клубе кордельеров. Колло принес Марату фальшивый документ, свидетельствующий, что Жак Ру — это преступник, самозванец по имени Реноди, присвоивший чужое имя. Кроме Колло, к нему приходили и другие люди, близкие к Робеспьеру, и тоже сообщали компрометирующие «сведения». Ему внушили, что Ру, так же как Варле и Леклерк, вожди «бешеных», претендуют на славу более твердых защитников народа, чем сам Марат. К тому же существовали между ними реальные противоречия во взглядах. Ру не доверял монтаньярам, не верил в любовь Робеспьера к народу. Марат же считал необходимым прочный союз монтаньяров с санкюлотами. Вдобавок ко всему этому сказалось крайне болезненное состояние Марата. В газете Марата появилась статья с длинным названием, которое говорит все: «Лжепатриоты более опасны, чем аристократы и монархисты, портрет Жака Ру, поджигателя секции Гравильеров и общества Кордельеров, изгнанного из этих народных обществ, и его собратьев Варле и Леклерка, его сообщников».
Оклеветанный Ру сразу прибежал к Марату, чтобы объяснить ему, как он заблуждается. Больной не стал его слушать. Тогда жестоко гонимый «красный кюре» написал целую брошюру. Он легко опроверг все возводимые на него напрасные обвинения. Но Марата уже не было.
13 июля, в тот самый день, когда Робеспьер в Конвенте славил революцию «мягкую и мирную», Революция реальная вновь показала свой суровый, жестокий облик. В половине восьмого вечера 25-летняя девушка из Кана в Нормандии ударом ножа убила Марата.
Шарлотта Корде д'Амон, родившаяся в знатной дворянской семье была экзальтированной особой, поклонницей героев Плутарха и героинь Корнеля, кстати, по прямой линии происходившей от великого драматурга. По своим политическим взглядам она роялистка, хотя и осуждала Людовика XVI за его чрезмерные уступки Революции. Несколько видных жирондистов, бежавших из Парижа из-под домашнего ареста, приехали в Кан. Здесь оказались Петион, Бюзо, Гюаде, Барбару, Луве. Кроме усиленной деятельности по подготовке гражданской войны против революционного Парижа, они, привычные к светской жизни, оказались радушно принятыми местным высшим обществом, в котором Шарлотта с ними и познакомилась. Бесспорно талантливые краснобаи, они произвели на нее неотразимое впечатление, и она буквально упивалась их разговорами. Они в этих беседах главным образом изливали свою злобу на тех, из-за кого им пришлось бежать, особенно на Марата. О том, что могла услышать Шарлотта, дают представление слова Бюзо о Марате: «В Марате природа, кажется, собрала все, чтобы воплотить в единственном, уродливом как преступление существе все пороки человеческого рода, существе, излучавшем порок из всех пор своего гнусного тела. Это жестокий зверь, трусливый и кровавый… Люди благословят день, когда человечество освободится от этого человека, который его позорит».
Шарлотта с восторгом слушала прославленных ораторов. А они говорили о Марате примерно то же, что и Бюзо. Взбалмошная девица вообразила, что ей надлежит совершить подвиг — убить Марата, что прославит ее как Жанну д'Арк. Сказалась и ее влюбленность в красивого марсельца Барбару; к нему была неравнодушна сама мадам Ролан. Именно к Барбару обратилась Шарлотта за нужными адресами в Париже. Ему она напишет длинное письмо перед казнью.
С необычайной одержимостью Шарлотта добивалась встречи с Маратом, которого охраняла лишь его подруга Симонна Эврар. Она написала Марату две записки, но попала к нему лишь при четвертой попытке. Он сам велел пустить ее, поскольку она растрогала его жалобой, что ее преследуют за дело свободы, что она несчастна и надеется на его помощь. Больной принял ее, сидя в ванне, смягчавшей испытываемые им боли. Он работал, используя широкую доску вместо письменного стола. Присев, Шарлотта минут пятнадцать рассказывала ему всякие небылицы. Но она назвала ему имена всех жирондистов, собравшихся в Кане. «Прекрасно, — радовался Марат, — через восемь дней они пойдут на гильотину». Это были его последние слова. Улучив момент, с удивительным самообладанием Шарлотта вскочила и изо всех сил вонзила Марату нож сверху в грудь. Он вошел прямо в сердце.
Весть об убийстве Марата мгновенно разнеслась по Парижу и вызвала сильнейшее волнение. В секциях с преобладанием санкюлотов скорбь дополнялась яростным гневом. Здесь давно требовали террора не только против аристократов, но и против скупщиков, спекулянтов. Жирондисты, вдохновившие Шарлотту Корде, добились резкого усиления ненависти к ним. Смерть Марата приблизила террор.
Народ давно уже видел в нем самого верного защитника. Теперь он становится героем — мучеником, объектом почти религиозного культа. Всюду в общественных местах появляются бюсты Марата. Началась волна переименований. Секция, где он жил, получила его имя (за время Революции ее название менялось в третий раз, она уже носила название Кордельеров, Французского Театра, Марселя). Монмартр становится Монмаратом, Гавр де Грас — Гавр-Маратом, Компьен — Маратом-на-Уазе.
Немедленно объявились и политические наследники. Несмотря на пресловутую статью против Жака Ру, первыми и заявили о себе в этой роли «бешеные»: Леклерк начинает издавать газету «Друг народа», Жак Ру газету от имени «Тени Марата». Наиболее ревностными и искренними среди них оказались члены Клуба кордельеров. У его стен Марата погребли, в зале заседаний как святыню поместили сердце Марата.
Однако требование устроить грандиозные похороны натолкнулось в Якобинском клубе на сопротивление Робеспьера. Он указал, что «они могут быть гибельными», что от лишних почестей «память о нем рискует быть забытой». Он отверг предложение о переносе останков Марата в Пантеон, поскольку там он окажется рядом с изменником Мирабо. О неприязни Робеспьера к Марату знали все, и поэтому его возражения против почестей Другу народа вызвали негодующий возглас друга покойного Бентабола: «Он их получит вопреки завистникам!»
Конечно, Робеспьер действительно завидовал всем, кому выпадало больше славы. Вот для Лепелетье он в январе сам требовал Пантеона! Но ореол имени Марата сиял значительно ярче. Однако Робеспьер прежде всего большой политик. Если бы Марату устроили официальный грандиозный апофеоз, что сказали бы ненавидевшие его буржуа, которых Робеспьер стремился путем «примирения» отделить от жирондистов? А депутаты Болота в Конвенте, поддержка которых была совершенно необходима монтаньярам? Нет, Робеспьер поступил мудро, хотя потерпел ущерб его авторитет.
Восстание, поднятое бежавшими жирондистами, называлось «федералистским», хотя оно таким не было. Жирондисты вовсе не собирались разделить Францию на кучу полунезависимых провинций. Они хотели завоевать Париж, из которого их выгнали монтаньяры и народ. Восстание угрожало расколоть лагерь революционной буржуазии.
Сначала оно приобрело устрашающие размеры. Четыре крупных района на Западе и Юге, около 60 департаментов, казалось, охвачены огнем. Только три департамента, прилегающие к столице, несколько других на Севере, вблизи границ или рядом с Вандеей, где непосредственно ощущалась угроза контрреволюции, остались верными революционному Парижу. Нормандские, бретонские «федералисты» объединились вокруг Кана — столицы жирондистского Запада. Здесь Бюзо с 7 июня вдохновлял формирование армии в четыре тысячи человек. Кальвадос поднялся 10 июня. Одновременно в Бордо создается отряд в 1200 человек. В Провансе, где давно тлел кризис, открыто восстают 12 июля. В Лионе монтаньяров вытеснили давно, в конце мая им устроили резню. 17 июля гильотинировали их вождя Шалье, объявленного в Париже третьим мучеником свободы (вместе с Маратом и Лепелетье). На эшафоте Шалье попросил палача: «Верните мне трехцветную кокарду, я хочу умереть за свободу». Палач-новичок не сумел сразу отрубить ему голову. Потребовалась сабля, чтобы отделить ее.
Однако за исключением Лиона, где роялист Преси получал еще и помощь от короля Сардинии, а также Тулона, который адмиралы-роялисты готовились передать Англии, «федералистское» движение как-то неожиданно в конце июля потерпело крах.
Гибкая политика монтаньяров сделала свое дело. Очень тактично действовал даже непреклонный Сен-Жюст со своей речью о «мягкости и милосердии»! Он назвал виновными только пять жирондистов, а остальным выразил сожаление и надежду на их преданность Революции. Жирондисты на заключительном этапе поединка с монтаньярами до конца обнаружили свою политическую слепоту. Их призыв к оружию повис в воздухе. Попытка создать «третью силу» между Революцией и контрреволюцией была абсурдом. Наступило время острейшего противостояния сил. Роялистские друзья Жиронды переходили к вандейцам, а буржуазия понимала, что возврат к Старому порядку лишит ее всего. Разве могла идея военного крестового похода увлечь буржуазию портовых городов? Вся ее торговля потерпела бы крах. Наконец, вложив нож в руки убийцы Марата, жирондисты окончательно раскрыли глаза тем в Париже, кто еще сохранял к ним какое-то сочувствие.
Насколько легко удалось избавиться от жирондистского восстания, настолько же трудно было в Вандее, в «проклятой Вандее», как тогда говорили. В начале июня контрреволюция добилась объединения, над которым поработали церковные фанатики. Военный совет назначил командующим Кателино, бывшего бродячего торговца, экзальтированного католика, известного в народе как «Анжуйский святой». Но за фасадом единства там царил хаос и соперничество. Главная слабость восстания — неспособность и нежелание крестьян сражаться по-настоящему. Они соглашались действовать в лесах вблизи своих деревень. Крестьяне отправлялись в поход, лишь когда предстояло поживиться грабежом какого-либо города и сразу вернуться обратно. Во всяком случае, «королевская и католическая армия» насчитывала 40 тысяч человек, и это была страшная сила.
На стороне республиканцев не намного больше порядка и организованности. В конце апреля создали три армии из добровольцев, новобранцев, бывших солдат. Решения в Вандее принимались двумя соперничавшими центрами. В Ниоре генерал Бирон из «бывших» стоял во главе штаба армии, подвергаясь ожесточенным нападкам Марата, обвинявшим его в предательстве, что и привело генерала к гильотине. Но в Сомюре одновременно действует целая когорта комиссаров, набранных либо в Коммуне Парижа, либо в Клубе кордельеров. Здесь играют в войну. Это неудивительно, ибо комиссаром и генералом оказался Ронсен, автор посредственных пьес, рьяный член Клуба кордельеров. Его главный помощник генерал Парен, из парижских «бешеных», участник взятия Бастилии и тоже драматург. Вокруг них группа бывших актеров. Правда, встречались здесь и серьезные люди, такие, как рабочий-ювелир Россиньоль, честный человек, откровенно признававший, что не создан для командования. Один из видных вандейских республиканцев Мерсье дю Роше писал в мемуарах: «Я негодовал при виде улиц Сомюра, заполненных адъютантами, генералами-вымогателями и другими людьми того же сорта. Этих испорченных людей, этих столпов злачных мест здесь было куда больше, чем в Туре. Численность их возрастала с каждым днем по мере прибытия из Парижа новых батальонов. Я видел скоморохов, превращенных в генералов, я видел, как плуты, шулера, которые тащили за собой самых отвратительных шлюх, получали чины в армии или должности в продовольственной, фуражной или обозной службах, и эти развратные насекомые еще имели наглость называть себя республиканцами».
Несмотря на преувеличения, картина, нарисованная свидетелем, в общем верна. Другие современники, документы, факты показывают, что в борьбе с мятежной Вандеей, как и во всех революционных событиях, участвовали не только образцовые патриоты с безупречным нравственным обликом и поведением. Но они не только «называли себя республиканцами». Они были ими, они сражались за Революцию, погибали, жертвуя собой. Мерсье дю Роше напоминает некоторых историков, полагающих, что Революцию совершали какие-то идеальные герои, манекены в синих мундирах, а не живые люди. Реально, в жизни все было противоречиво, сложно, запутанно.
В лагере «синих» в Вандее действительно царила неразбериха. Кипели раздоры, страсти, отражавшие то, что происходило и в Париже. Но здесь и героически сражались, делая то же самое дело, что и 14 июля 1789 года, когда генералы-санкюлоты Россиньоль и Ронсен, как и им подобные, штурмовали Бастилию.
Конечно, беспорядок у республиканцев облегчал дело мятежников. После взятия 9 июня Сомюра, затем Анжера они 29-30 июня штурмуют Нант. Город уже частично взят! Героизм республиканцев спасает положение. Банды фанатиков разбегаются. Сам Кателино, «Анжуйский святой», погибает. Республиканцы побеждают. Вестерман, герой штурма Тюильри 10 августа 1792 года, со своими батальонами овладевает Шатийоном. Но 5 июня вандейцы нападают на беспечный гарнизон и беспощадно уничтожают «синих». Они захватывают 12 июля Вье, затем 27 июля Пон-де-Се. Города переходят из рук в руки…
Сообщения из Вандеи вызывают крайнюю тревогу в Париже. 1 августа по докладу Барера Конвент решил начать систематическое уничтожение Вандеи: стереть с лица земли ее леса, посевы, скот, убежища мятежников, все мужское население, оставляя лишь женщин, детей, стариков…
Это уже война на уничтожение, война до последней крайности, война по принципу: свобода или смерть!
В армиях Республики, на границах, пытающихся сдержать натиск внешнего врага, положение не лучше. Армия не может пожаловаться на недостаток бойцов: в июле их численность достигает 650 тысяч человек. Вражеская коалиция выставила против Франции в два раза меньше. Но дело губит плачевное состояние политического и военного руководства. Военный министр Бушотт раздражает генералов, особенно Кюстина; ведь министр всего лишь подполковник! Его ругают и в Конвенте из-за того, что он позволил генеральному секретарю своего министерства кордельеру Венсану заполонить санкюлотами канцелярии военного ведомства. Они пламенные революционеры, но негодные администраторы. Мало того, Бушотт решил с одобрения Комитета общественного спасения прогнать с командных постов всех бывших дворян. Многие офицеры, искренне преданные Революции, возмущены. В этом хаосе крупные командиры все делают по-своему. Кюстин, с конца мая командующий Северной армией, не получив одобрения своих наступательных планов, просто бездействует. 12 июля его отзывают, заключают в тюрьму, а в конце августа он кончает жизнь на гильотине. Его преемники отважные вояки, но они не способны согласовать свои действия.
Повсюду оборона слабеет. На Севере герцог Кобург имеет 50 тысяч австрийцев, а под командованием герцога Йоркского 35 тысяч голландцев и ганноверцев. Под напором этих сил 10 июля капитулирует Конде, 28 — Валансьенн. Камбрэ устоял лишь благодаря разногласиям между герцогами. Йорк самостоятельно осаждает Дюнкерк. Ослабленный Кобург бездействует. Пруссаки герцога Брауншвейгского 23 июля занимают Майнц. На Юге король Сардинии захватывает Савойю, угрожает Ницце. Продвигаются вперед и войска испанского короля.
Республиканские армии отступают на всех фронтах. Никогда еще они не были настолько дезорганизованы.
В момент, когда все невзгоды и опасность обрушиваются на Францию, Дантон уходит от власти: 10 июля обновляется Комитет общественного спасения. В новом составе Дантона уже нет. Это кажется странным, ибо особенностью его деятельности всегда служит стремление к объединению сил Франции против внешней опасности. Так было в легендарные дни осени 1792 года. Сейчас положение еще более грозное. Но Дантон уходит.
Некоторые историки утверждают, что Друэ, тот самый, который когда-то помог задержать Людовика XVI в Варенне, предложивший 10 июля обновить Комитет, действовал по тайному поручению Робеспьера. Он якобы хотел устранить Дантона. Весьма сомнительная версия, поскольку в тот же день Робеспьер энергично защищал деятельность Комитета вообще и Дантона в особенности!
Дантон сам хотел удалиться от власти. К этому его располагали обстоятельства личной жизни, его женитьба, о которой уже рассказано. Дантон задолго до ухода из Комитета начал пренебрегать его работой. Конечно, он продолжал выполнять свой долг и, добившись ассигнования четырех миллионов на секретные расходы, пытался с помощью тайной дипломатии расколоть коалицию, объединившуюся против Франции. Его дипломатические затеи не имели успеха. Еще активнее стала помогать коалиции далекая, но влиятельная Россия и близкая Испания. Дантон почувствовал, что 2 июня положило конец его политики примирения и объединения и внутри страны. Вообще он испытывал разочарование собственной деятельностью. Но его критиковали и другие. 23 июня монтаньяр Вадье, один из самых старых по возрасту (и самых богатых, кстати) монтаньяров, член Комитета общей безопасности, резко осуждал «усыпителей» из Комитета общественного спасения. А Марат назвал его 4 июля «Комитетом общественной погибели».
Дантон не любил отвечать на критику, к тому же очень общую, неконкретную и необъективную. Он делал выводы и действовал. На этот раз он решил отступить в глубину политической сцены, ибо власть, выступления в главной роли лишь компрометируют его, делают уязвимым, превращают в мишень для нападок. Пусть поработают другие, если смогут, а они неизбежно кончат плохо в столь обостренной обстановке. В начале июня в Якобинском клубе он произнес многозначительную фразу: «Мои коллеги видели, что я отдал максимум моих сил и все мои мысли Революции. В настоящий момент я исчерпал всего себя».
А за несколько дней до обновления Комитета он заранее объявил о своем нежелании быть переизбранным. 5 сентября при очередном обновлении Комитета его снова выбирают в Комитет, но он категорически отказывается. Через две недели после ухода Дантона из Комитета общественного спасения его выбирают председателем Конвента. Это не постоянная должность на длительный срок, но избрание свидетельствует, что нет и речи об утрате им авторитета и влияния. Нет, его не «устранили». Он ушел сам из-за усталости, разочарования, из-за непосредственности характера, побуждавшего его действовать только под напором искреннего чувства, бурными порывами своего темперамента. Вот что пишет Жорес в своей знаменитой истории Революции об уходе Дантона, который он считает крупным событием: «Его решение, несомненно, также было признаком тайного недовольства и политического расчета. В трудные времена он очень часто брал на себя ответственность и нес ее бремя. Ему часто приходилось оправдываться в Якобинском клубе; его гордость менее стойкая и глубокая, чем у Робеспьера, но неистовая и пылкая, страдала от этого. По горькому опыту своих отношений с Дюмурье он знал, насколько легко скомпрометировать себя государственному деятелю, как только он начнет действовать, как только у него появятся определенные функции и какая-то власть. Ему, несомненно, было неприятно и то, что его так часто защищал и оберегал Робеспьер, который сам был осторожным и не столько направлял события, сколько за ними следил и теперь мог воспользоваться своим незапятнанным авторитетом для руководства Революцией, освобожденной как от парализующей жирондистской агитации, так и от монархической опеки. И Дантон пришел к выводу, что для него настал час проявить сдержанность, отойти несколько в сторону и таким образом добиться восстановления своей революционной репутации, в то время как другие, соприкоснувшись с властью, неизбежно станут более осмотрительными».
Сам Дантон в данном случае проявил величайшую в своей жизни неосмотрительность, совершил роковую ошибку, за которую жестоко поплатится не только он сам, но и вся Французская революция.
Комитет общественного спасения родился из практических повседневных забот, но стал легендарным правительством, какого не было ни до, ни после его короткой, но необыкновенной истории. Название Комитета взято из далекого прошлого, из римской античности, но его дела служили предвосхищением будущего. Он имел своеобразную организацию. Марат так напугал всех призывами к «диктатуре», что в нем не было председателя; его члены обладали равными правами, хотя и несли ответственность за разные сферы деятельности. Но сильная личность неизбежно брала верх. Поэтому и говорили о «Комитете Дантона», «диктатуре Дантона», так же как скоро станут с еще большим основанием говорить о «Комитете Робеспьера», «диктатуре Робеспьера».
Сразу, 10 июля у Дантона не нашлось достойного преемника. Дополнительно избрали Тюрио, друга Дантона и Приера из Марны. Невозможно объяснить их избрание насущной потребностью укрепления Комитета, стремлением сделать его более способным отвечать на грозные требования драматического времени. Приер будет ведать вопросами торговли, а Тюрио выйдет из Комитета в сентябре. Что же изменилось? Уменьшилось количество членов Комитета общественного спасения; вместо 14 их стало всего девять. Переизбрали старых: трех центристов, выходцев из Болота (Барер, Линде, Гаспарен), четырех монтаньяров, вошедших в Комитет еще в конце мая (Сен-Жюст, Кутон, Бон Сен-Андре, Эро де Сешель).
Все стало ясно через две недели, 27 июля: вместо ушедшего из-за болезни Гаспарена Конвент избрал Робеспьера. Сколько раз Максимилиан отказывался от официальных должностей! Может быть, он ждал своего часа, чтобы сразу получить высшую власть? Нет, в вульгарном карьеризме его обвинить нельзя! Дело обстояло сложнее. Робеспьер брал на себя ответственность в самый тяжелый, критический момент смертельной опасности. Он искренне стремился послужить делу Революции. Он проявлял самопожертвование, смелость, решимость спасти страну, стоявшую на краю пропасти. Робеспьер брал в свои руки руль корабля, брошенный Дантоном, когда страшная буря могла вот-вот потопить судно.
Другой вопрос, что последующие события в представлении многих деформируют мотивы Робеспьера. Но тогда, в июле 1793 года, никто не мог предвидеть этих событий, и прежде всего сам Робеспьер. Кто мог знать, что и сам он станет другим под влиянием страшной, уродующей и развращающей людей власти? В данном случае беспочвенны подозрения в неискренности Робеспьера, в каких-то низменных побуждениях. С его стороны это был акт благородного мужества, он хотел наконец совершить нечто из ряда вон выдающееся: спасти Революцию. Его вдохновляло возвышенное честолюбие, которое пронизывало все его мысли и чувства, составляло смысл его жизни. Невероятная сложность и величие стоящей перед ним задачи воодушевляли его, придавали ему необычайную энергию. Вот как он сам говорил об этом новом ощущении в Конвенте: «Кто из нас не подымается даже над самим человечеством, когда думает о том, что мы боремся не за один народ, а за всю вселенную? Не только за людей, живущих теперь, но за всех тех, кто будет жить? Пусть угодно будет небу, чтобы эта истина не была замкнута в узком кругу, пусть она будет услышана в одно и то же время всеми народами!»
Робеспьер не только возбужден, но и опьянен собственной судьбой. Пока это дает 36-летнему, измученному крайним напряжением революционных лет человеку необыкновенный прилив сил и воодушевление. Но, как всегда, даже самые возвышенные иллюзии, утопии Робеспьера окрашены пессимизмом. Он видит жестокость борьбы и знает, что каждый его поступок чреват гибелью. Он постоянно говорил о собственной смерти, о своей готовности стать жертвой, подобно Марату, говорил как о чем-то неизбежно надвигающемся на него. Он принимает эту неизбежность, но придает ей героический, облагороженный характер. В том же выступлении Робеспьер заявляет депутатам Конвента: «Какая бы личная судьба ни ждала вас, ваша победа обеспечена; разве сама смерть создателей свободы не является победой? Все умирают, и герои человечества, и тираны, угнетающие его, но умирают при разных условиях».
Между тем новый Комитет общественного спасения начинает действовать. Естественно было бы ожидать, что в момент крайней военной опасности извне и изнутри главной сферой его деятельности станут военные дела. 14 августа в Комитет избраны два профессиональных военных: Лазарь Карно, которому поручили общее руководство военными операциями, и Приер из Кот д'Ор, получивший в свое ведение военное снабжение. Поскольку в Комитете хватало политиков вообще (пять адвокатов!), то привлечение этих двух военных специалистов имело самое плодотворное значение. Тем более что оба придерживались умеренных, даже консервативных политических взглядов.
Но главным полем деятельности нового Комитета сразу становится укрепление и расширение своей собственной власти. На этом пути возникла щекотливая проблема. После 2 июня с лихорадочной поспешностью готовили, а затем утверждали новую конституцию. Затем ее одобрили подавляющим большинством голосов участники первичных собраний избирателей. 10 августа в Париже устроили грандиозный праздник по случаю принятия конституции, оригинальный текст которой торжественно положили в особый ковчег из какого-то ценного дерева. Оказалось, однако, что эта церемония представляла собой не что иное, как погребение конституции, уже выполнившей свою функцию. Поспешное принятие конституции служило сильнейшим аргументом против жирондистов, обвинявших монтаньяров в стремлении к диктатуре. После их краха она уже не нужна. 11 августа Робеспьер заявил в Якобинском клубе, что если начать осуществление конституции, распустить Конвент, провести новые выборы, то «ничто не может спасти Республику». Введение в действие конституции решили отложить до окончания войны.
Но и внутри временной государственной организации происходит перераспределение власти. 28 июля Комитет общественного спасения получает право «отдавать приказания о вызове и аресте подозреваемых и обвиняемых лиц и о наложении печатей». Это решение явилось только началом осуществления программы, которую Робеспьер наметил для себя еще в начале июня: «Нужна единая воля». Исполнительный совет, то есть министры, ранее формально зависимые лишь от Конвента, теперь окажутся в подчинении Комитета. Все остальные комитеты Конвента, включая и Комитет общей безопасности, тоже подвергнутся той же участи.
Небывалой централизации власти активно способствовал Дантон. По его предложению 2 августа Конвент выделил в распоряжение Комитета 50 миллионов ливров, которые могли расходоваться совершенно бесконтрольно. С помощью тайных субсидий газетам, народным обществам, клубам, вознаграждения тайных услуг, найма агентов, просто подкупа Комитет имеет отныне возможность обрести поистине всепроникающее и всеобъемлющее влияние. Фактически проводилось в жизнь постоянное требование Марата о неограниченной диктатуре, по поводу которого на голову Друга народа обрушивалось так много беспощадной критики.
Конечно, это было бы так, если бы Комитету общественного спасения монтаньяров приходилось иметь дело только с Конвентом, с другими правительственными органами. «Единая воля» Горы, монтаньяров могла бы торжествовать и действовать уверенно и самостоятельно. Но это было далеко не так. Начиная с 10 августа 1792 года существовала и другая власть. В отдельные моменты — 10 августа 1792 года. 2 июня 1793 года — она становилась всемогущей. Собственно, благодаря этому монтаньяры и сумели победить жирондистов. Теперь, когда монтаньяры получили полновластный Комитет общественного спасения, они особенно остро, болезненно почувствовали существование этой второй власти, с которой они никогда полностью не сливались. Могучая, постоянно волнующая масса санкюлотов подавала свой голос в секциях, народных клубах, через кордельеров, «бешеных», иногда через Коммуну Парижа, через газеты, объявившие себя наследниками Марата. Существовало зыбкое двоевластие. С ним приходилось считаться. Умерить страсти санкюлотов, казалось, проще всего было путем принятия их требований. Но они слишком уж задевали интересы буржуазии. Идет в ход имитация законов, как бы перехватывающих инициативу низов и призванных тем самым успокоить народные чувства. 26 июля Конвент принял декрет против скупки. За его внешней суровостью скрывалось, однако, практическое бездействие.
Затем 9 августа принимается декрет о «складах изобилия», который на деле ничем не помог реальному решению проблемы голода и дороговизны. В этом же ряду попыток предупреждения и ослабления народных требований оказался декрет о всенародном ополчении, принятый Конвентом 23 августа. Робеспьер выступал против самой идеи такой всеобщей мобилизации: «Эта благородная, но, возможно, чрезмерно восторженная идея всенародного ополчения бесполезна. Нам не хватает не людей, это нашим генералам не хватает патриотических добродетелей». Он мог бы добавить, что поголовный отрыв мужского населения от труда, этот новый крестовый массовый поход, для которого не было ни оружия, ни командиров, ни снабжения, был бы иллюзией создания несокрушимой силы. Но его горячо добивались. И заведомо невыполнимый декрет приняли, хотя обставили дело такими оговорками, которые оставляли все на усмотрение правительства, то есть Комитета общественного спасения. Зато патриотической риторики в декрете оказалось достаточно. Вот его легендарная формулировка: «С настоящего времени впредь до изгнания врагов с территории Республики все французы должны находиться в постоянной готовности к службе в армии. Молодые люди должны отправиться воевать, женатые будут изготовлять оружие и перевозить продовольствие, женщины будут шить палатки и одежду и служить в госпиталях, дети будут щипать из старого белья корпию, старики будут в общественных местах возбуждать мужество воинов, ненависть к королям и взывать к единству Республики».
Декрет вошел в историю, с ним родился принцип всеобщей воинской повинности, всеобщей мобилизации. Но практическое его значение не шло в сравнение с конкретной повседневной организационной работой по формированию, обучению и снабжению армий. Зато он призван был удовлетворить патриотические упования санкюлотов. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить другие, более основательные народные требования.
Летом 1793 года стояла сильная жара. Урожай пострадал от засухи. Уже в августе чувствуется ухудшение снабжения. В Париж ежедневно привозят только 400 мешков муки вместо минимально необходимых 1500. С помощью муниципальных субсидий кое-как удается поддерживать низкие цены на хлеб, который продается по цене 3 су за фунт. Но цены на остальные продукты в среднем в два раза выше, чем в первые годы Революции. «Бешеные» — Жак Ру, Леклерк — развертывают кампанию против богатых, против банкиров, спекулянтов, против депутатов, чиновников. Теперь к ним присоединяется Эбер, издатель самой популярной газеты «Пер Дюшен», выходившей огромным, немыслимым для того времени тиражом полмиллиона экземпляров. Эбер открыто выступает против усиления власти Комитета общественного спасения. 4 августа он писал: «Если и есть мероприятие опасное, политически неверное, пагубное, то это бесспорно то, что было предложено Национальному Конвенту, а именно: преобразовать Комитет общественного спасения в правительство… В сосредоточении такой огромной власти в руках этого Комитета я вижу лишь чудовищную диктатуру».
Робеспьер сталкивается с новой нелегкой проблемой. Для его друзей, вместе с ним заседающих в Комитете, для Сен-Жюста, Кутона она кажется крайне болезненной. Ведь экстремисты отвлекают от главного, от борьбы против внешнего врага, против армий монархической коалиции, против роялистских мятежей. Но для Робеспьера это привычная ситуация: внутренний враг всегда существует и он всегда опаснее внешнего. «Бешеные» должны быть раздавлены в первую очередь.
Конечно, сейчас против него не прежние враги, с которыми все было ясно. Это не Барнав, не Ламеты, сами не скрывавшие своих связей с двором; это не жирондисты, совершившие так много явных ошибок и докатившиеся до союза с роялистами. Ныне против него те, кто помогал ему сокрушить фейянов, а затем и жирондистов. Они действительно люди народа. Это бесспорно для всех, но не для Робеспьера, ибо народ имеет право представлять только он сам, а все, кто выступает против него — интриганы, агенты аристократов, враги народа. Задача в том, чтобы утвердить эту истину.
Сейчас положение сложнее, чем в июне, когда пришлось разоблачать Жака Ру. Образовалась демократическая, крайне левая оппозиция Горе, монтаньярам. Возникло пестрое противоречивое движение. Ядром его оказалась группа кордельеров. Это не старый Клуб кордельеров, хотя по-прежнему собрания и встречи происходят в том же здании монастыря. Дантон, некогда возглавлявший старых кордельеров, далек от новых. Часто с ними выступают «бешеные»: Жак Ру, Варле, Леклерк, организатор Общества революционных женщин Клэр Лакомб. Их поддерживает народ, но они не располагают союзниками в буржуазном Конвенте; нет у них и никаких вооруженных сил. У них лишь газеты.
Кордельеры несравненно сильнее. Они опираются не только на недовольство народа, но и на поддержку влиятельных чиновников. Смерть Марата способствовала их резкому оживлению. Эбер прямо заявил: «Если нужен наследник Марата, если нужна вторая жертва, она готова и покорна судьбе: это я». Кордельеры думают, что теперь близок час их выдвижения к власти.
Они чувствуют свою силу, поскольку их лидер, друг Эбера, Венсан является генеральным секретарем военного министерства. Этот сын тюремного сторожа, несмотря на свою карьеру, близок к народу, конкретно он связан с мелкими чиновниками, активно включившимися в Революцию. В своем министерстве он устраивает много верных санкюлотов. Вместе с ним действует Ронсен, завоевавший популярность молниеносной карьерой. В юные годы он служил в королевской армии, потом стал писать театральные пьесы. Выдвинулся в Революции 10 августа. Затем находился с армией в Бельгии, возглавил одно из бюро военного министерства. В мае 1793 года отправился воевать в Вандею, где быстро стал генералом. В сентябре возвращается в Париж, чтобы возглавить революционную армию, которая отправится отвоевывать мятежный Лион. Вокруг него группируется много сторонников.
Кордельеры опираются также на поддержку Коммуны Парижа. Мэр Паш симпатизирует кордельерам. Прокурор Коммуны Шометт тоже выдвинулся 10 августа, он пользуется любовью санкюлотов за внимание к их заботам, за личную скромность. Склоняется к группе кордельеров и Анрио, которого только что официально избрали командующим Национальной гвардией Парижа. Наконец, группа имеет свою прессу, прежде всего популярнейшую газету «Пер Дюшен» Эбера. Он также выдвинулся после революции 10 августа.
Таковы основные фигуры кордельеров, стремящихся использовать народное недовольство, чтобы вытеснить руководящую группу монтаньяров в Конвенте и в его комитетах. Это своего рода конфликт поколений: кордельеры воплощают поколение 10 августа, позднее вступившее в Революцию и недовольное «изношенным» руководством поколения революционеров 89-го года. Наиболее дальновидные из монтаньяров чувствуют в кордельерах реальную опасность. Возможно, раньше всех это понял Робеспьер.
5 августа в Якобинском клубе Робеспьер открывает новую кампанию против «бешеных» Ру и Леклерка, как наиболее уязвимых. Он осуждает этих «новых людей, свежеиспеченных патриотов, стремящихся оклеветать перед народом его самых старых друзей… Посредством ярко патриотических фраз, произнесенных с блеском и энергией, им удается убедить народ, что его новые друзья более преданы ему, чем остальные». Далее следует обычная клевета на «бешеных» как на «подкупленных врагами народа… интриганов и эмиссаров Кобурга или Питта».
Робеспьер выступает после Венсана, критиковавшего Конвент и Дантона. На кордельеров Максимилиан еще не нападает, но берет под защиту Дантона, говоря, что его «можно критиковать тогда, когда докажут, что имеют больше энергии, таланта или любви к родине… Никто не имеет права высказать и самого легкого упрека в адрес Дантона». Робеспьер часто защищает его не потому, что хочет сплотить монтаньяров, но главным образом потому, что на фоне этого «коррумпированного» так ярко выглядит незапятнанный образ самого Неподкупного.
«Бешеные», не смущаясь вновь обретенной Робеспьером властью, немедленно отвечают ему. 6 августа Теофиль Леклерк, молодой человек 22 лет, гордо заявляет: «Я согласен, что новые люди выглядят слишком пылкими потому, что старые уже изношены. Я убежден, что только молодые люди обладают той степенью страсти, которая необходима для осуществления Революции».
«Бешеные» возмущают Робеспьера тем, что эти люди с задворков совершенно не считаются ни с его новой властью, ни с заслуженным авторитетом, ни с его монополией достойно представлять народ. Но он явно уязвлен и не жалеет времени, преследуя их своей ненавистью. 8 августа он организует в Конвенте настоящий спектакль, выпуская против «бешеных» вдову Марата Симонну Эврар. Простую женщину не стоило большого труда убедить, что речь идет о защите священной памяти Друга народа. Сам Робеспьер не поленился написать для нее речь против самозванцев. «Я в особенности указываю вам, — читала Симонна, — на двух людей, Жака Ру и Леклерка, претендующих на продолжение патриотических писаний Марата и заставляющих его тень говорить лишь для того, чтобы опозорить его память и обманывать народ… Продолжатели Марата пытаются продлить и после его смерти злостную клевету, по которой его и при жизни выдавали за безумного апостола беспорядка и анархии».
Сразу после вдовы слово взял Робеспьер и потребовал передать вопрос о «двух наемных писаках» на рассмотрение Комитета общей безопасности. Это предложение, равносильное требованию ареста, Конвент принял без обсуждения. Конвент относился к «бешеным» единодушно отрицательно, друзей среди депутатов, представлявших все разновидности класса буржуазии, у них не было. «Бешеные», как и кордельеры, выступали от имени санкюлотов, городских бедняков, враждебных интересам коммерческой и промышленной буржуазии, хотя они вовсе не покушались на частную собственность. Они мечтали лишь о ее равномерном распределении. Санкюлоты добивались максимума не только в виде ограничения цен на продовольствие, но и ограничения самой собственности. В одной из многочисленных петиций содержалось положение «Чтобы один и тот же гражданин владел только одной мастерской, одной лавкой». Это был народный идеал того времени, идеал утопический и, конечно, не суливший экономического прогресса. Однако санкюлоты толкали буржуазную революцию вперед, придавали ей демократический характер. В нравственном смысле они отстаивали более высокую идею справедливости, чем монтаньяры. Но здесь уже был зародыш классового конфликта, правда не исключавшего возможности народного фронта в защиту Революции. Реализация этой возможности зависела от многих случайностей в политике, психологии, в деятельности отдельных людей.
В августе 1793 года Конвент, в котором большинство теперь, как правило, идет за монтаньярами, не проявляет стремления к союзу с санкюлотами, хотя там есть немало депутатов, согласных с их требованиями. Это обнаружилось 20 августа, когда Эбер вздумал выдвинуть свою кандидатуру на должность министра внутренних дел. Он получил 118 голосов из 282 голосовавших. Избрали дантониста Паре, бывшего клерка адвоката Дантона, сохранившего со своим мэтром дружеские отношения. Продолжается травля «бешеных». 22 августа арестовали Жака Ру, но через неделю выпустили на поруки. Против него, этого бессребреника, фабрикуется грязное и мелкое обвинение в… воровстве.
Все хуже продовольственное положение Парижа. 13 августа идет борьба «умеренных» и санкюлотских секций из-за контроля над торговлей продуктами. Растут «хвосты» у лавок. Приходится выставлять у них посты Национальной гвардии для предотвращения драк. Санкюлоты настроены нетерпеливо и возбужденно. Тревога усиливается, когда 2 сентября пришло известие о сдаче Тулона англичанам. В тревожной обстановке 4 сентября начинается новый политический кризис, который показывает не столько способность монтаньяров идти на уступки народу, сколько их уменье использовать его требования для достижения своих целей.
Сентябрьские дни показывают, что и теперь, когда монтаньяры у власти, не они движущая сила Революции, а народ! Народ буквально тащит их вперед. Правда, никто толком не представляет, куда же идет Революция, к чему приведут меры, диктуемые потребностями дня, страстью, страхом, замешательством, массовым психозом и корыстными маневрами политиканов…
Движение началось утром 4 сентября. На бульварах собираются толпы рабочих, каменщиков, оружейщиков. Среди них часто мелькают чиновники из военного министерства. Люди Венсана… Скоро рабочие заполняют Гревскую площадь перед Ратушей. Представители рабочих идут в зал муниципального совета. Они заявляют: «Примите меры к тому, чтобы проработавший целый день и нуждающийся в отдыхе рабочий не был бы вынужден терять ночь и половину следующего дня, чтобы раздобыть хлеб, а иногда даже и не получить его…» Большой зал все больше заполняется рабочими. Руководители Коммуны, мэр Паш, прокурор Шометт, его заместитель Эбер поддерживают требование народа.
«Я тоже был беден, — заявляет взобравшийся на стол Шометт, — и потому знаю, что значит бедность. Здесь происходит открытая война богатых против бедных; они хотят уничтожить нас; хорошо же! Нужно только опередить их; нужно уничтожить их самих; сила в наших руках!..» Затем Эбер призывает народ завтра отправиться в Конвент, чтобы добиться необходимых мер.
На другой день Конвент окружают санкюлоты. Депутация Коммуны, возглавляемая мэром Пашем, Шометтом и Эбером, является в зал заседаний. Шометт излагает обширную петицию. Главное в ней — создание революционной армии, которая отправится в провинцию, чтобы реквизировать продовольствие. «При армии, — заявляет Шометт, — должен находиться неподкупный и грозный трибунал, имеющий в своем распоряжении роковое орудие, сокрушающее одним ударом как заговоры, так и заговорщиков. Она должна покарать скупость и жадность, возвратить богатство…» Итак, гильотина — как средство решения социальных трудностей, как орудие борьбы против богачей — таково убеждение санкюлотов, стихийная вера во всемогущество насилия. Шометт обращается к депутатам Горы с патетическим призывом: «А вы, монтаньяры, навек прославленные на страницах истории… Пусть среди грозы прозвучат ваши декреты, отражающие идеи вечной справедливости и народной воли!.. Святая Гора, превратись в вулкан, горящая лава которого навсегда уничтожит надежды злодеев…»
Могли ли монтаньяры не откликнуться на такой пламенный и лестный призыв? Однако они в затруднительном положении. Как раз накануне в Якобинском клубе Робеспьер с возмущением осудил требование народа обеспечить его хлебом. Он объявил движение санкюлотов плодом заговора интриганов и врагов Революции. Другой монтаньяр, Базир считал, что «чрезвычайно опасные люди, это горлопаны секций». Он объявил, что главные враги не дворяне и священники, а «агитаторы и крикуны, которые вводят в заблуждение народ».
Иную, очень гибкую позицию занял Дантон: «Народ уже давно влачит плачевное существование. Народ — и только он один — сражался за свободу и в награду получил меньше всех. Лавочники и богачи хотели Революции только для того, чтобы воспользоваться привилегиями дворян и священников, присвоив их богатства… Так что же! Если на долю санкюлотов не досталось от Революции никаких выгод, нам ничего не остается, как начать против капиталистов и банкиров такую же точно Революцию, какую мы проделали в союзе с ними против аристократии и церкви».
5 сентября в Конвенте Дантон решительно поддержал петицию Коммуны и призвал удовлетворить требование народа. Он отверг опасение, что в секциях скрывается контрреволюция, и предложил для того, чтобы бедняки активнее участвовали в работе секций, выплачивать им за каждое заседание по 40 су. Однако ради экономии следует проводить не больше двух заседаний в неделю. Предложение Дантона Конвент горячо одобрил. В самом деле, секции, которые до этого заседали непрерывно, теперь неизбежно отставали бы от событий, ослаблялись бы их внутренняя сплоченность, единство. Дантон, который вместе с другими монтаньярами неодобрительно относился к «бешеным», к новым кордельерам и особенно к Эберу, вновь показал себя искусным тактиком.
Конвент принял требования Коммуны о создании революционной армии. Но декрет об этом превратил ее в нечто иное, чем хотели санкюлоты. Армию формировали только в Париже, а не во всей Франции, численность ее оказалась небольшой (семь тысяч), она не получала своих трибуналов с гильотиной. Задача армии состояла не в изъятии продовольствия у богатых, а в подавлении контрреволюции вообще. Конвент делал уступки, но контроль, власть оставлял за собой.
Конвент принял декрет о реорганизации Революционного трибунала. Это выглядело как удовлетворение требования санкюлотов о введении террора. Многие историки считают, что монтаньяры встали на путь террора только под давлением народа. Факты говорят о другом. Еще 25 августа Робеспьер выступил в Якобинском клубе с речью о медлительности Революционного трибунала. Он говорил: «Трибунал должен быть столь же активным, как и само преступление… Бесполезно собирать присяжных и судей, поскольку этому Трибуналу подсудно преступление одного лишь рода — государственная измена — и что за нее есть одно наказание — смерть».
После изменения состава Комитета общественного спасения, особенно после включения в него Робеспьера, тяга к террору чувствуется во многом. Так, 1 августа по докладу Барера декретируют решение судьбы Марии-Антуанетты Революционным трибуналом, разрушение могил и мавзолеев королей в Сен-Дени, арест всех иностранцев, не живших во Франции до 14 июля 1789 года, конфискацию имущества жирондистов, объявленных вне закона.
5 сентября Коммуна от имени народа действительно требовала террора. Но террора социального, террора против богатых. В этот же день в Конвенте депутация Якобинского клуба провозгласила: «Законодатели, поставьте террор в порядок дня!» Речь шла уже о политическом терроре, а не о терроре против скупщиков, спекулянтов, тех, кто наживается на страданиях народа. Поскольку якобинцы прямо указали на необходимость покарать Бриссо и других жирондистов, то ясно, что террор предназначался для устранения политических противников. Социальный смысл санкюлотского террора заменялся политическим. Бесспорно одно, Робеспьер опирался на народную веру (или суеверие) во всемогущество терроризма, чтобы получить оправдание, алиби собственной политики. Конечно, многие из народных инициатив, таких, как аресты подозрительных, чистка революционных комитетов, подхватывались монтаньярами. Но их включили в другой политический контекст; из орудия прямой народной демократии они превращались в орудие правительства монтаньяров — Комитета общественного спасения.
В сентябре Конвент согласился ввести и всеобщий максимум цен. Правда, установили максимум и на зарплату. К разочарованию бедняков, они мало выиграли. Продукты по твердым ценам просто исчезли, тогда как на черном рынке царило изобилие. Максимум на зарплату оказался еще более неприятным сюрпризом. Если бы он соблюдался, то произошло бы резкое, почти в два раза снижение зарплаты! Спасала положение санкюлотская Коммуна. Она просто не выполняла, саботировала декрет Конвента. Вообще монтаньярский Конвент не жаловал рабочих. Он даже повторил и подтвердил знаменитый закон Ле Шапелье о запрещении рабочих коалиций и сборищ! Могло ли быть иначе, если монтаньяры остались буржуазной партией?
Но буржуазия вовсе не единый монолитный блок. Монтаньярам удалось создать в Конвенте широкое большинство, за них голосует преобладающая здесь масса — Болото. Но сколько противоречивых стремлений, соображений, задних мыслей скрывается подчас среди депутатов, голосующих за одно и то же решение! 6 сентября Конвент голосует за расширение состава Комитета общественного спасения, за включение в него Колло д’Эрбуа и Бийо-Варенна. Для одних — это вынужденная уступка народу; ведь эти двое постоянно выступают в поддержку санкюлотов. Для других — попытка превратить их из критиков, из оппозиции в средство усиления власти Комитета, заткнуть им рот, связать руки. Член комитета Приер из Кот д'Ор так объяснит потом в воспоминаниях этот маневр: «Бийо и Колло поносили все наши действия. Чтобы откупиться от них, у нас был один способ заставить их молчать: присоединить их к себе». Надежда оправдалась, получив власть, эти два монтаньяра перестали активно защищать социальные интересы бедноты. Зато резко усилилась их склонность к террору.
Интересно, что одновременно вновь избрали в Комитет Дантона, хотя он заранее отказался от участия в его работе. Однако после двух дней размышлений Дантон снова категорически отказывается: «Клянусь свободой родины, что я никогда не соглашусь участвовать в Комитете!»
В чем дело? Ведь Дантон активно поддерживал «комитет Робеспьера», называл всех его членов «истинными патриотами». 5 сентября именно он оказал неоценимую услугу Комитету, разрядил обстановку конфликта и удивительно ловко выдвинул идею ликвидации непрерывности заседаний секций. Вплоть до 13 сентября он часто выступает с речами, в которых, казалось, возрождается ораторская мощь и обаяние великого трибуна. Все признавали, что всегда слушали Дантона с удовольствием и напряженным вниманием. Его коллеги тщательно готовили речи по 50-100 страниц, монотонно читали их часами. Они усыпляли депутатов и раздражали народ на трибунах. Дантон прежде всего будил их! Его голос вновь гремел, воодушевлял слушателей. Как только узнавали, что должен выступить Дантон, то все устремлялись к театру Тюильри.
О самых банальных, избитых вещах он мог сказать так, что его слова навеки входили в историю: «Велика слава тех, кто завоюет свободу Франции, кто обеспечит победу над ее врагами. Но нет ничего более великого, чем подготовить будущим поколениям систему обучения, достойную свободы. Надо дать народу национальное просвещение. Когда вы сеете его на широком поле Республики, вы не должны считаться с ценой семян для этого посева. После хлеба образование — первая потребность народа». Последняя фраза выбита на постаменте памятника Дантону в Париже…
Только речи, произнесенные им в августе — сентябре 1793 года, могли бы послужить великолепным украшением антологии ораторского искусства Франции. Его отказ от власти тем более казался непонятным, что Дантон дал ясную и дальновидную программу политики правительства по завершению Революции. Депутат, выдвинувший в сентябре кандидатуру Дантона в Комитет общественного спасения, так обосновывал свое предложение: «У Дантона революционная голова; только он сам может воплотить свой замысел; я предлагаю помимо его воли включить его в Комитет общественного спасения».
Почему же он отказался? Видимо, он предвидел небывало жестокую внутреннюю борьбу, уничтожение людей народа. Не хотел ввязываться в неизбежную схватку ярости, ненависти и страха. С него хватило прежних боев, которые он не сумел предотвратить. Он чувствовал усталость, отвращение к бесконечной братоубийственной распре. Ему не по душе схватка, где хороши любые средства, где царствуют клевета, ненависть. А он любил все делать с удовольствием, не принуждая себя. Он не умел ненавидеть и однажды признался: «Что до меня, то я никогда не буду клеветать ни на кого; нет во мне желчи, не в силу добродетели, а просто таков мой характер. Ненависть чужда ему. Она мне не нужна. Поэтому не могу я внушать подозрения даже тем, кто похваляется своей ненавистью ко мне».
Теперь Дантон чувствует себя плохо во всех отношениях. С середины сентября он болен, живет под Парижем. 13 октября он просит у Конвента официальный отпуск по болезни и уезжает с женой в Арси. В Париже он появится только в конце ноября, а за это время произойдет многое без него, а главное — против него.
В начале сентября «Комитет Робеспьера» более или менее успешно, по крайней мере временно, отбил наступление слева. Но в конце месяца Комитет общественного спасения атакуют уже не люди предместий, а депутаты Конвента. Из Вандеи, откуда до сих пор поступали бодрые донесения о том, что мятежники повсюду бегут при появлении республиканцев, приходят тяжелые новости. 14 сентября армия Клебера в десять тысяч человек разгромлена у Туфу. Армия Ронсена тоже потерпела поражение у Корона.
25 сентября Конвент извещен об этих неудачах и о том, что они явились результатом неумелого руководства Ронсена. Критикуют Комитет общественного спасения. Еще раньше многие говорили, что он главным образом занят укреплением своей власти и пренебрегает ведением войны. Затем с трибуны зачитывают письмо двух монтаньяров, близких к Робеспьеру, посланных с миссией в Северную армию. Письмо — грозный обвинительный акт о некомпетентности военного министерства. Армии не получают ни продовольствия, ни одежды, ни опытных офицеров. Выяснилось, что численность армии оказалась на 40 тысяч человек меньше официальной цифры.
Дантонист Тюрио, еще 20 сентября вышедший из Комитета общественного спасения, резко осудил всю его деятельность: «Теперь стараются внушить по всей Республике, что она не сможет существовать, если на все должности не будут назначены кровожадные люди… Надо остановить этот буйный поток, влекущий нас к варварству».
Комитет обвиняют в превышении власти, в тирании, в неспособности, в бездеятельности. Конвент сопровождает эту критику аплодисментами и выбирает в его состав депутата Бриеза, еще недавно находившегося с миссией в Северной армии. Комитет уже идет ко дну, когда Робеспьер взрывается. Все назначения даже в менее значительные комитеты Конвента теперь осуществляются только с его ведома. И вообще Неподкупный решительно отвергает всякую критику.
«В то время, — говорит он, — когда Комитет дни и ночи занят решением важнейших дел родины, вам вероломно преподносят доносы… Нас обвиняют в том, что мы ничего не делаем; но подумали ли вы о нашем положении? Нам приходится управлять одиннадцатью армиями, нести на себе бремя наступления всей Европы, разоблачать повсюду предателей, эмиссаров, подкупленных золотом иностранных держав, следить за непокорными администраторами и карать их, повсюду устранять препятствия и помехи к выполнению наиболее разумных мер; бороться со всеми тиранами, устранять всех заговорщиков, всех тех, кто представляет некогда могущественную своим богатством и своими интригами касту».
Робеспьер преображается. Маленький, скромный, скрывающий близорукие глаза за зелеными очками, он превращается в грозного обвинителя «доносчиков». Так он называет критиков Комитета. «Этот день принес Питту, — говорит он, — больше чем три победы. На самом деле, на какой успех он может рассчитывать? Ему нужно уничтожить национальное правительство, учрежденное Конвентом, разъединить нас, растерзать нас нашими же руками». Робеспьер откровенно намекает, что критики — агенты жирондистов: «Я напоминаю, что враждебная нам партия не мертва, что, даже находясь в тюремных камерах, она составляет заговоры, что змеи болота еще не раздавлены. Те, кто постоянно протестует здесь или вне этих стен, против лиц, возглавляющих правительство, сами показали, что у них нет гражданских добродетелей, и проявили свою низость».
Но, сурово предупреждает Робеспьер, «это не пройдет для вас безнаказанно… В Комитет поступают доносы на самих доносчиков; из обвинителей, какими они являются в настоящее время, они вскоре станут обвиняемыми». А затем следует суровый ультиматум, который обрушивается на головы депутатов Конвента как нож гильотины. Робеспьер требует либо безграничного доверия, либо его Комитет уходит в отставку:
«Я думаю, следовательно, что, если правительство не пользуется безграничным доверием и не состоит из лиц, достойных этого доверия, родина погибла. Я требую, чтобы Комитет общественного спасения был обновлен».
Неподкупный проявил себя блестящим тактиком. Он знает, Франция в отчаянном положении. На фронтах, в Вандее, в Лионе, Марселе, Тулоне — всюду смертельная опасность. Франция дошла до последней черты. Смена правительства? Но кто его заменит? Оппозиция Комитету стихийна, неорганизованна, разнородна. В Париже санкюлоты угрожают посягнуть на собственность. Что, если этот наглый Эбер приведет санкюлотов к Конвенту? Что, если Анрио опять расставит вокруг него пушки? Робеспьер уже сумел показать, что он способен железной рукой карать демагогов и анархистов вроде Жака Ру, посаженного в тюрьму еще 5 сентября, или его друга Варле, арестованного 18-го. Конвент капитулирует и подчиняется Робеспьеру, этому щуплому человечку, изводившему всех своими бесконечными речами-проповедями о добродетели. Это все же менее опасно, чем торжество буйных санкюлотов! Бедный Марат, как он мечтал о диктаторе! Не дожил он до осуществления заветного желания. Вот он, диктатор! Правда, именно Робеспьера Друг народа считал непригодным для такой роли…
Конечно, само слово «диктатура» не произносится. Имеется благозвучный эквивалент — революционное правительство. Оно получило юридическое оформление в декрете Конвента 10 октября 1793 года. «Правительство Франции останется революционным вплоть до заключения мира», — гласит декрет, а из доклада Сен-Жюста следовало, что требование применения Конституции 93-го года имеет отныне контрреволюционный смысл. С помощью звучной риторики, афористичными по форме, но туманными двусмысленными фразами он обосновал смысл новой эпохи: «Законы у нас революционные, но те, кто их проводит в жизнь, отнюдь не революционны… Теми, кем нельзя управлять при помощи закона, приходится управлять при помощи меча… Революционные законы невозможно выполнять, если само правительство не построено на революционной основе».
Тавтология назойливо повторяемых фраз прикрывала безраздельное господство авторитарного принципа, то есть полного беззакония. Торжество Робеспьера над Конвентом 25 сентября, который отныне будет единодушно одобрять все его действия, символизировало небывалое господство Неподкупного на вершине пирамиды. Расширяясь книзу, она охватывала все сферы жизни: от полиции до искусства. Правда, завершение этой постройки потребовало некоторого времени; но главное решилось в сентябре. Поскольку новый порядок означал разрыв с духовным наследием французского Просвещения, не только с принципами Монтескье вроде разделения властей, идеями энциклопедистов, но даже и с демократическими принципами Руссо, возникает потребность найти ему санкцию и освещение в наиболее зыбкой туманной сфере моральных, нравственных категорий вроде добродетели. И это была не только добродетель в римском смысле гражданственности, но и добродетель чисто обывательская. Идея добродетели тем и была хороша, что не нуждалась в логических доказательствах. Ссылки на нее звучали как заклинание, которое следовало принимать на веру.
Характерный признак авторитарной власти — право верховного властителя вторгаться в любую сферу жизни, не считаясь с компетенцией или специализацией. Вдруг, например, Робеспьер замечает в сентябре, что в Париже слишком много развлекаются и во многих театрах ставят веселые пьесы. В Якобинском клубе он обрушивается на комедиантов, особенно на актрис: «Принцессы театра не лучше принцесс Австрии. И те и другие в одинаковой мере развратны. И те и другие должны рассматриваться с равной суровостью». Итак, государственное преступление Марии-Антуанетты приравнивается к легкомысленным спектаклям, где хорошенькие актрисы могут соблазнить революционеров. Все становится подозрительным. Собственно, это вполне соответствует закону 17 сентября 1793 года «О подозрительных», создавшему основание для ареста любого лица, на любом основании. Хороший патриот должен уметь распознать «подозрительного» в любом случайном встречном на улице! Закон настолько широко трактовал категорию «подозрительных», что фактически давал возможность любому члену какого-нибудь местного революционного комитета арестовать кого угодно.
Комитет общественного спасения уделяет особое внимание совершенствованию полицейской службы. Обновляется состав Комитета общей безопасности. В сентябре в него включают лично преданного Робеспьеру Леба и художника Давида, а также двух его земляков из Артуа — Лебона и Гифруа. В подборе людей по принципу личной преданности, связей, знакомств Робеспьер не видел ничего противоречащего революционной морали. Морали не общепризнанной, общечеловеческой, а тому особому ее варианту, смыслом которого обладал только он сам. Однако он надеялся осчастливить такой моралью других, путем проповеди, но главным образом с помощью насилия, террора.
Быстрые военные успехи — вот в чем больше всего нуждалось революционное правительство монтаньяров. Ведь в конце концов, в этом его смысл и оправдание. «Мы заключили договор со смертью», — говорил Барер от имени Комитета общественного спасения. Робеспьер ненавидел Лазаря Карно, но согласился на его включение в состав Комитета, ибо Карно был прежде всего настоящим военным специалистом, методичным и настойчивым, хладнокровным человеком.
Когда 25 сентября в Конвенте Комитет общественного спасения обвинили в бездействии, то это звучало не очень убедительно. Если, скажем, осенью 1793 года в армию призвали 200 тысяч человек, то требовалось время для того, чтобы хоть чему-то научить их, дать им оружие. В августе Конвент подтвердил прежний декрет об «амальгаме», о слиянии добровольцев и старых солдат в одну армию. Однако для осуществления «амальгамы» потребовалось полгода. Увеличить производство ружей, пушек в десять-пятнадцать раз нельзя было за неделю. В огненном вражеском кольце рождалась новая демократическая армия, офицеров выбирали солдаты, и они вместе, без всяких привилегий, делили тяготы и опасности. Проводится смена высшего командного состава. Старые генералы королевской службы заменяются молодыми талантливыми самородками. Лазарь Гош — сын конюха, в 25 лет становится бригадным генералом. Сын мелкого винодела Пишегрю в 32 года — командующий Мозельской армией. Другой будущий наполеоновский маршал — Журдан командует Северной армией в 31 год.
«Солдаты II года» вписали блистательную страницу в историю Великой французской революции. В августе войска герцога Йоркского осаждают Дюнкерк — город и порт на Северо-Востоке Франции. Если город падет — Англия, главный участник коалиции, получит широкие ворота для вторжения во Францию. Северная армия под командованием генерала Ушара, получив подкрепление, брошена в атаку на австрийский корпус, прикрывающий осаду. 6-8 сентября развертывается ожесточенное сражение при Ондскоте, республиканские войска разгромили императорскую армию. Герцог Йоркский снимает осаду Дюнкерка. Смертельная угроза ликвидирована. Армия Ушара преследует отступающего врага, занимает Менен, но, боясь окружения, отступает. Ушар предан суду Революционного трибунала и казнен на гильотине. Генералы Республики должны только побеждать…
Герцог Кобурский осаждает Мобеж, прикрывающий Париж. Северной армией командует теперь Журдан, занявший пост, заслуживший мрачную славу. Армией командовали предатель Дюмурье, Дампьер, покончивший с собой, казненный за пассивность Кюстин, наконец, злосчастный Ушар. В Северную армию прибывают комиссары Конвента — Карно и Дюкенуа. 15-16 октября около деревни Ваттиньи происходит ожесточенное сражение; восемь раз деревня переходит из рук в руки. Австрийцы разбиты и вынуждены снять осаду Мобежа. Морально-политическое значение этой победы не зря сравнивали с прошлогодним успехом при Вальми.
Активные действия развертывает Мозельская армия молодого генерала Гоша. Сначала ему не повезло при Кайзерслаутерне, но, получив подкрепление, он вскоре громит австрийцев при Виссембурге, вынуждает их снять осаду Ландау и отступить. Ликвидирована угроза Страсбургу. На юге генерал Келлерман в октябре очищает Савойю от войск короля Пьемонта. Отступает к Пиренеям испанская королевская армия.
Революция показала в войне против монархической коалиции превосходство нового социального строя, нового буржуазно-демократического государства над старыми феодальными армиями. Дело не только в том, что революционная Франция смогла выставить в два раза более многочисленную армию, чем войска коалиции. Огромную роль играл моральный фактор. Полководцы революции оказались смелее, предприимчивее королей и прославленных маршалов. Большинство «солдат II года» — крестьяне, получившие от революции землю, освобождение от феодального гнета. Они защищают вновь обретенные права гражданина и человека. Что могли противопоставить этому армии Пруссии или Австрии, состоявшие либо из наемников, либо из крепостных, которых гнала в бой угроза шпицрутенов? Для «солдат II года» война была справедливой, их воодушевляло новое чувство патриотической гордости свободных людей.
Новый дух новой Франции обрекал на поражение и роялистских мятежников. Как только революционное правительство серьезно взялось за Вандею, ситуация здесь быстро изменяется. Вандейским мятежникам неожиданно «помог»… король Пруссии. Осажденный французский гарнизон Майнца пруссаки выпустили с оружием в руках при условии, что он больше не примет участия в войне против армий коалиции. Французы выполнили свое обязательство и перебросили армию генерала Клебера с внешнего фронта в Вандею. На «великую католическую армию» обрушился страшный удар закаленных революционных батальонов. 17 октября они окружили у Шоле вандейцев и полностью разгромили их главные силы. Погибли вожаки мятежа. Спустя месяц они терпят новое поражение у Гранвиля, еще через некоторое время их добивают при Ле-Мане. Конечно, мятежный очаг еще долго будет тлеть, вспыхивая время от времени. Но вандейцы уже не в состоянии угрожать крупным городам.
Роялистские мятежники не без помощи жирондистов держали в своих руках три важных города на юге — Лион, Марсель и Тулон. Марсель республиканцы освободили еще 25 августа и после этого подступили к Тулону. Здесь им противостояла мощная крепость с военным портом, занятая к тому же английскими войсками и военной эскадрой. Потребовалась тщательная, долгая осада, которая обнаружила неприступность Тулона. Ключ к его сокрушению нашел молодой капитан Наполеон Бонапарт, разработавший удачный план использования осадной артиллерии. Интенсивная бомбардировка увенчалась 19 декабря успешным штурмом. Наполеон по представлению комиссара Конвента Огюстена Робеспьера в 24 года получил звание бригадного генерала! При этом учитывали пылкую симпатию Наполеона к монтаньярам!
Неожиданно быстрые победы в корне меняют положение Франции. Атмосфера «осажденного лагеря», смертельной опасности сменяется уверенностью в своих силах. Однако именно в октябре начинается массовый террор, объясняемый необходимостью защиты «осажденного лагеря». Этот кажущийся парадокс предопределил сложность самого террора. В нем по крайней мере три разных явления. Прежде всего, естественные и законные меры по защите Революции от ее врагов. Людовик XVI нарушает присягу — соблюдать конституцию и ведет тайную борьбу за ее ликвидацию. Его судят открытым судом, с соблюдением демократической процедуры и гласности и предают смертной казни. Другое проявление террора — яростные расправы революционной толпы, такие, как убийство де Лоне и Флосселя 14 июля 1789 года или убийства в тюрьмах в сентябре 1792 года. Наконец, террор как орудие политической борьбы, применяемое революционным правительством Робеспьера для устранения оппозиции, соперников, инакомыслящих.
Все это осложняется переплетением множества случайных обстоятельств. У монтаньяров, у Робеспьера не было сознательной, заранее разработанной программы террора. Он родился стихийно в драматической буре событий осени 1793 года. Народные выступления, волнения санкюлотов послужили поводом для учреждения террористических, репрессивных институтов. Созданный еще в марте Чрезвычайный трибунал до этого времени действовал сравнительно умеренно: из 260 подсудимых он отправил на смерть только 66. Декретом 5 сентября Конвент реорганизовал трибунал, разделил его на четыре секции, увеличил количество судей и присяжных. Революционные комитеты секций стали поставщиками жертв для эшафота, руководствуясь декретом о подозрительных. В октябре деятельность трибунала резко усиливается. За три последних месяца года к смерти приговорено 177 человек. В несколько раз возрастает количество заключенных в тюрьмах. В Париже открыто три новых тюрьмы.
9 октября был казнен на гильотине первый депутат Конвента журналист Горса. Активный жирондист, он бежал из-под домашнего ареста в Кальвадос, пытался вместе со своими друзьями организовать восстание. Объявленный вне закона, Горса тайно вернулся в Париж, но его опознали и немедленно отправили на эшафот.
Однако настоящим, даже торжественным началом террора оказалась казнь Марии-Антуанетты 16 октября на площади Революции при огромном скоплении войск и народа. Трибуналу не стоило особого труда доказать виновность бывшей королевы, вдохновлявшей иностранную интервенцию во Франции. Неожиданно во время суда произошел эпизод, вызвавший сочувствие к этой преждевременно поседевшей 38-летней женщине. В суде участвовал заместитель прокурора Коммуны Эбер. Он не нашел ничего более умного, как обвинить Марию-Антуанетту в половом растлении ее шестилетнего сына. Королева, не отвечая ему, гневно заявила: «Природа отказывается отвечать на подобное обвинение, обращенное к матери. Я взываю ко всем матерям, которые могут находиться здесь».
Поведение Эбера, представлявшего тогда левое, экстремистское крыло монтаньяров, не случайная выходка. Таков же был стиль и содержание его газеты. На ее страницах он говорил с народом языком фольклорного персонажа, торговца печками папаши Дюшена. Вот как он писал о той же королеве в своей газете: «Во всех дворах на австрийскую тигрицу смотрят как на самую жалкую проститутку Франции. Ее открыто обвиняли в том, что она развратничает со слугами, и трудно сказать, кто же был тот удалец, который сделал ей хромых, горбатых и пораженных гангреной ублюдков, вышедших из ее трехэтажной утробы».
Таким вульгарным кривлянием Эбер рассчитывал удовлетворить вкус народа. Даже санкюлотов удивляла его грубая фантазия. Эбер, белокурый молодой человек с голубыми глазами, с равнодушным лицом, циничный, способный авантюрист — одна из колоритных фигур революционной истории. Деклассированный буржуа, бывший служащий театра Варьете, уволенный за жульничество, он любил деньги. Вместе с женой, бывшей монахиней, он роскошно жил на вилле банкира Коха, вращался среди бывших аристократов или сомнительных людей вроде австрийца Проли, незаконнорожденного сына австрийского канцлера Кауница. Газета давала ему доход, ибо он сумел получать правительственные субсидии и с помощью своего друга Венсана добился рассылки газеты в армии. Эбер подстраивался под вкусы и настроения плебейских слоев санкюлотов. Разработанной политической программы у него не было, но он, безусловно, отражал народные стремления. «С гильотиной мы заставим вынуть из погребов всю звонкую монету», — писал он. Несомненную склонность санкюлотов решать все проблемы с помощью насилия Эбер доводил до крайней степени кровожадности. Казнь Марии-Антуанетты Эбер назвал «самой большой радостью из всех радостей отца Дюшена».
Изъявления таких чувств, естественно, поддерживали идею монтаньяров о том, что узаконенный, правильный террор необходим, чтобы избежать стихийных массовых убийств, вроде сентябрьских избиений в тюрьмах. Вообще все теории обоснования террора после явного ослабления внешней и внутренней угрозы Революции были либо зловещей игрой слов, либо псевдореволюционной софистикой и самообманом. Террор оказался необходим не потому, что Робеспьер был жесток или кровожаден. Истина состояла в том, что опорой революционного правительства служила слишком зыбкая, хрупкая, противоречивая коалиция интересов. Необходимо было всеобщее примиряющее средство, держащее в подчинении, подавляющее возможные разногласия, создающее внешнее единство. Таким средством мог быть только страх, ужас, что, собственно, по-французски и означает само слово «террор». Требовались непрерывно устрашавшие примеры, чтобы страх не проходил, действовал. Первоначально казалось, что цель Робеспьера не в уничтожении противников, а лишь в запугивании, устрашении. 3 октября член Комитета общей безопасности Амар потребовал в Конвенте предать суду не только 22 лидера жирондистов, но и еще 73 представителей этой партии, подписавших после 2 июня петицию протеста против ареста их товарищей. Конвент, пожалуй, легко проголосовал бы за это, но вмешался Робеспьер: «Конвент, — сказал он, — не должен увеличивать числа виновных, с него достаточно одних руководителей».
Это прямо-таки королевское милосердие само по себе говорило об огромной власти Робеспьера. Оно спасло жизнь 73, ибо они благополучно переживут в тюрьме всю страшную эпоху террора. Робеспьер еще не раз будет ограждать их от покушений крайних террористов, ставя в тупик тех, кто пытался разгадать таинственный смысл явной непоследовательности Неподкупного.
Террор принесет много парадоксальных сюрпризов. Чрезвычайный трибунал получит официально название «революционного» во время процесса 22 жирондистов, начавшегося 24 октября, когда, по выражению Верньо, «Революция, подобно Сатурну, пожирает собственных детей». Суд над жирондистами будет моделью, образцом, для других громких процессов «детей» Революции. Талантливые адвокаты, оказавшиеся на скамье подсудимых, озадачили своих судей неожиданно эффектной защитой. Красноречие Верньо вызывает слезы. Процесс грозил затянуться, к концу шестого дня допросили только девять свидетелей. Общественный обвинитель трибунала Фукье-Тенвиль жалуется в Конвенте, что жирондисты могут сделать процесс «бесконечным». «К чему свидетели? — возмущается он. — Тех, кто предстал на этом процессе, обвиняют Конвент и вся Франция; доказательства их вины очевидны… Конвент должен устранить мешающие ему формальности».
Эбер в своей газете даст «добрый совет» Трибуналу не заниматься пустяками, а поскорее свернуть шею злодеям. Кордельеры возмущаются медлительностью суда. Шометт недоволен тем, что Трибунал превращается в обычный суд и обращается с заговорщиками как с «похитителями кошельков». Робеспьер крайне неприязненно относится к Эберу и другим левым экстремистам. Он, в сущности, отвергает все их требования. Но в вопросе о терроре между ними полное единодушие. Еще года два назад строгий легист, законник возмутился бы покушением Фукье-Тенвиля на элементарные правила судопроизводства. Однако ненависть к политическим врагам заставляет его быстро расстаться с прежней юридической скрупулезностью. Робеспьер в ответ на жалобы Фукье-Тенвиля тут же за минуту написал декрет, немедленно одобренный Конвентом. Теперь ни один процесс не будет продолжаться больше трех дней.
Жирондисты готовили речи, чтобы отвергнуть предъявленные им обвинения. Внезапно им зачитали смертный приговор. Валазе, прозванный Катоном Жиронды, закололся кинжалом в зале Трибунала. Накануне казни происходит легендарный прощальный ужин жирондистов. Рассказывали, что они беспощадно высмеивали Робеспьера. До сих пор живет романтизированная еще Ламартином история их деятельности и трагической смерти. Некоторые французы считают, что они до конца оставались наиболее полным воплощением Революции. Пожалуй, они действительно верно представляли молодую французскую буржуазию с ее мечтами и иллюзиями, слабостями и пороками.
Но это были довольно разные люди. Дюко и Фонфред, например, склонялись к союзу с монтаньярами. Марат даже потребовал вычеркнуть их из списка депутатов, подлежавших аресту. «Брюхо (то есть депутаты Болота) поглотит обе конечности» (жирондистов и монтаньяров), предсказывал Дюко, собственная судьба которого будет лишь началом осуществления зловещего пророчества. Известный своим остроумием Фонфред шутил даже у подножия эшафота. Бриссо на процессе занимал единственное кресло, предлагавшееся с тех пор только «главарю» заговора. Он успел произнести три защитительные речи, весьма удачные, что, впрочем, не имело никакого значения… Верньо до последнего момента блистал красноречием. После 2 июня он остался в Париже и осуждал попытки развязать гражданскую войну, что довело его товарищей до сотрудничества с роялистами. «Избавьте меня от пятна Вандеи», — говорил он им. Такую же позицию занимал и Жансонне, заслуживший особую ненависть Робеспьера ядовитым замечанием о вождях монтаньяров: «Если они спасли общественное дело, то они сделали это инстинктивно, как капитолийские гуси спасли Рим». Настали времена, когда за меткое слово расплачивались головой. Хотя среди осужденных не все и не во всем чисты перед Революцией, в чем-то они ей были нужны. Разве не помогал ей аббат Фоше, бывший проповедник короля, а затем один из предводителей штурма Бастилии 14 июля? В Социальном кружке он искренне проповедовал социальное равенство, ссылаясь на Евангелие. Жирондистов называли легионом мыслителей. Но они смутно представляли смысл Революции. Журналист Карра говорил перед казнью: «До чего же досадно умирать! Так хотелось бы досмотреть продолжение».
30 октября их повезли во время дождя, в одних рубашках со связанными руками на пяти телегах из тюрьмы Консьержери к площади Революции. Они мужественно пели «Марсельезу». «У эшафота пение продолжалось, хотя хор уменьшался по мере работы палача. Верньо, остававшийся последним, до конца пел один.
Спустя несколько дней на эшафот поднялась и «королева Жиронды» мадам Ролан. Глядя на стоявшую недалеко статую Свободы, она спокойно произнесла последнюю фразу: «О свобода, сколько преступлений совершается твоим именем!» В одну корзину падали головы людей, убежденных, что именно они лучше всех служили Революции, и считавших, что они никогда от нее не отрекались. К несчастью, интриги, тщеславие и легкомыслие слишком ослепляли их.
Формально жирондистов осудил Революционный трибунал. Но на деле они сами осудили себя. Историческая вина лежит на совести жирондистов, которые в июне 1793 года бежали из Парижа, чтобы развязать гражданскую войну. Их тогда же объявили вне закона. После жалкого фиаско затеянной ими «войны» несколько бежавших жирондистов все же угодили на гильотину, двоим — Луве и Инару — удалось бежать за границу. Некоторые покончили с собой: бывшие министры Ролан, Клавьер. Неудачно стрелял в себя и Барбару, так и не избежав гильотины. В поле нашли потом обглоданные волками трупы Бюзо и Петиона. Кондорсе долго скрывался в Париже. За это время великий ученый создал свой бессмертный труд: «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Когда его случайно арестовали, он тоже предпочел самоубийство.
А гильотина на площади Революции в Париже продолжала работать. Правда, на ночь палачи снимали страшное треугольное лезвие роковой машины и уносили его с собой. Среди осужденных довольно редко появляются и аристократы, эти явные враги Революции. 6 ноября казнили герцога Филиппа Орлеанского — первого депутата Конвента — монтаньяра. Ведь он всегда голосовал, да и сидел вместе с депутатами Горы. Он охотно принял и новое революционное имя — Филипп Эгалите. Его преступление, не считая явно вымышленных обвинений, состояло в том, что сын бывшего герцога бежал вместе с генералом Дюмурье к врагу. Затем казнили знаменитую Дюбарри, любовницу Людовика XV. За преступление, состоявшее в том, что она явилась объектом королевской любви, пришлось заплатить головой. Ей очень хотелось жить, и на эшафоте она просила: «Еще одну минуту, господин палач…»
11 ноября на эшафот взошел Жан-Сильвен Байи, академик, астроном, друг Франклина, первый мэр Парижа, первый председатель Национального собрания. На известной картине, написанной по наброскам Давида одним из его учеников, изображающей клятву в Зале для игры в мяч, 19 июня 1789 года, он, взобравшись на стол, зачитывает текст клятвы, вызывая восторг депутатов. Теперь он должен понести кару за расстрел на Марсовом поле 17 июля 1791 года. «Ты дрожишь, Байи», — сказали ему у гильотины. «Это от холода, друг мой», — отвечал старик, олицетворявший уже бесконечно далекую либерально-буржуазную революцию. Жертвой гильотины стал и другой ее крупный деятель — Антуан Барнав. «И это моя награда», — с горечью произнес он на эшафоте. Такова логика Революции. Она идет вперед по пути самоотрицания. Террор явился крайним средством такого развития.
Казни в Париже поражали громкими именами своих жертв. Однако наиболее ожесточенные формы террор приобретает в провинции, особенно в Вандее. Если в Париже на смерть посылают политических противников, не совершивших преступления в прямом смысле, то там явных роялистских мятежников, взятых с оружием в руках. И они первыми встали на путь чудовищной жестокости, вынудив Конвент предписать беспощадные меры. Невежественные, фанатичные крестьяне свято верили, что их жестокость угодна богу. И они изощрялись, придумывая самые мучительные пытки и казни, как будто мало было просто смерти: раненым выкалывали глаза, отрубали конечности, пленным набивали рот порохом и взрывали. Расправы начинались уже на поле сражения, когда победа явно склонялась к одной из сторон, и происходила просто поголовная бойня.
Вожделенной целью мятежников был город Нант, который пытались захватить любой ценой. В начале осени, когда на Севере еще не выиграно сражение при Ваттиньи, в Париже больше всего боялись английского второго фронта на Западе. Тогда в Нант и направили комиссара Конвента Жана-Батиста Каррье. Даже «снисходительные» требовали от него решительных мер. Эро де Сешель писал ему: «Мы получим возможность стать человечными, когда победим».
Каррье — эбертист, но в отличие от Эбера или Ронсена человек неподкупный, близкий к строгому фанатику Бийо-Варенну. Этот высокий, худой, болезненный человек отличался неуравновешенным характером. Он говорил, что его хотят использовать, чтобы потом им пожертвовать. Комитет общественного спасения потребовал от него самых беспощадных действий. В переполненных тюрьмах Нанта начался тиф. Среди местных республиканцев одни предлагали постепенно выпускать из тюрем заключенных, другие требовали: «Бандитов в воду». Так, что не Каррье придумал массовые потопления в Луаре. Заключенных связанными грузили на баржи и на середине реки по ночам топили. Каррье писал в Конвент: «Какой могучий революционный поток эта Луара». Несколько тысяч жертв унес поток.
Жестокой каре подвергли крупнейший после Парижа город Лион. После того как 9 октября в результате тяжелой осады республиканцы взяли мятежный город, Конвент принял чудовищный декрет: «Город Лион будет разрушен… Название «Лион» будет вычеркнуто из списка городов республики; совокупность оставшихся домов будет носить отныне название «Освобожденная коммуна». На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна с надписью: «Лион вел войну против свободы — Лиона больше нет».
Сначала комиссаром Конвента в Лионе действовал Кутон. При нем казнили 113 видных мятежников. Декрет о разрушении Лиона Кутон выполнил символически: он стукнул по одному из домов молотком и провозгласил: «Тебя карает закон!»
Такая снисходительность возмутила крайних террористов, и в Лион направили члена Комитета общественного спасения Колло д'Эрбуа и депутата-монтаньяра Фуше. Они начинают по-настоящему разрушать город, взрывают и разбирают лучшие здания. Колло писал в Париж: «Мы разрушаем пушечными выстрелами и взрывами мин столько, сколько это возможно».
Начались массовые казни. За три месяца приговорили к смерти 1665 человек. Гильотина не успевала рубить головы. Тогда Колло и Фуше проявили изобретательность. Обреченных связывали группами по 50, 100, даже по 200 человек и стреляли из пушек картечью по этим стонущим скоплениям живой плоти. Добивали саблями, выстрелами или закапывали живьем.
Колло д'Эрбуа решал и социальные проблемы крупнейшего промышленного города, где было много рабочих. Он писал Робеспьеру, что у рабочих нет собственности и поэтому они не дорожат республикой, что «нужно уволить, эвакуировать сто тысяч лиц, работающих на фабриках всю жизнь… Они всегда были угнетены и бедны, чем и доказывается, что они не сочувствовали революции. Рассеяв их среди свободных людей, им можно внушить надлежащие чувства».
Левый монтаньяр Колло д'Эрбуа прекрасно «почувствовал» буржуазный характер Революции и занял вполне определенную классовую позицию, не отягощенную демагогическими утопиями на тему братства и добродетели. Еще более цинично, хотя и без всяких фраз, использовали репрессии те монтаньяры, которых Энгельс называл «шайкой прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре».
Бывший маркиз Баррас и левый журналист Фрерон, направленные комиссарами в Тулон, прославились своими махинациями. После взятия города, переименованного в «Порт Горы», они немедленно предали казни 800 человек, а потом еще несколько сотен. Одновременно они обделывали и свои грязные делишки. Таинственная пропажа нескольких повозок, нагруженных драгоценностями, явно была делом их рук. В Бордо отличился на поприще террора Жан-Ламбер Тальен, депутат-монтаньяр, бывший секретарь-стенограф Коммуны. 25-летний любитель сладкой жизни, отличавшийся страстью к деньгам и красивым женщинам, он проявлял гибкость; самые шумные, демонстративные акты беспощадного террора он сочетал с удивительной мягкостью. За хорошие деньги мог получить свободу даже самый «подозрительный». В торговле милосердием ему активно помогала обретенная им в Бордо очаровательная возлюбленная Тереза Кабарюс, бывшая маркиза и дочь банкира. Ей предстоит еще сыграть политическую роль и на парижской сцене.
Была ли деятельность Каррье, Барраса, Фуше, Фрерона или Тальена просто извращением политики террора или выражением его подлинной сущности? Во всяком случае, в мятежных городах Юга террор имел какое-то оправдание. Но он не мог не создавать почвы для перерождения людей, проводивших террор. Абсолютная власть, которой пользовались «проконсулы» Конвента, не могла не развращать тех, кто имел к этому склонность. Уже не революционные идеи, а стремление сохранить эту власть овладевает сознанием многих монтаньяров.
Осенью 1793 года жизнь Франции невероятно осложняется. Машина Революции вращается с бешеной скоростью. Голова кружится от множества внезапных событий, конфликтов, страстей, опасностей и побед. Но оказывается, повседневные тяжкие заботы о хлебе насущном, о бедах и радостях республики не заслоняют собой все. Революция сохраняет возвышенный порыв к новому прекрасному будущему. Люди от будничных хлопот бросаются к вечности, к сути бытия и смысла жизни. Францию охватывает движение дехристианизации. Отрекаются от старых богов и обращаются к новым. Религия, церковь становятся главной проблемой. Подозрительно, правда, не пытается ли кто-то отвлечь бедняков от борьбы за более насущные нужды?
…С некоторых пор появляется новая примета времени. Часто попадаются остановившиеся как бы в замешательстве французы; наморщив лоб, они что-то мучительно подсчитывают на пальцах. Введен новый календарь, который с непривычки не так-то просто перевести на обычное исчисление времени и сообразить, какой же сегодня день? Французы теперь во II году новой эры, начавшейся 22 сентября 1792 года, в день провозглашения Республики. 24 октября 1793 года Конвент утверждает названия месяцев революционного календаря. Это плод поэтического творчества Фабра д'Эглантина. Каждое время года состоит из трех месяцев, своими названиями отражающими вечный и прекрасный круговорот природы. Осень: вандемьер (сбор винограда), брюмер (месяц туманов), фример (заморозки). Зима: нивоз (месяц снега), плювиоз (дождя), вантоз (ветров). Весна: жерминаль (месяц прорастания), флореаль (цветения), прериаль (лугов). Лето: мессидор (месяц жатвы), термидор (тепла), фрюктидор (плодов).
Каждый месяц делится не на четыре недели, а на три декады, вместо воскресенья — декады. В конце года остаются пять дней: это санкюлотиды. Первый результат новшества — сильный удар по церкви. Уничтожаются воскресения, дни особых богослужений, праздники святых и дни прочих религиозных событий. Впрочем, разрушение рамок, в которые католическая церковь заключала всю жизнь человека, от рождения до смерти, началось еще раньше. Законодательное собрание ввело муниципальную регистрацию актов гражданского состояния, разрешило развод. 10 августа 1793 года состоялся первый чисто светский праздник Революции, без всякого участия церкви. Традиция таких праздников с пением гимнов, процессиями, с поклонением статуям Свободы или Природы — уже носила в себе нечто религиозное в духе деизма. Среди санкюлотов привился и приобрел огромную популярность культ мучеников Революции — Марата, Шалье, Лепелетье. Пока все носило довольно умеренный характер без агрессивной антицерковности.
Однако некоторые комиссары Конвента придают движению значение крайне смутного и экстремистского революционного события. Левые монтаньяры хотели воспользоваться им для усиления своего влияния на массы санкюлотов. Бедняки требовали борьбы с голодом, протестовали против роста цен, добивались налогов на богатых, хотели заставить их платить за войну. Но левые — кордельеры, эбертисты — оставались все же защитниками буржуазии и поддерживали справедливые претензии бедноты только на словах. Самое большее, что они допускали — ограничения только «излишков» богатства.
Шумная антицерковная кампания, приобретавшая часто непристойные формы шутовского маскарада, отвлекала, развлекала и затемняла сознание бедняков. Роль инициатора сыграл комиссар Конвента в Невере Фуше, издавший постановление, запрещавшее какие-либо религиозные церемонии вне храмов. Священники не могли больше появляться в облачении за пределами церкви. Все религиозные символы в общественных местах подлежали уничтожению. Над воротами кладбищ полагалась надпись: «Смерть — это вечный сон».
Действия Фуше — бывшего преподавателя духовной семинарии — оказались заразительным примером. Часто церкви вообще закрывают. Золотые и серебряные предметы церковного обихода конфискуют. 1 ноября люди Фуше принесли в Конвент семнадцать ящиков с такой церковной утварью. Конвент принимал приношения как дар божий, немедленно отправляя золото и серебро на чеканку монеты, которой так не хватало. Фуше призывал заменить бога священников богом санкюлотов.
Эбер в восторге в «Пер Дюшен»: «Ах, черт возьми! Если бы санкюлот Иисус вернулся на землю, как он был бы доволен, видя, что все воры изгоняются из храмов». Но Эбер не проповедовал безбожия, атеизма, он хотел нового бога, будь то Разум, Свобода или Иисус в красном колпаке. Иное дело, другой страстный поборник дехристианизации, прусский барон Анахарсис Клоотс, на визитных карточках которого значилось: «А. Клоотс, личный враг Иисуса Христа». Пылкий поклонник Революции, он жил в Париже и вел страстную пропаганду за всемирную республику со столицей в Париже. Член Якобинского клуба и Конвента, он стал очень популярен. Кроме него, в Париже действовали и другие иностранцы-революционеры.
Это они так обработали епископа Парижа Гобеля, что 7 ноября (по-новому 16 брюмера) он явился в Конвент со своими священниками и торжественно отрекся от своего сана, объявил о закрытии церквей н водрузил на голову красную шапку санкюлота. Началась кампания отречений. 30 епископов, не считая гораздо большего числа священников, последовали его примеру. Презрев многовековой обычай католического целибата, священники начали жениться.
11 ноября (20 брюмера) в соборе Парижской богоматери устроили небывалое «богослужение»: на алтаре восседала сама богиня Свободы, которую воплощала наиболее привлекательная из артисток Оперы. Пели гимн в честь Разума. Его, видимо, представляли здесь же Конвент, Коммуна и другие власти в полном составе.
Антицерковные маскарады состоялись во многих городах. Публично издевались под религиозными обрядами: кресты, митры, посохи, облачения служили предметом осмеяния, ослов покрывали одеяниями епископов, к их хвостам привязывали Библии. Пострадали кое-какие исторические реликвии вроде серебряной раки Святой Женевьевы, отправленной на Монетный двор. Правда, до разрушения храмов дело не дошло.
23 ноября (3 фримера) Генеральный совет Коммуны постановил, что «храмы всех религий и всех культов, существовавших в Париже, будут немедленно закрыты… всякий, кто потребует открыть храм или церковь, будет арестован как подозрительный». Это уж явно запахло религиозным террором.
Какое же отношение имел к новому религиозному маскараду Робеспьер? Сначала никакого, хотя вопрос о религии всегда близок его сердцу деиста, поклонника Руссо с его идеей очищенной гражданской религии. Однако Робеспьер насторожился и во время обсуждения в Конвенте нового летосчисления отметил в своей записной книжке: «Отложить на неопределенное время декрет о календаре».
Кампания дехристианизации продолжалась. Робеспьер, как всегда, долго колебался, обдумывал, решался. В конце концов он все же вмешался и 21 ноября (1 фримера) выступил в Якобинском клубе с речью об атеизме и политике в вопросах религии. Это одна из самых сложных, туманных, противоречивых и в то же время крайне интересных речей Неподкупного, она необычайно глубоко раскрывает таинственную глубину мировоззрения и всю изощренность его политики. Прежде всего он решительно отвергает утверждение, что «фанатизм», то есть церковь и религия, является главной причиной всех бед. Робеспьер считает, что фанатизм «умирает, могу сказать даже, что он умер». Поэтому заниматься им, значит, отвлекать внимание от настоящих опасностей.
Однако затем Робеспьер признает, что культ католицизма не только жив, но пользуется поддержкой народа. Конвент не должен и не может посягать на отмену католицизма. Тем более он решительно осуждает намерения «превратить самый атеизм в какую-то религию». И здесь он фактически провозглашает свободу совести, одновременно категорически осуждая безбожие. «Атеизм аристократичен, идея «верховного существа», охраняющего угнетенную невинность и карающего торжествующее преступление — это народная идея. Народ, все несчастные аплодируют мне, критиковать меня стали бы богачи и преступники… я связан с моральными и политическими идеями, которые я сейчас изложил вам: если бы бога не существовало, его надо было бы выдумать». Это — квинтэссенция туманных, часто бессвязных рассуждений и софизмов Робеспьера, в которых кроется удивительная логика. В самом деле, религия, вера в бога — народная идея, поскольку она служила Старому порядку для сохранения своего господства над народом. Не зря же духовенство было вторым привилегированным сословием. Вера в бога действительно народная идея, поскольку народ лишен просвещения, научного знания и поклоняется тому, что увековечивает его рабство. Вера в бога, говорит далее Робеспьер, «это чувство будет служить сладким утешением сердцу угнетенных».
Но ведь именно так и думали правители Старого порядка и высшие руководители церкви! Поэтому она пользовалась привилегиями, поэтому религию так ценили. Ценит ее и Робеспьер, выступая в роли государственного руководителя другого, буржуазного, но тоже угнетательского государства. Здесь он, как никогда, раскрывает свою подлинную классовую позицию. Робеспьер считает полезной религию для утешения угнетенных, для удержания их в покорности.
Особенно поразительно, что он буквально повторяет знаменитую фразу Вольтера о том, что бога следовало бы выдумать. Вольтер — скептик и циник, который не верит в бога, но он вовсе не революционер и считает религию полезной для бедняков, чтобы они были послушными. Учитель Робеспьера Руссо ненавидел Вольтера и в отличие от него верил в своего «очищенного» бога. Робеспьер всегда делал вид, что это и его позиция. Однако, одобрительно повторяя циничную фразу Вольтера, принимая ее смысл, Робеспьер выдает свою тайну: выходит, что он тоже не верит ни в бога, ни в его эквивалент «верховное существо», что все это полезно даже в виде выдумки. Так рушится миф о нравственно цельной и честной душе Робеспьера, о том, что его заблуждения, ошибки, преступления — всего лишь несчастья чистой, возвышенной, но недоступной корыстным расчетам натуры.
Но допустим все же, что Робеспьер искренний деист и действительно верит в «верховное существо». В таком случае он должен был бы поддержать Шометта или Эбера, поскольку они тоже деисты и верят в высшую «непостижимую силу», будь то Разум, Свобода или Природа. Иное дело Клоотс, поскольку ведь он атеист. Но Робеспьер осуждает и клеймит всех поборников дехристианизации, утверждая, что «это армия подкупленных шпионов, мошенников, которые проникают всюду, даже в народные общества». Последние два слова — ключ к загадке его ненависти. Вот где истинный враг: «народные общества». Затем в речи Робеспьера еще одна характерная обмолвка. Он называет дехристианизаторов «переодетыми аристократами под маской санкюлотизма». Таким образом ясно, что клевета о «шпионах», «атеистах» потребовалась, чтобы заклеймить людей, выражающих интересы, требования санкюлотов! Прямо выступить против их посягательств социального характера Робеспьер не решается, он боится санкюлотов. Поэтому используется тактика защиты религии, даже католической, чтобы нанести удар Эберу, кордельерам, Коммуне, то есть всем тем, кто представляет санкюлотов.
Атака на левых имеет еще одну, чисто личную сторону. Робеспьер лелеет мечту о превращении «верховного существа» в объект официального культа. Именно он и никто другой должен быть первосвященником новой церкви. Поэтому речь идет об устранении конкурентов, опасных своими связями с массами санкюлотов. Неразумно было бы выступать против главных их требований, вроде наделения неимущих собственностью или ограничения богатства. Иное дело — защита религии, к которой народ действительно привязан многовековой привычкой. Когда в праздник Рождества в декабре 1793 года народ толпами заполнил храмы, то это лишний раз показало, что Робеспьер, дав отпор антицерковному движению, выступил выразителем воли народа. Благодаря ему Конвент 6 декабря принял декрет о свободе культов, запретив насилие и угрозы церкви. Эбер и Шометт поспешили сами осудить собственные крайности в дехристианизации. Ультралевые получили ощутимый удар, оказавшийся лишь началом борьбы Робеспьера против кордельеров и всех революционных организаций санкюлотов.
Он давно уже решил любой ценой избавиться от соперничающей власти Коммуны в Париже и народных обществ повсюду. Для этого ему требовался союзник. Им оказался Дантон. Больше месяца, с конца ноября до середины января, формируется и действует блок Робеспьер — Дантон на основе решительного наступления против санкюлотов и ультра-революционеров, поддерживающих их требования. Дантон вернулся из Арси-сюр-Об вовсе не с этой целью. Наслаждаясь жизнью в обществе своей молодой жены, он старался поменьше думать о событиях в Париже. Некоторые из них вызывали у него отвращение. Он требовал, чтобы его ничем не отрывали от безделья, запретил приносить парижские газеты. Согласно не очень достоверному рассказу, его сосед однажды нарушил распоряжение, обрадованный газетным сообщением о казни жирондистов. Услышав новость об этом событии, Дантон побледнел и… заплакал! Удивленный сосед спрашивал, как же можно не радоваться казни заговорщиков? «Заговорщиков? — возмутился Дантон. — В таком случае, мы все заговорщики. Мы так же достойны смерти, как и они. Впрочем, нас ждет та же участь…»
18 ноября в Арси неожиданно приехал племянник Дантона Мерже. Его послали Демулен и Фабр д'Эглантин. «Ваши друзья, — говорил Мерже, — просят вас срочно вернуться в Париж. Робеспьер и его люди собираются напасть на вас». Дантон без удивления заметил: «Они хотят моей головы? Они не осмелятся». — «Вы слишком доверчивы. Возвращайтесь срочно». 20 ноября Дантон уже в Париже, дома на улице Кордельеров. Впрочем, он заметил новую вывеску: «Улица Марата».
Дантон не успел и рта раскрыть, а вокруг него в Париже уже закипели страсти. Явление обычное для авторитетного политического деятеля, отошедшего от власти. Любая группировка хотела бы усилиться, получив его поддержку. Тем более что недавно Комитет общественного спасения произвел новые тревожные аресты. В тюрьму попали некоторые близкие Дантону люди и одновременно несколько видных кордельеров. Ходили слухи, что Робеспьер грозил гильотиной Эберу и его друзьям. Встревоженный «отец Дюшен» 21 ноября защищался в Якобинском клубе путем любопытных параллелей с дантонистами: «Говорят также, что Дантон эмигрировал, что он уехал в Швейцарию, нагруженный награбленным народным добром. Но сегодня утром я встретил его в Тюильри, и поскольку он в Париже, надо чтобы он по-братски объяснился перед якобинцами. Все патриоты должны опровергать несправедливые обвинения против них».
Итак, Эбер, который до отъезда Дантона помещал в своей газете грязные сплетни о нем, теперь явно искал его дружбы. Напрасные надежды, Дантон недолюбливал Эбера, испытывал отвращение к его вульгарной и злобной газете и вообще осуждал крайности новых кордельеров.
Но дружбы Дантона домогались люди посильнее Эбера и прежде всего сам Робеспьер. Он говорил Демулену: «Только журналист такого закала, как ты, способен сокрушить Пер Дюшена». Неподкупный явно давал понять, что он рассчитывает на помощь Дантона и его друзей в борьбе против кордельеров. Это отвечало стремлениям Дантона, отвергавшего крайности ультралевых с их дехристианизацией и требованиями усиления террора. Если Робеспьер намерен действовать против них, то ему неизбежно придется освободиться от Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенна в Комитете общественного спасения. И тогда Дантон был бы готов разделить с Робеспьером правительственную ответственность. Но в какой мере можно доверять Робеспьеру? Однако другого выхода он не находит.
22 ноября (2 фримера) Дантон появляется в Конвенте, который он видит сильно изменившимся. Из 760 его членов осталось меньше 400. Казнено 22 видных жирондиста, 15 других бежали, исключено или посажено в тюрьмы 136 симпатизирующих им. По другим причинам еще 40 в заключении. Многие направлены с миссией в армии, не говоря об отсутствующих из-за болезни, отпуска или из-за страха. В этом сильно урезанном собрании Дантону необходимо восстановить свое влияние, свою силу и авторитет. Это можно сделать только с помощью трибуны, используя власть слова, ибо другой власти у Дантона нет.
Он публично уже выразил свою позицию, выступая накануне в Якобинском клубе. Он осудил культ Разума и оскорбления католической церкви. Дантон почти слово в слово высказывает мысли, очень сходные с тем, что говорил Робеспьер. Он тоже считает, что представление о «великом существе, бдящем за невинно преследуемыми и наказующем преступления» — представление народное. Он осуждает противников христианства и напоминает, что их действия могут нанести большой ущерб авторитету Франции за границей. Дантон явно маневрирует. Ведь он убежденный атеист и в данном случае следует знаменитому рецепту Вольтера («надо выдумать бога»).
Такую же линию он проводит и на другой день в Контенте. А здесь обсуждается конкретная проблема о судьбе священников, которые по примеру епископа Гобеля отреклись от своего сана. Депутаты, особенно бывшие священники, требовали пенсий для людей, сбросивших сутану. Дантон поддерживает эту разумную меру: «Царство священников прошло, но вам принадлежит царство политики. Надо согласовать политику со святым разумом. Надо думать о том, что же делать бывшему священнику, если ему не на что жить. Ему остается либо умирать с голоду, либо бежать в Вандею и стать врагом Революции». Идеи Дантона близки к позиции Робеспьера и враждебны Эберу и Шометту. Он развивает их и в других речах, открыто защищает деизм в духе Робеспьера, предлагая даже проведение празднеств, на которых прославлялось бы Верховное существо: «Ибо мы не хотели уничтожить сверхъестественное, чтобы установить царство атеизма». Дантон гневно протестует против антирелигиозных «маскарадов», требуя положить предел вредным издевательствам над чувствами верующих.
Дантон вновь активно участвует в созидательной деятельности Конвента. Ведь даже в разгар ожесточенной междоусобной борьбы его депутаты строят новый мир. Дантон способствует учреждению системы всеобщего начального народного образования. Он предлагает возродить во Франции Олимпийские игры Древней Греции. В конструктивной работе по созданию демократического общества проявилось подлинное величие Конвента, а не в распрях, раздиравших его.
Но именно они и поглощают главные силы и время. Робеспьер добивается увеличения без того уже необъятной власти Комитета общественного спасения. Он упорно преследует свою главную цель: устранить любые проявления «двоевластия», ограничить, а затем и уничтожить влияние народных революционных организаций, особенно его раздражает деятельность Коммуны Парижа.
Дантон, руководивший 10 августа 1792 года Революцией, опираясь на Коммуну, теперь далек от нее. Еще дальше он и от основанного им некогда Клуба кордельеров. Он против крайностей ультралевых, будь то дехристианизация или террор. Его программа — введение в действие Конституции 1793 года, скорейшее прекращение войны и заключение мира. Он убежден, что теперь, когда в основном отражено наступление внешней и внутренней контрреволюции, настало время для утверждения буржуазно-демократической Республики и завершения Революции. Поскольку такая программа отвечала интересам Франции и ее уставшего народа, то Дантон предполагал, что уклониться от нее не удастся и Робеспьеру, которому он и помогал теперь в борьбе с ультра-революционерами.
При всем своем уме и политическом таланте Дантон был поразительно, до наивности доверчив к отдельным людям. Это проявлялось не только в беззаботной нетребовательности к многочисленным друзьям, но и в отношениях к политическим соперникам. В особенности к Робеспьеру, которого он долго считал ханжой и педантом, но порядочным человеком. В этом роковом ослеплении Дантон сам помог ему сделать власть Комитета общественного спасения еще более абсолютной. Именно он предложил в начале декабря послать в департаменты комиссаров Конвента, наделенных неограниченной властью. Предложение стало частью давно подготовляемого Робеспьером декрета 4 декабря 1793 года о концентрации и централизации власти Революционного правительства. В декрете говорилось, что «все установленные власти и общественные должностные лица поставлены под непосредственный надзор Комитета общественного спасения… что же касается всего, что относится к отдельным личностям, а также к общей и внутренней полиции, то особый надзор над ними возлагается на Комитет общей безопасности».
Декрет запрещал любые съезды, собрания, объединения, комитеты народных обществ. Смысл такого запрета состоял в том, что отныне уже невозможно создать такие органы восстания, как Коммуна 10 августа или Центральный комитет 31 мая, состоявших из делегатов секций. Собрания секций не могли больше контролировать свои революционные комитеты, подчиненные отныне правительству, а не народу. Коммуна тоже не могла больше контролировать эти комитеты. Прокурор Коммуны и его заместитель становились «национальными агентами». Правительство могло их сместить. Если учесть, что в Париже конкретно речь шла о Шометте и Эбере, то ясен смысл декрета. Таким образом, органы народного революционного движения, благодаря которым монтаньяры получили власть, превратились в фикцию. Революционная общественная жизнь Парижа ликвидировалась. Главная пружина Революции была сломана. Легендарные революционные секции Парижа, да и не только Парижа, стали жалкими придатками полицейской власти Комитета общественного спасения. В довершение всего Комитет получил теперь право проводить «чистку» всех выборных органов, в том числе и Коммуны Парижа.
Дантон, «вождь 10 августа», сам помог Робеспьеру нанести этот страшный удар парижским санкюлотам. Теперь понятно, почему накануне принятия декрета 3 декабря Робеспьер защищал Дантона от нападок эбертистов, правда, довольно своеобразной риторикой: «Так ты не знаешь, Дантон, что достаточно быть патриотом, чтобы тебя оклеветали! Так ты не знаешь, в чем тебя обвиняют? Я скажу тебе это. Ты покинул Париж, чтобы эмигрировать, чтобы предложить свои услуги контрреволюции. Ты этого не знал? Так узнай. Об этом рассказали новые люди, пришедшие в Революцию, но, видимо, способные служить ей в большей мере, чем ты и я».
С потрясающей искренностью Робеспьер добавил: «Дантон хочет, чтобы его судили. Он прав, но пусть судят и меня вместе с ним».
В то время, когда Робеспьер произносил эти слова, он уже энергично готовил гибель Дантону. Однако сначала надо с помощью Дантона уничтожить ультра-революционеров, наиболее опасных врагов, поскольку они связаны с народом и выдвигают требования голодных. Прямо обвинить их в таком «преступлении» невозможно. Есть другой надежный метод. Народ за годы Революции видел много реальных заговоров аристократов и их пособников. Связать левых с «заговором» — вот единственный метод, который может дать успех. Если же заговора нет, то его следует выдумать. Впрочем, достаточно лишь использовать соперничество, мелкое интриганство, тщеславие в стане врага. Благо противники Робеспьера слева и справа сами давали удобнейший материал для этого.
Дело в том, что Комитет общественного спасения еще в октябре и ноябре получил два важных доноса (они теперь стали повседневной практикой), позволявших начать одновременно два дела: дело о подлинной коррупции и дело об очень сомнительном заговоре.
Здесь вновь всплывает имя друга Дантона Фабра д'Эглантина. Этот безусловно талантливый поэт, драматург, очень остроумный скептик имел две серьезных слабости: страсть к деньгам и к политической интриге. У него была увлекающаяся натура игрока, мастера изобретательных махинаций. Он забавлялся политикой как игрой ума. Человек театра, он и в политике оставался автором и исполнителем водевилей.
12 октября Фабр сообщил двум всемогущим Комитетам о подготовке заговора, направляемого из-за границы. Цель заговора — свержение Революционного правительства путем возбуждения народного недовольства демагогическими лозунгами. Через месяц, 14 ноября, последовал новый донос. Шабо и Базир, два депутата с темной репутацией донесли Робеспьеру и Комитетам о деле с Индийской компанией. Они рассказали, что известный роялист и банкир барон Бац направляет двойной заговор. Индийская компания используется для коррупции депутатами Делоне и Жюльеном из Тулузы, которые хотят фальсифицировать декрет о ликвидации компании с целью получения огромного барыша. Одновременно тот же барон вдохновляет антиправительственный заговор эбертистов и подкупает для этого депутатов.
За всей этой аферой стоят иностранцы, множество которых понаехало в Париж во время Революции. Можно назвать главных финансовых воротил, кроме Баца, замешанных в «заговор», Перрего, Проли, Гусмана, братьев Фрей. Это была пестрая публика, собравшаяся из разных стран в поисках наживы. Например, моравские евреи братья Фрей, раньше в Австрии носили имя Добруска, затем Шенефельд. Они стали членами Якобинского клуба, подружились с депутатами. Монтаньяр Шабо даже женился на их сестре, получив за ней приданое в 200 тысяч ливров. Международные связи таких людей Революция использовала для своей тайной дипломатии, поскольку обычных дипломатических связей не было. А они проворачивали свои махинации и делали деньги, используя политические связи. Все названные лица участвовали в кампаниях эбертистов по дехристианизации. Особенно активно они поддерживали кампанию Эбера за революционную войну. Это сулило новые прибыли на военных поставках. Они ведь оказывали и полезные услуги по тайной закупке оружия или продовольствия за границей. Во всяком случае, Робеспьер ухватился за идею «заговора иностранцев», поскольку здесь были замешаны ультра-революционеры. Правда, за 200 лет многим историкам так и не удалось найти каких-либо документальных следов политического заговора.
Дело с Индийской компанией было яснее. Она подлежала ликвидации и на этом решили заработать депутаты Шабо, Делоне и Жюльен. Сначала добились резкого падения стоимости ее акций, чтобы скупить их подешевке, а потом провести такой декрет о методах ликвидации, который позволил бы получить за обесцененные бумаги большие деньги. Подготовленный декрет Делоне подсунул на подпись Фабру. Он обнаружил жульничество, исправил текст карандашом и подписал. Но Делоне потом чернилами восстановил выгодный для жуликов текст. Такие крупные историки, как Жюль Мишле, Луи Блан, Жан Жорес, отрицают какую-либо причастность Фабра к подлогу. Он, по их мнению, просто проявил обычную беспечность.
Словом, в одном темном деле были запутаны и дантонисты и эбертисты. Сначала они сотрудничали, но потом стали враждовать. Отсюда и доносы. Комитет общественного спасения решил арестовать и тех и других. Сначала 17 ноября взяли Шабо, Бизира, Делоне и Жюльена, а вскоре арестовали и связанных с левыми Перейру, Дибюиссона и Дефье. Хотя в доносах фигурировал Фабр д'Эглантин, его оставили на свободе, ибо Робеспьер первый удар решил нанести левым. Не тронули пока Эбера и Шометта, хотя и на них указывали доносчики. Возглавлявший Комитет общей безопасности Вадье, прозванный «инквизитором», через своих тайных агентов собирал материал как против сторонников Эбера, так и против друзей Дантона.
Робеспьер понимал, что пока этого материала недостаточно, чтобы убедить даже членов Комитета общественного спасения, не говоря уже о Конвенте, в существовании «заговора иностранцев», с которыми надо связать Эбера, кордельеров, всех крайне левых монтаньяров. Он остро нуждался в поддержке Дантона и поэтому взял его под защиту от нападок слева. Но Дантон вовсе не собирался быть слепым орудием Неподкупного. Он не считал нужным и тратить силы, чтобы выручать из беды коррумпированных дантонистов, оказавшихся в тюрьме. Вернувшись в Париж, он сразу проникся главными интересами Революции. Некогда, в 1792 году в борьбе за свержение монархии он был искренним союзником санкюлотов. Но теперь он считал их требования нереальными. Подавляющая масса французского населения, особенно крестьяне, никогда не примирится с каким-либо не только посягательством, но даже длительным ограничением принципа частной собственности, вроде максимума. Стоявшие во главе санкюлотов их новые лидеры типа Эбера к тому же действовали явно авантюристически, уповая на всемогущество террора. Революция оставалась буржуазной, и уравнительные стремления парижской бедноты были утопией. В конце концов, что могли сделать 100 тысяч парижских санкюлотов против 25-миллионного населения всей Франции, прочно привязанного к идеалам буржуазной, а не какой-то более «социальной» революции в духе туманных идеалов Марата?
После подавления мятежей, после побед над коалицией уже не было необходимости в массовом терроре. Следовало быстрее заключить мир, ввести в действие Конституцию 1793 года и завершить Революцию утверждением стабильной, прочной Республики. Прежде всего надо ограничить крайности террора. Так решил Дантон и так он начал действовать.
26 ноября в Конвенте он выступает с решительным протестом против антирелигиозных маскарадов, но затем, напомнив, что «республиканская конституция принята», призывает принести «народу плоды его конституции». Ведь это означает устранение Революционного правительства, проведение выборов в постоянное Законодательное собрание. Когда «бешеные» требовали введения в действие Конституции 1793 года, Робеспьер объявил это контрреволюцией. И вот теперь и Дантон говорит: «Создадим республиканскую власть», и тем самым вступает в прямое противоречие с Робеспьером, постоянно утверждающим, что нынешний исключительный режим — это и есть республика.
Дантон требует также «немедленного доклада о заговоре, якобы существовавшем за границей». Речь идет о «заговоре иностранцев», некоторые из участников которого уже преданы анафеме Робеспьером без всяких доказательств. Но главное — это вопрос о терроре.
«Народ требует, — говорит Дантон, — чтобы террор был поставлен в порядок дня, но он хочет, чтобы террор был применен к действительным врагам Республики и только к ним, то есть к аристократам, эгоистам, заговорщикам и изменникам, агентам иностранных правительств, народ не хочет, чтобы всякий, кто родился без революционного пыла, в силу одного этого считался виновным, если он не уклоняется от своего долга, если он не замышляет преступления, народ готов поддержать даже слабого гражданина».
Дантон искренен и отражает мнение большинства. Ведь гильотина работает без отдыха. На эшафот поднимаются бывшие дворяне, священники. Но все чаще рубят головы людям, не совершившим никакого преступления: среди казненных пьяный, обругавший Республику, старуха торговка, громко вздыхавшая о старом добром времени, просто «подозрительный», которого упомянули в доносе, мелкий торговец, жертва доноса конкурента. Любой может устранить соперника. В тюрьмах Парижа уже пять тысяч заключенных, в несколько раз больше, чем в самые отчаянные для Революции прошлогодние времена. Сейчас же поступают все новые сообщения о победах в Вандее и на фронтах. Появляются признаки, свидетельствующие о готовности враждебных держав к мирным переговорам. Дантону становится известно содержание перехваченного письма английского агента, предлагавшего созыв мирной конференции в Швейцарии. Голландия, Испания и Австрия тайно зондируют почву о возможности мирного соглашения. Дантон возмущен тем, что Комитет общественного спасения делает вид, что войну нельзя прекратить.
Робеспьер также возмущен поведением Дантона. Он прекрасно понимает, что выступления против террора создают ему огромную популярность, что, напротив, растет недовольство действиями Неподкупного. Но Робеспьер не уверен, удастся ли ему без поддержки Дантона уничтожить Эбера и других кордельеров, его главных врагов. Поэтому Дантон пока остается драгоценным союзником.
В кулуарах Конвента два смертельных врага сердечно беседуют. Они притворяются союзниками, советуются друг с другом. Дантон всегда добродушно весел, Робеспьер — всегда бледный и чопорный, как добродетель. Любопытно, что по совету Робеспьера Демулен начинает издавать журнал «Старый кордельер». Само название уже направлено против общих врагов — новых кордельеров, ультра-революционеров. Содержание первых двух номеров Камилл согласовывает с Робеспьером, и тот одобряет его. Еще бы, Демулен так остроумно высмеивает Эбера, разоблачает его не только политические, но и личные пороки. Он выступает против Коммуны Парижа, обвиняет ее в незаконном присвоении законодательной власти. Он восхваляет Робеспьера за то, что «к стыду священников, он выступил на защиту того бога, которого они трусливо покинули».
Но талантливый журналист позволяет себе заходить дальше того, что могло бы понравиться Робеспьеру. Чего стоят его требования свободы печати, которая фактически ликвидируется Робеспьером. Демулен переделывает известный революционный лозунг и требует: «Свобода мнений или смерть». Критикой правительства, не желающего ничего предпринять для облегчения участи бедняков, выглядят и его рассуждения о свободе: «Свобода — не красный колпак, не грязная рубашка или лохмотья… свобода состоит не в равенстве лишений, и прекраснейшей похвалой для Конвента было бы, если бы он мог засвидетельствовать о себе: я нашел нацию без штанов, а оставляю ее в штанах». Если вспомнить буквальный перевод понятия «санкюлот», то ясен смысл этой игры слов.
Самое серьезное обнаружилось с третьего номера «Старого кордельера», вышедшего 15 декабря. Демулен написал нечто о жизни Древнего Рима времен самых деспотичных цезарей. Экскурсы в античность были тогда обычным делом. Однако Демулен, не нарушая исторической достоверности, так подобрал и изложил факты и выдержки из сочинений древнего историка Тацита, что ясно было: речь идет о печальной французской действительности, например, о пресловутом законе о «подозрительных». Вот краткая выдержка из знаменитого выступления Демулена: «Во времена Нерона многие люди, чьих близких он осудил на смерть, отправлялись возблагодарить за это богов: они зажигали огонь. По меньшей мере надо было иметь довольный вид, открытое и спокойное лицо. Люди страшились, что им могли поставить в вину самый страх… Все возбуждало подозрительность тирана. Был ли гражданин популярен, — он является соперником государя, способным вызвать междоусобную войну. Он подозрителен. Если он, наоборот, избегал популярности и оставался у своего очага, то эта уединенная жизнь привлекала к себе внимание и внушала уважение. Он подозрителен. Если вы богаты, то существует неминуемая опасность, как бы вы не подкупили народ своей щедростью. Вы подозрительны. Если вы были бедны, непобедимому императору надо пристально следить за этим человеком. Ибо самый предприимчивый — тот, у кого ничего нет. Подозрительный. Если у вас мрачный, меланхолический характер или если вы небрежно одеты, то, значит, вас огорчает то, что государственные дела идут хорошо. Подозрительный… Если гражданин добродетелен истрог в своих нравах, прекрасно, значит, новоявленный Брут с его бледностью и париком якобинца, претендует на то, чтобы быть судьей любезному и хорошо причесанному двору. Подозрительный».
И вот эта «отрава», как говорил Эбер, пользуется огромным успехом. Тираж достигает 50 тысяч экземпляров. У книжной лавки Десена, печатающего «Старый кордельер», длинная очередь. Экземпляр стоимостью в два су перепродают за 20 ливров!
Выступления Демулена вызывают бурю в Якобинском клубе. Возмущены Эбер и его друзья, они обрушивают на Демулена свою ярость: аристократ, негодяй, продажный. «Он покушается на гильотину!» — заявляет Эбер. Странное дело, в отношении террора Робеспьер и ультра-революционеры проявляют единодушие. Крайне противоречивое, причудливое сборище представляет собой общество якобинцев в декабре 1793 года.
Клуб, уже много раз менявший свой состав и свое официальное название, так и не стал руководящим органом Горы — партии монтаньяров. Не был он и душой Революционного правительства, не все члены Комитета общественного спасения входили в него. Карно и Камбон не состояли членами клуба. Отождествление якобинцев 1793 года и монтаньяров, по меньшей мере, условно. Дантон, Демулен и вся их компания формально члены клуба, но фактически они не якобинцы в духе Робеспьера. Также и кордельеры здесь отнюдь не свои люди. Тем более что Робеспьер пытается сделать из клуба какую-то религиозную секту, ревниво очищающую свои ряды. Неугодных Неподкупному подвергают чистке и все чаще исключают. А в обстановке террора исключение — путь к эшафоту. Робеспьер насаждает сектантскую непримиримость, но сделать клуб до конца робеспьеровским ему так и не удается.
Историки-фантасты любят изображать якобинцев каким-то вольным сообществом свободных философов и демократов, вдохновляемых Неподкупным и Добродетельным Максимилианом. Настоящая роль клуба была иная. Ее четко определил в 1791 году Камилл Демулен в своей газете. В то время он очень близок к Робеспьеру и служит рупором его идей, которые он излагал так: «Общество якобинцев является подлинным следственным комитетом нации… ибо оно охватывает своей перепиской с филиалами все самые отдаленные уголки 83 департаментов. Оно не только великий инквизитор, наводящий ужас на аристократов, это еще великий обвинитель, искореняющий злоупотребления и приходящий на помощь всем гражданам. И в самом деле, кажется, что Клуб исполняет роль прокуратуры».
Партия монтаньяров, напротив, не прокуратура и не секта: она действительно объединяет передовые силы Революции, но со всем разнообразием взглядов и политических тенденций. В конце 1793 года монтаньяры делятся, по крайней мере, на четыре течения: прежде всего Дантон и его друзья, умеренные революционеры, прагматики и реалисты; Робеспьер и небольшая группа слепо преданных ему последователей, играющих роль своего рода центра; кордельеры, Коммуна, эбертисты со всеми их санкюлотскими крайностями; террористы-фанатики Колло д’Эрбуа и Бийо-Варенн, сильные своим положением членов Комитета общественного спасения. В целом это очень смутное, колеблющееся, хрупкое объединение разных тенденций. Оно всегда в состоянии неустойчивого равновесия сил, которое судорожно пытается пока сохранить Робеспьер, балансируя на острие ножа, вернее, топора гильотины. Сейчас он делает ставку на союз с дантонистами и поэтому защищает Демулена. Ведь его первостепенная задача — уничтожить санкюлотскую демократию.
Робеспьер не только защитил Демулена от критики, он спас его от исключения из Якобинского клуба. Более того, он проводит решение Конвента 20 декабря о создании Комитета справедливости для расследования причин арестов и освобождения невинных.
Камилл Демулен приходит в восторг и в четвертом номере «Старого Кордельера» (от 25 декабря) пишет: «О, мой дорогой Робеспьер!.. О, мой старый школьный товарищ, ты, красноречивые речи которого будут перечитывать потомки, вспомни уроки истории и философии, они говорят о том, что любовь сильнее, прочнее, чем страх… Ты намного приблизился к этой идее, проведенной тобой декретом. Правда, речь идет о Комитете справедливости. Однако почему слово «милосердие» становится преступлением при Республике?»
Демулен страстно призывает открыть тюрьмы для 200 тысяч «подозрительных». Он уверяет, что эта мера не только не окажется пагубной для Революции, но будет самой революционной из всех мер, какие когда-либо принимал Конвент.
Создается впечатление, что дантонисты начинают серьезно верить в то, что Робеспьер внял голосу разума, что союз с ним скоро принесет плоды. Однако Неподкупный подвергается и давлению слева. Колло д'Эрбуа срочно приезжает из Лиона. Этот изобретатель расстрелов картечью «пачками» по 100 человек встревожен слухами о возможном отказе от террора. Он устраивает в Париже демонстрацию, в которой несут засушенную голову казненного роялистами Шалье, одного из трех мучеников свободы. Он восхваляет террор, протестует против жалости к его жертвам: «Кто эти люди, у которых еще остались слезы, чтобы оплакивать трупы врагов свободы, тогда как сердца патриотов разрываются?» Ясно, что сердце Колло разрывается от страха, что отмена террора будет означать осуждение его собственной кровавой деятельности.
Но приходит сообщение о взятии Тулона. Последний и самый опасный очаг роялистского мятежа успешно ликвидирован. Английский флот позорно бежал. Эта новая победа Революции дает сильнейший довод против террора и резко усиливает позиции «снисходительных», как теперь называют дантонистов. Чем и как можно отныне оправдывать неограниченную власть Революционного правительства и террор?
25 декабря Робеспьер в докладе Конвенту о принципах Революционного правительства ответил на этот вопрос. «Оставим Европе и истории восхвалять чудеса Тулона… Победить англичан и изменников довольно легкая вещь… Есть дело более трудное, надо постоянно энергично расстраивать бесконечные интриги врагов нашей свободы… появляются новые опасности, борьба с которыми не терпит отлагательства».
Не идет ли речь о новых мятежах роялистов, захвативших крупнейшие города страны? Или армии вражеской коалиции нанесли тяжелые поражения французской армии?
Ничего подобного не произошло. Однако случилось нечто более страшное, по мнению Робеспьера: «Австрия, Англия, Россия, Пруссия, Италия имели время установить во Франции тайное правительство, соперничающее с французским правительством».
Где же скрывается эта чудовищная сила? Робеспьер указывает, что иностранные агенты повсюду, «в наших секционных собраниях, они пробираются в наши клубы… Они бродят вокруг нас… по их сигналу толпы народа собирались у дверей булочных или рассеивались… Франция наводнена ими, они ждут и будут вечно ждать благоприятного момента для выполнения их зловещих замыслов. Они укрываются среди нас… Заговорщиков много, они как будто еще множатся, а примеры суда над ними редки… Они только ждут вождей, чтобы объединиться, и они ищут их среди вас».
Робеспьер не называет ни одного имени, не приводит ни одного факта. Он в очень впечатляющей риторической форме, с обилием чеканных формул-афоризмов, звонких, но общих и бессодержательных фраз рисует какую-то фантасмагорию. В самом деле, есть «тайное правительство», но у него нет «вождей». Мания подозрительности доходит до апогея: враг повсюду среди нас. Но как же определить, найти и обезвредить его? Вот в этом-то и состоит задача Революционного правительства, которому Конвент должен оказать полное доверие и поддержку.
Однако в докладе Робеспьера есть и некоторые конкретные моменты. Он предлагает «ускорить суд над иностранцами». Эти, брошенные вскользь слова об арестованной кучке дельцов иностранного происхождения, обнаруживают зерно, из которого Робеспьер путем фантастического преувеличения извлек чудовищный фантом всепроникающего «тайного правительства».
А как же обстоит дело с двумя крайними, противоположными, соперничающими течениями в партии монтаньяров, со «снисходительными», людьми Дантона, с одной стороны, и с крайне левыми людьми Эбера, с другой? Робеспьер, не упоминая ни одного имени, говорит: «Революционное правительство вынуждено лавировать между двумя подводными рифами: слабостью и безрассудством, модерантизмом и экстремизмом, — модерантизмом, столь же похожим на умеренность, как импотенция на целомудрие, и экстремизмом, у коего столько же общего с энергией, как у водянки со здоровьем».
Таким образом, Робеспьер теперь занимает позицию арбитра между двумя крайними группировками. Это явное изменение его политики. До сих пор врагом был Эбер, а Дантон — союзником. Отныне они уравнены, поставлены на одну доску. Все это звучало достаточно зловеще среди изобилия таких, например, формул: «врагам народа должно нести только смерть».
Доклад завершался законопроектом, одна из статей которого требовала «совершенствования организации Революционного трибунала». Ни у кого не должно было оставаться сомнений: террор не только сохранялся, но резко усиливался. Доклад Робеспьера отметил рубеж, после которого террор направляется не столько против контрреволюции, сколько против политических соперников. Он становится отныне орудием борьбы за власть. Утешением для его потенциальных жертв могла звучать одна из многочисленных риторических фраз доклада: «О, добродетель великих людей! Что значат перед тобой все волнения и все претензии мелких душ!»
Глава IX КРОВАВЫЙ ПУТЬ К ТЕРМИДОРУ
Не прошло и полугода диктатуры Робеспьера, как партия монтаньяров оказалась на грани распада. Эта грань совпала по времени с началом 1794 года. Собственно, по революционному календарю новый год вообще не наступил; шел четвертый месяц II года Республики. Для ориентировки воспользуемся привычным старым календарем.
Кризис партии монтаньяров казался непонятным, ибо освобождение Тулона завершило серию блестящих побед революционной Франции. Отстояв свою независимость, отбив наступление коалиции на всех фронтах, разгромив внутренние мятежи, Республика шла к близкому, окончательному торжеству. Все чаще вспоминали о принятой в августе новой Конституции, введение в действие которой отложили до тех пор, пока Франция не выйдет из тяжелого положения осажденного лагеря. Вопреки надеждам, Робеспьер объявляет опасной контрреволюцией мысль о восстановлении демократического республиканского управления. 25 декабря Неподкупный дал четкую установку: новые победы ведут к усилению происков внутренних врагов и требуют не ослабления, а еще большего усиления чрезвычайной власти Комитета общественного спасения и террора. Власть Революционного правительства и до этого уже необычайно усилилась: подавлена независимость Коммуны, ни о каком двоевластии не может быть и речи, резко ослаблены секции, революционные народные комитеты приведены в жалкое состояние придатков полицейского аппарата, грозный Конвент пока послушен. Достигнута небывалая централизация власти. И все же в тревожных предостережениях Робеспьера заключалась доля истины. Дело в том, что власть самого Неподкупного буквально висит на волоске, и это остро почувствовалось в самом начале 1794 года.
Можно ли было рассматривать в качестве доказательства его влияния, что в январе ему удалось тюрьмой и клеветой довести до ужасного самоубийства любимца бедняков, наивного и благородного подвижника Жака Ру? Что другие «бешеные» либо уничтожены, либо принуждены к молчанию? По словам добросовестного исследователя положения санкюлотов во II году Республики Альбера Собуля, глубокое уныние и скрытая горечь распространяются в народе, терзаемом «душевной драмой».
Но разве Робеспьер не отдавал все силы, всего себя без остатка делу Революции? Неподкупный действительно трудился, не щадя себя. К несчастью, он еще меньше щадил других. Его многочисленные страстные речи отличаются искренним пафосом. Но это пафос ненависти, презрения, угроз. Теперь, когда он знает, что его никто не сумеет принудить к молчанию, открыто высмеять или подвергнуть остракизму, он говорит властно, повелительно; он ощущает себя единственным носителем истинного духа Революции, ее высоким подлинным чистейшим воплощением. Его тщеславие уже не выглядит мелким и смешным: оно стало грозным. Страсть к обвинению, разоблачению приобретает маниакальный характер возвышенной миссии апостола истины.
Но это лишь видимость. Никому не известны таинственные замыслы Максимилиана. В своих патетических душевных излияниях он никогда и не заикается, что завел сеть личных агентов-осведомителей, что, кроме открытой, ясной декларации своих воззрений, он непрерывно интригует, запугивает, обольщает, лавирует, балансируя между враждебными интересами и людьми. И он величайший мастер двусмысленности, тонких, но странных намеков, которые при господстве террора приводят людей в трепет ужаса. Жорес писал о его величайшем тактическом мастерстве: «Робеспьер обеспечивает себе отступление на любой случай!.. В Робеспьере, как говорили, было нечто кошачье. Я готов сказать, что он действительно ходит по краю ответственности, как кошка по краю крыши. Он ходит по краю пропасти, никогда не падая в нее. Во время Революции это, возможно, средство продержаться дольше других. Но что стало бы с Революцией, если бы все так себя оберегали и если бы не было Дантонов?»
Как ни льстило самолюбию Робеспьера пребывание в самом центре форума, оно таило в себе новые опасности. Он стал самым влиятельным и известным членом Комитета общественного спасения, хотя формально обладал теми же правами, что и любой другой член Комитета. Ему всегда автоматически обеспечены голоса до конца преданных Кутона и Сен-Жюста. Но главное — его терпение и упорство; он добивался торжества своих взглядов и требований любой ценой, он последовательно, неустанно повторял изо дня в день свои идеи. И он монополизировал общее политическое руководство и систему террора. Такие члены Комитета, как Карно, Камбон, Линде, имели конкретные области деятельности (организация армии, ее снабжение, финансы, продовольствие), требовавшие повседневной огромной технической работы. Робеспьер определял политику, обеспечивал власть. Он произносил больше речей в Конвенте и в Якобинском клубе, чем остальные члены Комитета, вместе взятые. И он выступал от имени Комитета с заявлениями, которые обязывали всех его товарищей, если даже они и оказывались для них полной неожиданностью.
Однако становилось очевидно, что если другие работают, то Робеспьер в основном говорит. Созидательной, конкретной организационной деятельностью, он фактически не занимался, предоставляя черную работу специалистам. Среди примерно пятисот речей Неподкупного, произнесенных им в 1793 году, деловым, конкретным содержанием выделяются два доклада. Первый он сделал еще летом 1793 года по вопросу о народном просвещении. Однако написал этот доклад несчастный Лепелетье, зарезанный фанатиком-роялистом накануне казни короля. Максимилиан не добавил ни слова и зачитал чужой текст. 17 ноября Робеспьер выступил в Конвенте с другим серьезным докладом, посвященным внешнеполитическим проблемам Республики. В этом докладе он проявил совершенно неожиданное для него глубокое, даже тонкое понимание дипломатических проблем. Доклад не зря вызвал отклики в Европе. Откуда вдруг появились у этого человека знания, которыми он всегда пренебрегал и лишь в самых общих чертах, часто крайне неверно представлял международную обстановку, отвергая, в частности, необходимость мирных переговоров, к которым так стремился Дантон? На этот раз Робеспьер излагал материал, идеи и характеристики, полученные от крупного чиновника министерства иностранных дел графа Кольхена. Этот профессиональный дипломат из «бывших» в своих воспоминаниях рассказал, как он испытал чувство приятной неожиданности, работая в непосредственном контакте с этим революционером. Он увидел человека «в костюме далеко не современном», причесанного, напудренного, похожего на завсегдатая Версальского дворца времен Старого порядка. Граф не услышал принятого тогда обращения на «ты» и обязательного слова «гражданин». Ничего не напоминало в Робеспьере о Революции. Это была изысканная беседа главы государства с высокопоставленным чиновником. В заключение, пишет граф Кольхен, «он сказал мне, что слушал меня с интересом и удовольствием». Привязанность Робеспьера к внешним формам, одежде, языку, манерам дворянского сословия отмечали и другие. Одни усматривали в этом пристрастии к парикам, шелковым кюлотам, пудре презрение к демагогическому заигрыванию с санкюлотами, другие видели двойственность человека, желающего разбить старый мир, но не порывать с его внешними формами. Только ли внешними, вот в чем вопрос?
Естественно, такие манеры затрудняли отношения Робеспьера с людьми типа Марата или Эбера, с санкюлотами, которые считали неотъемлемой частью Революции новую манеру говорить и одеваться. Однако главное, что отделяло его от народа, заключалось не в его пристрастии к традиционному костюму, а в догматизме мышления, в непоколебимом сознании собственной непогрешимости, в глубоком антидемократизме. Он терял способность понимать окружающую действительность. В новой ситуации, когда реальная внешняя и внутренняя угроза резко ослабевает, исчезает потребность в исключительном, чрезвычайном режиме и терроре. Но Робеспьер не ищет новой политики, соответствующей новому положению. Напротив, он считает необходимым усиление чрезвычайного режима. Без этого он не надеется сохранить влияние на Конвент. Однако он не отказывается пока от политического маневра. В борьбе за ослабление влияния Эбера, кордельеров и Коммуны он использует временный союз с Дантоном. Но уже 25 декабря, когда он назвал «двумя подводными камнями» умеренных, дантонистов, с одной стороны, и эбертистов, крайне левых, с другой, этому союзу приходит конец. Робеспьер объявляет самой большой опасностью два важнейших течения в самой партии монтаньяров. Итак, он буквально рубит сук, на котором сидит. Депутаты Болота, представляющие буржуазию, с удовлетворением могут наблюдать распад монтаньяров. Более того, именно на Болото, имеющее ключ к большинству в Конвенте, и намерен теперь опираться Робеспьер. Он выступает против требований левых очистить Якобинский клуб от Болота и заявляет: «После 31 мая Болота больше не существовало». Теперь депутаты Болота слышат по своему адресу небывалые комплименты Робеспьера: «Здесь святилище правды; здесь сидят основатели республики, мстители человечества, истребители тиранов». Неподкупный дает им убедительное доказательство своей лояльности; он неоднократно отвергает попытки левых добиться предания суду 73 жирондистов, сидящих в тюрьме. Теперь его врагами являются не люди ненавистной Жиронды, а представители Горы, монтаньяры. Проницательные «болотные жабы» охотно соглашаются на такую игру; ведь чем меньше будет в Конвенте депутатов-монтаньяров, тем больше сам Робеспьер будет зависеть от них, от Болота.
Внешне поведение Робеспьера выглядит политикой «золотой середины». А на деле он окончательно отказывается от идеи союза с народом, заменяя ее союзом с консервативной буржуазией Он возвращается после временного сближения с санкюлотами в свой родной буржуазный стан, казавшийся ему надежной, прочной опорой. До поры до времени эти расчеты оправдываются. Как писал П. А. Кропоткин, один из очень проницательных историков Французской революции, «самое главное то, что в укреплении власти Робеспьера ему помогла прежде всего нарождавшаяся буржуазия. Как только она сообразила, что среди революционеров он представляет собой человека золотой середины, т. е. деятеля, стоящего на равном расстоянии от «экзальтированных» и от «умеренных» и тем самым представляющего наилучшую защиту буржуазии от того, что она называла «излишествами» толпы, она стала выдвигать его».
Так, ради сохранения личной власти Робеспьер становится фактическим орудием наиболее реакционных сил Конвента. При этом он старательно играет роль арбитра, посредника между двумя крайними фракциями монтаньяров. Арестовали нескольких дантонистов по подозрению в коррупции. Но затем следует арест представителей враждебной им группы левых Венсана и Ронсена. Робеспьер, уступая давлению «снисходительных», соглашается на создание Комитета справедливости, но быстро его ликвидирует. Идет ожесточенная полемика между Эбером и Демуленом в печати, в Якобинском клубе. «Я не принимаю, — говорит Робеспьер, — чью-либо сторону в этой ссоре. В моих глазах Камилл и Эбер одинаково не правы». Однако в начале января тон Робеспьера в отношении Демулена становится все более осуждающим. 7 января он излагает свое мнение о нем: «В его трудах вы видите самые революционные принципы рядом с максимами самого опасного модерантизма. Тут он превозносит храбрость патриотизма, там он питает надежду аристократии… Демулен — это странное соединение правды и лжи, политики и вздора, здоровых взглядов и химерических проектов».
Неожиданно происходят эмоциональные сцены. Робеспьер, отклонив требование исключить Демулена из Якобинского клуба, предложил лишь сжечь самые вредные номера «Старого Кордельера». Демулен запальчиво возражает словами Руссо: «Сжечь — не значит ответить!» Робеспьер берет обратно свое предложение и объявляет старого друга «орудием преступной клики».
Клики… враги народа… агенты Питта… плуты… интриганы; эти слова постоянно на устах Робеспьера. Создается впечатление, что он сдерживает свое негодование и только случайность выводит его из себя. 7 января во время его речи Фабр д’Эглантин встает и собирается выйти, но Робеспьер останавливает его: «Я требую, чтобы этот человек, которого всегда видишь с лорнетом в руке и который так хорошо умеет инсценировать интриги в театре, объяснился бы здесь». 12 января Фабра арестовывают, хотя пресловутый документ, являющийся поводом для ареста, известен давно, но его не пускали в ход. На другой день Дантон требует, чтобы Фабра вызвали в Конвент для объяснений, но представители Комитетов решительно возражают. Бийо-Варенн, в упор глядя на Дантона, заявляет: «Горе тому, кто заседал рядом с Фабром д'Эглантином и кто еще сегодня одурачен им!»
В Конвенте воцарилась атмосфера враждебности, подозрительности. Раскол среди монтаньяров теперь совершенно очевиден, но все как будто выжидают. Но вот 5 февраля (17 плювиоза) Робеспьер выступает с большим докладом о принципах внутренней политики. «Настало время ясно определить цель революции и предел, к которому мы хотим прийти». Почему это время настало только на пятом году Революции? Много подобных простых вопросов возникнут и останутся без ответа. Но вот как Робеспьер определяет цель: «Мы хотим иметь такой порядок вещей, при котором все низкие и жестокие страсти были бы обузданы, а все благодетельные и великодушные страсти были бы пробуждены законами; при котором тщеславие выражалось бы в стремлении послужить родине; при котором различия рождали бы только равенство, при котором гражданин был бы подчинен магистрату; магистрат — народу, народ — справедливости; при котором родина обеспечила бы благоденствие каждой личности, а каждая личность гордо пользовалась бы процветанием и славой родины».
При всем желании эти формулы нельзя назвать ни конкретными, ни ясными. Нет каких-либо определенных, конкретных политических, юридических или социальных задач. Это не более, как весьма туманная моральная характеристика крайне общего характера. Во всем обширном докладе депутаты не услышат никакого ответа на вопросы, которые ставит народ в многочисленных петициях, особенно на вопрос о голоде, о тяготах и бедствиях, достигших крайней остроты. Нет слов, Робеспьер очень красноречив в описании нравственно совершенного общества. «Мы хотим, — говорит он, — заменить в нашей стране эгоизм нравственностью, честь честностью, обычаи принципами, благопристойность обязанностями, тиранию моды господством разума, презренье к несчастью презрением к пороку, наглость гордостью, тщеславие величием души, любовь к деньгам любовью к славе, хорошую компанию хорошими людьми, интригу заслугой, остроумие талантом, блеск правдой, скуку сладострастия очарованием счастья, убожество великих величием человека, любезный, легкомысленный и несчастный народ народом великодушным, сильным, счастливым».
После такой долгой и пустой фразеологии в том же риторическом духе Робеспьер более конкретно все же говорит о возможности окончания войны и установлении господства конституционных законов. Однако пока тираны окружают страну, а внутри их друзья составляют заговоры, остается главной задача подавления внешних и внутренних врагов. И далее формулируется несомненно новый принцип деятельности правительства: «Если движущей силой правительства в период мира должна быть добродетель, то движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор — добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. Террор — это не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость, она, следовательно, является эманацией добродетели; он не частный принцип, но следствие общего принципа демократии, используемого при наиболее неотложных нуждах отечества».
Марат в свое время призывал к террору, что возмущало многих. Но он не объявлял террор проявлением добродетели и воплощением демократии. Он считал его жестокой необходимостью. Робеспьер находит такое обоснование террора неубедительным и оправдывает его абстрактной категорией добродетели. Террор допустим не тем, что он необходим для предотвращения каких-то страшных бедствий, нет, он благодетелен сам по себе, ибо неразрывно связан с добродетелью. Попытки мистического оправдания казней с помощью иррациональных доводов известны были и ранее, например из практики инквизиции. Но тогда это не связывалось с демократией, с республикой, с воплощением добродетели в терроре. Пожалуй, самое трагичное в том, что Робеспьер глубоко верил в эту непостижимую связь террора с добродетелью. Идеал единства добродетели и террора, пожалуй, самая страшная из всех его утопий. Добродетель, счастье жизни утверждаются только торжеством смерти; никаких других средств укоренения добродетели он не указывает. Доклад Робеспьера был отнюдь не нравственно-воспитательной проповедью; он призван служить руководством к действию. Одну из речей, произнесенных за месяц до доклада, он закончил напоминанием «о заговорах, которые я здесь разоблачил. Я заявляю истинным монтаньярам, что победа находится в их руках, что остается лишь раздавить нескольких змей».
Идея единства добродетели и террора — плод и высшее «достижение» политической мысли Робеспьера. Мысли уродливой, аморальной, бессознательно преступной. Собственно, это уже не мысль, а продукт больного, извращенного, ненормального ума. Смертная казнь, применяемая в массовых масштабах без всякого ясного и точного обоснования ее необходимости, возводится в роль решающего средства нравственного воспитания людей. Реальные, подлинные нормы права, морали, выработанные человечеством на долгом пути от дикости и варварства до цивилизации, извращаются самым чудовищным образом.
Речь Робеспьера 5 февраля 1794 года не просто удивляет и озадачивает, она вызывает ужас своим смыслом, спрятанным в оболочку цветистой фразеологии. Постигая наконец ее трудно воспринимаемый нормальным разумом смысл, начинаешь понимать, например, одного из лучших современных историков Французской революции Ричарда Кобба. Этот англичанин всю жизнь посвятил ее изучению. Франция стала его второй родиной, где несколько десятков лет он проработал в архивах. Он стал одним из лучших, самых авторитетных знатоков хранящихся в них революционных документов. Этот человек левых, демократических убеждений так объясняет свое отношение к Робеспьеру: «В середине 1935 г. я был убежденным робеспьеристом; это можно извинить тем, что мне не было еще 18 лет. Я растерял большую часть своего робеспьеризма, когда в середине 40-х годов возобновил свои исследования; сейчас (это написано в 60-х годах. — Авт.), нет исторической личности, которую я считал бы более отталкивающей, чем Робеспьер, за исключением, пожалуй, Сен-Жюста».
В другой статье в те же годы Кобб пишет: «Я еще готов понять тех, кем руководит желание осуществлять зло… но я должен сознаться в своем крайнем отвращении к Робеспьеру, не только из-за того, что он делал, из-за того, что он так скучно и вымученно говорил, но и потому, что он представляет собой фарисейство, самодовольство, упрямство, отсутствие понимания других людей и пуританизм».
Это суровое, шокирующее при первом чтении мнение, безусловно, честного, добросовестного историка может быть принято во внимание только по отношению к Робеспьеру 1794 года, а не ранее, ибо именно тогда он стал нравственным уродом, жертвой болезненного духовного, морального перерождения.
Необычайно холодная зима 1794 года. Париж — сердце Революции. Странно, тревожно бьется это сердце, то с бешеным ритмом, то почти замирая от ужаса и гнева. Внезапные перебои грозят его остановкой или разрывом от невероятного напряжения последних месяцев. Казалось, после великих побед можно передохнуть…
Начало 1794 года — как раз середина периода, который в наших учебниках истории называют «высшим этапом» Революции. Сейчас середина, самый пик «высшего этапа». В декабре одержаны решающие победы над монархической коалицией и роялистскими мятежами. Какая величественная, грандиозная картина: свободный народ, воодушевленный идеями свободы, равенства и братства, ценой страшного напряжения добился блистательной победы!
Но происходит нечто непонятное, чудовищное: террор — крайнее средство, определенное полыхавшими мятежами роялистов и натиском монархической Европы, не только не ослаблен, но объявлен добродетелью! Теперь он — орудие против тех, кто делал Революцию! Народ — ее главная сила — страдает, как никогда за все годы Революции. В Париже голод, какого никто не помнит. Хлеб есть, но какой это хлеб, он как будто наполовину сделан из глины. Да и за ним длинные «хвосты» у лавок. Кроме такого хлеба, нет ничего. Раньше каждый день, чтобы прокормить огромный город, пригоняли из Вандеи по 600 быков. Теперь их нет. Революционные меры — максимум — позволили обеспечить армии Республики. Но парижские санкюлоты голодают, и они в ярости. Их законное, но слепое негодование выливается в гневное требование карать и казнить виновников бедствий. Вот как Жорес описывает настроение народа: «И среди различных групп населения загорался гнев. Это уже был не благородный взрыв 1790 г., не величественный гнев 1792 г.; порой это была великая, ожесточенная ярость, порой даже низкая, животная потребность облегчить свои собственные страдания, заставляя страдать других. Оскорблять, убивать, присовокупить к казни издевательства, до последнего вздоха, до последнего взгляда измываться над изменниками, ожидающими гильотины, чтобы дать им почувствовать оскорбление, чтобы заранее представить им жестами и словами в карикатурном виде их казнь, гротескную картину мрачного эшафота; такое искушение — увы! — испытывала в трудные часы большая часть толпы».
Народ проявлял какую-то религиозную веру в насилие как средство решения любых проблем. Бесследно ли прошла воспитанная веками привычка молиться перед распятием — орудием казни и картиной жестокой муки Бога-сына? Подсознательное влечение простых душ к карающей расправе имеет множество корней. Предрассудок? Возрождение древнего, первобытного инстинкта? Здесь обнаруживается многое, вплоть до жажды утолить местью муки собственных страданий. Но сказывалось и намеренное раздувание народного влечения к слепой жестокости. Вожди кордельеров, особенно Эбер, подыгрывали любым капризам толпы. Как они возмутились, когда Камилл Демулен в «Старом Кордельере» призвал к смягчению террора, к освобождению тысяч подозрительных из тюрем! «Открыть тюрьмы, порази меня гром! — возмущался «Пер Дюшен». — Сколько подлый Питт заплатил этому плуту, подосланному Кобленцем? Открыть тюрьмы? Разве это не означало бы возродить Вандею или скорее создать новую?.. Следуя мэтру Камилю, нужно было бы, чтобы санкюлоты пали к ногам аристократии, прося о пощаде. Где бы мы оказались, черт возьми без Святой гильотины?»
Проповедь террора — это, пожалуй, единственное, что сближало Эбера с Робеспьером. Во всем другом между ними углублялась пропасть. Главные разногласия крайних, «ультра-революционеров», как называл их Робеспьер, и Революционного правительства — социальные. Эбер не мог не выражать в своей газете протест санкюлотов против голода и дороговизны и других страданий народа в эту мрачную зиму. Все побуждало его активно отстаивать социальную программу, воплощавшую народные идеалы раздела богатств и земельной собственности. «Пер Дюшен» особенно настойчиво проповедует идею наделения санкюлотов мелкими участками земли за счет раздела крупных поместий. Идея утопическая, неосуществимая и в конечном счете реакционная, с точки зрения экономического прогресса. К тому же раздел любой крупной собственности и передача ее беднякам вызывали возмущение буржуазии. Естественно, для Робеспьера, никогда не имевшего практической социальной программы, кроме морального осуждения богатства, такая идея была совершенно неприемлема. Особенно теперь, когда Робеспьер решил опираться в Конвенте на буржуазное Болото. Именно здесь возник непримиримый конфликт, предопределивший трагическую судьбу Эбера и кордельеров.
Требовался лишь повод, чтобы он вспыхнул открыто. Им оказался новый курс Робеспьера, назвавшего в конце декабря ультра-революционеров одним из двух «подводных камней» на пути Революции. Это уже выглядело как объявление войны. Кроме того, еще раньше по вздорному обвинению арестовали двух генералов-санкюлотов Венсана и Ронсена. 31 января Клуб кордельеров потребовал их освобождения. В зале монастыря кордельеров произошла патетическая сцена гнева. Доска с текстом Декларации прав человека и гражданина завешена черной вуалью. Робеспьер уступает, ибо он еще не осмеливается нанести удар ни правым, ни левым и продолжает играть роль арбитра.
Освобожденный Венсан решил отомстить и получил поддержку друзей. Шла борьба за «места», за оплачиваемые посты вроде должности секретаря военного министерства, которую раньше занимал Венсан. Многие из левых мечтали отобрать посты у ставленников Робеспьера.
12 февраля (24 плювиоза) бывший типографщик Моморо, автор нашумевшего в свое время «аграрного закона», резко выступил против «износившихся в республике людей с переломленными в Революции ногами».
То был явный намек на Робеспьера. После доклада о терроре и добродетели он заболел и на месяц отдалился от дел. Ничего не известно, какой болезнью страдал Неподкупный. Однако время от времени он исчезал с политической сцены из-за болезни. Это были обычные приступы нервной депрессии, случавшиеся с ним перед наступлением каких-либо острых событий. Обычно за этим скрывалась нерешительность, ожидание благоприятного момента для политического наступления. Доклад о терроре явно предвещал такое наступление, но Робеспьер еще колебался.
Злосчастные крайние левые сами выведут его из этого состояния своей несерьезной, но крикливой кампанией. На том же заседании у кордельеров после Моморо выступил Эбер против тех, которые, «будучи жадными до власти, которую они забрали в свои руки, но оставаясь все еще ненасытными, выдумали и высокопарно повторяют в длинных речах слово «ультра-революционеры», чтобы погубить друзей народа». Не могло быть сомнений, речь шла об атаке на самого Неподкупного.
2 марта (12 вантоза) в Клубе кордельеров Ронсен уже говорит о необходимости восстания, о «новом 31 мая». Эбер занимает более сдержанную позицию и требует лишь отправить в трибунал жирондистов, сидящих в тюрьме, добавив к ним «новых бриссотинцев»: Демулена, Филиппе, Бурдона, то есть дантонистов. Однако через два дня у кордельеров раздаются решительные голоса за восстание против клики «новых бриссотинцев», к которой относят вместе с дантонистами и самого Робеспьера. Основанием для этого служит его новый отказ отдать трибуналу заключенных жирондистов и «очистить» Болото. Никому здесь и в голову не приходит пока мысль, что никакого союза Робеспьера с дантонистами не может быть, ибо он решил уничтожить оба крайних крыла монтаньяров, чтобы опираться главным образом на Болото. Вообще все, что происходит в Клубе кордельеров, выглядит как-то несерьезно, хотя здесь и действуют активные участники 10 августа 1792 года и 31 мая — 2 июня 1793 года. В отличие от этих успешных революционных выступлений сейчас кордельеры уже не связаны надежно с Коммуной, с секциями, а значит, и с массой санкюлотов.
Зато произносится много громких, грозных, но пустых угроз. Выступает Каррье, знаменитый «утопитель» Нанта: «Придя в Конвент, я ужаснулся, увидев на Горе новые лица, услышав речи, какие они нашептывают на ухо друг другу… Чудовища, они хотели бы снести эшафоты! Но, граждане, не забывайте никогда: гильотины не хотят именно те, кто чувствует, что они сами достойны гильотины». Каррье приветствует решение возобновить издание газеты Марата «Друг народа» и пылко призывает к восстанию.
Затем Эбер объясняет, что новая клика — это объединение людей Дантона и Робеспьера. Он призывает не отвлекаться от нее, возмущаясь поисками мошенников вроде Шабо; «воры менее опасны, чем честолюбцы. Честолюбцы! Это люди, которые выставляют вперед других, а сами остаются за кулисами; чем больше у них власти, тем меньше они ею удовлетворяются; они хотят властвовать».
Все, конечно, сразу понимают о ком речь; кто, кроме Робеспьера, имеет прочную репутацию честолюбца? Требуют открыто назвать имя, Эбер обещает, но называет лишь Демулена, не исключенного из Якобинского клуба только потому, что «один, несомненно, заблуждающийся человек… не знаю, как иначе назвать его, весьма кстати оказался там». Речь идет опять о Робеспьере, но Эбер трус, он боится Неподкупного, хотя и ненавидит его. Снова завешивают Декларацию прав черной вуалью и провозглашают «святое восстание». Наивно рассчитывают, что они, представители санкюлотов, вне опасности, хотя меч над ними уже занесен.
Они ничего не поняли в важном маневре, который по указанию Робеспьера провел Сен-Жюст 26 февраля (8 вантоза), выступивший в Конвенте с докладом о социальных проблемах.
Отвлечемся, однако, чтобы сказать немного об одном из самых оригинальных, сложных, знаменитых монтаньяров. Сен-Жюст очень молод, ему 26 лет. Это стройный юноша, которого в литературе часто называют необыкновенным красавцем. Но портреты Давида и Греза изображают довольно расплывчатое лицо с узким лбом. Известный писатель Андре Мальро прав, когда говорит: «Легенда родилась не от красоты Сен-Жюста; его красота — порождение легенды». Он стремился выглядеть элегантным и придавал себе аристократический облик. По утрам, перед заседанием Конвента, он часто скакал верхом на лошади по Булонскому лесу. Насмешливый Демулен окрестил его «шевалье Сен-Жюст». Лишенный чувства юмора, Сен-Жюст люто возненавидел этого остряка. Кстати, Сен-Жюст не был потомственным дворянином; его отец выслужился в офицеры из рядовых солдат.
В биографии Сен-Жюста немало темных пятен. В 1786 году он бежал из дома матери, захватив с собой семейное серебро. Авантюра кончилась заключением на семь месяцев в исправительное заведение для молодых преступников на улице Пикпюс в Париже. Он вышел оттуда угрюмым, замкнутым, нелюдимым. Затем последовал скандальный роман с женой одного чиновника. Сен-Жюст понимал Революцию как возвращение к античности: «после римлян мир опустел». Его идеал Ликург: чистота нравов и спартанская бедность; он отрицал промышленность, торговлю, деньги; прогресс мыслил в виде возвращения к варварству. Своей жестокостью он пугал даже Робеспьера.
Почему он стал героем легенды? Вот типичные определения этой личности: «Тигр, жаждущий крови», «щегольское чудовище», «отвратительный и театральный молодой человек» (Сен-Бев); «воплощение республики Дракона» (Ламартин); «Архангел смерти» (Мишле); «живой меч» (И. Тэн); «надгробный фонарь» (Баррас). Число таких высказываний можно продолжать долго; писали об этом юноше много. Между тем в интеллектуальном плане в нем нет ничего выдающегося; здесь он эклектик и компилятор. Лично до конца предан Робеспьеру, а это уже характеристика. Самый яростный террорист: здесь он доходил до патологии. Абсолютно бесчеловечен, правда, ради возвышенной не идеи, но фразы. Талантливый декламатор, мастер пышного фразерства, оракул претенциозных афоризмов. Вот некоторые: «Все средства хороши для достижения цели; прочь, варварская гуманность», «Святая гильотина в блестящем действии и благодетельный террор творят чудеса, которых от разума и философии пришлось бы ждать целый век»; «Принцип республиканского правительства — добродетель или же террор… То, что производит общее благо, всегда ужасно»; «Нужно думать о том, чтобы наполнить изменниками не тюрьмы, а гробы».
Эту фразеологию ханжеского псевдореволюционного человеконенавистничества можно продолжать без конца. Впрочем, мы пока с ним еще не расстаемся и он себя еще покажет.
Вернемся к докладу Сен-Жюста 26 февраля, который некоторые историки превращают в некую программу развитого социализма. Как всегда, свои доклады Сен-Жюст писал на основе шпаргалки, подготовленной Робеспьером. Ему была поставлена задача: вырвать санкюлотов из-под влияния Эбера и кордельеров. Это означало необходимость превзойти самого Эбера в защите интересов бедняков. Речь шла о том, чтобы изолировать крайних от народа, чтобы лишить их поддержки санкюлотов. Любопытно, что сам Робеспьер не хотел выступать защитником санкюлотов. Ведь это могло бы восстановить его против буржуазии Болота, против консервативного большинства Конвента. Сен-Жюсту же это бы сошло; солидные буржуа простили бы очередное увлечение молодости. Сен-Жюст сумел облечь убогие социальные идеи Неподкупного в ореол звонких фраз и мастерски их продекламировал.
«Сила вещей, — говорит Сен-Жюст, — приводит нас, быть может, к результатам, о которых мы не думали (иначе говоря: не волнуйтесь буржуа, приходится маневрировать. — Авт.). Богатство находится в руках довольно большого числа врагов революции; нужда ставит народ, который трудится, в зависимость от его врагов… Те, которые делают революции наполовину, роют себе могилу. Революция привела нас к признанию того принципа. что тот, кто показал себя врагом своей страны, не может быть в ней собственником… Собственность патриотов священна, но имущество заговорщиков предназначено для всех несчастных… Бедняки — движущая сила земли. Они вправе как хозяева говорить с правительствами, которые ими пренебрегают».
Сами эти формулы ничего конкретно не говорят об изменении отношений собственности. В декрете, принятом по докладу, сказано о переходе собственности врагов «в пользу республики». Во втором декрете предусматривалось составление доклада «о способах вознаградить всех несчастных за счет врагов революции». Речь шла только о благотворительности. Вскоре было разъяснено, что будут выданы пособия вдовам, сиротам, старикам и увечным.
Чтобы окончательно успокоить буржуазию, Сен-Жюст несколько раз подчеркнул, что практически никто не должен опасаться за свою собственность. Вантозовские декреты к тому же полностью остались на бумаге. Это был лицемерный маневр для изоляции Эбера и кордельеров. Вот этого-то они и не поняли и не могли понять, поскольку уже 17 вантоза, через три дня после грозных речей в Клубе кордельеров о восстании, Эбер разъяснил, что под этим словом понимался всего лишь «более тесный союз со всеми истинными монтаньярами Конвента». Оп опубликовал 22 вантоза специальный плакат, в котором объявил, что когда кордельеры завесили Декларацию прав черной вуалью, то этот акт «должен был способствовать более энергичным мероприятиям в защиту Национального Конвента и в поддержку революционного правительства».
Таким образом ни о какой реальной угрозе восстания «крайних» против Конвента не было и речи. Но 23 вантоза Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и еще группа секционных активистов были арестованы. Эти аресты произвели ошеломляющее впечатление на народ. Но народ безмолвствовал; ведь революционные комитеты давно уже потеряли свою независимость и прямо подчинялись правительству. Коммуна не выразила протеста. Ее вожди Паш, Шометт, Анрио не проявили никакой солидарности с кордельерами. Ведь сами они давно уже стали «национальными агентами», не пользовались самостоятельностью и тоже были обречены на гибель. Народ оказался заранее обессиленным и с ужасом наблюдал за расправой с его вождями.
Растерянность, оцепенение объяснялись крахом всей системы новых революционных духовных ценностей. Открыто втаптывалась в кровавую грязь возвышенная идея братства и равенства, служившая могучей движущей силой народного движения, которое толкало Революцию вперед с самого ее начала. Рушилась народная сущность, душа Революции, получившей смертельный удар, ибо без народной поддержки она неизбежно должна была перейти под безраздельное господство консервативной буржуазии. Конечно, такие люди, как Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо, другие вожди санкюлотов, вовсе не были безупречными. У них хватало слабостей, ошибок, пороков. Но других лидеров у народа не было!
Прежняя духовная народная структура Революции уничтожалась вместе с этими людьми, которые при всех своих интеллектуальных и моральных несовершенствах выражали сознание, взгляды, мысли трудового народа, как бы примитивны они ни были. Чем она заменялась? Философией просветителей? Духом буржуазного либерализма? Нет, появилась иная уродливая и абсолютная ложная система мнимых моральных ценностей в противоестественном союзе с практикой террора. Грубая ложь, замаскированная утопией торжества искусственной, фальшивой морали, добродетели как ширмы для кровавой диктатуры террора.
Лицемерие робеспьеровской морали и добродетели явно раскрывалось уже тем фактом, что уничтожению подлежали лидеры народного движения, которое и привело монтаньяров к власти. Союз монтаньяров с народом разрубался топором гильотины.
Робеспьер поручил сделать обвинительный доклад против кордельеров Сен-Жюсту. Отныне «Архангел террора» взял на себя грязную работу по обоснованию кровавых расправ с политическими соперниками Неподкупного. Сен-Жюст, конечно, был талантливым молодым человеком. Но что он мог сделать, когда не существовало никаких фактов, оправдывающих смертную казнь?
Французы XVIII века не додумались до применения пыток для получения «признаний» обвиняемых. Ведь Великая французская революция несла на себе печать буржуазной ограниченности. Она так и не смогла до конца отделаться от абстрактного гуманизма века Просвещения. Даже переродившееся, глубоко развращенное властью сознание Робеспьера сохраняло остатки влияния гуманных аспектов философии Руссо.
Обходились по старинке обыкновенной клеветой да пышной риторикой, софизмами, причудливым смешением в кучу правых, левых и прочих «преступных клик», метафорическими образами, туманными, таинственными и бездоказательными.
«Все заговоры едины, — говорил Сен-Жюст, — это волны, казалось бы, бегущие одна вслед за другой и все-таки смешивающиеся. Клика снисходительных, желающих спасти преступников, и клика иностранцев, поднимающая крик, так как она не может поступать иначе, не разоблачив себя, но проявляющих суровость к защитникам народа, все эти клики собираются по ночам, чтобы согласовать дневные атаки, они создают видимость, будто сражаются одна с другой, чтобы общественное мнение разделилось в своем отношении к ним, затем они объединяются, чтобы удушить свободу… Эти различные партии подобны нескольким грозам на одном и том же горизонте: они сталкиваются одна с другой и перемешивают свои молнии и раскаты грома, чтобы нанести удар народу».
Это словоизвержение, где было все, что угодно, кроме хоть каких-то фактов, подтверждающих обвинения, продолжается несколько часов. Сен-Жюст говорит о жестокости Старого порядка, приводит фантастически преувеличенные цифры его жертв, чтобы доказать необходимость превзойти монархию в жестокости.
21 марта начинается процесс эбертистов. В действительности далеко не все обвиняемые — друзья Эбера и кордельеры. Впервые широко применен метод «амальгамы», объединения в одно дело людей, не имеющих никакой связи между собой. Здесь иностранные коммерсанты, чтобы придать видимость связи с заграницей, здесь несколько роялистов, чтобы «обосновать» обвинения крайних революционеров в намерении восстановить монархию…
В день начала процесса выздоравливает Робеспьер. Страх перед тем, что санкюлоты могут вступиться за своих вождей, исцеляет Неподкупного. Вечером он является в Якобинский клуб и зачитывает грозную обвинительную речь. Он не довольствуется, подобно Сен-Жюсту, туманными картинами природы и риторикой. Он запугивает фантастическими опасностями: «Если верх возьмет Эбер, то Конвент будет уничтожен, патриоты подвергнутся избиению, Франция вернется к прежнему хаосу… неминуемо наступят величайшие бедствия… царящий ныне мир окажется скоропроходящим, армии будут разбиты, женщины и дети перерезаны… Я сомневаюсь в том, чтобы кто-либо стал оспаривать эти ужасные истины. Если последняя партия не будет уничтожена завтра же или лучше даже сегодня, армии будут разбиты, ваши жены и дети перерезаны, Республика будет разорвана в клочья, Париж уморен голодом, а вы сами падете под ударами врагов, оставив свое потомство под игом тирании…»
Угрозы, ненависть, ярость, страх наполняют речь Робеспьера. Он запугивает, но боится он сам. Все яснее вырисовывается животный страх как движущая сила террора.
В тот же день начинается рассмотрение «дела» в Революционном трибунале. Его состав и организация давно уже предмет особых забот Максимилиана. Здесь много его людей. Обвинительное заключение гласит: «Никогда еще не существовало… заговора более ужасного по своей цели, более обширного и более значительного по своим связям и разветвлениям… заговорщики, преступления которых должны были превзойти даже преступления деспотов, объединившихся против французского народа, предполагали восстановить тиранию и уничтожить, если только возможно, свободу, которую они, по-видимому, защищали только для того, чтобы вернее убить ее».
Последняя фраза хорошо передает содержание всего процесса. Обвиняемых успешно уличали в том, что они активно, героически действовали в главных революционных событиях, но обвинитель Фукье-Тенвиль разъяснял, что они действовали так в интересах роялизма! За отсутствием улик дело доходило до того, что кому-то приписали кражу нескольких рубашек или десятка яиц. Судилище превратилось в чудовищный фарс, в профанацию самой Революции. Против Эбера использовали его газету «Пер Дюшен» — признанный рупор санкюлотов. Ее цитировали и находили в ней какой-то тайный контрреволюционный смысл. Недавних ультра-революционеров переделывали в контрреволюционеров. Всех, за исключением одного, оказавшегося тайным осведомителем Робеспьера, приговорили к смерти. Слишком очевидно обнаружилось осуждение народного движения санкюлотов. Трудовой Париж охватило какое-то непонятное, но страшное отчаяние. Сохранилось множество донесений полицейских агентов, запечатлевших разговоры, реплики, разные выражения горестных чувств бедняков. Осведомитель Прево слышал, как говорили, что «если бы Марат был еще жив сейчас, он был бы обвинен и, возможно, гильотинирован, он слишком много кричал в пользу народа».
4 жерминаля (24 марта) осужденных повезли на казнь. Одни держались твердо, мужественно, другие впали в отчаяние. Моморо, отдавший Революции все, спокойно готовился отдать жизнь. Он написал жене: «Не сохраняй за собой типографии, которой ты не сможешь руководить одна. Воспитай моего сына республиканцем, каким я был и остаюсь. Я спокойно иду на эшафот». Гордый Венсан возмущался рыданиями и дрожью Эбера: «Если он будет и далее кривляться, я потребую, чтобы его повезли на тележке одного». Мечтатель и романтик Клоотс, «оратор рода человеческого», продолжал жить в мире грез о всеобщем счастье, в которое он свято верил: «Похороните меня на зеленой лужайке». Чудак! Обезглавленные тела бросят в общую яму и засыплют негашеной известью…
Но что это? Осужденные с высоты своих роковых телег по пути от Консьержери до площади Революции видят радостные толпы, множество веселых, празднично одетых людей. Еще бы, для всех скрытых роялистов, для богатых буржуа сегодня праздник! Ведь сейчас отрубят голову тому, кто предложил чудовищный «аграрный закон»! Площадь полна зрителей, окруживших сцену-эшафот. За места вблизи платят большие деньги. Публика, богатая публика веселится! Не видно только народа из Сент-Антуанского предместья. Ведь убивают его друзей. Когда Эбера привязывали к доске, то плотник, помогавший палачу, снял свой красный революционный колпак и вытер Эберу лицо за мгновенье, как на того рухнул тяжелый нож гильотины. Какое чувство испытывал этот рабочий? Сочувствие, жалость? И кого он жалел? Эбера или саму Революцию? Возможно, рабочий хотел, чтобы она погибала с достойным видом…
Камилл Демулен ликовал: казнь Эбера, апостола «Святой гильотины» и его товарищей он воспринял как начало краха диктатуры террора. Пробил час торжества демократии и великих принципов Декларации прав! Он печатает седьмой номер «Старого Кордельера». В нем новые требования. Теперь мишень Демулена уже не левые террористы, но сам Комитет общественного спасения! Он требует его обновления, обвиняет Барера в отказе от политики мира, нападает и на Комитет общей безопасности. Блестящий полемист не лезет за словом в карман, члены Комитета — «Каиновы братья», «Корсары мостовой»! Демулен издевается над самим Робеспьером, обращая к нему слова Цицерона: «Если ты не видишь, чего требует время, если говоришь необдуманно, если повсюду выставляешь себя напоказ, если не обращаешь никакого внимания на окружающих, то я отказываю тебе в репутации человека мудрого».
О, легкомысленный, славный Камилл! Как ты недооцениваешь своего бывшего школьного товарища! Он теперь не робкий напудренный адвокат, только что приехавший из Арраса, уже тогда завистливый, но еще скромный внешне. Он прошел долгий путь и вырос в большого политика. Робеспьер, когда-то верный ученик Руссо, благоговевший к догмам своего учителя, сохранил лишь руссоистскую терминологию и страсть к морализации. А ведь было время, когда в Учредительном собрании он беззаветно боролся за интересы народа, за всеобщее избирательное право! Тщеславие, зависть, ненависть переродили этого кабинетного юриста в демагога, этого формалиста права и чистой демократии в одержимого властолюбца, этого умеренного, осмотрительного, осторожного человека в беспощадного, жестокого вдохновителя и организатора террора, тактичного парламентария в циничного диктатора. Теперь сам Марат содрогнулся бы в ужасе от этого холодного, педантичного прокурора гильотины. Он почувствовал вкус к власти, и этот вкус опьянил его, власть стала его страстью, ибо она должна принадлежать только таким чистым, неподкупным, как Максимилиан.
Демулен простодушно полагал, что Робеспьер уничтожил террориста Эбера, чтобы вернуться к демократии. Как бы не так! Процесс над ультра-революционерами оказался лишь первым опытом применения изобретенного Робеспьером метода обеспечения неограниченной власти. Он давно понял, что буржуазный Конвент отдаст власть любому, кто может помочь избежать опасности восстановления Старого порядка, может спасти от господства дворянства над буржуазией. Сколько заговоров затевалось с этой целью, сколько людей разоблачили себя, начиная с самого Людовика XVI, Лафайета, Дюмурье, если брать только самых крупных. Сейчас все заговорщики уничтожены, и, следовательно, террористическая диктатура больше не нужна. Но Робеспьер уже не может расстаться с властью. Конвент оставит ее в руках Робеспьера только под угрозой заговора. А если его нет? Значит, его надо выдумать! Изготовленный специально в качестве рычага власти он будет действовать еще эффективней, чем настоящий заговор.
Правда, в истории с процессом Эбера кровавый спектакль удалось поставить довольно просто благодаря легкомысленной болтовне кордельеров о восстании, которое они серьезно даже и не думали готовить. Они только шумели, кричали, увлеченно повторяя роковое для них слово. Дантон не говорил ничего подобного. Он слишком хорошо знал свой авторитет, влияние, чтобы такое могло прийти ему в голову. Тем хуже для него! Легче взять его врасплох. Стоит только превратить его открытую политическую линию на свертывание террора в заговор. Но это сложно, ибо политика Дантона ясна, определенна, она, в конце концов, разумна и одобряется многими. Значит, заговор надо найти во всей другой его деятельности за время Революции, представив ее в нужном свете. Именно над этим Робеспьер и работает. Слава богу, у Дантона есть немало мелких слабостей, он лишен коварства, он слишком открытый, доверчивый человек. Он презирает Робеспьера и считает его неспособным на большое преступление. Тем хуже для него. Он даже не заметил, что процесс Эбера использовался, чтобы приучить Конвент к ампутации частей собственного тела. Ведь Эбер и потребовался прежде всего для этого, ибо он, в конце концов, и не мог быть реальным соперником Робеспьера. Иное дело Дантон, словно специально созданный для власти. Поэтому и настала его очередь.
Надо отдать должное Робеспьеру, он заранее честно предупредил о двух «подводных камнях», один уже уничтожен, но надо убрать и второй. И здесь удивляет слепота Робеспьера, не очень ясно представлявшего себе, что же будет, когда он останется один на один с буржуазным Болотом Конвента. Конечно, он стремился завоевать расположение этой трусливой буржуазной публики. Разве он не уничтожил их злейшего врага, ультра-революционеров, покушавшихся на саму священную частную собственность? Он надеялся, что «болотные жабы» в благодарность за эту услугу позволят ему расправиться с Дантоном, если он потребует его голову достаточно властно. Но позволяет ему это не в благодарность, а в расчете на то, что Робеспьер, оставшись в одиночестве, будет всецело зависеть от консервативного большинства депутатов. Вот где таилось слабое место в тактике Робеспьера. Почему же он не сознавал и не чувствовал его?
Лютая личная ненависть к Дантону ослепляла разум Робеспьера. А ненавидел он Дантона чудовищной, животной ненавистью, ненавидел яростно, безумно, слепо. В личности Дантона все возмущало его. Скромный аскет, пуританин, воплощение добродетели — Робеспьер — не выносил жизнерадостного, могучего, цветущего, ярко талантливого, великодушного и легкомысленного гиганта. Этот прожигатель жизни, циник, весельчак имел все, чего не хватило Максимилиану — здоровье, талант, обаяние, славу, любовь очаровательных женщин, прелестную жену, детей, народную любовь. А на долю Неподкупного выпало холодное одиночество, всепожирающая зависть и сознание собственной неполноценности, сомнения, колебания, тоска. Дантон — бездельник, делающий только то, что ему хочется, свободный сибарит, баловень судьбы, а Робеспьер — вечный труженик, постоянно ощущающий неприязнь других. Но он упорен и добьется того, что те, кто презирает его, поплатятся за это жизнью… Этот гнусный развратник имеет еще и наглость издеваться над целомудрием, чистотой непорочного Робеспьера! Смерть этому беспечному баловню судьбы!
Читатель может подумать, что все это — досужие вымыслы, предположения автора. Увы, это лишь резюме одного отвратительного документа, написанного рукой Максимилиана и, к несчастью для его исторической репутации, дошедшего до потомков. Он сводит на нет все самые блестящие речи Робеспьера, его ораторские шедевры, ибо он обнаруживает подлинный образ мелкого лжеца. Документ состоит из разрозненных заметок, написанных, видимо, в разное время, но собранных воедино, чтобы служить конспектом обвинительной речи Сен-Жюста против Дантона. Не зря эта злосчастная речь вошла в историю Революции как один из самых позорных документов, как концентрат бесчестной лжи.
Робеспьер несколько лет мог близко наблюдать Дантона, человека очень открытого. Но при всем желании он не сумел найти ничего убедительного, чтобы сделать великого революционера врагом Революции, сторонником восстановления монархии, заговорщиком и предателем. И Робеспьер опустился до примитивной лжи, растоптав собственную честь и совесть.
Потребовались бы десятки страниц, чтобы изложить и опровергнуть лживые измышления Неподкупного, так их много. Собственно, кроме этого, в документе и нет ничего другого.
Ограничимся несколькими наугад взятыми примерами. Дантон, оказывается, продался еще Мирабо, который «оплатил за Дантона его пост адвоката при совете». Как могло это быть, если должность Дантон купил еще до Революции? Как согласовать это с приведенными ранее фактами, с точностью до ливра документально доказывающими, откуда Дантон взял деньги?
Далее говорится, что за это Дантон не раскрывал рта в пользу Революции «пока Мирабо жил». Чудовищно! Разве не по призыву Дантона народ в октябре 1789 года пошел в Версаль и привез оттуда короля? Голос Дантона буквально гремел над Парижем, был голосом самой Революции.
Робеспьер пишет, что Дантон «никогда не защищал ни одного патриота, никогда не нападал ни на одного заговорщика». Пусть читатель перелистает снова книгу, если он не помнит, как Дантон устроил настоящую войну округа кордельеров в защиту Марата против Лафайета, пусть перечитает многочисленные разоблачения Дантоном того же Лафайета, вождей жирондистов, пусть снова вернется к местам, где рассказано, как Дантон защищал самого Робеспьера, пусть, наконец, перечитает письмо, которое проповедник нравственности, морали и добродетели написал Дантону по случаю смерти его жены Габриель…
Лживую версию излагает Робеспьер по поводу событий, связанных с расстрелом на Марсовом поле в 1791 году, когда сам он действовал как провокатор, а Дантон боролся за Республику. Столь же подло он описывает и Революцию 10 августа 1792 года. Робеспьер трусливо прятался и выжидал тогда, а Дантон руководил восстанием. Но как же все это беззастенчиво извращено! Помните генерала Вестермана, героически руководившего штурмом Тюильри? О нем теперь Робеспьер пишет не дрогнувшей рукой: «Вестерман — лицемер, изменник, участник мятежной партии Дюмурье, ее грязный последыш».
Приведенных примеров достаточно, хотя их можно было бы и продолжить. Впрочем, остановимся еще на обвинениях морального характера. Конечно, Дантон был далеко не ханжа, любил развлечения, не отказывал себе в радостях жизни, словом, это человек в духе славных героев Рабле. В отличие от Робеспьера он, конечно, не пуританин, и он не скрывал этого, жил в свое удовольствие. Но это еще очень далеко от политического преступления, от предательства. На совести Дантона хватает грешков в личной жизни. Однако невозможно найти ни одного факта, который противоречил бы бесспорной истине: Дантон оказал Франции и Революции великие услуги.
Но для Робеспьера это ничто по сравнению с сомнительной моралью Дантона. Здесь он уличает трибунал в невероятных «преступлениях»: «Слово «добродетель» вызывало смех Дантона, нет более прочной добродетели, говорил он шутя, чем добродетель, которую он проявлял каждую ночь со своей женой. Как мог человек, которому всякая моральная идея чужда, быть защитником свободы?»
Любопытно, что сам Робеспьер публично не воспользовался ни одним из своих клеветнических доводов. Он поручил это Сен-Жюсту, который ради вожделенной близости к власти за спиной Робеспьера был способен на все. Тщеславный маньяк готов ради счастья быть на виду, готов продать мать родную, которую он один раз, впрочем, действительно обокрал, о чем уже упоминалось.
В тайном документе Робеспьера нет одного: он полностью обходит действительную, реальную политику Дантона, которую тот проводил с конца 1793 года. Он считал, что Революция не должна стоять на месте. Дантон был инициатором установления диктатуры Комитета общественного спасения и применения террора. Осенью 1793 года в момент отчаянного положения это, видимо, было неизбежно. Победы на фронтах и подавление внутренних мятежей уже в декабре 1793 года устранили такую необходимость. Террор и диктатура потеряли свое оправдание. Их надо прекратить и восстановить республиканскую демократию на основе Конституции 1793 года.
Робеспьер, напротив, стремился остановить демократическое развитие Революции, любой ценой сохранить свою диктатуру. Он предусматривал только одно изменение: осенью 1793 года власть Революционного правительства держалась на союзе радикальной буржуазии, монтаньяров с народом, с санкюлотами. Робеспьер разрывал теперь этот союз, подавлял Коммуну, народные комитеты, секции Парижа. Он ищет другого союзника в консервативном Болоте. Он стремится завоевать расположение буржуазии, подавляя ее врагов, посягавших на собственность, и рассчитывал, что в благодарность ему сохранят личную диктатуру. Он отрекся от того, что сделало его вождем монтаньяров — от признания народа главной движущей силой Революции. Робеспьер не понимал, что тем самым обрекает ее на гибель, что в конце концов и произойдет…
Только Дантон если не имел, то хотя бы намечал программу движения Революции к ее исторически необходимому и возможному финалу — к восстановлению и утверждению буржуазно-революционной республиканской демократии. Она, конечно, отвечала интересам французской буржуазии, передового класса Франции XVIII века. Но она неизбежно дала бы и народу демократические возможности выдвигать своих вождей, добиваться удовлетворения своих требований, влиять на буржуазное правительство, вырывать у него уступки и в пользу бедняков. Дантон добивался быстрого прекращения войны путем переговоров. Только это могло облегчить положение народа, избавить его от мук голода. Итак, Робеспьер хотел остановить Революцию в тупике кровавой диктатуры, на эшафоте гильотины. Дантон стремился вести ее к буржуазной демократии, дававшей более выгодные условия народу для борьбы за хлеб насущный, за человеческое достоинство бедняка.
Дантон чувствовал, что теперь самое страшное, что может погубить Революцию, — борьба между разными течениями среди самих буржуазных революционеров.
«Когда революция подходит к концу, — говорил Дантон в Конвенте 24 января 1794 года, — когда враги Республики и свободы повсюду спасаются бегством от республиканских легионов, тогда разгораются мелкие страсти, возникают личные счеты, всякого рода недоразумения, и все это происходит между людьми, которые до тех пор дружно, рука об руку, работали на благо народа…
Национальный Конвент только потому победил своих врагов, что он был истинно народным. Таким он и останется навсегда. Он должен… предоставить добрым гражданам и народным обществам широкую свободу для выражения их мнений».
Дантон не только не готовил никакого заговора против Робеспьера, он до последнего момента призывал его к союзу для окончательного утверждения Республики. Неподкупный уже строчил свое «обоснование» преступлений Дантона, а тот 19 марта (29 вантоза) в своем последнем выступлении в Конвенте призывал: «Я требую союза, объединения, согласия!» Монтаньяры бурно аплодировали, а Робеспьер только укреплялся в своей решимости уничтожить Дантона. Он понимал, что не сможет соперничать ни с красноречием, ни с авторитетом, ни с влиянием трибуна.
А Дантон еще верил в гражданскую честность Робеспьера, в пресловутую «добродетель» Неподкупного. К тому же он презирал его, считал слишком трусливым для большого преступления. Поэтому он равнодушно смотрел, как Робеспьер исподволь ослабляет ряды дантонистов, вырывая из них одного за другим под предлогом раздутых до политического заговора их мелких промахов, беззаботности, легкомыслия, склонности к коррупции.
За решеткой оказались сначала Шабо, Делоне, Дефье. Затем туда же попал и близкий друг Дантона Фабр д'Эглантин. Сразу после казни Эбера 16 марта в Революционный трибунал переданы дела Шабо и Фабра. Сен-Жюст требует головы Эро де Сешеля, участника штурма Бастилии, составителя Конституции 93-го года. Его преступление — любовь к красавице аристократке, не интересовавшейся политикой, а также знак сочувствия к одному из «подозрительных».
Кто первый вслух потребовал головы Дантона, который, вероятно, был самым полным воплощением Великой французской революции? Бийо-Варенн. Даже Колло д’Эрбуа, близкий к нему, колебался. Бийо объяснял, что после казни Эбера Дантон — единственная крупная фигура, вокруг которой могут объединиться все противники Комитета общественного спасения. Отрицательное отношение Дантона к террору угрожает лишить Комитет главного оружия. Пощадить Дантона, значит, восстановить против Комитета всех, кто запятнал себя террором. Ради спасения Революционного правительства надо забыть о всех заслугах Дантона. Робеспьер молчал. А зачем ему было говорить, когда верный Сен-Жюст горячо поддержал Бийо? В ночь после казни Эбера Робеспьер якобы вынужден был «уступить». Барер даже пишет в своих воспоминаниях, что Робеспьер хотел спасти своего друга юности Демулена…
Пресловутое «сопротивление» Робеспьера требованиям террористов Бийо и Колло — миф. Ведь их было двое из 11 членов Комитета общественного спасения. А вне Комитета им не на кого было опереться после казни Эбера и кордельеров. Все поведение Робеспьера в ходе драмы Жерминаля неопровержимо свидетельствует, что Робеспьер тщательно подготовил и осуществил свой план уничтожения Дантона, в котором он видел опаснейшего соперника. Если бы Дантон хотел власти хотя бы в какой-то степени, то он без труда устранил бы Неподкупного, державшегося только на страхе и ненавидимого большинством депутатов. Многие из них, как мы увидим, пожертвовали Дантоном, чтобы таким путем уничтожить затем изолированного Робеспьера.
С маниакальным упорством Неподкупный добивался гибели Дантона. Многие монтаньяры, из тех независимых людей, которые не смотрели подобострастно в рот Робеспьера, понимали, что вслед за гибелью Дантона настанет и их очередь. Один из таких, депутат Конвента Ланьело, уговорил Дантона откровенно поговорить с Робеспьером. Вдвоем они отправились на улицу Сент-Оноре в дом Дюпле. Они застали Неподкупного за туалетом, когда он уже надел накрахмаленную рубашку и пудрил волосы.
«Что вы от меня хотите? — бросил Робеспьер незваным гостям.
— Заключить мир с тобой, — ответил Дантон, — единственно ради дела свободы. Наши враги нападают, они клевещут на нас и обманывают народ.
— Что вы хотите сказать? — отвечал Робеспьер, резко отвергая прежние отношения на «ты». — Вы можете понимать мои речи как вам угодно, мне совершенно наплевать на это. Это не меня можно упрекнуть в ошибках во время миссии в Бельгии! Ваш Лакруа…
— Ты говоришь как аристократ! — воскликнул Дантон. — Эти люди оскорбляют Революцию, клевеща на ее основателей! Не мы ли, ты и я, главные среди них?»
Робеспьер рассержен, спор его возмущает. Ланьело понимает, что невозможно примирить непримиримых. Они уходят, Дантон на ходу проклинает примирителей и все на свете, что ему давно надоело. Апломб и самоуверенность возвращаются к нему. Ведь у него столько сторонников. Вот Тальен только что избран председателем Конвента, Лежандр — председателем Якобинского клуба. 20 марта Бурдон добился ареста Эрона, шпиона, которого содержал Робеспьер. Но это лишь усилило его яростное нетерпеливое стремление погубить Дантона. Именно в этот день Вилат, один из судей Революционного трибунала, открыто заявил: «Надо, чтобы через неделю мы получили головы Дантона, Демулена, Филиппо и других».
21 марта Дантон и Робеспьер встретились у Юмбера, чиновника министерства иностранных дел в загородном доме вблизи Парижа. Лежандр, Панис, Дефорг и другие пытались примирить двух вождей монтаньяров. С обычной прямотой Дантон просил Робеспьера не слушать болтовню интриганов о каком-то заговоре.
«Забудь наши расхождения, — говорил Дантон, — думай только о родине, о ее нуждах, о ее тревогах. Скоро ты увидишь ее торжествующей и уважаемой за границей, а внутри ее полюбят те, кто до сих пор казался ее врагом.
— С твоими принципами и с твоей моралью, — возражал Робеспьер, — не останется преступников, которых надо казнить.
— А тебя это тревожит?
— Свободу можно утвердить, только срубая головы негодяев!»
Дантон со слезами на глазах пытался убедить Робеспьера, что интересы Революции требуют единства. Неподкупный не поддавался. Трезвенника Робеспьера уговорили выпить шампанского. Он согласился даже обнять и поцеловать Дантона по просьбе друзей. Поцелуй Иуды! Возвращались в Париж в одном экипаже. Дантон думал, что достигнуто перемирие, и уехал к жене и детям за город в Севр. Но так ли уж он был наивен? Дантон давно испытывал мучительную тревогу за судьбу Революции. И сейчас, в чудесном саду, окруженный детьми, любимой женой, он хотел на неделю забыть обо всем тягостном, что происходило в Париже.
Увы, забыть не удавалось. 24 марта его друг Тибодо приехал к нему с неприятными известиями. Дантон слушает молча, а Тибодо возмущается:
«— Твоя беспечность меня удивляет, я не понимаю твоей апатии. Разве ты не видишь, что Робеспьер готовит тебе гибель?
— Если бы я верил в это, в то, что у него есть даже мысль об этом, я сожрал бы его с потрохами!»
Лежандру, который тоже приехал предупредить Дантона, он сказал: «Лучше сто раз быть гильотинированным самому, чем гильотинировать других». Спустя четыре дня он говорил в ответ на предостережения Русселена: «Моя голова? Разве она не прочно сидит на плечах?.. Зачем вы пытаетесь меня запугать?»
Друзья осаждают Дантона, настойчиво требуют, уговаривают бежать, эмигрировать. А он слушает их с раздражением и скукой, пока, наконец, у него не вырываются легендарные слова: «Родину не унесешь на подметках башмаков!»
В самом деле, почему Дантон в 1791 году после расстрела на Марсовом поле бежал сначала в Арси, а потом в Англию? А сейчас, когда ему грозит верная смерть, он пассивно ждет? Загадка… Возможно, теперь он больше верит в могущество своего слова? А может быть, он решил повторить блестящий пример Марата, брошенного жирондистами в трибунал, но вернувшегося с триумфом в Конвент? Вернее предположить, что он рассчитывал на здравый смысл Робеспьера, который не мог не понимать, что гибель Дантона оставит его совершенно одного. В последней беседе Дантон сказал ему: «Не пройдет и шести месяцев, как ты сам подвергнешься нападению, если мы разойдемся…»
Робеспьер промолчал и удвоил усилия в смертельной борьбе против Дантона. Затем развертывается трагическая история, истинный смысл которой так и не смогли разгадать множество историков, писателей. В действиях Робеспьера ищут какую-то высокую цель, искреннее желание блага Революции. Совершая преступление, он будто бы вдохновлялся идеей высшего блага народа. Подобные предположения не убеждают, ибо они никак не согласуются с чудовищной массой грязной и мерзкой лжи, которую пустил в ход Неподкупный. Высокую цель нельзя достичь низкими средствами. Конечно, Дантон далеко не ангел, он поистине гениально воплощает революционную буржуазию со всеми ее естественными достоинствами и пороками. Но он, конечно, не монархист, не предатель, не заговорщик, не враг народа! Это очевидно. А Дантон к тому же в каком-то загадочном летаргическом сне, прерываемом бурными вспышками гнева, сменяющимися в конце концов величественным и спокойным мужеством.
Говорят, что в оставшиеся ему дни жизни он искал спасения и забвения в любви своей очаровательной юной жены, что с ней он наслаждался последними драгоценными днями счастья. Член Комитета общей безопасности, старый злобный кровавый шут Вадье, прозванный «вторым Неподкупным», был одним из самых ярых ненавистников Дантона. После его падения он самодовольно признается однажды: «Крошка Луиза была в этом кризисе нашей лучшей помощницей. Она обезоружила своего Геркулеса обаянием, нежной кожей, прелестными глазами».
Успокоенный, отрешенный от интриг, которые бурлили вокруг его судьбы во дворце Тюильри, вернулся Дантон в Париж. Он не соизволил даже пойти в Якобинский клуб, чтобы громовым голосом напомнить о себе, о своем месте в Революции. И на другой день он оставался у себя, наслаждаясь домашним покоем и счастьем. 30 марта раздался стук в дверь и явился член суда и секретарь Революционного трибунала Фабрициус Пари. Он слышал, как Сен-Жюст читал свою обвинительную речь против Дантона и его друзей. «Они не осмелятся», — отозвался Дантон. Но приказ об аресте уже был в это время подписан. Из 20 членов двух комитетов только двое — Рюль и Линде — отказались его подписать. Пришел Панис, бывший член революционной Коммуны 10 августа, и рассказал об этом. Потом пришел сам Линде и подтвердил страшную новость: «У тебя еще есть время бежать!» — сказал и ушел, озадаченный тем, что Дантон не хочет спасать свою шкуру.
Он не хочет и спать, ждет до утра, когда наконец приходят жандармы, и он отправляется с ними в Люксембургскую тюрьму, в пяти минутах хода от его дома. Туда приводят также Демулена, Лакруа, Филиппа. Фабр д'Эглантин и Эро де Сешель арестованы еще раньше.
Весть об аресте самого популярного деятеля Революции мгновенно разносится по Парижу. Никто ничего не понимает: Демулен — это штурм Бастилии, Дантон — это 10 августа, самые великие дни и победы Революции воплощены в этих именах. Тихо радуются и в душе торжествуют не только ее тайные враги, но огромная масса людей, уставших от нее. В Конвенте чувства разделились. Когда с утра первым поднялся на трибуну Лежандр и потребовал вызвать Дантона и дать ему возможность объясниться, то одни бурно протестуют против решения Комитетов, другие против предоставления Дантону привилегии. Ведь ни одному из уже казненных депутатов не дали возможности защищать себя. Только Людовик XVI и Марат имели такую привилегию. Робеспьер предусмотрел возможность взрыва и заранее подготовил речь, которая должна заставить смолкнуть голоса протеста. Он гневно осуждает право Дантона на привилегию. Чем Дантон выше других? И все ничтожества в Конвенте, естественно, согласны с этим. Но главное орудие Робеспьера — страх, шантаж, угроза: «Я говорю, что тот, кто содрогнется в данный момент, тот — преступник, никогда невинность не страшится общественной бдительности».
Воцарилось тягостное молчание. Сен-Жюст в этой напряженной атмосфере гордо поднимается на трибуну. Он старательно обработал и расширил материал, переданный ему Робеспьером, сделав его еще более возмутительно лживым и бездоказательным. Чтобы прикрыть великое преступление, нужны были очень напыщенные фразы.
«Нечто страшное таится в священной любви к отечеству, — декламирует Сен-Жюст, — она настолько исключительна, что приносит в жертву все, без жалости, без страха, без человеческого уважения к общественным интересам…
Дни преступления прошли, горе тем, кто станет поддерживать его дело! Его политика разоблачена. Да погибнет все преступное! Республики создаются не мягкосердечием, но жестокой строгостью, непреклонной по отношению к предателям. Пусть заявят о себе соучастники и станут на сторону преступления…»
«Соучастники» молчат, и Конвент единодушно одобряет предание суду дантонистов. Вскоре Робеспьер с убийственной насмешкой скажет своим приближенным: «Надо признать, что Дантон имел довольно подлых друзей!» Видимо, Неподкупный не числил среди его друзей того, кто год назад писал Дантону: «Я люблю тебя как никогда и буду любить до смерти. С этого момента я весь твой…»
Такая забывчивость простительна для человека истинно добродетельного; ведь тогда Дантон был крайне необходим в смертельной борьбе Робеспьера с жирондистами. Немедленно начинается трагикомедия судебного фарса. На всякий случай был заготовлен приказ об аресте обвинителя Фукье-Тенвиля и председателя трибунала Эрмана. Они об этом знали. Впрочем, сам «инквизитор» Вадье непосредственно руководил всем спектаклем. Начало суда пришлось отложить с 8 на 11 часов, ибо надо было исключить любую случайность, кроме смертного приговора. Число присяжных пришлось сократить с 12 до 9; ненадежных в последний момент вывели. Изготовили особо коварную «амальгаму»; Дантона включили в группу, где было несколько явных жуликов. Робеспьер хотел не просто уничтожить врага, но и обесчестить его. Основное время судьи отводили на детальный разбор их махинаций, на чтение пространной обвинительной речи Сен-Жюста. Время заполняли формальным выяснением имен, мест рождения, жительства обвиняемых. Главное — таков приказ — не дать говорить Дантону. И это почти удалось. И все же, в перепалке с председателем, отдельными репликами трибун говорил, приводя в ужас своих судей. Его громовой голос гремел и был слышен на улице, где волновалась толпа. Короткий, неполный, намеренно искаженный протокол сохранил лишь отрывки трагического монолога Дантона. Тщетно он требовал, чтобы оклеветавшие его Робеспьер и Сен-Жюст явились в суд. Впрочем, он быстро понял, что никакой защиты по примеру Марата устроить не удастся. И его первый ответ на вопрос председателя свидетельствует об этом:
«Жорж-Жак Дантон, тридцати четырех лет, родился в Арси, депутат Конвента. Мое жилище? Вскоре им будет ничто, а мое имя войдет в Пантеон истории. Народ будет чтить мою голову, мою отрубленную голову!»
Дантон то впадает в состояние спокойной безнадежности и стоического примирения с судьбой, то вспыхивает яростным гневом и клеймит гнусность своих обвинителей. С горькой иронией он напоминает о своих великих заслугах перед Революцией. Тщетно пытаются запятнать, унизить Дантона. В сознании безупречно выполненного долга, он объявляет о готовности навсегда уснуть на лоне славы.
Он искренне объяснял, что никогда честолюбие и жадность не властвовали над ним, никогда низкие страсти не заставили его нанести ущерб делу народа, он всегда был предан родине и принес ей в жертву всю свою жизнь. Даже в этом грязном судилище Дантон потряс сознание людей. Перепуганный Эрман шлет отчаянную записку в Конвент; он пишет, что Дантона невозможно опровергнуть, что суд под угрозой, что угрожает народный мятеж.
Сен-Жюст, не зачитывая записки Эрмана, снова шантажирует Конвент и требует решения о вынесении приговора в отсутствии обвиняемых, лишая их права сказать что-либо в свою защиту. Для запугивания депутатов идет в ход версия о том, что Люсиль Демулен, кроткая, нежная, отчаявшаяся жена Демулена, организует мятеж с целью нападения на тюрьмы…
Никто не протестует. Конвент дружно голосует. Многие запуганы и объяты страхом. Монтаньяры внушают себе необходимость сохранения единства своих рядов. Консерваторы Болота с радостью готовы помочь одному из вождей монтаньяров уничтожить другого. Обвиняемых силой выволакивают из зала суда. Демулен скомкал в комок подготовленную защитительную речь и швырнул его в лицо судьям.
И все же присяжные колеблются. Вот, что говорят одному из них: «Это не процесс, а необходимая мера. Два человека не могут оставаться вместе, а потому нужно, чтобы один из них погиб. Хочешь ты убить Робеспьера? — Нет. — Ну, так тем самым ты хочешь приговорить Дантона».
6 апреля (16 жерминаля) осужденным объявляют в тюрьме приговор. Каждому связывают руки за спиной, усаживают на табурет, обрезают воротник и волосы, чтобы обнажить шею… На трех телегах из Консьержери их везут на площадь Революции… Проезжают мимо кафе «Парнас»… Улица Сент-Оноре. Дом Дюпле. За закрытыми ставнями Неподкупный слышит громовой голос Дантона: «Робеспьер, ты последуешь за мной!» 15 осужденных по очереди, установленной Фукье-Тенвилем, подымаются на эшафот. Первым идет Эро де Сешель. Он хочет поцеловать Дантона, но помощник палача отталкивает его. «Дурак, — рычит Дантон, — ты не помешаешь нашим головам поцеловаться в корзине!» Дантон, замыкающий список, на протяжении получаса смотрит на гибель товарищей. Но вот и он твердыми шагами подымается по лестнице: «Сансон, — говорит он, — покажи мою голову народу, она стоит этого!» Палач выполнил его волю.
«Похоже, что покушаются на все, что носит название революционного» — так излагал в своем доносе слова одного из посетителей кафе Республики полицейский осведомитель и заключал: «Испугавшись, что он сказал лишнее, человек исчез».
Лучше исчезнуть из кафе, чем из жизни! Видимо, неизвестный знал, что в последнее время многие активные санкюлоты арестованы за «антипатриотические разговоры». Но могли ли люди молчать, когда на их глазах происходит нечто страшное, чудовищное? 10-13 апреля (21-24 жерминаля) Революционный трибунал судит 25 обвиняемых. Главный среди них — 30-летний прокурор Коммуны Шометт, любимец бедноты Парижа. Вместе с ним вожаки революционных секций. Это те самые люди, которые штурмовали Бастилию, свергли монархию, привели к власти Революционное правительство.
Фукье-Тенвиль обвиняет Шометта в страшном преступлении, в намерении «уничтожить всякую мораль». Между тем никто так самоотверженно не воплощал всей своей жизнью самые гуманные, чистые побуждения санкюлотов. Бывший учитель, фельдшер, он выдвинулся во время революционных событий 1792 года, когда свергли монархию. Он посвятил свою жизнь народу и высоким идеалам. Его нельзя было заподозрить в неискренности; бедная одежда, скромный образ жизни, необычная добросовестность высокого должностного лица вызывали всеобщее уважение. В борьбе за интересы бедняков Шометт доходил до призыва к войне «бедных против богатых», до требования национализации торговли и даже промышленности. Этим он заслужил ненависть богатой буржуазии. Еще бы, он прославился непримиримостью к спекулянтам и скупщикам!
Шометт с энтузиазмом боролся за благоустройство больниц, за создание народных библиотек. Он заботился об улучшении участи бедняков во всем, даже за обеспечение им пристойных похорон. Он мечтал облагородить жизнь санкюлотов и весь Париж. Всюду простиралась его неуемная забота об общественном благе; много сил положил он для искоренения проституции. Шометт добился переименования нескольких улиц и сами новые их названия выражали его мировоззрение. Появились улицы Справедливости, Умеренности, Трезвости, Воздержания, Строгости. В своих речах он страстно, взволнованно говорил с людьми, часто обливался слезами. Его любили в предместьях.
Процесс Шометта для создания хоть какой-то видимости правосудия тоже организовали в виде «амальгамы». Всех обвиняли в эбертизме, и поэтому на скамье подсудимых оказалась Франсуаза Гупиль — вдова Эбера. Связь с «заговором» Дантона подтверждалась привлечением к суду революционеров, которых выдвинул казненный вождь Революции. Перед трибуналом на этот раз предстала еще недавно столь счастливая Люсиль Демулен, ныне безутешная вдова и мать двух маленьких детей. Арест любимого поверг ее в отчаянье. Обезумев от горя, она бродила вокруг Люксембургской тюрьмы, куда был заключен Камилл. Вместе с женой Дантона Луизой она пришла на улицу Сент-Оноре умолять Робеспьера о пощаде. Неподкупный не принял их. Тогда Люсиль пишет ему письмо. Она простодушно забывает о том, с кем имеет дело; в письме смешиваются мольбы и справедливые обвинения: «Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие, он предчувствовал тот путь, которым ты пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу и, далекий как от черствости Сен-Жюста, так и от твоей низкой зависти, он отбросил мысль обвинять своего школьного друга».
Бедняжка, она, столь часто радушно принимавшая Робеспьера в своем доме, поистине потеряла всякую осторожность. Все знали, что мстительный Робеспьер не прощает даже легкого намека на критику, что даже косой взгляд может вызвать его смертельную ненависть. Неужели неосторожные, хотя и правдивые слова несчастной женщины обрекли ее на эшафот? Ведь совершенно немыслимо было представить ее организатором страшного заговора, за который ее приговорили к смертной казни. Она шла на эшафот, как на свадьбу, покрыв голову белой вуалью. Люсиль верила в бога, в загробную жизнь и мечтала встретить любимого Камилла на том свете…
Драма Жерминаля выражалась не только в гибели многих выдающихся деятелей Революции; разлагалась, шла к гибели сама партия монтаньяров. Только опора на народ позволила ей превратиться в крупнейшую передовую революционную силу. Народ дал ей авторитет, влияние, привел ее к власти. Теперь Робеспьер разрушает эту опору. Драма Жерминаля стала драмой партии монтаньяров. Казни революционеров служили лишь наиболее трагическим показателем краха партии. Он выражался во всей ее социальной политике, направленной против народного движения.
Прежде всего ликвидируются остатки независимости, самостоятельности важнейшего органа народного движения — Коммуны Парижа. После ареста Шометта на его место не избирается, как раньше, а назначается лично преданный Робеспьеру Клод Пейан. Вскоре жертвой ареста стал законно избранный мэр Парижа Жан Паш, любимый народом, искренний революционер, очень скромный, но независимый человек. Его заменили ничтожеством, отличавшимся лишь преданностью Робеспьеру, Флерио-Леско. Точно так же заменяют многих административных и полицейских чиновников. Коммуна, демократически избранная секциями, заменяется бюрократическим учреждением. Всех мало-мальски самостоятельных деятелей секций обвиняют обычно в эбертизме и арестовывают. Распускаются народные общества. Ликвидируется таким образом революционная структура народного движения.
Знаменательные изменения происходят и в социальной политике. Проводится «излечение» торговли; в пользу торговцев меняют закон о максимуме. Изменяется в таком же духе закон против скупки, смягчаются наказания за спекуляцию, упраздняются должности комиссаров, осуществлявших контроль над торговлей. Принимается декрет о премиях и ссудах промышленникам и торговцам. Затем упраздняется «революционная армия», занимавшаяся реквизициями запасов продовольствия. 1 апреля преобразуют центральную комиссию по продовольствию, которая теперь уже не занимается снабжением населения и отвечает только за обеспечение армии. Все меры против буржуазии, введенные под давлением санкюлотов, отменяются или ослабляются.
Одновременно принимаются жесткие меры против рабочих. 4 мая утверждают декрет о реквизиции, о принуждении к работе путем мобилизации. Жестокие кары предусматривались отныне против любой попытки забастовки. Закон о максимуме на заработную плату до сих пор народная Коммуна практически не применяла. Теперь правительство настаивает на его строгом исполнении. На практике это означало снижение заработной платы. Итак, кровавая расправа с народными вожаками и теперь уже открытое удушение санкюлотов голодом и снятие ограничений в грабеже народа буржуазией. Таков смысл, итог драмы Жерминаля.
Буржуазия с благодарностью, удовлетворением воспринимала такое откровенное наступление на интересы бедняков. Робеспьер, достигший высшей власти благодаря народу, теперь предстает в своем реальном облике его беспощадного классового врага. Он уничтожил народных вожаков и теперь взял обратно свои вынужденные уступки народу. Он растаптывал прежние уверения в преданности народным интересам, о которых он высокопарно распространялся четыре года ради достижения власти. Ныне, когда она завоевана, вся ее жестокая сила брошена против народа. Истинная буржуазная природа диктатуры Робеспьера предстает в подлинном облике.
Но тем самым он рыл могилу и собственной власти, самому себе. Робеспьер один, он изолирован от народа, он резко ослаблен. Какова теперь, когда он утопил в крови народное движение, его дальнейшая программа? Какие услуги он еще может оказать буржуазии, жаждавшей без помех воспользоваться плодами своей победы?
Происходит дальнейшее усиление власти Комитета общественного спасения. Теперь все народные, демократические институты ликвидируются. Жесткая, бюрократическая диктатура заменяет систему революционной власти народа, Коммуну, народные общества, секции. Но безраздельная диктатура Робеспьера беспокоит и буржуазию. Вместо прагматической программы окончания Революции он предлагает только утопию и террор.
16 апреля система террора централизуется. Отныне всех «подозрительных» доставляют для уничтожения в Париж. Тогда же Комитет общественного спасения получает право «надзора за органами власти», которые теряют последние остатки этой власти. Полностью централизованная бюрократическая машина поглощает и объемлет все.
Но как обосновать эту диктатуру? Ее прежнее оправдание — натиск внутренних и внешних врагов — почти полностью исчезает. Ведь ликвидированы даже вымышленные «заговоры». Вот тогда идет в ход немыслимая утопия использования некой сверхъестественной силы путем введения новой религиозной системы.
Фантастическая власть может иметь только фантастическое оправдание. Какую-либо реальную политическую программу Робеспьер выдвинуть не в состоянии. Она существовала, ее пытался нащупать Дантон, предлагая прекращение террора и введение в действие Конституции 1793 года. Но именно поэтому он и погиб на эшафоте. Эта единственно возможная программа, являвшаяся, конечно, компромиссом, таила в себе угрозу утраты власти Робеспьером. Ведь он был главным вдохновителем террора и отказ от него означал бы отказ и от самого Робеспьера. Это Неподкупный понимал отлично и мучительно искал другого выхода. После жерминальских казней на протяжении месяца он трудится, почти не выступает и редко появляется на публике.
Казни, конечно, продолжаются. Гильотина пожирает последних оставшихся видных представителей монархии. На эшафот поднимается мадам Элизабет, сестра Людовика XVI, известные аристократы Монморанси, Роган, Сомбрейль. Но главная масса жертв — вожаки санкюлотов, обвиняемые в эбертизме.
Робеспьер между тем готовит Франции и всему человечеству величайшее духовное и моральное возрождение. Об этом предупредил Кутон в Конвенте на другой день после казни Дантона. Спустя месяц, 7 мая 1791 года, Робеспьер произносит в Конвенте одну из своих самых длинных и самых причудливых речей на тему об отношении религиозных и моральных идей к республиканским принципам.
Цель Робеспьера — создание грандиозного обоснования и оправдания своей практической политики и своей власти. Он хочет в дополнение к светской власти получить и духовную, стать провозвестником новой очищенной религии, ее первосвященником и мессией. Робеспьер хочет уподобиться по меньшей мере Иисусу Христу, даже превзойти его, ибо культ, предлагаемый им, замыслен на новой, высшей основе революционной морали. Христос добивался веры с помощью чуда, Робеспьер — с помощью аргументов разума и интересов нового общества. Франция увидела нечто уникальное: запутавшийся революционер прибегал к помощи трансцендентальных, сверхъестественных сил.
Бог Робеспьера — Верховное существо — уже не связан слабостями милосердия, всепрощения, смирения; он требует только крови, террора. Это грозный и страшный бог возмездия. Проповедь (именно ею фактически и являлась эта примечательная речь) в отличие от Нагорной проповеди, наполнена проклятиями, яростью, ненавистью, мщением. Но все это во имя морали.
«Единственным фундаментом гражданского общества, — говорит Неподкупный, — является мораль… Безнравственность служит основой деспотизма, в то время как добродетель является сущностью Республики… Итак, спокойно придерживайтесь незыблемых основ справедливости и возрождайте общественную мораль. Стремитесь к победе, но главное — низриньте порок в небытие».
Но в чем же состоит мораль Робеспьера? Он не формулирует обычных для моралистов, для основателей религий конкретных принципов или нравственных заповедей. Она целиком умещается в единственном принципе полезности: «В глазах законодателя все то, что полезно всем людям и хорошо на деле, и есть истина… Идея Верховного существа является постоянным напоминанием о справедливости; стало быть, она есть идея социальная и республиканская».
Слова «стало быть» заменяют логику, здравый смысл, ибо они соединяют ничем фактически не связанные вещи. С одинаковым успехом аналогичная мыслительная конструкция может быть использована для обоснования монархии и вообще чего угодно. Если, скажем, кому-то полезно предать смерти другого, если это хорошо для кого-то, то это и морально. Софизм Робеспьера оказывается на деле обоснованием полнейшего аморализма, если понимать под моралью общечеловеческие, традиционные ценности.
Робеспьер отвергает не только эти ценности, как они, к примеру, закреплены в христианском вероучении. Он яростно предает анафеме признанные идеи светской, мирской философии и морали, высшим достижением которых служила материалистическая и атеистическая школа французских просветителей XVIII века. Он бичует и клеймит ее в качестве… орудия деспотизма и заявляет: «наиболее же могущественной и наиболее знаменитой была секта, известная под именем энциклопедистов. В нее входило… большое число честолюбивых шарлатанов». Как видно далее из текста, Робеспьер имеет в виду Вольтера, Монтескье, Дидро, Гольбаха, Гельвеция и других знаменитых философов. Единственно, кому он отдает должное, это Руссо за то, что «он с энтузиазмом говорил о божестве».
О божестве говорит очень напыщенно и Робеспьер. Не о туманном Верховном существе, которому он, в сущности, не дает никакого конкретного определения или образа, а о божестве другом. Вот его слова, раскрывающие объективный смысл и цель всей помпезной затеи: «Вы, конечно, не разорвете священное звено, соединяющее людей с их создателем. Если эта идея господствует в народе, то было бы опасно разрушить ее. Мотивы обязанностей человека к его создателю и основы человеческой морали неизбежно связаны с этой идеей, и зачеркнуть ее — это значит деморализовать народ. Из этого же принципа вытекает и то, что нападать на установившийся культ следует всегда лишь с осторожностью и известной деликатностью из страха, что внезапное и сильное его изменение может показаться покушением на нравственность и даже отказом от честности».
Итак, Робеспьер не очень-то рассчитывает на свое Верховное существо и требует бережно сохранять идею божества, «господствующую в народе». Речь идет, таким образом, о католической церкви и ее учении. Католические священники благословляли день, когда Робеспьер выступил со своей проповедью новой религии. Их не смущало, что Робеспьер, обращаясь к ним, сказал: «Честолюбивые священники, не ждите, что мы восстановим ваше владычество». Они и не ждали, а радовались, что им вернули их храмы и разрешили праздновать воскресенье. Во всей Европе начали смотреть на Робеспьера как на консерватора и усмирителя Революции. Епископ Грегуар, еще год назад выступавший в Конвенте вместе с монтаньярами, а сейчас всецело отдавшийся делу сохранения исторических памятников, впоследствии вспоминал, что «появилась надежда на близкое восстановление религии».
Разумеется, и в этой речи, пронизанной высокопарными моральными сентенциями, Робеспьер не забывает о своем главном оружии: о пугале заговора. Он призывает «рассмотреть атеизм как национальное явление, связанное с заговором против республики».
Конвент послушно проголосовал за декрет о том, что «французский народ признает Верховное существо и бессмертие души». Конечно, революционеры и атеисты сделали это скрепя сердце и затаили в душе свое истинное чувство ненависти к новому папе. Ну а сторонники восстановления церкви с удовольствием отметили статью декрета: «Свобода культов сохраняется».
Смешно даже ставить вопрос, было ли провозглашение причудливого нового культа движением Революции вперед? Это был огромный шаг назад, возмутивший всех истинных революционеров. Не случайно самый знаменитый из французских революционеров XIX века Огюст Бланки возненавидит Робеспьера за эту акцию. Он с гневом отметит, что Робеспьер «выдал королям голову Клоотса, а священникам — голову Шометта, проповедника атеизма» и посылал на гильотину врагов церкви «в честь бессмертия души».
Действительно, казнь вместе с Шометтом бывшего епископа Гобеля, отрекшегося от своего сана, выглядела как предупреждение священникам, как человеческое жертвоприношение христианскому богу. Если безумие террора делало Робеспьера страшным, то учреждение нового культа — смешным и жалким. Его в разговорах иронически называли верховным жрецом или новым папой.
Только шесть секций Парижа из 48 поздравили Конвент с учреждением культа Верховного существа. Из них две были секциями Эбера и Венсана. Они явно боялись обвинения в эбертизме. Такое массовое равнодушие к новому культу в атмосфере страха, когда полагалось горячо одобрять любое решение Конвента, явление знаменательное. Народ перестал понимать действия Неподкупного.
8 июня (20 прериаля) в Париже устроили грандиозный праздник в честь Верховного существа. Религиозное воспитание Робеспьера оказалось настолько прочным, что он сохранял в душе благоговейное отношение к пышным церемониям, напоминавшим католические процессии. Он нашел в лице Давида удивительно способного человека для проведения подобных маскарадов. Робеспьер верил, что невежественный народ только таким образом можно приобщить к новым республиканским ценностям. Давид, великий художник и жалкий политик, пользовался возможностью показать свой талант декоратора, устраивая такие праздники. Церемония в честь Верховного существа превзошла пышностью множество других праздников. Прекрасный июльский день весьма благоприятствовал церемонии, хотя настроение народа понять было трудно. Были ли люди искренни или просто боялись обвинения в эбертизме и потому поспешили на этот карнавал? Любопытное совпадение: в этот день католическая церковь отмечала праздник Троицы. Кто мог знать, какие молитвы твердили про себя люди? Город был разукрашен гирляндами, цветами. Гремели пушки. Собрали войска и Национальную гвардию. За несколько дней до праздника Робеспьера избрали, видимо не случайно, председателем Конвента. Поэтому он сполна получил удовольствие почувствовать себя в роли первосвященника.
Для этого случая Максимилиан, всегда заботившийся о своем одеянии, заказал новый костюм. На нем был голубой камзол, белый шелковый жилет, вышитый серебром, черные шелковые штаны, белые чулки и башмаки с золотыми пряжками. Робеспьер возглавлял процессию. Он шел во главе депутатов Конвента, которые тоже принарядились по этому случаю. При этом получилось так, что Робеспьера отделяло от остальных депутатов большое пространство. Случайно или намеренно, но все подчеркивало его особую исключительную роль. Он произнес напыщенную речь вначале перед Тюильри, а затем на Марсовом поле, где Давид соорудил невероятно фантастические символы. Это были статуи чудовищ: Атеизма, Эгоизма, Раздоров и Честолюбия. Вся эта бутафория из картона, дерева и тряпок, пропитанных скипидаром, была подожжена Робеспьером. После этого должна была открыться взорам огромная статуя Мудрости. Но, видно, перелили скипидара, и огонь подпалил Мудрость, которая выглядела довольно глупо. Но звучала музыка, хор в две с половиной тысячи человек пропел специальный гимн Верховному существу.
Напрягая голос, Робеспьер произнес речь, скорее напоминавшую молитву:
«Существо из существ! Творец природы!.. Защитники свободы могут доверчиво передать себя в твои руки, Верховное существо! У нас нет несправедливых молитв к тебе, ты знаешь создания, вышедшие из твоих рук… Вот наша молитва, вот наши жертвы, вот наше поклонение, которое мы тебе возносим!»
Вначале Робеспьер чувствовал себя превосходно. Сбылась его затаенная мечта: он принес людям источник величайшей радости и счастья! Но вернулся он домой измученный и удрученный: до его слуха донеслись обрывки насмешливых реплик по его адресу, которыми обменивались депутаты. Больше всего на свете он боялся выглядеть смешным! Он мучительно старался угадать по голосам, кто же занимался таким чудовищным кощунством и высмеивал его возвышенный замысел?
Видимо, он осознал всю нелепость чудовищного праздника в голодном Париже. Народу недоставало хлеба, а не гимнов. Робеспьер хотел спрятаться за Верховным существом от реальных проблем Революции. Вся затея оказалась лишь дополнительной причиной его растущей изоляции. И скоро он услышит от Бийо-Варенна: «Ты начинаешь надоедать мне со своим Верховным существом!»
Но что можно было ждать от этого скрытого эбертиста? После казни кордельеров, Шометта он вообще стал невыносим и в Комитете общественного спасения открыто проявлял свое раздражение. Беда в том, что признаки уныния, сомнений Робеспьер видел и у непоколебимого Сен-Жюста.
Если бы Неподкупный знал, что написал недавно этот самый безупречный его помощник в черновых записках: «Революция заледенела, все принципы ослабели; остаются одни только красные колпаки, прикрывающие интриганов. Применение террора пресытило преступление, как крепкие ликеры пресыщают вкус. Несомненно, еще не время для добра. Частичное благо — паллиатив. Нужно дожидаться общего зла, достаточно большого для того, чтобы общественное мнение испытало потребность в мерах, способных принести благо. То, что приносит общее благо, всегда страшно, и кажется странным, когда начинают слишком рано».
Ясно, что Сен-Жюст испытывал сильное замешательство. Испытывал его и Робеспьер в период, когда, казалось, он достиг наивысшего торжества. Нет, Верховное существо не услышало страстных заклинаний Робеспьера и не осенило его своей благодатью. Оставалось уповать на Святую Гильотину.
«Конвент находится на вулкане нескончаемых заговоров», — заявил Робеспьер 26 мая. Заговор — магическое слово, могучий талисман — заклинание в устах Неподкупного. Он говорит о заговорах постоянно. Эту идею он позаимствовал у покойного Марата, обладавшего особым пророческим чутьем на заговорщиков. Он заранее раскрывал заговоры, предупреждал о них и, как правило, оказывался прав. Но во времена Марата это были действительные, а не вымышленные заговоры. Марату они принесли авторитет пророка. Для Робеспьера заговор — главный рычаг механизма высшей власти. «Заговор» эбертистов, «заговор» дантонистов, «заговор» в тюрьмах. И каждый раз, раскрывая очередной мнимый заговор, Робеспьер укрепляет свою власть и влияние. Он уловил удивительную эффективность чудесного орудия власти. Идея заговора стала жизненной потребностью для Неподкупного. К тому же в данном случае заговор почти и не надо изобретать. Два эпизода парижской революционной жизни, последовавшие один за другим, дали Робеспьеру великолепный повод снова нажать на спасительный клапан заговора.
Некий Адмира, 50-летний писарь, убежденный монархист не был связан ни с какой политической организацией. Но он ненавидел Робеспьера и решил убить его выстрелом из пистолета. Тщетно он, однако, преследовал его. Тогда Адмира подстерег другого члена Комитета общественного спасения — Колло д'Эрбуа и легко ранил его. Сильный и ловкий Колло мгновенно обезоружил одинокого террориста и арестовал его.
Буквально на другой день, 23 мая, в дом Дюпле явилась молодая девушка Сесиль Рено, дочь мелкого торговца и спросила Робеспьера. Того не было дома, но девушка не уходила и прогуливалась, желая посмотреть на «тирана». Это показалось подозрительным, ее задержали и у нее в корзинке нашли два маленьких ножика. Девушка на допросе простодушно рассказала, что хотела лишь взглянуть на «тирана». Хотя ее ножички совершенно не годились для того, чтобы не только убить, но даже серьезно ранить взрослого мужчину, объявили о раскрытии покушения на жизнь Робеспьера.
Оба эпизода объединили и доложили в Конвенте о новом страшном заговоре, организованном Англией. Атмосфера страха, подозрительности, ненависти позволила навязать Конвенту дикий и бессмысленно жестокий декрет, немедленно разосланный во все армии: «Англичан в плен не брать!» Их надлежало убивать на месте! Разумеется, никаких доказательств связи между Адмира и Сесиль Рено и тем более с Англией не было. Но их и не потребовалось. К двум «террористам» присоединили еще 50 человек, совершенно непричастных к делу, и 17 июня в красных рубахах (так казнили отцеубийц) всех отправили на гильотину. Магическое слово «заговор» в очередной раз сыграло свою роль.
Но казнь полусотни какой-то мелкоты не то, что было нужно Робеспьеру, хотя и она сама по себе, поддерживала атмосферу страха, что, по его убеждению, служило Революции. Он давно мечтал о снятии последних малейших преград на пути уничтожения любых политических соперников. Ведь многие из монтаньяров в Конвенте, даже в самих Комитетах, внушали ему подозрения.
25 мая, сразу после ареста Адмира и Сесиль Рено, Робеспьер отправляет письмо на фронт Сен-Жюсту, требуя немедленно бросить все и ехать в Париж. «Свобода подвергается новым опасностям, — говорилось в письме. — Клики пробуждаются с более угрожающим видом, чем когда-либо раньше. Сборища в очередях за маслом… возмущение в тюрьмах… интриги… соединяются с повторяющимися попытками убийства членов Комитета общественного спасения… Опасаются аристократического восстания, фатального для свободы. Самые большие опасности угрожают ей в Париже».
Сен-Жюст срочно потребовался Робеспьеру, чтобы использовать эпизод с «покушениями» для проведения через Конвент нового закона о резком усилении террора. Робеспьер считал его крайне необходимым, хотя кажется, и без этого террор уже не встречал никаких препятствий. Тем не менее некоторые факты вызывали тревогу Неподкупного. Например, отказ члена Комитета общественного спасения Линде, ведавшего продовольствием, подписать смертный приговор Дантону и заявившего при этом: «Я нахожусь здесь, чтобы кормить патриотов, а не убивать их».
Если такой осмотрительный, серьезный человек, как Робер Линде, проявил демонстративную независимость, то дела Робеспьера пошатнулись. Его авторитет, власть, влияние слабеют. Все сильнее сказывается отрыв от реальности. Драма Жерминаля оказалась роковым рубежом, после которого Робеспьер быстро идет к поражению. Самое поразительное, что это происходит из-за его собственной деятельности. Не мог он переделать свой высокомерный характер, преодолеть болезненное самолюбие, обычную подозрительность, неспособность прощать людям даже тень, намек покушения на его авторитет. Все эти особенности личности Максимилиана усиливаются и ускоряют его отчуждение, изоляцию. Победа над Эбером, Дантоном, Шометтом оказалась пирровой победой. Усилив самоуверенность, она доводила Робеспьера до мании величия и еще больше изолировала его.
Но главное зло заключалось в политической слабости Робеспьера, в неспособности выдвинуть программу, вокруг которой объединились бы монтаньяры. Напротив, теперь по какой-то роковой закономерности все действия Робеспьера раскалывают их. Противоречия между разными течениями среди них все сильнее сказываются внутри самого Комитета общественного спасения. Тяготевшие к левым Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа после Жерминаля явно становятся его противниками.
Сначала это только намеки, хотя смысл их очевиден каждому. 20 апреля Бийо-Варенн заявляет: «Каждый народ, ревнивый к своей свободе, должен держаться настороже даже против добродетелей людей, занимающих высокие посты… Лукавый Перикл пользовался цветами, которыми украшал его народ, чтобы прикрыть цепи, которые он ковал афинянам… Этот же Перикл, добившись абсолютной власти, сделался кровожадным деспотом». Ясно, что мишенью слова «добродетель» мог быть только Максимилиан.
Сам Карно, олицетворявший суровую деловитость, пишет: «Горе республике, где заслуги одного человека или даже его добродетели становятся необходимостью».
Введение культа Верховного существа Робеспьер считал средством укрепления своих позиций. Пагубная иллюзия! Карно даже не скрывал своего неодобрения. Члены Комитета безопасности Вадье и Амар, известные дехристианизаторы, открыто издевались под новым культом. Парижские санкюлоты, в свою очередь, предпочитали новому абстрактному Верховному существу близкий их сердцу культ мучеников свободы, особенно Марата. Тогда по инициативе Робеспьера издали специальное постановление о запрете «частных празднеств». Словом, затея с введением новой «чистой» религии оказалась лишь дополнительной причиной изоляции самого первосвященника.
Нарочитая, бросающаяся всем в глаза исключительность роли Робеспьера в церемонии учреждения культа Верховного существа подлила масла в огонь давно уже не смолкавших разговоров о его личной диктатуре. Стремился ли он сам к ней? Официально никаких шагов не предпринималось. По-прежнему в Комитете общественного спасения не было должности председателя, даже временного, сменяемого, как в Конвенте или в Якобинском клубе. Однако Сен-Жюст, самый близкий к Робеспьеру человек, не бросавший слов на ветер, все чаще говорил, что спасти Республику может только диктатура. Нашлись люди, которые подхватили эту идею… путем ее громкого опровержения! Любопытно, что защищать Робеспьера от подозрений в честолюбивых притязаниях начал Барер, весьма влиятельный не только благодаря своей необычайной политической ловкости, но и связям с депутатами Болота. Странно выглядело также предложение дантониста Русселена придать членам Комитета общественного спасения личную гвардию. Робеспьер добился отклонения этой затеи.
Тем не менее разговоры о диктатуре не умолкали. Питал их и факт реального триумвирата Робеспьер — Кутон — Сен-Жюст, всегда выступавшего сплоченной когортой. Разговоры об опасности диктатуры приобрели новый, весьма серьезный и грозный характер в связи с принятием Закона 10 июня (22 прериаля) об усилении террора.
Формально инициатором выступил Кутон, а поводом для него послужили покушения Адмира и Сесиль Рено. Но его не зря назвали «законом Робеспьера», ибо многим было известно, что фактическим автором закона являлся сам Неподкупный. Ведь он уже много раз осуждал медлительность Революционного трибунала и добивался ускорения и расширения его кровавой деятельности, провел на ответственные посты в этом судилище своих людей. Даже его квартирохозяин и предполагавшийся в скором будущем родственник Дюпле стал присяжным трибунала.
Особенно знаменательным свидетельством прямой причастности Робеспьера к закону об ужесточении террора явилась написанная им в начале мая инструкция для «народной комиссии» в Оранже. История с этой комиссией сама по себе служит типичным примером безумного характера робеспьеровского террора. В глухой деревне в южном департаменте Воклюз произошло «страшное» преступление: неизвестный злоумышленник срубил там символическое дерево свободы, сорвал и бросил в грязь декрет Конвента. Из Парижа последовал приказ наказать всех жителей «устрашающим» примером. Все 433 дома деревни разрушили и сожгли, а жителей арестовали. Массовые аресты произвели и в соседних деревнях. Специальный уполномоченный в Воклюзе писал, что для доставки арестованных в Париж, как требовал недавно введенный порядок, нужна целая армия. Тогда-то по предложению Кутона и учредили «народную комиссию», чтобы она осуществила расправу на месте. Инструкцию для комиссии своей рукой написал Робеспьер. «Враги революции, — говорилось в ней, — суть те, которые какими бы то ни было способами и какими бы видимостями они ни прикрывались, стараются препятствовать ходу революции и мешать утверждению республики. Наказание за такое преступление — смерть, доказательствами, нужными для произнесения приговора, будут всякие сведения, какого бы рода они ни были, лишь бы они могли убедить разумного человека и друга свободы. Правилом при произнесении приговоров должна быть совесть судьи, освященная любовью к справедливости и к отечеству; их цель — общественное спасение и гибель врагов отечества». Присяжных не требуется, хватит и судьи. Доказательства не нужны, достаточно его мнения.
Любопытное свидетельство эволюции некогда столь строгого законника, каким выступал Робеспьер! Фактически он теперь стоит на позициях такого же «правосудия», какое применялось во время знаменитых сентябрьских избиений в тюрьмах в 1792 году, правосудия убийц.
Прошло лишь два дня после грандиозного праздника Верховного существа, когда Конвент собрался 10 июня, чтобы заслушать доклад Кутона о новом террористическом законе против «врагов народа». Так выяснилось, что кроется за прославлением Робеспьера как творца новой фантастической религии. Теперь ее первосвященник хочет получить чудовищное и двусмысленное орудие массового убийства!
Составление закона, списанного Кутоном с пресловутой «инструкции» Робеспьера, окружено тайной. Проект закона не согласован с Комитетом безопасности. В Комитете общественного спасения о нем сказано только несколько общих фраз.
Конвент слушает в ужасе. Большинство депутатов являются юристами. Они сразу улавливают, что речь идет о ликвидации самого понятия суда, правосудия. Для обвинения впредь не потребуется никаких доказательств. Обвиняемые полностью лишаются средств защиты. Понятие преступления извращается до такой степени, что позволяет послать на эшафот любого невинного человека.
Смерти заслуживает каждый, кто может «вызвать упадок духа», кто «распространяет ложные известия», кто «препятствует просвещению народа», «портит нравы», «развращает общественное сознание». Итак, любое сказанное слово может отныне стать поводом для смертной казни. Закон и не предусматривает никакого другого наказания. Не требуется никаких улик, достаточно «моральных» доказательств. Никаких свидетелей, никаких присяжных, защитников. В сущности, это расправа с неугодными без суда, программа массового уничтожения людей. Тогда еще не знали слова «геноцид», но его смысл уже содержался в прериальском законе. Конвенту объясняют, что нормальный республиканский порядок будет установлен ужасом, смертью, страхом…
Депутаты поняли, что они сами окажутся жертвами закона. Один из них срезу потребовал отсрочки принятия закона, угрожая в противном случае покончить самоубийством. Его поддерживают другие. Даже Барер, член Комитета общественного спасения, от имени которого вносится закон, выступает против него.
На трибуну немедленно бросается Робеспьер и произносит яростную речь в защиту закона, в котором, оказывается, «нет ни одной статьи, которая не была бы основана на справедливости и разуме». Облик Неподкупного внушает отвращение и страх. Никто не решается возразить. Ведь в Конвенте столько пустых мест напоминают о судьбе тех, кто осмеливался противоречить Робеспьеру. И все же Бурдон из Уазы довольно робко предлагает одобрить пока состав присяжных, а остальные статьи обсудить потом. Робеспьер снова на трибуне. Он лжет, льстит, уговаривает. Речь Неподкупного поистине шедевр двусмысленной психологической атаки. Он прославляет настоящих монтаньяров, но тут же делает невероятное признание о том, что больше такой партии нет: «В Конвенте могут быть только две партии — добрые и злые, патриоты и контрреволюционеры». И он клятвенно заверяет, что никто из членов Конвента не пострадает, что «система клеветы скоро исчезнет». И он одновременно грозит тем, кто попытается возразить: «Горе тому, кто сам себя называет!»
Запуганный Конвент, уже приученный одобрять все единогласно, не только утверждает кровавый закон, но и продлевает полномочия Комитета общественного спасения.
Однако на следующем заседании, пользуясь отсутствием Робеспьера, тот же Бурдон, которому уже нечего терять, выступил против одного незаметного, но очень важного пункта нового закона, разрешающего впредь отправлять в трибунал депутатов без согласия Конвента. Его поддерживают еще несколько депутатов-монтаньяров. Конвент голосует за поправку о неприкосновенности депутатов. Агенты Неподкупного немедленно бегут к нему, и взбешенный Максимилиан вечером в Якобинском клубе громит подлых приспешников Дантона и Шометта, то есть партию монтаньяров. «Есть люди, — заявляет он, — с громадным пылом защищающие Конвент и в то же время оттачивающие против него кинжал… Патриоты, будьте на страже более, чем когда-либо: люди развращенные идут на все для того, чтобы задушить защитников отечества и уничтожить Конвент».
Так он наконец выдает собственный замысел, приписывая его другим, и раскрывает цель своего нового закона. Это совершенно ясно всем, и в тот же день, вечером на заседании Комитета общественного спасения разыгрывается бурная сцена. Бийо-Варенн прямо обвиняет Робеспьера в том, что он навязал свой новый закон, чтобы гильотинировать в Конвенте всех монтаньяров. Высохший, широкоплечий Бийо, возвышаясь над тщедушным Робеспьером, в ярости бросает ему гневные слова: «Я знаю, кто ты! Ты — контрреволюционер!»
Но Неподкупного не так-то просто запугать или смутить. Он справлялся с врагами и посильнее Бийо, сокрушив самого Дантона! На другой день Робеспьер при поддержке верного Кутона добивается отмены поправки Бурдона, разрушающей его замыслы. Теперь у него развязаны руки, и Робеспьер торжествует в душе близкое уничтожение всех «интриганов». Но как он ошибается! Он просто в трансе опьянения своим могуществом и не догадывается, что новый закон смертельно опасен для него самого.
Комитет общей безопасности, где Робеспьера поддерживают только два преданных, но политически беспомощных человека — Леба и художник Давид, — не может простить, что закон, прежде всего относящийся к его сфере деятельности, проведен без ведома Комитета. А в нем вершит всем старик Вадье, которого не зря прозвали «гасконский Вольтер». Враг религии, возмущенный культом Верховного существа, при поддержке Амара и Вуллона действует и раскрывает ужасный «заговор» именно на религиозной почве.
Вадье обнаружил старуху Катерину Тео, ясновидящую, которая рассказывала своим фанатичным поклонникам о божественных видениях, которые позволили ей предсказать приход в мир нового Мессии, спасителя человечества, сына Бога. Этим Мессией является, естественно, не кто иной, как проповедник добродетели Максимилиан Робеспьер. Святость Катерины Тео авторитетно подтверждал монах Жерль, бывший депутат Учредительного собрания. Жерль имел документы о его гражданской благонадежности, подписанные самим Робеспьером! Более того, Жерль жил в доме Дюпле, а члены этого семейства входили в секту проповедницы. Выяснилось, что Катерина Тео связана с группой аристократов, которые переписывались с Лондоном и Женевой.
15 июня, когда еще свежа у многих память о грандиозной церемонии в честь Верховного существа, Вадье выступает в Конвенте с докладом об этом новом ужасном «заговоре»! Тощий, седовласый старик неторопливо, с нарочитой торжественностью излагал с трибуны Конвента живописные, гротескные детали всей этой трагикомической истории. Его поистине вольтеровская ирония имела тем больший эффект, что по злой шутке судьбы председательствовал на заседании Конвента… Робеспьер!
Намеренно растянутый доклад Вадье много раз прерывали взрывы хохота и аплодисментов. Закончил Вадье вполне в духе Неподкупного: он обвинил всех замешанных в деле Катерины Тео в контрреволюционной деятельности и пропаганде и потребовал передачи дела об этом «ужасном заговоре» в Революционный трибунал. Конвент единодушно одобрил предложение Вадье и, кроме того, постановил отпечатать доклад Вадье и разослать его по армиям и всем коммунам Франции.
Нетрудно представить, что испытывал Робеспьер, вынужденный присутствовать при всем этом изощренном издевательстве над столь близкими его сердцу религиозными идеалами. Он понимал также, что Фукье-Тенвиль в Революционном трибунале превратит все дело в спектакль, в котором главным действующим лицом окажется именно он, Неподкупный!
Робеспьер прежде всего попытался отвратить нависшую над ним угрозу публичного поношения и заменить Фукье-Тенвиля более преданным человеком. Это ему не удалось. Его коллеги по Комитету воспротивились также изъятию дела из трибунала. По этому поводу возникали столь бурные споры, что под открытыми из-за жары окнами Комитета собиралась толпа. Перенесли заседание в другое помещение, этажом выше. В конце концов Робеспьеру удалось добиться отсрочки слушания дела Тео. Но он понимал, что под него подложена мина замедленного действия. Вообще отношения между триумвиратом и остальными членами Комитета общественного спасения достигли такой остроты, что 29 июня Робеспьер хлопнул дверью и перестал являться на его заседания. Его не увидят в Комитете до 23 июля. А это была решающая пора для судьбы Неподкупного, для всех монтаньяров. Впоследствии Бийо-Варенн скажет: «Он дал нам время договориться о том, как свалить его».
Между тем после принятия закона 10 июня (22 прериаля) наступил Большой террор. Большим он был не потому, что казнили опасных врагов Революции. На эшафот отправляли как раз людей маленьких, неизвестных, преимущественно бедняков. В тюрьмах Парижа скопилось восемь тысяч «подозрительных». Под предлогом опасности заговора в тюрьмах на гильотину посылали партиями по 50 и более человек сразу. Не хватало палачей, потребовались новые кладбища для обезглавленных тел.
Ежедневное зрелище верениц телег с осужденными, проезжавших через весь центр Парижа от Консьержери до площади Революции, создавало атмосферу ужаса. Тогда перенесли гильотину на восточную окраину, на Тронную заставу. Теперь телеги с осужденными тянулись через Сент-Антуанское предместье, и бедняки видели, что жертвами оказываются не пресловутые аристократы, а такие же простые люди, как и они сами. За четырнадцать месяцев террора до принятия Прериальского закона в Париже казнили 1251 человека, а за шесть недель после введения в действие «закона Робеспьера» и до 9 термидора — 1378 человек.
Среди историков нет единства; они спорят о роли Робеспьера во время Великого террора. Есть биографы, считающие Робеспьера вообще непричастным к нему. Его противники якобы специально устраивали нескончаемые казни, чтобы скомпрометировать Неподкупного. Но как же объяснить Прериальский закон, навязанный Робеспьером? Его постоянные требования усилить террор и отсутствие предложений о его прекращении? Наконец, совершенно невозможно вычеркнуть из истории его идею очищения не только Конвента и других государственных институтов, но и всей Франции. Вот что он сказал в Конвенте 26 мая 1794 года: «Во Франции существуют два народа. Один народ — это масса граждан, чистых, простых, жаждущих справедливости, это друзья свободы, это доблестный народ… Другой народ — это сброд честолюбцев и интриганов, это болтуны, шарлатаны, плуты, которые везде появляются, преследуют патриотизм, захватывают трибуны, а часто и общественные должности, злоупотребляют образованием… До тех пор, пока будет существовать эта бесстыдная раса, республика будет несчастной и шаткой».
Итак, нет сомнения, Робеспьер на свой манер возрождает деление граждан на пассивных и активных. Последние подлежат уничтожению. Таков финал его политической философии.
Впрочем, сделав все, что он мог для ее осуществления, Робеспьер равнодушно и мрачно созерцает этот процесс.
Макс Галло, самый «психологический» биограф Робеспьера, так описывает его поведение во время Великого террора: «Политическое осознание размаха оппозиции, предчувствие, что поражение и смерть будут концом этой решительной борьбы, придают последним террористическим мерам Робеспьера, которые он проводил и защищал, самый крайний характер, поскольку чувство безнадежности лежит в их истоках и существе… Он закрывается в Бюро общей полиции Комитета общественного спасения, он изучает доносы, полицейские доклады, он решает конкретные дела о проведении арестов. Это тоже знаменательная манера быть одному, форма отказа от реальной политической борьбы. Он предпочитал эту абстрактную, зачаровывающую деятельность бюрократических репрессий, когда одним росчерком пера решал вопрос об аресте какого-нибудь подозрительного или об освобождении другого… Свидетельство фактического отречения, беспомощности и признания поражения».
Тот факт, что Робеспьер временами осознавал тупик, в который он попал, и выражал это сознание постоянным напоминанием о своей готовности к смерти, бесспорно, делает ему честь. Ибо ситуация была необычайно сложной. Ее удачно определил Фридрих Энгельс, который писал: «К концу 1793 г. границы были уже почти обеспечены, 1794 г. начался благоприятно, французские армии почти повсюду действовали успешно. Коммуна с ее крайним направлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые оба — каждый по-своему — хотели мира. В этом конфликте трех направлений победил Робеспьер, но с тех пор террор сделался для него средством самосохранения и тем самым стал абсурдом».
Как же выйти из этого абсурда? Вот этого Робеспьер не знал, не мог понять. К тому же он сам запустил в ход механизм, шестерни которого втянули его, и остановить их он был не в состоянии. Неподкупный судорожно бьется в паутине собственных интриг, с отчаянным инстинктом самосохранения пытаясь спастись за новой горой трупов…
Война продолжала оказывать решающее влияние на политическое положение в Париже. Каждое серьезное изменение на фронтах сказывалось в столице. 26 июня французские войска под командованием генерала Журдана в жестоком сражении разгромили под Флерюсом армию герцога Кобургского. Сен-Жюст, загнавший нескольких лошадей, явился 29 июня на заседание Комитета общественного спасения. Он рассчитывал на лавры победителя в борьбе против Карно, которая шла уже давно. Честолюбивый молодой человек мечтал о славе полководца. Близость к Робеспьеру позволяла ему часто выезжать на фронт в роли комиссара Комитета с неограниченными полномочиями, и его действия породили целую легенду. Действительно, Сен-Жюст проявлял большую личную смелость, не раз отважно участвовал в боях. Но это, естественно, не могло заменить отсутствия специальной военной подготовки, знаний и опыта. Систематически, серьезно руководил войной, конечно, Лазарь Карно, образованный офицер и специалист. Дилетантское вмешательство Сен-Жюста в военные дела давно возмущало его. Он негодовал по поводу смещения талантливого генерала Гоша, обвиненного в эбертизме и заключенного в тюрьму. Были у Карно и стычки с Робеспьером, например из-за его покровительства генералу Бонапарту. «Стратегия» Сен-Жюста состояла в применении к генералам постоянной угрозы террором. Он заявлял им обычно: впереди — победа, позади — гильотина! Нередко такие угрозы Сен-Жюст осуществлял. Он часто настаивал на проведении операций любой ценой, не считаясь с потерями. Жюль Мишле писал: «Военная роль Сен-Жюста сильно преувеличена. Французская мания связывать все успехи с центральной властью, инстинкт идолопоклонничества и склонность упрощать историю превзошли здесь все мыслимое».
29 июня Сен-Жюст, вместо ожидаемых им похвал, получил от Карно суровый выговор за безответственный приказ перебросить часть войск Журдана на помощь генералу Пишегрю, что угрожало сорвать победу при Флерюсе. В ответ Сен-Жюст называет Карно «аристократом» и заявляет ему: «Знай, что мне достаточно написать несколько строк обвинительного акта и заставить гильотинировать тебя через два дня».
На лице Карно не появилось и тени страха. Он ответил: «Я покажу тебе, что я не боюсь ни тебя, ни твоих друзей. Все вы смешные диктаторы». Повернувшись к Кутону и Робеспьеру, Карно добавил «Триумвиры! Вы скоро погибнете!» Барер впоследствии напишет: «Это было объявлением войны между Комитетами и Триумвиратом».
Впервые предстояло вести эту войну в новых, трудных условиях. Теперь за спиной Робеспьера уже нет партии монтаньяров, которую он сам довел до разброда, нет Коммуны и санкюлотов, потерянных после казни их вождей и из-за новой социальной политики, и, конечно, нет всесильных Комитетов, большинство членов которых — его враги. Остается одно проверенное средство: сплочение Конвента против нового заговора врагов народа. Но все заговорщики уничтожены в драме Жерминаля. Следовательно, нужны новые. Откуда их взять? Достаточно использовать проверенный опыт превращения в «заговор» любых проявлений несогласия с Робеспьером. Вот почему в апреле отзываются из департаментов самые одиозные из «проконсулов» — Фуше, Баррас и Фрерон, Тальен, Каррье. Одни из них прославились своей жестокостью, другие коррупцией…
1 июля Робеспьер объявляет в Якобинском клубе, что готовится новый заговор «негодяев и агентов иностранных держав… Эта партия выросла из обломков всех остальных». Очень удобная формула, позволяющая создать «амальгаму» из людей, совершенно друг с другом не связанных. Но теперь новые условия; «заговор» обосновать труднее, и никакие имена не называются. За исключением одного: Жозефа Фуше.
Это давний знакомый Робеспьера, еще по Аррасу. Он стал депутатом Конвента и сначала из-за присущей ему крайней осторожности занял место среди жирондистов, которые тогда были в большинстве. Уже во время процесса короля Фуше переходит к монтаньярам. С самого начала он возбудил неприязнь Неподкупного своей независимостью. Он не проявил никакого желания связывать свою судьбу с человеком, будущее которого казалось таким неопределенным. Фуше вообще служил воплощением хитрости, сдержанности. Он даже ни разу не выступил в Конвенте. Затем Фуше охотно поехал комиссаром в Нант, Невер и Мулен. И здесь он прославился крайне левыми действиями; летом 1793 года это было в моде. Никто не заходил так далеко в покушении на интересы богачей ради бедняков. Он стал также яростным дехристианизатором. Ему принадлежит авторство знаменитой надписи на кладбищах: «Смерть — это вечный сон».
После подавления роялистского мятежа в Лионе декрет Конвента о полном уничтожении города сначала поручили выполнить Кутону, проявившему мягкость и либерализм. Тогда-то в Лион послали для настоящей расправы Колло д'Эрбуа и Фуше. Главную роль играл, конечно, Колло, у которого были давние счеты с Лионом. В далеком прошлом, когда Колло был актером, его здесь однажды освистали и прогнали со сцены. Да и вообще Колло представлял собой весьма колоритную личность. Вот как писал о нем Жюль Мишле: «Колло воплощал пьянство, даже натощак, искренние или притворные шумные вспышки, смех и слезы, оргию на трибуне. Самый страстный из темпераментных людей, он наводил страх даже на своих друзей». Естественно, что Фуше, всегда предпочитавший действовать в тени, не вызывая шума, оказался на втором плане в проведении тех страшных репрессий, которые принесли ему прозвище «палача Лиона». Вдвоем с Колло они изобрели «молнию» — расстрелы связанных по 50 и более человек картечью из пушек. Так они уничтожили более полутора тысяч человек. В декабре 1793 года, когда в Париже против террора выступили Дантон и его друзья, Колло уехал в Париж отстаивать дело «Святой Гильотины», а Фуше продолжал действовать один.
В апреле его отозвали и потребовали отчета в своей деятельности. Почему только от него, оставив в стороне Колло? Неподкупный не хотел связываться пока с членом Комитета общественного спасения. Фуше казался ему легкой добычей, и здесь-то Робеспьер совершил роковую ошибку, недооценив этого тусклого, незаметного, но втайне страшного врага. Видимо, играла роль личная неприязнь, ненависть Робеспьера к Фуше. Его раздражала даже давняя попытка Фуше жениться на его сестре Шарлотте, окончившаяся ничем, но позволившая Фуше сохранять дружескую связь с сестрой Неподкупного. Вспомним, что Шарлотта, когда-то учинившая скандал в доме Дюпле, была незаживающей семейной раной братьев Робеспьеров.
Как раз в это время Огюстен писал Максимилиану: «Сестра не имеет ни одной капли крови, сходной с нашей. Я узнал и видел с ее стороны такие поступки, что считаю ее величайшим нашим врагом. Она злоупотребляет нашей незапятнанной репутацией, чтобы командовать нами и угрожать нам скандальными действиями с целью скомпрометировать нас. Нужно принять решительные меры против нее. Необходимо заставить ее уехать в Аррас, удалив таким образом от нас женщину, которая приводит нас обоих в отчаяние».
А вот Фуше сумел сохранить с Шарлоттой какие-то странные отношения, и Робеспьер об этом знал. Но главная причина его ненависти к Фуше в том, что он не мог терпеть малейшего проявления самостоятельности или независимости среди своего окружения. Вернувшись в Париж, Фуше пытается обойти Робеспьера и представляет свой отчет Конвенту, а не Комитетам и терпит провал. Фуше сразу понял, какую силу приобрел Робеспьер, и в тот же вечер он отправляется на улицу Сент-Оноре, где встречает не просто холодный, но явно враждебный прием. Вскоре в знаменитой речи о Верховном существе Робеспьер впервые публично нападает на своего нового врага, хотя и не называет его по имени. Но Фуше продолжает раздражать его; это ничтожество неожиданно оказалось избранным президентом Якобинского клуба!
11 июля Робеспьер произносит необычайно яростную речь против Фуше. Никогда ни один из его врагов не удостаивался такой ненависти. «Я уверен, — говорит Робеспьер, — он является главой заговора, который мы должны уничтожить». У Робеспьера, конечно, нет никаких фактов, но зато сколько ненависти вызывает у него даже невзрачная внешность человека, который, видите ли, не хочет открыто выйти на трибуну и объясниться: «Неужели он боится глаз, ушей народа, боится, что его жалкий вид слишком явно свидетельствует о его преступлениях? Что шесть тысяч обращенных на него глаз прочтут в его глазах всю душу, хотя природа и создала их такими коварно запрятанными? Не боится ли он, что его речь обнаружит смущение и противоречиями выдаст виновного? Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; каждый избегающий взоров своих сограждан — виновен». Робеспьер называет Фуше «низким и презренным обманщиком», одним из «тех, чьи руки полны добычей и преступлениями». «Я высказал эти замечания, — заканчивает он, — лишь для того, чтобы раз и навсегда дать понять заговорщикам, что они не ускользнут от бдительности народа».
Никто в этом и не сомневается. После казней самых знаменитых героев Революции все знают, что Робеспьер способен уничтожить любого из них. Но кто же эти новые заговорщики? Ведь назван по имени только один Фуше. Всем становится не по себе, все охвачены страхом. Кто из депутатов не хлопотал хоть раз за какого-нибудь «подозрительного»? Кто не приобретал с выгодой «национальные имущества»? Кто не произносил неосторожных слов? Да ведь никакой реальной вины и не требуется теперь, когда действует страшный Прериальский закон Робеспьера.
Неподкупный продолжает свою таинственную политику «пустого кресла», свою намеренную полуотставку. Он сидит дома и пишет свою «очистительную» речь, чтобы магией слов (и последующего трибунала с гильотиной, конечно), очистить Конвент, Комитеты, Республику, всю Францию. У него есть время для размышлений. Он не делится ими ни с кем, даже с верными помощниками из триумвирата, с Кутоном и Сен-Жюстом, тревожно ожидающими его указаний. Но он не доверяет больше никому, кроме, пожалуй, своего любимого огромного черного ньюфаундленда по кличке Браунт, в сопровождении которого он ежедневно совершает одинокие прогулки. Впрочем, поодаль следуют его молчаливые дюжие телохранители…
Фуше предпочитает ночные прогулки. Его не видят днем нигде, но он вездесущ, и ему есть с кем и о чем поговорить. Разве Колло д'Эрбуа, вместе с ним громивший Лион, не понимает, что опасность нависла и над ним? А другие бывшие проконсулы, по приказу Конвента и Робеспьера наводившие «порядок» в Нанте или в Аррасе, такие, как Карье и Лебон? Баррас, Тальен, Фрерон, все они чувствуют, что это над их головами занесен нож гильотины. Последние дантонисты Куртуа, Лежандр, Тюрио горят желанием отомстить Неподкупному за трагическую гибель своего вождя. Среди бывших эбертистов не меньшую ярость вызывает память о погибших друзьях. С полуслова понимают Фуше взяточники и дельцы вроде Ровера или Изабо. Робеспьер сумел приобрести, вернее, создать среди монтаньяров немало смертельных врагов, и все они разделяют замыслы Фуше. Монтаньяры давно уже поняли, что Неподкупный отрекся от них, что Гора превратилась для него в досадное препятствие на пути к сближению с Болотом, или, как он ныне предпочитает выражаться, с «добродетельными людьми равнины». Не зря же он бережно оберегает безопасность 73 жирондистов. Его друг художник Давид самоуверенно болтает: «Я думаю, что мы не оставим в живых и двадцати членов Горы».
Ясно, почему Фуше легко находит много союзников среди монтаньяров в предстоящей схватке с Робеспьером. Но их недостаточно для его сокрушения. Надо лишить его поддержки Болота, с которым Неподкупный теперь легко находит общий язык. К счастью, этот немыслимый прежде союз теперь дал трещину, не выдержав удара Флерюса. Победа Журдана не только позволяет, она требует отказа от террора. А все надежды Робеспьера связаны с продолжением террора, который теперь стал совершенно невыносимым для буржуазии.
Беда, что личность Фуше с его прочной репутацией террориста совершенно не пригодна для установления союза монтаньяров с консерваторами Болота. Зато эта задача по плечу консерваторам из самого Комитета общественного спасения, для Барера, Камбона, Карно. Они достаточно сильно ненавидят Робеспьера, чтобы обойтись без одиозной личности Фуше.
Но и здесь он ведет свою таинственную терпеливую работу. В обстановке страха любой слух способен возбудить напуганное воображение. И он доверительно рассказывает одному, другому, что парикмахер Неподкупного из-за плеча своего клиента разглядел страшный список многих десятков имен людей, подлежащих «чистке». Из уст в уста передается рассказ о том, как недавно проходил обед в загородном доме у Барера. По случаю жары гости сняли свои камзолы, оставив их в соседней комнате. Отлучившийся на минуту Карно заглянул в карман известного всем небесно-голубого камзола, где обнаружил страшный список с роковыми пометками. Итак, днем Неподкупный готовится обрушить кару на новых заговорщиков. А ночью они плетут сеть контрзаговора. У них нет выбора: либо погибнуть самим, либо низвергнуть Робеспьера.
Самые близкие люди перестали понимать Робеспьера. Сен-Жюст решил сам что-то предпринять для предотвращения катастрофы. Он охотно пошел навстречу Бареру, когда тот заговорил о необходимости примирения. 23 июля (5 термидора) Комитет общественного спасения и Комитет безопасности собрались на совместное заседание. Присутствовал после долгого перерыва Робеспьер. Казалось, наметилось соглашение. Доклад о политическом положении поручили сделать Сен-Жюсту. На другой день Кутон объявил в Якобинском клубе, что Комитеты вновь работают в полном согласии. 7 термидора Барер в Конвенте произнес несколько лестных слов о Робеспьере, но одновременно сурово осудил тех, кто замышлял новые процессы. Однако на этом же самом заседании Дюбуа-Крансе назвал Робеспьера клеветником и интриганом. Робеспьер к тому же, узнав, что Сен-Жюст согласился в своем докладе не упоминать о Верховном существе, возмутился. Он был неспособен к компромиссу. Примирение оказалось мнимым. Похоже, что оно вообще было тактической уловкой. Не пройдет и года, как Барер расскажет об этих днях: «Мы полагали, что с Робеспьером, который был тогда популярен, надо притворяться, что надо льстить его тщеславию и путем расхваливания побудить его перейти к открытой атаке…»
Он и начинает ее в самых неблагоприятных для него и выгодных для его врагов условиях. Последняя речь Робеспьера не столько политический, сколько психологический документ. Это невольная исповедь окончательно запутавшегося человека, говорящего именно то, что более всего опасно, вредно для него самого, для интересов представляемого им дела. Но, в сущности, он уже не представляет никого, кроме самого себя, застрявшего в лабиринте обид, претензий, иллюзий и ненависти. Смутно он сознает всю безнадежность своего положения. «О, я без сожаления покину жизнь! — объявляет он. — У меня есть опыт прошлого, и я вижу будущее!.. Зачем оставаться жить при таком порядке вещей, когда интрига постоянно торжествует над правдой, когда справедливость есть ложь, когда самые низкие страсти, самые нелепые страхи занимают в сердцах место священных интересов человечества?.. Некоторое время тому назад я обещал оставить притеснителям народа страшное завещание… Я завещаю им ужасную правду и смерть!»
Неужели только для этого мелодраматического прощания с Конвентом он вышел на трибуну? О нет, это лишь один из его любимых риторических приемов, один из наборов пышных фраз, призванных украсить образ страдальца и мученика. Под их прикрытием он вступает в последний, решительный бой! Но — о ужас! — прежнее, столь эффективное оружие слова отказывает ему. Раньше он улавливал реальные требования действительности, использовал их и добивался торжества самых дерзновенных притязаний. Теперь все обстоит иначе. Ныне он совершенно одинок. За его спиной уже нет прежней партии монтаньяров. Многих он уже уничтожил, а те, которые еще уцелели, поняли, что он хочет расправиться и с ними, подобно тому, как он отправил на эшафот вождей санкюлотов и дантонистов.
Он рассчитывает на помощь депутатов Болота. Но они, охотно помогая ему в борьбе с левыми или правыми течениями Горы, больше не расположены поддерживать его. Они сами опасаются стать очередной жертвой, поскольку он желает и впредь продолжать террор, который они терпели только из-за внешней опасности. Но после Флерюса он им больше не нужен. Особенно им не нужен Робеспьер в роли диктатора, которому для сохранения власти всегда нужны будут новые «заговоры» и новые жертвы. Правда, он пытается очистить себя от обвинений в диктаторских стремлениях. Но кто может поверить ему, если он тут же снова диктует, повелевает и угрожает?
Сначала он заявляет: «Не думайте, что я пришел сюда, чтобы предъявить какое-либо обвинение». Он даже протестует против «гнусной системы террора и клеветы». Уж не самокритика ли это? Напротив, он снова клевещет на Дантона, Шометта, на других революционеров, уничтоженных им. Он много, очень много в трехчасовой речи говорит о своих заслугах в борьбе с этими «чудовищами» и, естественно, требует новых жертв. На этот раз его требование звучит особенно страшно, ибо действует его Прериальский закон. Новая программа уничтожения не имеет границ, ибо он обвиняет практически всех, хотя прямо по именам и не называет обреченных.
Робеспьер угрожает: «Существует заговор; своей силой он обязан преступной коалиции, интригующей в самом Конвенте… Как исцелить это зло? Наказать изменников, обновить все бюро Комитета общей безопасности, очистить этот Комитет и подчинить его Комитету общественного спасения; очистить и самый Комитет общественного спасения, установить единство правительства под верховной властью Национального Конвента, являющегося центром и судьей, и таким образом под давлением национальной власти сокрушить все клики и воздвигнуть на их развалинах мощь справедливости и свободы…»
Какая-то безумная волна страха охватывает всех. Ведь Робеспьер заносит нож над всеми, но заносит обессиленной рукой! Раньше он требовал жертв из рядов Конвента от имени больших Комитетов. Сейчас он выступает только от своего имени! Не называя никого, он тем самым называет всех.
Конвент в оцепенении и возмущении. Сначала следует трусливое предложение отпечатать речь и разослать ее. Но эта привычная мера словно пробуждает Конвент. Немедленно следует протест и требование передать речь на рассмотрение Комитетов. Барер, который еще не определил, куда дует ветер, произносит что-то неопределенное и двусмысленное. Но вот звучит резкое требование назвать имена: «Когда человек хвалится тем, что он обладает мужеством добродетели, он должен обладать мужеством говорить правду. Назовите тех, кого вы обвиняете».
Робеспьер молчит. Поднимается Камбон, на которого Робеспьер откровенно намекнул в своей речи. «Пора сказать всю правду, — сказал он. — Один человек парализовал волю всего Национального Конвента: это человек, который только что произнес здесь речь, — это Робеспьер». Камбон отвергает все туманные обвинения. Его поддерживают Бийо-Варенн, Вадье и многие другие. Один Кутон пытается что-то сказать в защиту своего патрона. Конвент отменяет решение напечатать и разослать речь. Это небывалый провал Неподкупного, а в условиях того дня — катастрофа.
Камбон, один из самых солидных и честных монтаньяров, вынужденный вступить в борьбу против Робеспьера, давно уже понял, что стоит вопрос о жизни и смерти. Он каждый день посылает матери газету, чтобы дать ей знать, что он жив. 8 термидора он написал карандашом на очередном номере: «Завтра либо я буду мертв, либо Робеспьер».
События развертываются в бешеном ритме. Поражает противоречивость в поведении Робеспьера. С одной стороны, он отрекается от всего, даже от жизни. В его словах крайний пессимизм, отчаяние: «Еще не наступило время, когда порядочные люди могут безнаказанно служить родине…»
Но, с другой, он продолжает действовать и бороться. В тот же день 8 термидора идет в Якобинский клуб, чтобы второй раз прочитать свою огромную речь. Зал полон, и его горячо приветствуют. Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа пытаются выступить с оправданиями, но вызывают лишь взрыв яростного негодования. «На гильотину!» — кричат им и силой выталкивают из зала. Здесь господствуют люди, преданные Робеспьеру, председатель Революционного трибунала Дюма, его заместитель Кофиналь, мэр Парижа Флерио-Леско, назначенный вместо Шометта Пейян. Они не только ничего не делают, чтобы успокоить зал, напротив, пытаются внушить идею необходимости восстания против Конвента. Они уговаривают Неподкупного активно действовать против Комитетов. Но Робеспьер колеблется. Многие видят в его нерешительности в роковые дни термидора проявление якобы присущей ему страсти к соблюдению законности. В действительности он давно уже действует наперекор законам. Все его дела и слова за последние месяцы открыто, демонстративно направлены против принципов Декларации прав и конституции. Требования ввести ее в действие он объявляет преступлением. Дело объясняется его постоянной трусостью. Вспомним, как в ходе всех революционных кризисов он скрывался и выжидал. Он человек слова, но не дела.
Успех в Якобинском клубе успокоил его, и он решил, что на его стороне поддержка народа. Но он не учитывал того, что Клуб давно уже перестал быть народным обществом и стал собранием чиновников бюрократического аппарата, созданного им самим. Как раз в эти дни он окончательно терял поддержку народа, не забывшего ни расправы над «бешеными», ни казней Эбера, Шометта, вождей кордельеров. В первые дни термидора арестовали видного руководителя санкюлотов Легре, бывшего военного министра Бушотта. Любимый народом мэр Парижа Паш, смещенный Робеспьером, уже сидел в тюрьме. Каждый день Революционный трибунал отправлял на гильотину в среднем по 50 человек, подавляющее большинство которых составляли бедняки. 5 термидора объявили ставки максимума заработной платы. Рабочие теряли до половины заработка. О народе, о его нуждах, настроениях и заботах Робеспьер, как и раньше, судил по своему квартирохозяину Дюпле. Другого народа он так и не узнал и в лучшем случае пользовался народными движениями для продвижения к власти.
В полночь 8 термидора Робеспьер, довольный своим успехом в Якобинском клубе, спокойно вернулся домой, надеясь завтра добиться законного триумфа в Конвенте, где должен выступить с докладом Сен-Жюст. В крайнем случае, его поддержат Коммуна и Якобинский клуб.
Но многие в эту ночь не спали. Действует Комитет общественного спасения. Он упраздняет главное командование Национальной гвардии Парижа, во главе которого стоит Анрио, человек Робеспьера. Вместо этого создают новую систему: командовать по очереди будут шесть начальников легионов. Национальная гвардия обезглавлена, на случай, если Коммуна попытается использовать ее против Конвента в защиту Робеспьера. Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа (завтра он будет председательствовать в Конвенте) решили действовать там точно так, как с ними поступили только что в Якобинском клубе, откуда они еле унесли ноги. Конечно, Жозеф Фуше в эту ночь хлопочет особенно активно, хотя днем раньше он похоронил свою маленькую дочку. Бешеную активность развернул Тальен, еще один из «проконсулов» в черном списке Робеспьера. Недавно его прекрасную возлюбленную Терезу Кабаррюс по приказу Робеспьера заключили в тюрьму. Он только что получил от нее записку: «Полицейский чиновник объявил мне, что завтра меня отправят в трибунал, то есть на эшафот. Как это не похоже на прекрасный сон, который я видела сегодня: Робеспьера уже нет, а двери тюрьм открыты. Но из-за вашей трусости скоро во Франции не останется никого, кто смог бы это осуществить». Нет, Тальен докажет, что есть еще смелые мужчины и не зря его Тереза получит прозвище «Нотр-Дам де Термидор» — «Божья матерь Термидора».
9 термидора (27 июля) 1794 года в Конвенте происходит небывало драматическое заседание. Много политических сражений выиграл здесь Робеспьер. Но на этот раз он, судя по его вчерашней речи, сам далеко не уверен в успехе. Зато многие другие в зале точно знали, что произойдет, ибо договорились играть определенную роль в предстоящей битве. Виктор Гюго называл 9 термидора «трагедией, завязка которой была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев». Действительно, в конфликте, вызванном Робеспьером, решающая роль выпадет на долю какого-то Тальена! Еще Марат называл его «алчным интриганом, ищущим добычи». Но сегодня именно у Тальена множество союзников, а Робеспьер одинок. Даже Сен-Жюст, всегда выступавший в согласии с волей Неподкупного, на этот раз ведет свою игру. Да и дадут ли ему возможность выложить все козыри? Он успел подготовить свой доклад, и ровно в полдень он на трибуне начинает читать его: «Я не принадлежу ни к какой клике и намерен бороться против любой из них. Они будут действовать до тех пор, пока конституция не поставит им преграды и не подчинит окончательно человеческую гордость господству политической свободы…»
Внезапно его прерывают. К трибуне подбегает Тальен и возбужденно выражает негодование тем, что вчера один член правительства выступал от своего имени, сегодня — второй. Это отражает какие-то раздоры! Тальен требует разорвать завесу, скрывающую их. На трибуну бросается Бийо-Варенн и объявляет, что накануне в Якобинском клубе друзья Робеспьера грозили изгнать из Конвента неугодных им людей. «Пропасть разверзлась под нашими ногами, — кричит Бийо. — Мы должны без колебаний заполнить ее своими трупами или же восторжествовать над изменниками». Неужели не было иного выхода и вопрос стоял так, что либо погибнут Робеспьер и его сторонники, либо их враги? Конечно, ожесточенность конфликта делала примирение очень маловероятным. Робеспьер создал такую атмосферу, когда политические разногласия привыкли решать только кровавым путем террора. И все же компромисс допускался, причем его считал возможным даже такой крайний террорист, как Сен-Жюст. Ему казалось, что существует третий путь. В тексте подготовленного им доклада он пошел на то, что осудил честолюбие Робеспьера и предложил прекратить его диктатуру без насилия и государственного переворота. Он хотел предложить Конвенту декрет, предписывающий «создать такие учреждения, которые, не отнимая у правительства его революционной силы, лишали бы его возможности тяготеть к произволу, покровительствовать честолюбию и угнетать или узурпировать национальное представительство».
Если бы Сен-Жюста не лишили слова, то не исключалось мирное решение, которое вело к прекращению массового террора, к введению в действие республиканской конституции. Но заговорщики сами хотели продолжения террора, предпочитали кровавый конфликт. Поэтому Сен-Жюсту не дали договорить до конца…
На трибуне снова Тальен. Он размахивает обнаженным кинжалом и объявляет, что тиран Франции составил проскрипционный список, но что он готов пронзить своим кинжалом тирана, если у Конвента не хватит мужества вынести против него обвинительный декрет.
Робеспьер поднимается на трибуну, чтобы ответить, но громовый крик едва ли не всех депутатов заглушает его голос: «Долой тирана! Долой тирана!» Тальен требует ареста робеспьериста Анрио, командующего Национальной гвардией, чтобы лишить Робеспьера поддержки за стенами Конвента. Тальен обвиняет «человека, который должен быть защитником угнетенных в Комитете общественного спасения, который должен был находиться на своем посту, но покинул его на четыре декады. И в какое время!.. Когда все спасали отечество, он начал клеветать на Комитет… Именно в то время, когда Робеспьер ведал общей полицией, совершались особые акты жестокости…».
«Это ложь!» — кричит Робеспьер, но никто не слушает. Он снова требует слова, но председатель отказывает. Робеспьер обращается к монтаньярам с призывом защитить свободу трибуны. Но здесь все, буквально все от него отворачиваются. Тогда он взывает к Болоту: «Я обращаюсь к вам, чистые люди Равнины, а не к этим разбойникам!» Естественно, он вспомнил, что обращаться к партии Горы, которую он решил ликвидировать, смешно, и он ищет поддержку у «болотных жаб». Но от них он тоже слышит одни проклятия. Он снова спрашивает Колло д'Эрбуа: «Председатель убийц, ты предоставишь мне слово?» Но вот в председательском кресле его сменяет дантонист Тюрио и заявляет Робеспьеру: «Ты получишь слово только в свою очередь». С ним словно говорит великая тень Дантона. Робеспьер задыхается от негодования. Другой дантонист кричит ему: «Тебя душит кровь Дантона!» Напрягая последние силы, Робеспьер кричит: «Так это за Дантона хотите вы отомстить! Трусы, почему вы не защитили его?» Чудовищный вопрос из уст убийцы Дантона! Робеспьер 11 раз просил слова, уже поднимался на несколько ступенек к трибуне, но тщетно. Каждое его движение только усиливает ярость зала. Видимо, сам Робеспьер поражен столь единодушной ненавистью. Только Сен-Жюст неподвижно, молча стоит у трибуны, скрестив руки, не произнося ни слова, как статуя.
Наконец вносится предложение об обвинительном декрете против Робеспьера. «А я требую смерти!» — кричит Робеспьер. «Ты заслужил ее тысячу раз», — слышит он в ответ. Единогласно принимается решение об аресте Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Огюстен заявляет, что хочет разделить участь брата. К ним присоединяют еще и Леба. Жандармы уводят их в помещение Комитета безопасности.
Теперь решающие действия перемещаются в Ратушу. Не было еще и трех часов, как здесь узнали о том, что произошло в Конвенте и приступили к ответным мерам. Известие об аресте Робеспьера не было полной неожиданностью. Накануне в Якобинском клубе уже обсуждалась возможность нового 31 мая. Руководители Коммуны сами вчера участвовали там в стачке с Бийо-Варенном и Колло д'Эрбуа. Мэр Парижа Флерио-Леско и национальный агент Пейан призвали членов Генерального совета идти в свои секции, трубить сбор всех частей Национальной гвардии, бить в набат. Анрио приказал начальникам легионов прислать к Ратуше по 400 вооруженных людей и канониров с пушками. Однако полной уверенности в том, будет ли выполнен этот приказ, не было. Дело в том, что почти одновременно из Конвента поступило распоряжение не выполнять приказов Анрио.
Если бы Коммуна и секционные организации сохранили такое положение, в каком они находились до конца 1793 года, то дело Конвента можно было бы считать проигранным. Однако сейчас обстановка в городе другая. Робеспьер добился замены старого руководства Коммуны, выбранного народом, назначенными сверху чиновниками. Они были очень исполнительны, но народ их не очень поддерживал. Деятельность секций резко ограничили. Драма Жерминаля, казнь Эбера, Шометта, кордельеров, арест Паша и других вождей санкюлотов подорвали в народе авторитет Неподкупного. Социальные меры в пользу буржуазии, такие действия, как введение максимума на зарплату, вызвали сильное недовольство. Когда 9 термидора загудел набат, в некоторых секциях решили, что идут требовать отмены максимума. Люди устали от террора, внушавшего всеобщее отвращение. Бедняки говорили, что Робеспьер дает слишком много казней и слишком мало хлеба.
В бурных событиях 9 термидора затерялись, отступили на второй план два знаменательных эпизода. С полудня до 4 часов дня на площади перед Ратушей собралась большая толпа рабочих. Они бурно протестовали против снижения зарплаты из-за объявленного 5 термидора максимума. Но Коммуне было не до них и к вечеру они разошлись. Как обычно, в этот день заседал Революционный трибунал. А затем двинулись роковые телеги с осужденными. В Сен-Антуанском предместье, возбужденном противоречивыми слухами о событиях в Конвенте, толпа окружила конвой и попыталась освободить обреченных на смерть. Однако прискакал с отрядом жандармов Анрио и восстановил порядок, который стал ненавистен народу, отвергавшему максимум и бессмысленный террор. То и другое в представлении большинства связывалось с именем Робеспьера. Именно в это время раздаются призывы к восстанию во имя спасения Робеспьера! Смятение, непонимание, растерянность и равнодушие — вот чувства, какие вызвали эти призывы.
И все же привычка, укоренившаяся традиция революционных действий под руководством Коммуны могла повлиять на события. Многое зависело от поведения действующих лиц, а в конечном счете — от народа, от его представителей в секциях. Они оказались перед выбором: Коммуна приказывала направить людей с оружием для борьбы против Конвента. А из Конвента поступил приказ не выполнять распоряжений Коммуны. Четыре начальника легиона из шести сразу же подчинились Конвенту и отказались выполнять приказы Анрио. 32 секции Парижа из 48 решили подчиниться Конвенту. Но 16 командиров батальонов все же послали отряды на Гревскую площадь. Некоторые из них просто не получили никаких указаний из Конвента. Во всяком случае, в 7 часов вечера около Ратуши собралось больше 3 тысяч человек. Это, конечно, не могло идти в сравнение с массовыми порывами прежних исторических выступлений Коммуны, когда по ее призыву собиралось свыше 50 тысяч человек. Зато к Коммуне пришли канониры с 32 пушками. Если учесть, что сначала Конвент охраняла только одна рота, то Коммуна несколько часов имела явный перевес.
Несчастье состояло в том, что Коммуна оказалась беспомощной. Генеральный совет объявил себя в состоянии восстания против «угнетения» Конвента «изменниками», преследующими Робеспьера. Воззвание Генерального совета призвало народ к восстанию, чтобы не дать «погибнуть завоеваниям 10 августа и 31 мая», спасти Робеспьера, «давшего утешительный догмат о существовании Верховного существа и о бессмертии души». Такой призыв ничего не разъяснял, никого не воодушевлял. К тому же его мало кто и знал, ибо напечатать текст просто не успели.
Довершением всех злоключений Коммуны явилась лихорадочная, но бестолковая деятельность ее военного вождя Анрио, бешено скакавшего из конца в конец города. Он успел на протяжении трагического дня не только передавить лошадьми несколько прохожих, но и совершить немало других «подвигов». Сначала он решил освободить Робеспьера и полетел в Комитет безопасности. Однако оказался арестованным сам! Военные «действия» возглавил Коффиналь, бывший врач 32 лет, заместитель председателя трибунала, прославившийся единственной репликой, которую он неизменно говорил каждому подсудимому: «Я лишаю тебя слова». Эти слова стали его прозвищем. Именно он сократил и подделал протоколы процесса Дантона. Но этот соратник Робеспьера действовал по крайней мере энергичнее, чем Анрио.
Поскольку в повстанческом Исполнительном совете не оказалось ни одной политической головы, решили попытаться освободить арестованных вождей. Когда после набата, раздавшегося в 7 часов, на Гревской площади собралось достаточное число сторонников Коммуны, Коффиналь во главе сильной колонны с пушками отправился к Тюильри. Ему удалось освободить Анрио, и два «генерала» стали думать, что делать дальше. Конвент, на который направили стволы 12 орудий, мог легко стать их добычей. Но исход дела решила дисциплина, установленная Робеспьером в Коммуне. У Коффиналя оказался приказ Пейяна, немедленно после освобождения Анрио вернуться в Ратушу, что и было сделано. Триумфатором возвратился Анрио в Коммуну, но там с первого взгляда поняли, что лучше бы он оставался под арестом: генерал был пьян! Тем более необходимым представлялось освобождение Робеспьера и его арестованных друзей. Поскольку их посадили в разные тюрьмы, несколько отрядов устремилось на выполнение этой боевой задачи. Вскоре привели Робеспьера-младшего, затем появился Сен-Жюст, Леба и, наконец, Кутон. Сложнее обстояло дело с Робеспьером-старшим…
А что происходит в другом лагере? Сначала в Конвенте при грохоте пушек подошедшей колонны с артиллерией воцарилась паника. «Граждане, наступил момент умереть на нашем посту», — заявил председательствующий Колло д'Эрбуа. Вскоре, однако, узнали, что пушки, так и не сделав ни выстрела, удалились от Тюильри. Депутаты повеселели. По предложению Фрерона Конвент назначает Барраса командующим Национальной гвардией. Освобождение Коммуной арестованных робеспьеристов послужило поводом принятия декрета, объявившего всех вне закона. Это означало немедленную передачу их в руки палача без суда, после простого удостоверения личности. Решение принимается единогласно и распространяется на членов Коммуны. 12 депутатов в сопровождении жандармов отправляются в разные районы столицы, чтобы немедленно при свете факелов оглашать принятые декреты и объявлять Робеспьера агентом роялистов.
Ярого врага Робеспьера Вадье позже спросили, зачем потребовалась такая явная ложь. Он ответил: «Страх потерять свою голову стимулирует воображение». Новый командующий силами Конвента Баррас сначала решил успокоить депутатов тем, что в случае опасности нападения на Конвент ему можно будет эвакуироваться на высоты Медона близ Парижа. Бийо-Варенн резко возразил: «Необходимо наступать на Ратушу и окружить ее. Не давайте времени Коммуне и Робеспьеру перерезать нас». К Конвенту приходят на помощь все новые отряды из секций. Леонар Бурдон объявляет о желании левых, эбертистских секций участвовать в штурме Ратуши. Рвется в бой секция Гравильеров, жители которой не простили Робеспьеру страшной гибели своего любимого вождя Жака Ру. Во втором часу ночи около четырех тысяч национальных гвардейцев, разделившихся на две колонны, одна под командованием Барраса, а другая — Леонара Бурдона, движутся вдоль Сены и по улице Сент-Оноре к Ратуше. Коммуна не позаботилась даже выставить часовых. Силы Конвента не встречают сопротивления.
Робеспьер уже в Ратуше, хотя до этого и не думал участвовать в восстании. Уже давно его действия носят загадочный, непонятный характер. Казалось, он просто равнодушно плывет по течению, как бы потеряв былую энергию, интерес к исходу борьбы. Ведь, в отличие от 31 мая или 2 июня, он сейчас не видит никаких реальных перспектив. А ведь даже и тогда, когда он решал важнейшие политические задачи Революции, он держался в стороне, выжидая исхода борьбы. Теперь же ему все равно. Лишь вначале он некоторое время уклоняется от участия в восстании против Конвента. Когда его привели в Люксембургскую тюрьму, глава этого заведения отказался принять слишком знаменитого арестованного. Однако Неподкупный сам требует отвести его в камеру: «Я буду защищаться перед трибуналом». Видимо, Максимилиан забыл о своем Прериальском законе, исключающем всякую защиту. Могут обойтись и без этого закона, не мог же он не помнить, как по его же воле поступили с Дантоном.
И все же Робеспьер добился заключения под стражу, хотя и не в Люксембурге, а в полицейском управлении на острове Сите. Сюда к нему приносят послание Коммуны: «Исполнительный комитет нуждается в твоих советах и просит прибыть в Ратушу». Робеспьер отказывается. Через некоторое время приходит вторая делегация. Наконец Максимилиан дает себя уговорить и уступает. Было уже за десять часов вечера, когда его радостно приветствовал мэр Флерио-Леско. В зале Генерального совета Коммуны Робеспьер заявляет: «Народ только что вырвал меня из рук клики, которая хотела моей гибели». Мэр предлагает всем дать клятву умереть за «спасителя свободы». И все с энтузиазмом клянутся, совершенно не сознавая полной безнадежности своего дела. Так велика была еще слепая вера людей в Неподкупного. А он ничего не мог предложить им, кроме возможности разделить его обреченность. Опять начинается фразерство, риторика, без всякой попытки осознания реальных перспектив борьбы, без попытки действовать. Неужели, приняв жребий собственной гибели, он, не дрогнув, готов повлечь за собой в пропасть смерти и других? А ведь он и раньше, особенно на протяжении четырех месяцев своей диктатуры, вовлекал людей в плен гибельной утопии.
До двух часов ночи Робеспьер остается в этом зале и участвует в рассылке приглашений секциям. Он надеется на поддержку якобинцев, так горячо приветствовавших его накануне. Здесь-то его и ожидает главное разочарование. На призыв Коммуны объединиться с ней якобинцы ничего не отвечают. Еще несколько часов назад клуб был полон. Но лишь разнеслась весть о грозном решении Конвента объявить Робеспьера вне закона, в стенах старого монастыря осталось всего несколько человек. Это был полный крах. Во втором часу ночи приходит Лежандр и закрывает Якобинский клуб. В Конвенте он швырнет на стол ключ: «Я закрыл их дверь, теперь ее откроет только добродетель».
Кутон уговаривает Робеспьера подписать воззвание к народу и армии. «От чьего имени?» — спрашивает Робеспьер. Кутон и Сен-Жюст предлагают подписать от имени Конвента: ««Разве мы не составляем его? Остальное — шайка мятежников». Робеспьер не решается, ибо идея, что пять депутатов — Конвент, а остальные несколько сотен — «шайка», не кажется ему убедительной. Он считает разумным подписать от имени народа. Ведь он всегда выступал «от имени народа», хотя народ для него — фикция. Настоящий народ сегодня либо равнодушен, либо открыто враждебен. Неподкупный неуверенно вывел только первые буквы своей подписи и бросил перо. Надежда на реальный, а не на воображаемый народ явно не оправдалась. Даже секция Пик, секция самого Робеспьера, которая в 1792 году послала его своим представителем в Коммуну, не ответила на его призыв. Впрочем, Робеспьер проделывал все как-то механически, подчиняясь своим товарищам. Он никогда не участвовал ни в одном настоящем восстании, сама суть восстания, мятежа, уличного волнения чужда ему, тем более — восстания столь неподготовленного и столь безнадежного. «Нам остается только умереть», — замечает Сен-Жюст. Робеспьер уже сказал то же самое сегодня в Конвенте.
Обстановка напоминает поведение людей внутри тонущего корабля. Многие мечутся, произносят какие-то нелепые слова. В половине второго Ратуша окружена. Стоявшие на площади гвардейцы к полуночи почти все разошлись. Когда появились отряды Конвента, у брошенных пушек оставалось мало канониров. Они немедленно переходят на сторону Конвента. Народ готов защищать Республику, но не Робеспьера. Гвардейцы и жандармы эбертиста Бурдона проникают внутрь Ратуши. «Все потеряно!» — кричит Анрио. Взбешенный Коффиналь хватает командующего и выбрасывает в окно. Но пьяных бог бережет: генерал не разбился, он упал прямо на помойку с мусором. Выбросившийся сам из окна Огюстен Робеспьер сломал себе бедро. Леба застрелился. Сен-Жюст взялся было за кинжал, но остался неподвижен. Кутона с его парализованными ногами сбросили с лестницы. Он ранен.
Многие историки пишут, что в Робеспьера стрелял из пистолета молодой жандарм Мерда, ранив его в челюсть. Сам Мерда в разных вариантах рассказывал о своем «подвиге», что способствовало его карьере. При Наполеоне он будет полковником и бароном, но найдет конец в битве при Бородино. Последние исследования доказывают, что Мерда лгал, в действительности он взял лишь у Робеспьера портфель и часы. Неподкупный пытался покончить с собой, воспользовавшись одним из двух пистолетов Леба. Но, видимо, он вообще стрелял в первый раз в жизни. Сказались неопытность и нервное напряжение, он лишь нанес себе крайне болезненную рану. Всех робеспьеристов, живых, полумертвых и уже мертвых, арестовал эбертист Леонар Бурдон.
В три часа ночи Робеспьера доставили на носилках в Тюильри. Депутатам предложили, если они пожелают, внести его в зал заседаний Конвента. Дантонист Тюрио резко возразил: «Принести в Конвент тело этого человека — это означало бы лишить этот прекрасный день подобающего ему блеска. Труп тирана может распространять только смрад. Место, предназначенное для него и его соучастников — это площадь Революции».
Вот случай, когда уместно вспомнить старую формулу: удар копытом осла.
Победители решили придать казни показательный характер справедливого возмездия. Гильотину перевозят обратно с Тронной заставы на площадь Революции. Это на много часов продлит агонию Робеспьера. Он лежит на столе в приемной Комитета общественного спасения. Около шести часов утра хирург делает ему перевязку, удаляет несколько зубов из раздробленной левой челюсти. В продолжение нескольких часов к Робеспьеру, распростертому на столе, приходят любопытные. Слышны оскорбления, насмешки. Но на некоторых лицах — выражение ужаса перед этой драмой величия и падения. Утром робеспьеристов перевозят в тюрьму Консьержери — прихожую гильотины. Фукье-Тенвиль проводит процедуру опознания.
В половине шестого вечера 10 термидора, или 28 июля по старому «рабскому» стилю, 27 осужденных размещают по телегам. Робеспьер вместе с братом, Кутоном, Сен-Жюстом и Анрио на одной повозке, мертвый Леба лежит на другой. Кроме Сен-Жюста, сохраняющего гордое хладнокровие, у всех ужасный вид. Анрио в одной рубахе, у него выбит глаз. Великолепный костюм Робеспьера, тот самый, в котором он возглавлял праздник по случаю Верховного существа, забрызган кровью, чулки спустились, его знаменитый голубой камзол измят и запачкан, вместо тщательно уложенной, напудренной прически, всклокоченные волосы. Кучерам приказали везти медленно, чтобы народ, запрудивший улицы, мог рассмотреть преступников. Жандармы саблями указывают на Робеспьера, ибо узнать его невозможно. Слышны проклятия. Кричат: «Чертов максимум!» Это голоса рабочих. Повозки двигаются по улице Сент-Оноре мимо дома Дюпле с закрытыми ставнями.
Кутон гильотинирован первым, Робеспьер — предпоследним. Палач предварительно грубо сорвал с его лица повязку (как будто казни недостаточно!). Страшная боль вырвала из горла Максимилиана чудовищный вопль. Все произошло быстро. Только два дня прошло, как Робеспьер сказал: «Я завещаю им ужасную правду и смерть!»
Глава X ПОСЛЕДНИЕ МОНТАНЬЯРЫ
Убийство Марата вызвало взрыв народной любви к Другу народа. Гибель Дантона ужаснула патриотов. Многочисленные друзья оплакивали его. Даже противники трибуна считали, что ушел единственный деятель, способный вывести революцию из тупика. Напротив, казнь Робеспьера встретили с ликованием или с явным чувством облегчения. Он умер одиноким, каким, собственно, и был всегда. Самые близкие люди теперь изображали себя его врагами. Художник Давид еще вечером 8 термидора пылко провозгласил в Якобинском клубе готовность погибнуть вместе с Робеспьером. Но он сразу же отрекся от Неподкупного и 9 термидора даже не явился на заседание Конвента. Сестра Робеспьера Шарлотта попала в тюрьму. Но она быстро получила свободу, подтвердив, что ее брат готовил чудовищный заговор. Так она заслужила специальную пенсию.
Само имя Робеспьера подвергается поношению. Поскольку он действительно оказался узурпатором, охотно верили любой вздорной выдумке о нем, например, о его «планах» женитьбы на дочери Людовика XVI, заключенной в башне Тампль. Сочинили такую эпитафию для его надгробия: «Прохожий, кто бы ты ни был, не печалься над моей судьбой. Ты был бы мертв, когда бы я был живой». Ни этой, ни другой эпитафии не потребовалось. У Неподкупного, как, впрочем, и у других погибших монтаньяров, не будет могилы. Обезглавленные тела всех казненных 10 термидора сбросили в общую яму на кладбище «Эрранси» и засыпали негашеной известью…
Смерть Робеспьера особенно обрадовала санкюлотов, то есть народ, который он почти обожествлял! Вожаки парижской бедноты теперь откровенно высказывали все, что о нем думали. Случайно уцелевший лидер «бешеных» Варле видел в диктатуре Неподкупного «правительство уничтожения нации, социальное чудовище, шедевр макиавеллизма». Гракх Бабеф писал о «Максимилиане злобном», как о воплощении контрреволюции, обвинял Конвент в излишней снисходительности к террористам.
Нетерпеливо торжествовавшие предводители парижской черни вообразили, что 9 термидора произошла «революция». Они объединились в Электоральный клуб, заседавший в Епископате или в секции Музея, и торжествовали победу. В гибели Робеспьера они видели справедливое возмездие, отмщение за казни своих вождей Эбера, Шометта, кордельеров. Сначала никто не сомневался, что революция справедливо покарала того, кто не только не отменил злодейский закон Лe Шапелье против рабочих, но дополнил его жестокими преследованиями зачинщиков рабочих выступлений, кто накануне 9 термидора установил ненавистный максимум на зарплату. Как можно было сомневаться в том, что произошла новая революция, если прах Марата теперь наконец торжественно поместили в Пантеон, чему так противился Робеспьер!
То было жестокое недоразумение, двусмысленность, иллюзия, рассеявшаяся вскоре как дым. Странным казалось прежде всего то, что радость санкюлотов непонятным образом разделяли богачи. А Париж «порядочных людей» поистине ликовал. Суровость нравов, строгость добродетели, насаждавшаяся Робеспьером, сменилась бесшабашным разгулом небывалого праздника. Повсюду танцевали, открылись десятки бальных залов. Мрачная атмосфера террора уступила место веселому легкомыслию. Память о терроре использовали лишь для придания веселью особой остроты, пикантности. Балы устраивали в бывших тюрьмах, на кладбищах. Кому-то пришла в голову идея проведения балов жертв. Здесь веселились либо те, кто лишь случайно избежал гильотины, либо родственники погибших. Очень модно стало являться на такие балы с коротко остриженными сзади волосами, с красными шнурками на шее, изображая жертву гильотины. Теперь они окружены почетом. В самом деле, слишком много среди них оказалось не столько явных врагов Революции, сколько людей не только невиновных, но знаменитых и уважаемых. Но чаще всего на гильотину отправляли безвестных, незаметных, случайно оказавшихся «подозрительными».
Казнь Робеспьера объединила всех — санкюлотов, буржуазию, бывших аристократов. Объединила случайно, на краткие мгновения общим чувством избавления от тяготевшего над всеми страха, от необъяснимого после побед террора. Впрочем, несчастье Робеспьера состояло в том, что он сам выдал тайный смысл массовых казней, когда объявил 26 мая 1794 года, что «во Франции существуют два народа», один из которых, «это масса граждан, чистых, простых», другой — «сброд честолюбцев и интриганов», которые «захватывают трибуны, а часто и общественные должности». Эта «бесстыдная раса», то есть все общественно активные люди не имеют права на существование. То был план массового уничтожения передовой части нации. Для этого потребовался и чудовищный Прериальский закон.
Тогда и проснулось общечеловеческое чувство самосохранения, оказавшееся сильнее всех сословных, имущественных, социальных различий.
Когда Робеспьер говорил о «бесстыдной расе», то речь шла о той самой социальной группе, которая в последующем будет называться интеллигенцией. Ненависть к этим людям Неподкупный декларировал с особой яростью. Ученые, вообще образованные люди, артисты, писатели, поэты, по мнению Робеспьера, должны быть уничтожены. Здесь истоки традиции, которая станет признаком тоталитарных диктатур будущего. Именно по поводу казненного гениального химика Лавуазье была произнесена легендарная фраза: «Революция не нуждается в ученых».
В нетерпеливом устремлении к личной власти Робеспьер забыл, что «бесстыдная раса» образованных людей играла главные роли в новых республиканских учреждениях, в революционных обществах и клубах. После 9 термидора, когда немедленно возрождается свобода печати, множество новых газет дают выход накопившейся ненависти к диктаторской власти, к забвению принципов Декларации прав и общественных идеалов философии Просвещения. Часто писали о возвращении к духу и принципам 1789 года. К идеалу конституционной монархии? Очень скоро пошли и дальше, появились откровенно роялистские газеты, едва скрывавшие ностальгию по Старому порядку.
Тогда-то впервые в политическом лексиконе замелькало слово «реакция». Правда, оно существовало и раньше, но применялось лишь в области физики и химии. Революция и до этого щедро обогащала политический словарь: «правые», «левые», «консерваторы» и т. п.
Жирондисты ввели в употребление термин «массы», которым раньше пользовались тоже физики. В этом нововведении вполне выразилось пренебрежение Жиронды к черни.
И снова горькая ирония истории: термидорианскую реакцию вдохновляют и возглавляют монтаньяры! Разрушение самой передовой и революционной партии революции, которое начал Робеспьер, теперь осуществляют люди, свергнувшие его господство. Правда, в первое время после 9 термидора все осложнялось какой-то невероятной путаницей иллюзий, восторгов, озлобления, все смешалось в этом кровавом круговороте. А ведь он был не таким уж внезапным. Альбер Собуль считает, что «9 термидора означает не разрыв, а только ускорение эволюции». Добавим, эволюции, обнаружившейся ясно с декабря 1794 года и особенно в драме казней жерминаля.
Некоторые из уцелевших членов Комитета общественного спасения, а именно они играли решающую роль в уничтожении Робеспьера и его «охвостья», рассчитывали, что этим дело и ограничится. Барер поспешно заявил в Конвенте, что произошло лишь «частное потрясение, оставившее правительство в неприкосновенности». Он утверждал, что сила Революционного правительства от этого даже возросла стократно, что очищенные Комитеты будут еще энергичнее.
В действительности поразительна та энергия, с какой сразу же начинается ликвидация всей монтаньярской правительственной системы. Быстро разрушаются два столпа этой системы: централизация управления и террор, средство принуждения, на котором она только и держалась в последние месяцы. На другой день после казни Робеспьера Конвент решил, что состав Комитетов отныне будет обновляться каждый месяц на одну четверть. Из Комитета общественного спасения сразу выводят двух монтаньяров, а из Комитета безопасности — троих, слывших робеспьеристами. Кем же их заменяют? Тоже монтаньярами, но такими, которых теперь называют термидорианцами. Это активные руководители переворота 9 термидора: Тальен, Тюрио, Лежандр, Мерлен из Тионвиля. Современники называли их, так же как Фрерона, Барраса, «старыми кордельерами» или даже «дантонистами». Однако они только прикрывались великой тенью Дантона.
Это были ренегаты, окончательно порвавшие с идеалами Горы, спустившиеся с нее. Наиболее циничные из монтаньяров-ренегатов ушли к крайне правым в Конвенте. Конечно, они и мысли не допускали о реставрации Бурбонов, роялисты для них — смертельные враги. Но они не меньше боялись, ненавидели все, в чем проявлялась что-то робеспьеровское. Кровавая диктатура Неподкупного внушила им такой ужас, от которого они не избавятся никогда. К тому же это все люди второго плана. Все самые сильные, мужественные, талантливые сложили свои головы на гильотине. Конечно, нельзя совсем отказывать в способностях и уме Фрерону, Тальену, Баррасу, Бурдону (из Уазы), Мерлену и другим термидорианцам. Такие, как Лежандр, сохраняли в чем-то даже и верность своим убеждениям. Это были разные люди. Некоторые вообще оказались мерзавцами и предателями, разуверившимися во всем. Ужас перед гильотиной так травмировал людей, что они переставали во что-либо верить. Слишком долго и часто они слышали пространные рассуждения Робеспьера о добродетели и видели воочию, что подобные слова лишь маскировка преступления против Революции. Громко провозглашаемая любовь к народу оборачивалась на глазах практической ненавистью к санкюлотам. Они пережили крушение стольких идеалов, иллюзий, надежд и благородных побуждений, что их души оказались опустошенными. Цинизм, расчет, выгода заменили прежние убеждения. Стремление к богатству и к власти составляют отныне все содержание жизни этих бывших монтаньяров. Сначала казалось, что ренегаты преуспели, они становятся членами больших Комитетов. Однако слишком тесно они связали себя с террором и со всем тем, что теперь яростно отвергали. Да и всесильные и грозные Комитеты быстро теряют влияние. Сами монтаньяры разрушают их власть. Конвент охотно одобряет предложение Камбона и ликвидирует господствующую роль Комитета общественного спасения. В его ведении остаются только военные дела и дипломатия. Главное — контроль над судами, полицией, внутренняя администрация переходят к Законодательному комитету. Комитет, внушавший еще недавно трепет, постепенно становится одним из 16 других комитетов. С правительственной централизацией покончено. 26 августа в Конвенте поставлен вопрос об ответственности Барера, Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Вадье, Аиара, Давида за соучастие в «тирании». Бывший член революционной Коммуны 10 августа Мее де ла Туш публикует гневный памфлет «Хвост Робеспьера». Но пока Конвент не решается осудить этих людей. Ведь сам Конвент ежемесячно продлевал полномочия Комитета общественного спасения. Это лишь отсрочка. Во всяком случае, уже через месяц после переворота в Комитете остается из прежнего состава один Карно.
Террористы не могли остаться у власти, поскольку ликвидировали сам террор. Через несколько дней после 9 термидора отменяется пресловутый Прериальский закон Робеспьера. Арестован Фукье-Тенвиль. Революционный трибунал в корне обновлен. Теперь для осуждения необходимо доказать наличие умысла, а это меняет все. Упраздняются революционные комитеты. Открываются двери тюрем, и множество «подозрительных» получают свободу. Среди них больше всего левых, посаженных по подозрению в эбертизме, в том числе таких видных, как бывший военный министр Бушотт или генерал Гош.
В декабре 1794 года перед Революционным трибуналом предстал легендарный «утопитель» Нанта Каррье.
10 термидора он шел за телегой, увозившей на гильотину Робеспьера, и торжествующе кричал: «Смерть тирану!» Теперь он тщетно пытается оправдаться, доказывая, что лишь выполнял решения Конвента: «Здесь все виновны, — восклицал он в Конвенте, — все, вплоть до колокольчика председателя!» 16 декабря Каррье гильотинировали. Итак, террор продолжался, но он изменил окраску: из красного он становится белым. Теперь преследуют левых, объявляя их всех террористами. «Подозрительными» становятся прежде почетные революционные символы: красный колпак, карманьола. Звание «санкюлот» становится бранным словом. Исчезает манера обращения на «ты», вместо республиканского обращения «гражданин» все чаще говорят «мадам» и «месье». Начинаются гонения на бывших наиболее известных якобинцев, которых именуют «кровопийцами», «анархистами».
Вдохновителями этой кампании выступили монтаньяры-ренегаты, прежде всего Фрерон. Существует легенда, что перерождение Фрерона произошло на романтической почве его любви к Люсиль Демулен, казнь которой зажгла в нем смертельную ненависть к Робеспьеру. Действительность проще, грубее: порочный и циничный человек, прославившийся крайним террором и грабежами в Тулоне, просто дрожал за свою шкуру и стремился стереть память о своих подвигах неистовой пропагандой против террористов. Для этого он возобновил издание газеты, хотя в ней попадались и статьи в защиту бедняков. Это он больше других способствовал организации банд золотой молодежи, мюскаденов, собиравшихся в парках и разгуливавших группами по Парижу, выделяясь особыми деталями одежды и тяжелыми дубинками в руках. Мюскаденами стали сынки богатых буржуа, хотя среди них попадались и бывшие крайние революционеры. Вспомним колоритную фигуру маркиза Сент-Юрюга, «генералиссимуса санкюлотов» в 1789 году. Теперь в том же Пале-Рояле он разглагольствует в окружении мюскаденов. Но среди них попадается все больше замаскированных роялистов, которые пока еще тайно начинают возвращаться во Францию. Золотая молодежь бесчинствует в Париже, избивает якобинцев и всех «подозрительных» террористов. Объектом особой ненависти молодцов Фрерона стал Якобинский клуб, который выступал за продолжение террора, за проведение прежнего курса Робеспьера. Такая позиция была только на руку реакции. В ноябре «мюскадены» устроили погром Якобинского клуба, избиение его членов. Под предлогом предотвращения беспорядков Конвент принимает декрет о закрытии знаменитого клуба. Защитников у него не нашлось ни в Париже, ни в провинции. Вслед за тем закрыли и Электоральный клуб «неоэбертистов». С каждым днем реакция приобретала все более контрреволюционный характер. Вместо «Марсельезы» звучит новый гимн термидорианцев «Пробуждение народа», призывавший к расправе над «террористами».
Реакционное поветрие охватывает страну, не встречая реального сопротивления. Ведь Гора в роли прежней самой влиятельной политической силы уже не существует. Правда, основная часть депутатов-монтаньяров не примкнула к ренегатам типа Тальена, Фрерона или Барраса. Она, как тогда говорили, лишь «спустилась с Горы на Равнину», то есть присоединилась к Болоту. Это были «образумившиеся» монтаньяры вроде Камбасереса, будущего крупного сановника Империи или Тибодо, который тоже приспособится при Наполеоне. Кстати, на важных государственных постах в императорской администрации в конечном счете окажется 128 бывших монтаньяров. Друг Робеспьера художник Давид напишет грандиозную помпезную картину коронации императора Наполеона…
Но это дело будущего. Пока же в Конвенте осталось от прежней могучей фракции монтаньяров почти в 300 депутатов только две небольшие группы. Это кучка членов старых правительственных комитетов и примерно три десятка принципиальных людей, республиканцев и демократов, составивших так называемую «вершину» прежней Горы и продолжавших монтаньярскую традицию. В Конвенте совершенно новая расстановка сил. Ожили и энергично выступают недавно еще столь пассивные и робкие люди Болота вроде молчавшего несколько лет Сийеса или Буасси д'Англа, сползавшего к роялизму. Их называли умеренными. Это действительно умеренная контрреволюция, овладевшая наибольшим влиянием в Конвенте, резко усилившаяся за счет присоединения «образумившихся» монтаньяров.
Многие из рядов еще недавно столь могучей когорты Горы, удрученные и растерянные, торжествующие или озлобленные, разочарованные и запутавшиеся, теперь при встречах перестали узнавать друг друга. Такой трагический финал истории монтаньяров — последствия жестокого удара, который еще до 9 термидора нанес им Робеспьер, уничтожив дантонистов и эбертистов. Драма Жерминаля положила конец революционной демократии внутри партии Горы. С тех пор в ней не стало ни борьбы мнений, ни различия позиций, без чего невозможно было выработать общую революционную программу. Господство одного человека, обеспеченное рабским страхом остальных, не могло предотвратить его роковых ошибок, сознательной или бессознательной измены делу Резолюции. Разрушая органическое внутреннее единство монтаньяров, Робеспьер не только не посягал на Болото, но сближался с ним, сохраняя к тому же в резерве (точнее — в тюрьме) 73 жирондиста. Ликвидировав оппозицию внутри партии монтаньяров, Неподкупный одновременно создавал мощную оппозицию вне ее, направленную против самой Революции. Долго так продолжаться не могло, и 9 термидора явилось естественным горьким плодом заблуждений (а может быть, и преступлений?) самого Робеспьера.
Но если докапываться до коренных, объективных причин краха монтаньяров, то они в социальной природе этой группировки, предопределившей ее разрыв с народом, с ее главной опорой. Она была фактически ликвидирована, ибо Робеспьер буквально обезглавил Коммуну Парижа и движение санкюлотов. А ведь только благодаря поддержке этих могучих народных сил монтаньяры, и возвысились до руководства Революцией. А после 9 термидора единая муниципальная организация Парижа вообще упраздняется Конвентом. Монтаньяры-ренегаты требовали даже разрушить, подобно Бастилии, само здание Ратуши! Париж разделили на 12 округов, каждый со своим муниципалитетом. Организующий центр народных сил Парижа, давший монтаньярам власть, перестал существовать. Как тогда говорили, «народ ушел в отставку».
Соблазнительно легко для объяснения всего случившегося сослаться на законы классовой борьбы. Некоторые историки, привлеченные этой универсальной отмычкой, так и поступали, объявляя, например, борьбу жирондистов и монтаньяров борьбой классовой. Но все дело в том, что те и другие представляли один и тот же класс буржуазии. В каждой из этих группировок были очень богатые буржуа, бывшие аристократы или священники, хотя в обеих партиях основную массу составляли адвокаты, люди буржуазии. Подобно ей, жирондисты и монтаньяры скупали национальные имущества и твердо придерживались принципа неприкосновенности частной собственности. Различия между ними носили второстепенный характер. Если жирондисты представляли в основном южные и западные районы Франции, то монтаньяры опирались на Париж и на Север. Они отличались по возрасту, депутаты-жирондисты были в среднем на десять лет старше монтаньяров. Поэтому, видимо, среди них больше состоятельных людей. Главное различие носило политический, интеллектуальный характер. Жирондисты близки к духовной линии Вольтера и энциклопедистов, монтаньяры же склонялись к идеям Руссо. Они более чутко прислушивались к народу, к его требованиям, хотя их социальная программа в основном, в главном никогда так и не выходила из буржуазных рамок. Жирондисты — атеисты, они далеки от религии и, конечно, они совершенно не склонны к религиозным затеям вроде культа Верховного существа Робеспьера. И все же коренных социальных различий не было, две партии разделялись главным образом политически, представляя соответственно оппортунистическое и революционное течения буржуазии. Поэтому-то монтаньяры в своем большинстве накануне и после 9 термидора разделяют позицию всей буржуазии, хотя и с некоторым специфическим своеобразием, объясняемый их политической историей. Решающие военные успехи не оправдывали больше в глазах буржуазии диктатуру Робеспьера и тем более террор. Поэтому монтаньяры вместе со всем Конвентом отреклись от Робеспьера. Монтаньярам неизбежно приходилось отойти на второй план, ибо главное, что выдвинуло их, — необходимость твердого руководства войной — уже не требовалось с прежней настоятельностью к середине 1794 года. Внешние враги революционной Франции сами теперь домогались прекращения войны.
К тому же с монтаньярами связывали замыслы создания более демократической, более эгалитарной буржуазной республики, хотя эти замыслы существовали лишь в форме абстрактного и туманного идеала, в облике морализаторской фразеологии Робеспьера. Но даже и это было для буржуазии совершенно неприемлемо. Исторически преждевременные утопии не представляли, конечно, для нее прямой опасности. Но и терпеть дальше все эти даже иллюзорные поползновения буржуазия больше не желала. Монтаньяры сделали свое дело и теперь должны были уйти с политической сцены. Ведь, действуя на этой сцене, они порой заходили гораздо дальше, чем требовало объективное развитие буржуазной революции. А она неизбежно должна была вернуться в свое русло.
Революционный поток отступает в прежние берега. Это случилось не сразу. Процесс растянулся на 15 месяцев, которые осталось жить Конвенту после 9 термидора. Он происходил неравномерно, рывками, иногда уровень революционного течения снова повышается. Но в конце концов он отступает. Казнь Каррье в декабре 1794 года послужила как бы сигналом резкого усиления такого отступления: буквально на другой день Конвент декретирует возвращение в свои ряды 73 жирондистов, сидевших в тюрьме за протест против изгнания и ареста их вождей 31 мая — 2 июня 1793 года. Решение принимается по докладу монтаньяра Мерлена (из Дуэ). Почему бывшая Гора согласилась воскресить своего смертельного врага — Жиронду?
В действия с образумившихся монтаньяров, видевших теперь в жирондистах своих союзников, нет ни продуманной политики, ни осуществления каких-то принципов, ими движет только страх! Террор настолько травмировал, парализовал их сознание, что они действуют лишь под влиянием инстинкта самосохранения. Если казнили монтаньяра Каррье, то не дойдет ли очередь и до тех, кто еще недавно одобрял зверства этого и других проконсулов? Необходимо любой ценой отмежеваться от террористов. Поэтому монтаньяры голосуют вскоре за судебное расследование деятельности Бийо-Варенна, Колло д’Эрбуа, Амара и Вадье, этих знаменитых помощников Робеспьера.
Союз с жирондистами бывшие монтаньяры считали особенно надежной гарантией своей безопасности. Ясно, что террор может вернуться, если повторятся события 31 мая — 2 июня 1793 года, когда санкюлоты из предместий навязали Конвенту удаление жирондистов и открыли Робеспьеру путь к власти. Необходимо предотвратить такую опасность и кто может энергичнее всех воспрепятствовать ей, как не сами жертвы памятных проскрипций? Умеренные монтаньяры хотели объединиться с жирондистами, чтобы отмежеваться от своего прошлого, когда они ревностно поддерживали террор.
Отныне страх перед возвращением террора будет долгие годы определять судьбу Революции, саму историю Франции. Он станет одним из главных, если не главным постоянным фактором ее развития и деформирует, исказит естественные политические процессы. Этот страх верно послужит реакции.
Как по команде, в январе 1795 года развертывается преследование «террористов», то есть якобинцев и активистов движения санкюлотов. До сих пор это делалось все же осторожно, с оглядкой. Теперь охота на революционеров идет с шумом, наглостью, с дикими воплями. Буржуазная секция Тампль требует от Конвента: «Бейте этих тигров!» Ей вторит секция Монтрей: «Чего вы ждете, почему не очистите землю от этих людоедов?» Сотни бывших революционных комиссаров, особенно тех, кто боролся со спекулянтами, лишаются политических прав, изгоняются из секций. Особенно бесчинствуют банды мюскаденов Фрерона. Группами они совершают «гражданские прогулки», жестоко избивая всех встречных якобинцев и бывших вожаков санкюлотов. Громят кафе, где собирались якобинцы. Обходят многочисленные театры и заставляют актеров петь гимн «Пробуждение народа». Начинается охота на бюсты Марата, стоявшие в общественных местах. Конвент трусливо уступает и принимает решение удалить из зала заседания бюст Марата и знаменитую картину Давида, изображавшую его убитым. А затем с благословения Конвента останки Марата выбрасывают из Пантеона. Издается декрет об аресте Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Вадье. Конвент подчиняется давлению золотой молодежи, среди которой все больше тайно вернувшихся эмигрантов.
Но в Париже реакция все же относительно осторожна. В столице все напоминает о днях ярости и гнева, когда народ взял Бастилию, штурмовал Тюильри, принуждал Конвент считаться с его волей. Хуже обстояло дело в провинции. В Лионе 2 февраля происходят убийства заключенных в тюрьмах. Затем, особенно в мае и другие города Юго-Востока становятся ареной массового уничтожения не только якобинцев, но и вообще патриотов 1789 года, даже тех, кто просто приобретал национальные имущества. Реакция перерастала в кровопролитную контрреволюцию. Белый террор своей зверской сутью намного превзошел террор революционный, который можно если и не оправдать, то понять. Ведь печально знаменитые избиения в тюрьмах Парижа в сентябре 1792 года произошли в атмосфере смертельной опасности, когда иностранные войска по призыву короля и аристократов шли на Париж, грозя ему уничтожением и жестокой карой. Ничего подобного теперь не было. Белый террор выражал только слепую ярость мщения, не оправдываемую ничем, кроме ненависти к революции. Оказалось, что возможно нечто гораздо более отвратительное и ужасное, чем все крайности, все извращения революционного террора.
Трагизм положения состоял и в том, что якобинцев и монтаньяров никто не защищал. Монтаньяр Левассер вспоминал в мемуарах, что «огромное число французов смотрело на нас как на сумасшедших, бесноватых, даже как на злодеев». Он с горечью писал, что народ оставался равнодушным и не вмешивался. Отвращение к террористу добродетели Робеспьеру слишком сильно укоренилось в сознании подавляющего большинства французов. И хотя монтаньяры 9 термидора всем своим поведением отмежевались от террористического помешательства Неподкупного, в массовом сознании, ослепленном хаосом и путаницей послетермидорианской неразберихи, их продолжали отождествлять с ненавистным террором. К несчастью, монтаньяры сами были повинны в своей изоляции от народа, ибо пребывали в растерянности и замешательстве, не предлагая никакой самостоятельной ясной программы, не давая никакого объяснения недавнего прошлого, когда преступления смешивались с моральными абстракциями утопии и мистики нового религиозного культа. Хаотическое, немыслимое смешение принципов, моральных ценностей, трескучих фраз завело их в тупик духовного кризиса.
Простому народу, городским беднякам, санкюлотам Революция принесла много надежд, но еще больше разочарований. Вместо обещанного царства справедливости они видели нищету и голод. Практически, материально бедное население городов жило во время Революции хуже, чем при Старом порядке. Что сделали монтаньяры для народа, находясь у власти? Наиболее серьезной и фактически единственной крупной мерой было введение контроля над ценами на продовольствие, то есть максимума. Но даже и это пришлось вырывать у монтаньяров Конвента самому народу. Применение максимума временами смягчало положение, но в конечном счете оно оставалось тяжелым. Зимой 1795 года народ особенно остро почувствовал результаты экономической и социальной политики монтаньяров. В максимуме разочаровались все, и сами бедняки говорили, что уж лучше его отменить и дождаться изобилия от свободной торговли. Буржуазия, естественно, об этом только и мечтала. В конце декабря максимум отменили, и никто не протестовал. Однако надежды на благотворную стихию свободного рынка и на результаты действительно хорошего урожая 1794 года не оправдались.
Зима оказалась особенно безжалостной. За все столетие Франция не знала таких холодов. Термометр опускался до 18 градусов. Кроме хлеба насущного, пределом мечтаний бедняка становится вязанка дров. Но цена на топливо росла еще быстрее, чем на продукты. Впрочем, к этому времени все подорожало раз в десять по сравнению с ценами 1790 года. Безудержный выпуск ассигнатов вконец подорвал их курс и обесценил эти бумажные деньги. Даже нищие отказывались брать подаяние ассигнатами. Крестьяне не везли продукты в города. К тому же продолжалась война, лошадей не хватало, а реки замерзли. Спекулянты, избавленные от прежних суровых ограничений, от контроля, реквизиций, принудительных займов и прочего, совершенно обнаглели. Голод в парижских предместьях множил случаи смертей от недоедания, самоубийств. Картины нищеты как никогда резко контрастировали с бьющей в глаза роскошью буржуазии. Стоявшие долгими часами в очередях за полфунтом хлеба бедняки видели, как из ресторанов или танцевальных залов поздно ночью расходится разодетая, сытая, веселая «порядочная» публика. Новая буржуазия, разбогатевшая в условиях революционной экономической неразберихи, цинично демонстрировала свои богатства, роскошь, соперничая в экстравагантном разгуле и разврате. Тон задавали богатые женщины с их роскошными салонами, где герои биржи кутили вместе с политиками-проходимцами вроде Тальена. Освобожденная из тюрьмы Тереза Каббарюс стала его официальной женой, держала роскошный салон и бесстыдно предавалась вакханалии. Это она ввела новую моду женского платья на античный манер, дававшую возможность выглядеть как бы одетой, будучи практически голой.
На фоне ужасающего голода и нищеты все это приобретало вызывающе разнузданный облик. Естественно, ренегаты-монтаньяры, погрязшие в коррупции, и не задумывались о том, чтобы разработать и предложить хоть какую-то программу борьбы с нищетой. «Образумившиеся» монтаньяры, слившиеся с Болотом и составлявшие теперь термидорианское «умеренное» большинство в Конвенте, не имели какой-то своей политики. Но даже и монтаньяры «вершины», пребывавшие в тревоге за свою политическую судьбу, не предприняли ничего для сближения с народом хотя бы на основе мер по преодолению голода.
Термидорианский Конвент не игнорировал полностью продовольственный кризис, пытаясь смягчить его полумерами. Поддерживали низкие цены на нормируемый хлеб. Однако норма его выдачи сократилась с двух фунтов до полуфунта к марту 1795 года. Но все чаще, простояв ночь в «хвосте» у булочной, люди вообще ничего не получали. Очереди, состоявшие в основном из женщин, превращались в бурные, гневные митинги, где раздавались угрозы Конвенту. Нельзя сказать, чтобы он ничего не предпринимал. В прилегающих к столице сельских районах ввели даже принудительный хлебный заем. Владельцев зерна и муки заставляли сдавать излишки. Увеличивались закупки хлеба за границей. Но все это не давало заметных результатов. Ведь в конце концов, голод предопределялся многими объективными причинами. Одна из них, например, состояла в том, что деревня, освобожденная от феодального налогового гнета, стала значительно больше потреблять сама и меньше продавать.
Голод обострял и ускорял изменения в политическом сознании народа. Ремесленники, мелкие торговцы, рабочие, служившие раньше опорой Клуба кордельеров, останетесь дезориентированы до весны 1795 года. Они вслед за Варле, Легре, Бабефом первое время после 9 термидора радовались уничтожению террористической бюрократии Робеспьера. При этом, однако, они сохраняли, особенно в секциях Гравильеров и Кэнз — Вэн, прежние революционные традиции Парижа. Поэтому они довольно скоро разобрались в социальной природе термидорианцев и ренегатов-монтаньяров. Поняли, насколько преждевременной и наивной оказалась их радость по поводу краха Робеспьера, хотя отрицательное отношение к террору у них сохранилось. Тяжелая зима как бы прояснила сознание народа. И вот уже в январе Бабеф выступает с самокритикой, осуждая свой восторг по поводу 9 термидора. Теперь снова, даже еще более резко, проявляется постоянное противостояние буржуазии и народа, которое лишь временно заслонялось общим для всех отвращением к террору. Так назревали события 12 жерминаля (1 апреля 1795 года).
Франсуа Фюре и Дени Рише, авторы самой, пожалуй, интересной новой работы последних десятилетий о Французской революции, пишут, что «день 12 жерминаля III года был бледной карикатурой великих революционных дней 1792 и 1793 годов».
Несправедливость такого суждения не позволяет оставить его без внимания. В действительности именно в событиях Жерминаля проявился великолепный народный дух всей Французской революции. Народ, смелый, великодушный, доверчивый и наивный, сохранил революционный энтузиазм, в то время как интеллигентные буржуазные лидеры его уже утратили. В так называемые «великие дни» у народа были вожди, руководители, игравшие, казалось, столь важную роль, что без них народ не смог бы сделать ничего. Но теперь уже не было ни Дантона, ни Марата, не было Шометта, Эбера, Венсана или Вестермана, не было многих других народных вожаков и командиров, уничтоженных Робеспьером. Лишенный всякого руководства (деятельность случайно уцелевших Варле и Добсана оказалась малоэффективной), народ действовал совершенно самостоятельно. Поразительно, но доведенный муками голода до отчаянного положения, народ требовал не только хлеба, но и свободы. Он, вопреки всем горьким разочарованиям, сохранил веру в Революцию! Его требование ввести в действие Конституцию 1793 года — главный смысл Жерминаля. «Бледной карикатурой» выглядел не Жерминаль, не народное движение, а поведение монтаньяров «вершины», у которых в эти апрельские дни не хватило ни ума, ни мужества, чтобы попытаться использовать свой последний шанс в Революции. Народ же показал способность к самостоятельной революционной инициативе без указаний всяких болтливых адвокатов вроде Робеспьера или даже великого Дантона. Несмотря на свою неудачу, народ доказал, что он представляет собой главную, глубинную силу Революции, саму ее бессмертную душу.
Народное восстание не было неожиданностью. Дело не в том, что появились анонимные афиши, призывавшие народ пробудиться; такие призывы постоянно облепляли стены домов. О надвигающихся событиях больше говорили бурные сборища вокруг очередей за хлебом. 1 жерминаля (21 марта) женщины Сент-Антуанского предместья побудили представителей трех секций отправиться в Конвент, чтобы требовать Конституции 1793 года и мер против голода. Однако у Пале-Рояля и Тюильри им преградили путь банды золотой молодежи. Прошло несколько дней, и начались волнения в секции Гравильеров. 10 жерминаля бурлили еще несколько восточных секций, требуя хлеба, демократической конституции, возобновления деятельности народных обществ. Заседали и в западных буржуазных секциях. Но здесь добивались не хлеба, но расправы с бывшими членами комитетов Барером, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенном и Вадье, процесс которых Конвент уже начал.
Правительственные комитеты, да и весь Конвент, чувствуют себя неуверенно. Лихорадочно укрепляют «надежные» батальоны Национальной гвардии, раздают оружие «порядочным» людям. Принимают закон, угрожающий смертной казнью тому, кто будет угрожать национальному представительству. 11-го вечером отдается приказ буржуазным секциям выделить на другой день отряды по 150 человек, а бандам мюскаденов — быть в боевой готовности.
12 жерминаля с утра снова по инициативе женщин на острове Сите у Нотр-Дам собираются санкюлоты. В соборе торопливо совещаются и решают идти в Конвент. По пути к колоннам присоединяется много строительных рабочих. Это мирное шествие, народ идет без оружия. Между 1 и 2 часами взламывают ворота Тюильри. Банды золотой молодежи, возглавляемые Тальеном и Дюмоном, пытаются преградить путь, но они сметены и отброшены.
Передовая часть демонстрантов, общее число которых превышало 10 тысяч, заполняет зал заседаний Конвента, криками прерывая Буасси д'Англа, выступавшего с докладом о продовольственном снабжении столицы. На протяжении четырех часов в Конвенте стоит невообразимый шум. Непрерывно раздаются крики. Часто повторяющимся рефреном звучит требование хлеба. Председатель уговорил наконец непрошеных гостей выделить оратора, который изложил бы требования народа. Его речь хорошо передает смысл происходящего:
«Граждане представители! Вы видите перед собой людей 14 июля, 10 августа, а также 31 мая. Пора, чтобы народ перестал быть жертвой богачей и крупных торговцев; пора, чтобы в этом зале царил мир, — благо народа ставит вам это в обязанность. Перед вами здесь не фрероновская молодежь, но масса чистых патриотов, которые не затем разрушили Бастилию, чтобы позволить возводить новые, предназначенные ввергнуть в оковы энергичных республиканцев. Что сталось с нашими урожаями? Где хлеб, собранный на нашей земле? Ассигнации потеряли свою ценность».
Представитель манифестантов специально обращается к монтаньярам: «А ты, священная Гора, разразись, прогреми громом, рассей тучи, раздави своих врагов: люди 10 августа и 31 мая тут, чтобы оказать тебе поддержку. Мы требуем у вас освобождения патриотов, заключенных в тюрьму…»
Как же ответила Гора, вернее оставшаяся от нее «вершина» на этот трогательный призыв? Выступило несколько монтаньяров (Приер, Шудье, Дюем и другие). Все они обещали, что Конвент постарается удовлетворить просьбы народа и уговаривали его разойтись! Монтаньяры колебались, они были застигнуты врасплох и хотя все знали о намерении санкюлотов явиться в Конвент, ничего не было предусмотрено и упущена неожиданная возможность опереться на народ. Левассер пишет в мемуарах: «Мы не хотели жертвовать своими головами, хотя готовы были пойти на риск, если бы были шансы на успех». В момент, когда большинство правых депутатов бежало из зала, монтаньяры в присутствии народа могли бы добиться принятия какого-либо серьезного декрета, провести какое-то радикальное решение. Но они не сделали ничего! Левассер пишет, что он предлагал своим товарищам действовать, но те отказались и что якобы он крикнул им: «Какие вы трусы!»
Трудно сказать, произошло ли так в действительности.
Однако приведенная оценка поведения монтаньяров «вершины» («трусы») совершенно верна. Между тем время шло. К дворцу Тюильри подходили отряды буржуазной Национальной гвардии, солдаты и мюскадены, последних возглавлял наш старый знакомый, мясник Лежандр. Теперь он был на стороне термидорианцев. В 6 часов вечера народ вышвырнули из зала заседаний, куда стали возвращаться сбежавшие правые депутаты.
И тогда разыгралась сцена ярости и гнева против виновников «заговора». Ими оказались монтаньяры «вершины», не имевшие никакого отношения к народному выступлению 12 жерминаля, если не считать того, что они помогали это движение укротить. Все фракции, все течения буржуазного Конвента объединились. Бывший монтаньяр Тибодо восклицал: «Время слабости прошло… Я не стану искать виновников нынешнего движения в Англии, среди меньшинства дворянства, среди фейянов. Вот где меньшинство, устраивающее заговоры». И под одобрительные крики он указал на депутатов «вершины». Термидорианское большинство спешило закрепить свой успех. Принимается решение о немедленной ссылке без суда в Гвиану членов робеспьеровских комитетов Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Барера и Вадье. Последний, впрочем, сумел бежать. Затем декретируется арест восьми депутатов-монтаньяров. Уже в полночь Париж объявили на осадном положении и назначили главнокомандующим генерала Пишегрю.
Это было только начало. Через три дня принимается декрет об аресте еще восьми монтаньяров, среди которых оказались Камбон, Тюрио и Лекуантр. 21 жерминаля (10 апреля) решили разоружить «всех лиц, известных своим соучастием в преступлениях тирании, существовавшей до 9 термидора». 1600 активистов левых секций были затронуты этой мерой. Их лишили также всех гражданских прав. Как вели себя депутаты — монтаньяры «вершины», которых не подвергли аресту? Они послушно голосовали за арест своих товарищей!
Однако несправедливо было бы объяснять поведение монтаньяров «вершины» просто трусостью. Среди них были люди, которые еще покажут себя бесстрашными героями. Трагизм их положения состоял в том, что репрессии против монтаньяров в жерминале объяснялись как прямое продолжение дела 9 термидора. И в этом были убеждены почти все французы. Разве Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа или Вадье не были активными соучастниками Робеспьера в политике террора? Монтаньяры «вершины» презирали своих бывших товарищей, ставших ренегатами и вступившими в открытый союз с реакцией. Однако в результате устранения Робеспьера были восстановлены права и свободы, Декларация прав человека вновь стала действующим главным законом. Правда, правами и свободами, особенно свободой печати, воспользовались прежде всего реакционеры. Постичь сразу всю сложность этой противоречивой, хаотической обстановки было невозможно. Смятение умов из-за непостижимой сложности событий было едва ли не главной чертой послетермидорианского хаоса, в котором прекрасно чувствовали себя лишь циничные проходимцы.
Так, некоторые из термидорианцев поняли, что репрессии необходимо уравновесить мерами против роялистов и 1 мая предложили декрет против эмигрантов и неприсягнувших священников. Однако никаких серьезных мер по борьбе с голодом не приняли, и положение парижской бедноты становилось совершенно катастрофическим. Хлеба вообще не стало, и людям начали выдавать по горсти риса, который в довершение всего никто не умел варить. Обострение голода в столице не могло не вызвать нового народного движения. Нелегально собираются запрещенные собрания секций. Распространяется анонимный памфлет под названием: «Восстание народа даст хлеб и обеспечит его права». Намечалась новая, более смелая программа: введение в действие конституции, арест термидорианского правительства, освобождение патриотов, проведение новых выборов. Предлагалась и более решительная тактика: новый поход на Конвент будет предпринят с оружием в руках!
1 прериаля (20 мая) на рассвете набат разбудил предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо. Голодные и озлобленные обитатели этих кварталов просыпались не для своих обычных будничных дел и забот; сегодня они должны решить их окончательно и не так как это было в жерминале. Правда, и на этот раз все начиналось также: сначала собрались толпы женщин и начали призывать мужчин идти на Конвент. Но теперь позаботились об оружии; появились ружья, сабли, пики и даже пушки. Хотя никакого общего повстанческого комитета не было, избрали командиров батальонов. Несколько часов ушло на то, чтобы придать движению хотя бы некоторую организованность. Только в час дня предместья двинулись к центру, где к ним присоединились отряды, а вернее, толпы — вооруженных людей из секций Гравильеров, Арсенала и Арси. На шляпах и на карманьолах у многих виднелись надписи мелом: «Хлеба или смерть!», «Хлеба и Конституции!»
Конвент начал заседания в 11 часов, когда на трибунах уже находились женщины из предместий. Сначала объявили вне закона «главарей толпы» и призвали к оружию «всех добрых граждан». Правительственные комитеты, заседавшие неподалеку в отеле Брион, около часу дня отдали приказ частям регулярной армии, окружавшим Париж, собраться в лагере Саблон и привести в боевую готовность батальоны Национальной гвардии. Почему сразу им не дали команду идти на защиту Конвента? Термидорианцы колебались, они не доверяли Национальной гвардии. Во многих батальонах действительно было неблагополучно. Если командиры рвались защищать Конвент, то многие рядовые на своих шляпах сделали мятежные надписи.
Первая небольшая группа восставших была отброшена от Конвента. Но в половине четвертого, когда подошли главные силы, Конвент легко захватили восставшие. Депутата Феро, пытавшегося в дверях остановить мятежников, застрелили из пистолета, его голову отрезали и насадили на пику, которую носили среди окружившей Тюильри вооруженной толпы, а в 7 часов поднесли к самому носу председательствовавшего на заседании Буасси д'Англа. Большинство депутатов покинули зал, остались лишь монтаньяры «вершины» и еще десятка два случайно задержавшихся в зале, заполненном вооруженными людьми. Несколько часов стоял невообразимый шум, все кричали, кое-кто громко зачитывал с трибуны петиции и памфлеты. О захвате власти, о правительственных комитетах не думали, а те собрали в это время верные Конвенту войска. Около 9 часов вечера повстанцы потребовали, чтобы депутаты возобновили свое заседание и занялись их требованиями. Поскольку правительственные комитеты не подавали никаких признаков жизни, создавалось впечатление, что восставшие победили. И вот тогда монтаньяры «вершины» решились выступить, чтобы не повторять ошибок жерминаля, когда их нейтральная позиция не помешала термидорианцам обрушить затем на их товарищей репрессии. Никакого заранее принятого плана действий не было; монтаньяры предприняли своего рода импровизацию, движимые сочувствием к голодающему народу. К тому же распространенные среди них взгляды включали теорию законности восстания против парламентского представительного органа; они считали, что полномочия его депутатов утрачивают силу в присутствии самого «суверенного народа», который может принимать законы. Поэтому их не смутило отсутствие подавляющего числа депутатов и они решили провести серию радикальных декретов. Шильбер Ромм, выступивший первым, предложил прежде всего утвердить неотложные меры по снабжению народа продовольствием (учет хлебных запасов в Париже и во всей Франции, выпечка хлеба только одного простого сорта, срочные меры по доставке продовольствия в столицу и т. д.). Он предложил также декрет об освобождении арестованных патриотов, о созыве и непрерывности заседаний парижских секций, о предоставлении им прежних прав для организации борьбы с голодом. Монтаньяр Дюруа активно поддержал предложение об освобождении арестованных после 9 термидора и в жерминальские дни патриотов. Все эти предложения встретили горячее одобрение.
Затем монтаньяр Гужон заявил, что нужна власть, которая взяла бы на себя исполнение принятых декретов. Он поддержал предложение своего коллеги Субрани о создании чрезвычайной комиссии из четырех лиц, об обновлении состава правительственных комитетов. Монтаньяр Бурботт потребовал ареста роялистских журналистов, которые, по его мнению, обманывают читателей. Он предложил также отменить смертную казнь, оставив ее только для убийц, эмигрантов и фальшивомонетчиков. Это предложение любопытно тем, что опровергает термидорианскую версию о том, что монтаньяры «вершины» были «охвостьем Робеспьера» и пытались восстановить кровавую диктатуру террора. В действительности они были наиболее независимы в своих взглядах. Убежденные демократы и республиканцы, они во многом расходились с Робеспьером еще в пору его безраздельной власти.
Поскольку речь шла об уничтожении правительственных комитетов и прежде всего Комитета общественного спасения, об учреждении власти комиссии четырех, то можно считать, что монтаньяры попытались, опираясь на народное восстание, осуществить государственный переворот. Однако эта попытка оказалась еще менее подготовленной и организованной, чем само довольно сумбурное, стихийное прериальское восстание. Во всем происходившем было очень много эмоций и совсем не было тактического расчета. Главное же несчастье состояло в отсутствии какой-либо практической организационной связи между восстанием народа и экспромтом монтаньяров.
В половине двенадцатого раздалась громкая барабанная дробь. Во все двери зала заседаний Конвента ворвались верные термидорианцам гвардейцы. После короткой попытки сопротивления восставшие разбежались. Вернувшиеся депутаты немедленно приняли декрет об аресте 14 депутатов-монтаньяров.
Однако на другой день восстание продолжалось. Санкюлоты захватили здание Ратуши, а затем двинулись к Конвенту. Они направили пушки на Тюильри. Его защитники во главе с генералом Дюбуа насчитывали в своих рядах 40 тысяч человек. Однако их канониры перешли на сторону восставших. К ним присоединились и жандармы.
Председательствующий в Конвенте Лежандр в отчаянии заявил, что депутатам остается лишь ждать смерти. Термидорианцев спасли неорганизованность, беспечность и доверчивость бойцов из предместий. Они поверили десяти депутатам, которые пообещали решить вопрос с продовольствием и даже с Конституцией 1793 года. Народ воспринял всерьез комедию братания и с наступлением ночи мирно вернулся в свои секции. Победили восставших не оружием, а ложью. Народ не смог выдвинуть политических руководителей и ему, как говорили санкюлоты, «задурили голову речами».
Разыгрывая комедию «братания», власти спешно созывали «добрых граждан» и создали специальные надежные буржуазные отряды во главе с генералом Мену. В ночь с 3 на 4 прериаля захваченное врасплох предместье Сент-Антуан покорилось. Немедленно начались репрессии. Арестовали еще нескольких депутатов, на этот раз бывших членов старых комитетов. Исключение сделали лишь для Карно как «организатора победы». 13 прериаля арестованы бывшие комиссары Конвента. Суровой чистке подверглись парижские секции: 1200 человек арестовали, 1700 других — «разоружены», их лишили оружия, что автоматически означало и лишение всех гражданских прав. Создали военную комиссию, фактический трибунал. Он вынес 76 приговоров участникам Прериаля, из которых 36 смертных. На смерть осудили 18 жандармов, перешедших на сторону восставших, пятерых руководителей восстания. 17 июня 1795 года к смертной казни приговорили шесть депутатов-монтаньяров. Это были представители «вершины» Горы, присоединившиеся к восстанию: Дюкенуа, Гужон, Ромм, Бурботт, Дюруа и Субрани.
Гибель этих людей — «последних монтаньяров», «мучеников Прериаля» — явилась трагическим и величественным финалом истории монтаньяров. Перепуганные термидорианцы уже на другой день отправили их в Бретань — западную оконечность Франции. В море, недалеко от побережья этого полуострова (два часа ходу на лодке), на скале находилась старинная крепость Торо. В казематах этого мрачного сооружения спрятали «последних монтаньяров» до тех пор, пока не подготовили все для расправы над ними с помощью комедии военного суда. Подсудимые держались мужественно и достойно. Они знали, что их ждет, но никто из этих истинных героев ни от чего не отрекся, не дрогнул, не унизился до мольбы о пощаде. Их мысли и чувства, общие для всей этой когорты подлинных рыцарей Революции, Гужон выразил в своем последнем письме к родным, в котором писал, что он «рад умереть за конституцию равенства». «Я поклялся ее защищать, — заявлял Гужон, — и за нее погибнуть; я умираю, радуясь, что не изменил своей клятве».
Сходные чувства и мысли выражали и другие «последние монтаньяры». Дюкенуа в предсмертном письме к жене хочет, чтобы его кровь «навсегда скрепила свободу и равенство». Он просит воспитать его детей в республиканских чувствах и заканчивает словами: «Да здравствует демократическая республика!»
Приговор был предрешен, и монтаньяры в едином порыве решили сделать все, чтобы умереть не от руки палача. Когда им предоставили последнее свидание с родными, то Гужон сумел убедить близких оказать ему и его товарищам последнюю роковую услугу. Мать пришла к нему с двумя другими своими сыновьями и младший из них, 11-летний Антуан, которого не стали обыскивать, сумел передать Гужону длинный острый нож с черной рукояткой.
Подсудимым объявили приговор и поместили в специальной комнате, откуда их с минуты на минуту должны были отвезти на гильотину. Тогда-то Гужон выхватил нож и вонзил его себе в грудь. Затем Ромм выдернул нож из тела мертвого и тоже заколол себя. Дюкенуа сделал то же самое и нашел силы, чтобы самому выдернуть лезвие из раны и передал его, умирая, Дюруа. Тот, в свою очередь, вонзил в себя кинжал, но остался живым; не удалось сразу умереть Бурботту. Поразивший себя Субрани скончался лишь в телеге по пути, и его обезглавили уже мертвого. Казнены были уже тяжело раненные Субрани и Бурботт, который в последние секунды сказал: «Я умираю невинным и хочу, чтобы Республика благоденствовала».
Своим поистине римским мужеством «последние монтаньяры» потрясли даже своих врагов. Они спасли честь и славу Горы, которую скомпрометировали ренегаты, перерожденцы и трусливые попутчики. Что побудило их примкнуть к восставшему народу и отчаянно безрассудно попытаться возглавить стихийное движение, явно не сулившее успеха? В этом отважном порыве меньше всего трезвого расчета. Великодушные, благородные чувства, а не холодный рассудок направляли их действия. Придется расстаться с классовым подходом: в социальном происхождении «последних монтаньяров» трудно обнаружить близость с санкюлотами. Это образованные люди явно далеки всем образом жизни, мысли, культуры от малограмотных санкюлотов. Зато в них сильно чувство долга перед страдающим народом. Возвышенный идеализм революционеров побуждал их пойти на помощь бедняку.
Гужон, самый молодой из них (29 лет), интеллигент и поэт, пылкий, обаятельный человек. В Конвенте он заседал мало, почти все время проводил в миссиях, энергично организуя победу революционных армий. Также действовал и Бурботт (32 года), который прославился подвигами в Вандее и на фронтах. Прямодушный, смелый, бескорыстный, он снискал особую любовь исключительной мягкостью характера. Именно он предложил 1 прериаля отменить смертную казнь. Обаятельнейшим человеком был Жильбер Ромм (45 лет). Широкообразованный ученый и мыслитель, трудолюбивый и скромный, он предъявлял к людям высокие нравственные требования. До революции он прожил пять лет в России, где служил воспитателем молодого графа Строганова, вращался в высших кругах русской аристократии, встречался и беседовал с Екатериной II. В Конвенте Ромм принадлежал к монтаньярам-труженикам, редко появлявшимся на трибуне и проводившим все время либо в миссиях по борьбе с контрреволюцией, либо в кропотливой законодательной работе. Он остро сознавал исторический долг Революции перед народом, сделавшим для нее так много и получившим так мало. Субрани (42 года), близкий друг Ромма, выходец из старинной знати, бывший королевский офицер, Дюкенуа, монах до Революции, покинувший монастырь для беззаветного служения Революции, адвокат Дюруа; были по своим качествам достойны своих героических товарищей. Они вошли в историю как «последние» из монтаньяров, хотя к моменту роспуска Конвента в нем еще было полтора десятка человек «вершины». Время от времени в их деятельности будут сказываться традиции, дух и принципы прежней самой передовой партии Революции.
После Прериаля осколки монтаньяров — объект гонений и преследований. Новое термидорианское большинство подвергает их более грубой и незаконной проскрипции, чем та, которой подверглись жирондисты в конце мая — начале июня 1793 года. Жирондисты сами подготовили тогда свой конец. Их изгнали из Конвента по требованию революционного народа. Монтаньяры же оказались жертвой реакции. Их уход с политической сцены предвещал закат Революции, деградацию Конвента, устранение народа от воздействия на ход Революции. Правда, даже термидорианское большинство вынуждено единовременно вести борьбу против обнаглевших роялистов. Оно разгромило роялистский десант, высадившийся на полуострове Киберон летом 1795 года и беспощадно расправилось с эмигрантами. Осенью в Париже подавлено роялистское восстание. Но главным врагом для доживавшего последние дни Конвента оставались монтаньяры, воплощавшие идею демократической республики. Взамен разрабатывается новая конституция, учредившая режим Директории, так называемую республику нотаблей, богатых буржуа. Конституция 1795 года оказалась большим шагом назад даже по сравнению с Конституцией 1791 года.
Почему буржуазия не смогла создать устойчивую либеральную систему, способную закрепить ее господство? Разве у нее не хватало юридических государственных умов вроде Сийеса? Кто им мешал после того, как устранили монтаньяров, а разоруженных санкюлотов загнали в их мрачные предместья? Причин множество: война, ее нужды и последствия; экономическое и финансовое расстройство; соперничество людей и кланов. Но была еще одна, возможно главная: над ними витала, вызывая ужас, тень Робеспьера! Жили в страхе перед призраком террора, больше всего боялись его возрождения…
Победившая буржуазия, даже долгое время спустя после термидора, оставалась смертельно напуганной. Она готова на все, лишь бы был обеспечен «порядок», который охранял бы ее богатства от народа с его «аграрным законом», от Старого порядка с его феодализмом. Ради «порядка» отказываются от демократических завоеваний революции и соглашаются в конце концов даже на военную деспотию. Так появляется, по словам русского историка В. О. Ключевского, «Наполеон, игравший в реакционном эпилоге революции роль хохочущего Мефистофеля».
Вольтер 2 апреля 1764 года, предсказывая приближение Революции, радуясь этому и завидуя ее участникам и свидетелям, писал: «Все, что я вижу, сеет семена революции, которая настанет неминуемо. Но я буду лишен удовольствия быть ее свидетелем… Просвещение мало-помалу распространилось до такой степени, что взрыв ее последует при первом удобном случае, и тогда будет славная возня. Счастливая молодежь, она увидит хорошие вещи».
В главном Вольтер прав. Но Революция принесла не только «хорошие вещи». В их числе был сначала неизбежный и естественный террор.
Когда участники штурма Бастилии ворвались в крепость, превращенную в тюрьму, они обнаружили в застенках семь человек. В последние месяцы диктатуры Робеспьера в тюрьмах только в Париже содержалось более восьми тысяч заключенных. Ежедневно около полусотни из них отправлялось на гильотину. Кем были эти Люди? Из 40 тысяч казненных во время Революции 85 процентов — представители третьего сословия, 60 процентов — рабочие, крестьяне, ремесленники. Среди казненных оказалось лишь 8,5 процента дворян и 6,5 процента священников. Санкюлоты требовали казней виновников голода, скупщиков и спекулянтов. Их набралось менее одного процента (0,12) казненных.
Итак, чаще всего казнили бедняков. Никакого снисхождения не проявлялось к женщинам, старухам, беременным, кормящим матерям. Случались и казни детей. Очень часто бедняков отправляли на эшафот за участие в религиозных службах, совершавшихся неприсягнувшими священниками, или за словесное выражение традиционных наивных монархических чувств. Бессвязная болтовня пьяных — нередкий мотив обвинения. Личная неприязнь соседа, мелкая обида, житейская ссора толкали нечестных людей на лживый донос. Это кончалось эшафотом. Казнили родственников, просто знакомых действительно виновных людей. Жертвами оказывались бывшие слуги дворян. Много выдающихся ученых, писателей, таких, как химик Лавуазье или поэт Андре Шенье, погибли на эшафоте.
Служитель тюрьмы Плесси рассказывал, как однажды он явился к Фукье-Тенвилю, отдыхавшему после утомительного многочасового заседания Революционного трибунала. Он просил список осужденных на завтрашний день. Утомленный Фукье ответил: «Повидайтесь с моим секретарем. Я желаю только, чтобы было 60 человек, все равно каких, пусть он подберет». Этот обвинитель трибунала известен как совершенно бессовестный человек, но осторожный и хитрый. Поэтому он всегда действовал строго в рамках полученных им инструкций. Впрочем, Прериальский закон был сам по себе инструкцией, предписывавшей предельную бесчеловечность.
В Париже все же соблюдалась какая-то видимость судопроизводства. В провинции «проконсулы» творили что-то неописуемое, вроде утоплений в Нанте и казней «молнией» из картечи в Лионе.
…Может быть, хватит распространяться о терроре, об этих мрачных картинах Революции? Нет, напоминать о них, как это ни грустно, необходимо. Нельзя не противопоставить трезвый взгляд распространенной «революционной» мифологии, по которой Революция — это что-то вроде праздника, подобие какой-то радостной прекрасной церемонии, проходящей под звуки бодрых гимнов и маршей. В действительности революция — это кровь, муки, ужас, бедствия и страдания. Только такой ценой добиваются свободы и торжества справедливости. Кроме сознательного творчества, в Революции всегда действует нечто стихийное, роковое, страшное. Насколько трагичной оказалась жизнь многих, в сущности прекрасных, одаренных, смелых людей в эпопее Великой французской революции! Великий гуманист Жан Жорес с искренней сердечной болью писал о деятелях этой революции: «Сколь жестока была судьба, заставившая вас узнать горький вкус крови, вас, стремившихся к справедливости и любивших человечество! История сделала вас жрецами, совершившими жертвоприношение, и обрекла на казнь вас самих. Революция — варварская форма прогресса. Какой бы благородной, плодотворной, необходимой ни была революция, она всегда относится к более низкой и наполовину звериной эпохе человечества. Будет ли нам дано увидеть день, когда форма человеческого прогресса действительно будет человеческой?»
Жоресу не только не доведется увидеть такой день, он сам падет жертвой убийцы в беззаветной борьбе против войны, против убийства. Но, в конце концов, кто же из нормальных людей жаждет крови ради самого кровопролития? И во Франции два века назад людьми двигала не жестокость сама по себе, а жажда справедливости. Вопрос в том, удалось ли достичь ее торжества столь жестокой ценой?
Часто встречаются утверждения, что террор был жизненно необходим Французской революции, что без него были бы невозможны ее победы, что только благодаря террору она вообще сразу не потерпела поражение. Следовательно, всенародная поддержка дела Революции, массовый героизм ее защитников, благородный энтузиазм участников революционных событий были следствием рабского страха перед гильотиной. Верно, что террор оказался неизбежным на определенном этапе для защиты Революции от сторонников Старого порядка. Однако победа Революции обеспечивалась органической заинтересованностью третьего сословия в уничтожении отжившего феодального строя. Солдаты Республики наносили поражение армиям старой феодальной Европы благодаря пылкому чувству революционного патриотизма, рожденному Революцией. Считать террор, страх перед гильотиной необходимым условием победы равносильно отрицанию революционного энтузиазма французского народа, без которого Революция действительно не могла бы побеждать.
Жюль Мишле справедливо писал еще в середине прошлого века: «Мне нетрудно доказать, что Франция была спасена невзирая на террор. Террористы причинили нам огромное зло, оно все еще живо. Загляните в любую хижину самой отдаленной европейской страны, о терроре там помнят, его проклинают… Францию спас порыв, охвативший армию. Этот порыв был поддержан Комитетом общественного спасения, куда входили талантливые военачальники, которых Робеспьер ненавидел и погубил бы, если бы мог обойтись без них».
Правда, Мишле, историк-романтик, горячо вдохновлявшийся прежде всего возвышенными моральными ценностями. Другие историки подходили к оценке террора более прагматически, так сказать с точки зрения его практических последствий. Такие крайне трезвые, хладнокровно рассуждающие люди еще более убедительно показывают пагубность, вред террора. Французский историк нашей эпохи, марксист Альбер Собуль писал в одной из последних опубликованных работ: «Страх перед робеспьеровским террором в большой мере объясняет успех переворота 18 брюмера и приход к власти Бонапарта, неудачу с установлением республики в ходе революции «Трех славных» дней в июле 1830 года, жестокие репрессии против рабочих в июне 1848 года, массовые убийства кровавой недели в мае 1871 года». Признание Собуля тем более ценно, что ему пришлось отказаться от традиции апологии террора, утвердившегося в 20-е — 30-е годы…
Террор имел такие пагубные результаты не только для Франции. Он сильно скомпрометировал Французскую революцию в глазах других народов, породил сомнения, разочарования, страх, заменившие чувства восторга, восхищения и сочувствия. Ведь на повестке дня всей Европы стоял переход от феодализма к буржуазному строю. Поэтому за событиями во Франции следили с таким напряженным вниманием. Французы решали не только свою судьбу, они искали дорогу для других.
Естественно, она не могла быть одинаковой для всех. Ведь и во Франции сталкивались разные пути, разные тенденции. С одной стороны, пытались решить задачу ликвидации феодализма с помощью компромисса буржуазии с аристократией. Но с другой, в 1792-1793 годах взяла верх другая тенденция. Революция склонялась к союзу радикальной революционной буржуазии с народом. Такой путь обещал улучшение участи гораздо большего числа людей, вовлекая в нее широкие массы, делал ее более демократической. Однако на этом пути возник и затем приобрел неожиданно крайне жестокие фермы и размах террор. И он вызвал страх не столько у феодалов, сколько у самой буржуазии. Поэтому-то в большинстве стран Европы революция пошла не демократическим путем союза с народом, но методом компромисса с дворянством, с аристократией, что предопределяло половинчатый характер преобразований, частичное сохранение феодализма. Так будет в Италии, Испании. А кое-где даже происходило усиление феодальной реакции. Из-за террора пример Франции часто не вдохновлял, но путал и отталкивал.
Террор вовсе не был главным содержанием, существом Французской революции. Но в течение двух веков именно этот косвенный атрибут революции волновал и тревожил умы больше всего. Террористическая практика якобинской диктатуры всегда находила яростных и убежденных сторонников среди самих революционеров. Чем слабее они были, тем становились кровожаднее. Необычайная сложность задачи социального и политического преобразования общества ставила в тупик слабые умы, и террор представлялся чудодейственным средством преодоления этой сложности. Он обещал быстрое решение проблемы захвата власти, и все, кто стремился только к этому, а не к сложному, кропотливому, реальному общественному переустройству, ухватились за него. История многих стран за два века накопила богатую коллекцию нетерпеливых революционеров-террористов, эффективно задержавших общественный прогресс. Как не вспомнить колоритную фигуру Михаила Бакунина, для которого хороши были все средства политической борьбы, особенно ложь, фантастические обвинения противников, наделение их личными пороками. Собственное патологическое тщеславие приписывалась врагу, моральный нигилизм допускал все, якобы высокая цель оправдывала любые средства. Бакунин с бесподобной легкостью изображал своих противников интриганами и негодяями. Энгельс писал о его приемах политической борьбы: «Этим методом, заимствованным у блаженной памяти Максимилиана Робеспьера, Бакунин владел в совершенстве».
Традиция оказалась удивительно живучей и в эпоху совсем близкую нам. Апология робеспьерского террора против мифических «врагов народа» расцвела пышным, мрачным цветом в нашей стране в 30-е годы. Естественно, ведь она была выгодна тому, кто в ней нуждался для практических потребностей борьбы за власть. Историческая «наука» охотно стала служанкой сталинского террора. По злой иронии судьбы некоторые усердные поклонники Робеспьера сами оказались жертвами сталинского террора… Чудовищно, но до сих пор встречаются примеры восторженного обожания «Святой Гильотины» и «добродетели» террора.
Не столь одиозно на первый взгляд, но не менее пагубно для исторического сознания повторяется без конца формула о так называемой «ограниченности» Великой французской революции. А ведь любое явление истории, даже самое грандиозное, неизбежно является ограниченным хотя бы рамками времени или пространства. Если бы существовало в истории нечто неограниченное, беспредельно совершенное, законченное, абсолютное, то история давно бы прекратилась. Абсолютное, совершенное, законченное и безграничное — атрибут религии или утопии, но не реальной истории.
Конечно, следуя по тяжелому, сложному пути событий, наполняющих десятилетнюю историю Французской революции, нельзя не видеть почти непрерывной полосы неудач и поражений. Уже в 1792 году рушится только что созданное здание конституционной монархии. В 1793 году терпит крах парламентская, плюралистическая республика. В 1794 году гибнет республика народная и демократическая, диктаторская и тоталитарная. Наконец, в 1799 году терпит крах вожделенная центристская республика «золотой середины», увлекая за собой в могилу саму идею представительной системы. А затем долгий, очень долгий период в истории Франции, когда сменяются две империи, два королевства и несколько республик.
А сколько конкретных проблем и задач так и не удалось решить Французской революции! Начавшись из-за финансовых неурядиц, она сама так и не сумела решить собственные, порожденные ею же финансовые злоключения. Она обострила религиозные проблемы, и Франция сможет решить их лишь в 1905 году. Вместо обещанного мирного прогресса она породила почти непрерывную 23-летнюю войну, из которой Франция выйдет разгромленной и оккупированной. Провозгласив всеобщее равенство, она не дала политического равноправия женщинам, получившим его лишь в 1945 году. А что она дала рабочим, беззаветно боровшимся в первых рядах революционеров? Позорный закон Ле Шапелье, беспросветное наемное рабство… И этот печальный список несбывшихся, обманутых надежд, горьких разочарований и несчастий можно было бы и продолжить.
Неужели Революция и в самом деле оказалась «ограниченной»? Нет! Ее наследие величественно и грандиозно! Она дала миру изумительный комплекс идей и принципов общественного и человеческого прогресса. Гигантское множество открытий сделано наукой и техникой за два века после взятия Бастилии. А что нового дала политическая наука в самом главном — в деле устройства политической и общественной жизни человека, в развитии идей демократии? Ничего, сравнимого с тем необъятным богатством идей, принципов и практического опыта, завещанным человечеству бессмертной Французской революцией. Конечно, она сама многое заимствовала. Она использовала и сконцентрировала все начиная с опыта античных демократий Греции и Рима, не говоря уже об английской и тем более американской революциях. Многие из провозглашенных принципов были теоретически сформулированы философами. Но никогда еще настолько всесторонне, полно, радикально все гуманитарные достижения человечества не пытались воплотить в жизнь с такой энергией, страстью и героизмом!
И в наши дни многие народы еще только мечтают о реализации принципа суверенитета народа, о представительном парламентском демократическом строе, о разделении властей, о правовом государстве, о демократических правах человека и гражданина, о личных и общественных свободах, о национальном суверенитете, о царстве разума и справедливости. Все эти и многие другие священные принципы выдвинула, поставила, применяла на практике Великая французская революция.
Ради всего этого жили, страдали, боролись и умирали наши бессмертные друзья — монтаньяры. Но и ошибались также. Не со злорадством, а с горечью и болью пишем мы об отрицательных чертах Робеспьера, наделенного тяжелым, сложным характером. Если мы упоминаем о всепоглощающей страсти Марата к вечной славе или о склонности к удовольствиям Дантона, его слабости к деньгам, то не для их принижения. Ведь они достигли подлинного величия не благодаря, а вопреки этим их не очень симпатичным чертам. Этих людей, часто пылавших ненавистью друг к другу, объединяло нечто возвышенное и священное: беззаветная преданность революции, любовь к родине и народу. Их роднит необычайная самоотверженность, отказ от личного счастья в жизни ради общественных интересов. О, каждый из них мог бы достичь многого, счастливо жить, преуспевать, делать политическую карьеру! Они предпочли иной путь, они жертвовали собой, они приняли мученический венец, заслужив вечную славу. Они воплощали саму революцию со всей ее трагической живописностью умов, характеров, темпераментов. Но они лишь самые выдающиеся из множества героев, творивших Великую французскую революцию. Ведь в каждом городе, в каждой французской деревне были свои робеспьеры, дантоны или мараты. И они не только сыны своего народа, они достойные и славные герои всего человечества на его крестном пути к свободе, демократии и справедливости.
Ошибки? Пороки? Преступления? О них сказано без прикрас, искажений и без снисхождения. Нельзя забывать также, что эти люди брали подчас на себя задачи, превосходящие человеческие силы. Бийо-Варенн, несгибаемый, твердый и прямодушный, избегнув гильотины, долгие годы страдал на каторге в Кайенне, потом в ссылке на Гаити, где он и умер в 1819 году, писал в конце жизни: «Несчастье революций в том, что надо принимать решения слишком быстро; нет времени на размышления, действуешь в непрерывной горячке и спешке, вечно под страхом, что бездействие губительно, что идеи твои не осуществятся… Восемнадцатое брюмера не было бы возможно, если бы Дантон, Робеспьер и Камилл сохранили единство».
Вернемся, однако, к самому началу этой книги: кто же они, эти великие монтаньяры, чудовища или святые?
Ни то, ни другое. Это подлинные герои Великой революции, одаренные, самоотверженные и смелые. Но это живые люди, которым ничто человеческое не чуждо. Люди сложные, противоречивые, способные быть прозорливыми и мудрыми, но и уязвимые для ошибок и заблуждений, люди, поддающиеся порой слабости, опускающиеся до мелкого расчета и поднимающиеся до самоотверженности и величия. Читатель сам должен отдать предпочтение тому или другому, сам вынести свои суждения и оценки. Историк обязан сказать правду об их делах, словах, колебаниях. Но он не может быть беспристрастен. Поэтому его дело не выносить приговоры, но лишь честно показать, как все происходило, высказать догадки, гипотезы, предположения о том, почему случилось так, а не иначе. Но окончательные оценки? Слишком их было много, слишком они пристрастны, слишком противоречат друг другу. Оставим что-то и недосказанное. Ведь в этом таинстве ускользающей истины заключается великолепное очарование истории, побуждающей нас мыслить, переживать, сомневаться и помнить. А это необходимо, ибо история не столько учит, сколько наказывает тех, кто плохо помнит ее уроки.