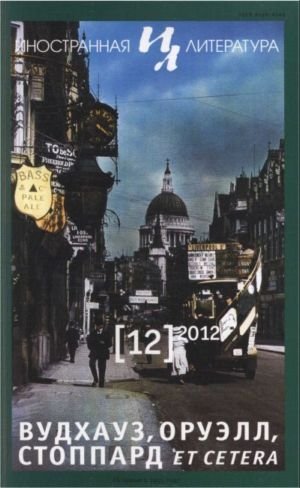
Вирджиния Вулф. «Я — Кристина Россетти». Эссе
Пятого декабря 1930 года Кристина Россетти отпразднует свой столетний юбилей, или, правильнее сказать, праздновать этот юбилей будем мы — ее читатели. Чествование со всеми подобающими речами вызвало бы у Кристины чувство острой неловкости, потому как женщиной она была робкой. Тем не менее юбилея не избежать; время неумолимо; говорить о Кристине Россетти мы должны. Перелистаем страницы ее жизни; почитаем ее письма; вглядимся в ее портреты; посудачим о ее болезнях, кои отличались великим разнообразием; наконец, погремим ящиками ее письменного стола — большей частью пустыми. Не начать ли с ее биографии — что может быть занятнее, чем биография писателя? Многие испытали на себе очарование таковых. Откроем книгу «Жизнь Кристины Россетти», написанную компетентной мисс Сандерс, — и с головой погрузимся в прошлое. Будто в распечатанном черном ящике иллюзиониста, мы увидим кукол — уменьшенную во много раз копию тех, кто жил сто лет тому назад. Все, что от нас потребуется, это смотреть и слушать, слушать и смотреть — и куклы, возможно, начнут двигаться и говорить. И тогда мы примемся расставлять их и так, и этак, между тем как, будучи живыми людьми, они не сомневались, что могут идти куда им захочется; мы будем видеть в каждом их слове особенный смысл, о каком они сами и не подозревали, говоря первое, что приходит им в голову. Что поделаешь, читая биографию, мы всё видим несколько в ином свете.
Итак, мы в Портленд-плейс, на Хэлем-стрит, году так в 1830-м; а вот и Россетти — итальянское семейство, состоящее из отца с матерью и четырех маленьких ребятишек. Хэллам-стрит того времени нельзя назвать фешенебельной, и на доме лежит отпечаток бедности, однако это ровным счетом ничего не значит для Россетти, ведь их, итальянцев, нимало не заботят условности и правила, которыми руководствуется так называемый средний класс Англии. Россетти живут обособленно, одеваются, как считают нужным, принимают у себя бывших соотечественников, среди которых шарманщики и нищие, сводят концы с концами уроками и сочинительством, а также другим случайным заработком. Мы видим и Кристину — чем старше она становится, тем дальше отстоит от узкого семейного круга. И дело не в том, что ребенок она тихий, склонный к созерцанию, — будущий писатель со своим особенным миром, умещающимся в его голове, — гораздо большую роль здесь играет чувство преклонения, которое она испытывает перед прекрасно образованными старшими братьями и сестрой. Но вот приходит время наделить Кристину подругами и сказать, что она… она питает отвращение к балам. Она не любит наряжаться. Ей симпатичны друзья, бывающие у ее братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира. Порой их разговоры забавляют ее, ведь степенность причудливо сочетается в ней с эксцентричностью, и она не упустит случая посмеяться над тем, кто самовлюбленно считает себя важной персоной. И хотя она пишет стихи, в ней нет и следа той тщеславной озабоченности, которая присуща начинающим поэтам; стихи складываются в ее голове сами собой, и ее не беспокоит, что скажут о них другие, ведь в том, что эти стихи хороши, она уверена и так. Ее восхищают родные: мать, такая спокойная и простая, искренняя и проницательная, старшая сестра Мария, не имеющая склонности ни к рисованию, ни к сочинительству, но, может быть, оттого столь энергичная и хваткая в житейских делах. Даже отказ Марии посетить Египетский зал в Британском музее, вызванный опасением, как бы ее посещение ненароком не совпало с Днем Воскресения, когда посетителям Египетского зала неприлично будет глазеть на мумии, обретающие бессмертие, — даже эта рефлексия сестры, пусть и не разделяемая Кристиной, кажется ей замечательной. Конечно, нам, находящимся вне черного ящика, слышать такое смешно, однако Кристина, оставаясь в нем и дыша его воздухом, расценивает поведение сестры, как достойное высочайшего уважения. Если бы мы могли, мы бы увидели, как в самом существе Кристины зреет что-то темное и твердое, как ядро ореха.
Это ядро, несомненно, вера в Бога. Мысли о божественной душе овладели Кристиной, когда она была еще ребенком. Тот факт, что все шестьдесят четыре года своей жизни она провела на Хэллам-стрит, в Эйнсли-парк или на Торрингтон-сквер, не более чем видимость. Настоящая ее жизнь протекала в другом, весьма причудливом, месте, где душа стремится к невидимому Богу — в случае Кристины это был Бог темный, Бог жестокий, Бог, объявивший, что ему ненавистны земные удовольствия. Ненавистен театр, ненавистна опера, ненавистна нагота; оттого художница мисс Томсон, подруга Кристины, вынуждена была сказать, что обнаженные фигуры на ее картинах нарисованы «из головы», а не с натуры. Кристина простила обман, пропустив его, как и все, что происходило в ее жизни, через клубок душевных мук и веры в Бога, гнездившийся у нее в груди.
Религия вмешивалась в жизнь Кристины до мелочей. Религия подсказывала ей, что играть в шахматы нехорошо, а вот в вист или крибидж — можно. Религия вмешивалась и в те важные вопросы, которые должно было решать ее сердце. Художник Джеймс Коллинз, любивший ее и любимый ею, был романо-католиком. Она согласилась стать его женой, лишь когда он примкнул к англиканской церкви. Терзаясь сомнениями, будучи человеком ненадежным, он накануне свадьбы все же вернулся в римско-католическую веру, и Кристина разорвала помолвку, пусть это разбило ее сердце и бросило тень на всю ее последующую жизнь.
Годы спустя новая — лучше первой — перспектива семейного счастья замаячила перед Кристиной. Ей сделал предложение Чарльз Коули, но — увы! — этот эрудированный господин в застегнутом не на те пуговицы платье, который перевел для ирокезов Евангелие и справлялся у дам на званых вечерах, знают ли они, что такое Гольфстрим, а в качестве подарка преподнес Кристине заспиртованную полихету колючую («морскую мышь») в баночке, — этот господин, разумеется, был вольнодумцем. Ему, как и Джеймсу, Кристина отказала. И пусть, по ее признанию, «не было женщины, которая любила бы мужчину сильнее», стать женой скептика она не могла. Ей, обожавшей «курносых и мохнатых» — вомбатов, жаб и всех мышей на Земле, называвшей Чарльза «мой канюк бескрылый» и «мой любимый крот», невозможно было разрешить кротам, канюкам, мышам или чарльзам коули подняться на свои небеса.
В тот черный ящик можно глядеть долго. Нет конца странностям, причудам и курьезам, заключенным в нем. Но стоит только задуматься, какую трещинку этого ящика мы еще не исследовали, нам даст отпор сама Кристина Россетти. Представьте себе, что рыба, непринужденной грацией которой мы любуемся, заплывает в заросли тростника или нарезает круги вокруг камня, вдруг, встретив на своем пути стекло, разбивает его. Подобное случилось во время чаепития у миссис Тэббс — в числе гостей там оказалась Кристина Россетти. Что послужило поводом, мы в точности не знаем. Возможно, кто-то в легковесно-небрежном тоне, который пристал подобным чаепитиям, отозвался о поэзии или поэтах. Как бы там ни было, к удивлению собравшихся, маленькая женщина в черном платье поднялась с кресла, вышла на середину комнаты и, торжественно объявив всем «Я — Кристина Россетти!» — возвратилась на свое место.
Слова сказаны — стекло на наших глазах разбилось. «Да, — означают эти слова, — я поэт. А вы, делающие вид, будто отмечаете мой юбилей, нисколько не лучше тех, кто пил чай у миссис Тэббс. Вы интересуетесь ничего не значащими подробностями моей жизни, гремите ящиками моего письменного стола, смеетесь над Марией, над мумиями и над моими сердечными делами, а между тем все, что я хотела бы вам о себе рассказать, находится здесь, в этом зеленом томике. Это избранные мои стихи. Купите их за четыре шиллинга и шесть пенсов. Прочитайте», — и она снова усаживается в кресло.
Какие непримиримые идеалисты эти поэты! Поэзия, они утверждают, не имеет ничего общего с жизнью. Мумии и вомбаты, Хэлем-стрит и омнибусы, Джеймс Коллинз и Чарльз Коули, полихета колючая, миссис Тэббс, Торрингтон-сквер и Эйнсли-парк — все это, включая религиозные догмы, весьма относительно, не имеет ценности, мимолетно, эфемерно. Существует только Поэзия, вопрос лишь в том, хороша она или плоха. И ответить на него возможно не сразу, а лишь по прошествии времени. Не так уж много путного сказано о Поэзии с тех самых пор, как она существует. Современники, как правило, ошибаются в своих оценках. Почти все стихотворения, включенные в собрание сочинений Кристины Россетти, были когда-то отвергнуты редакторами. Годовой доход, который она имела от стихов, на протяжении многих лет не превышал десяти фунтов, тогда как книги Джин Инджлоу[1], о которых она отзывалась саркастически, выдержали восемь пожизненных переизданий. Были, разумеется, в окружении Кристины Россетти поэты и критики, к суждениям которых можно было и прислушаться, но даже они подходили к стихам Кристины с весьма различной меркой.
«Ничего лучше в поэзии создано не было!» — восклицает об этих стихах Суинберн, а относительно «Новогоднего гимна» говорит, что он жжет, как огонь, и проливается лучами солнечного света, звучит, как шум морских волн со всеми их аккордами и каденциями, недоступными ни арфе, ни органу, а также отдает многократно усиленным эхом, доносящимся с небес.
За Суинберном дадим высказаться профессору Сейнтсбери[2], который подвергнет всестороннему изучению главное произведение Кристины — поэму «Базар гоблинов» — и сделает вывод, что метр его правильнее всего будет определить как скельтонический, с примесью так называемых дурных стишков, и в котором присутствуют разные стихотворные размеры, известные со времен Спенсера и пришедшие благодаря Чосеру и его последователям на смену деревянному грохоту силлабического стиха. Сейнтсбери обратит наше внимание и на нерегулярность стихотворных строк поэмы, свойственную пиндарическим стихам конца XVII — начала XVIII века, а также безрифменным стихам Фрэнка Сейерса[3] и Мэтью Арнольда.
Выслушаем и уважаемого сэра Уолтера Рэли[4]. «О такой совершенной поэзии невозможно читать лекцию, как невозможно долго говорить о воде, лишенной примесей. Лекции надо читать о поэзии поддельной, застойной или мутной от песка. Единственное, на что я способен, читая совершенные стихи, это плакать».
Что ж, приходится признать, что существуют, по крайней мере, три критические школы. Первая учит вслушиваться в музыкальный рокот поэтических волн, вторая исследует их метр, третья предлагает плакать от восторга. Следование сразу трем школам заведет нас в тупик. Не лучше ли сосредоточиться на самих стихах и описать, пусть второпях и запинаясь, что вы сами ощущаете после их прочтения? В моем случае это: О Кристина Россетти, я должна со стыдом признать, что, хотя знаю многие твои стихи наизусть, я не прочла все твои книги от корки до корки. Я не подражаю тебе в своей литературной работе и ничего не знаю о том, как оттачивалось твое мастерство. Я сомневаюсь даже, оттачивалось ли оно вообще. Ты была из тех поэтов, что послушны лишь инстинкту. Ты смотрела на мир под определенным углом. Ни годы, ни общение с мужчинами, ни чтение книг ни в малейшей степени не поколебали твоей точки зрения. Ты откладывала в сторону книгу, которая не согласовалась с твоей верой, ты избегала людей, которые могли бы пошатнуть ее. Наверное, в этом была своя мудрость. Твои чувства были столь непоколебимы, чисты и сильны, что благодаря им ты создавала стихи, ласкающие ухо, как мелодии Моцарта или напевы Глюка. И при всей своей гармонии твои стихи были сложны: в звуках твоей арфы слышалось одновременное звучание нескольких струн. Как все пишущие инстинктивно, ты остро ощущала красоту окружающего мира. Твои стихи были наполнены «золотой пылью», «огоньками сладчайшей герани», твой глаз подмечал и «бархатные макушки» камыша, и «стальные доспехи» ящерицы. Сама того не сознавая, ты воспринимала мир с чувственностью, достойной прерафаэлитов и несвойственной той англо-католичке, какой ты была. Впрочем, ты расплатилась с той католичкой сполна постоянством и печалью своей музы. Та сила, с какой давила на тебя вера, не давала упорхнуть ни одной из твоих песен. Своей цельностью твой литературный труд обязан, должно быть, этой вере. Печаль, сквозившая в твоих стихах, обязана ей же: твой Бог был жестоким Богом, твой венец был терновым. Как только ты начинала славить красоту, что открывалась твоему глазу, твой разум напоминал тебе, что красота тщетна и преходяща. Смерть, страх забвения, желание отдохнуть накатывали на твои песни темной волной. Однако в этих песнях мы слышим и радостный смех, и шум дождя, и топоток звериных лап, и гортанные выкрики грачей, и сопенье-пыхтенье-хрюканье «курносых и мохнатых». Ты вовсе не была святой. Ты сидела, вытянув ноги, ты щелкала кого-то по носу. Тебе ненавистны были пустословие и отговорки. Ты была скромна и вместе с тем решительна, ты не сомневалась ни в своем даре, ни в правильности своего видения. Твердой рукой ты правила рисунок своих стихов, придирчивым ухом вслушивалась в их музыку. Ничто несовершенное, лишнее или неуместное не портило впечатления от твоей работы. Словом, ты была художником. И потому, даже когда ты бренчала колокольчиками просто так, чтобы отвлечься, тебя навещала пламенная гостья, благодаря которой слова в твоих стихотворных строчках плавились, становясь единым целым, так что выудить их оттуда не сумела бы ничья рука.
Так уж странно устроен мир и такое чудо эта Поэзия, что некоторые из стихов Кристины, написанные в маленькой задней комнате, не понесут никакого урона, в то время как мемориал принца Альберта покроется пылью и обратится в прах. Будущие поколения будут петь:
или
в то время как на месте Торрингтон-сквер вырастет коралловый лес и рыбки будут сновать в окне, у которого Кристина стояла когда-то, и на бывших мостовых будет расти трава, а вомбаты и крысы забегают на своих мягких лапках по зеленому ковру там, где прежде были проложены железнодорожные рельсы.
Размышляя о том и возвращаясь к биографии Кристины: будь я на чаепитии у миссис Тэббс, при виде маленькой пожилой женщины, поднявшейся со своего кресла и вышедшей на середину комнаты, я бы совершила нечто из ряда вон — сломала бы нож для разрезания бумаг или разбила чайную чашку в неуклюжем порыве восхищения, когда она сказала: «Я — Кристина Россетти».