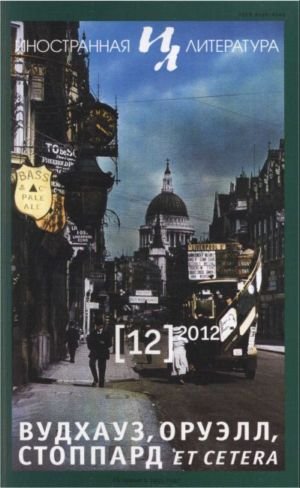
Джейн Гардем.
Рассказы
Дамасская слива
ГОВОРЯТ, чем плодороднее почва, тем безобразнее местность, но Восточный Кент никогда не казался мне безобразным. Долгие мили светлого рыхлого ила, где некогда плескались рыбы Северного моря, радуют глаз в любое время года: сизым отливом бесчисленных капустных грядок по осени, зелеными листьями и кремовой сердцевиной больших тугих головок запашистой цветной капусты или багровыми кочанами радиккио в летнюю пору и пробивающейся то здесь, то там — о радость, ведь с 1939 года его не сеяли! — хрупкой прозрачной голубизной льна. От Дила, лежащего у моря, вглубь острова, до самого Кентербери, простираются фермерские поля, а вдоль шоссе по обеим сторонам идут огороды местных жителей. На щитах пестреют грубо намалеванные плакаты с нетрадиционной орфографией, гласящие: СЕНО, ОРЕХИ, ПОЧЯТКИ, а прямо под щитами, на раскладных столиках, навалена сахарная кукуруза, такая дешевая, что дешевле только даром: набирай полную корзину крупных толстеньких веретенец в зеленых листьях и кидай мелочь в стоящую рядом жестянку.
Зимой черная паутина опор и проволочных растяжек, разделяющих посадки хмеля, опутывает все побережье, а сверху смотрит белесое небо. В мае листья латука расстилаются до границы полей Королевского гольф-клуба, точь-в-точь приникшие к земле лепестки, которые сейчас взметнет ветром и понесет через Сэндвич-бей прямиком в Бельгию. Не пройдет и недели, как под брызжущими струями полива они пустят крепкие корни и воспрянут. Порой латук торчит чуть не под ногами, рви — не хочу, прямо как дикорастущая капуста, когда-то завезенная на Альбион древними римлянами, — ее полно на меловых утесах Дувра. После уборки урожая на полях по краям валяются кочаны цветной капусты, словно отрубленные головы жертв революции. В прошлом году в окрестностях Парамур-Фарм, я набрела на гору переспелого крыжовника чуть не два метра высотой; над бледно-желтыми ягодами, похожими на засахаренные фрукты, вились осы. Под выстроенными как по ранжиру низкорослыми яблонями вечно остаются не убранные сборщиками плоды ярко-красные, пунцовые, зеленые, желтые — они лежат, образуя пестрые груды и дорожки. На макушке каждого дерева маячит яблочко-другое, это «на счастье», для птиц. А бывает, что остается гнить и целое поле неубранного гороха, который из зеленого превращается в желтый. Восточному Кенту с его суровым неласковым климатом и суровыми несгибаемыми обитателями плодово-овощное изобилие и даже расточительность не страшны, тут знают, как с этим сладить.
И когда в одну ночь пустили под топор яблоневые сады, такие щемяще-прекрасные, такие пышные, что, казалось, прошумят еще не одну сотню лет, то не успели глаза просохнуть, как на смену вырубленным старым яблоням насадили новые, молодые и сильные. И в овощные лавки Сэндвича, Дила и деревушек Фордвич и Ворс покупатели идут не за яблоками, а за ранними красными дискавери, за осенними желто-зелеными гринсливз и за румяным джонаголдом. Картофель тоже не какая-то там картошка, а исключительно дезире.
И когда утром на горизонте не маячит длинная, в пол мили, череда трехметровых тополей, которые искони воспринимались как неотъемлемая часть пейзажа, никто не сокрушается. Проходит три года, и сильные ветвистые кроны снова вздымаются выше кровель домов. Крохотные виноградники, их всего-то пять-шесть, каждый площадью не более нескольких акров, радуют глаз истинно французским очарованием и возделываются с неистовым упорством, а когда какой-то из них удостаивается международной премии, в небо взвивается флаг.
К рыбе тоже относятся со всей серьезностью. В Диле пять рыбных лавок, и, по крайней мере, две из них торгуют собственным уловом. Как-то раз трое мальчишек волокли по Саут-стрит в лавку Григга что-то большое и серое, до странности похожее на дохлую русалку, но, скорее всего, хотели просто похвастаться добычей, поскольку в продаже я ничего подобного не увидала.
В этих лавках не пахнет рыбой, там чувствуешь только свежий запах соленой воды и берегового ветра, поэтому, если ночью штормило, звонить и спрашивать, что сегодня в продаже, — напрасный труд. Чему там быть, если лодка так и простояла на прибрежной гальке? Кое-что, конечно, морозят впрок, но по мелочи и не для «своего» покупателя.
Свежую рыбу обыкновенно вываливают на мраморные прилавки, а не раскладывают, как в Лондоне, по чешуйчатым керамическим блюдам. На это просто нет времени, все мгновенно раскупается. Жителям удаленных от побережья городов тут многое показалось бы странным: люди огромными пакетами берут серебристую кильку (двенадцать пенсов за фунт), каких-то морских гадов с торчащими из раковин усами, здоровенных разделанных крабов цвета заката. Маленьким детям покупают креветок в бумажных кульках, и никакого тебе мороженого, никаких бигмаков. Однажды я видела старушку в шерстяном шлеме с прорезью для глаз и вязаных митенках, выбиравшую устрашающего вида черного омара. «Это подарок. У подруги день рождения». Как-то это не очень по-английски. Может, это по-французски? Может, берет свое французская кровь наших соседей с противоположной стороны Ла-Манша? А что, стоит задуматься!
Сливки местного общества покупают рыбу у братьев Кэвелл, в крохотном прибрежном магазинчике, расположенном между Дилом и Уолмером. К прилавку там принято подходить по одному, до такого плебейства, как очередь, у Кэвеллов не опускаются. Остальные в почтительном молчании стоят и ждут, пока один из братьев нашептывает покупателю советы или инструкции по приготовлению, буде о таковых спрошено. На витрину почти ничего не выкладывают, хотя братья торгуют треской и пикшей собственного копчения и готовят креветки собственного улова в горшочках, так что человек просто заказывает все что нужно. Время от времени оба брата К. (или их все-таки трое?) скрываются за занавеской, словно православные священники за Царскими вратами во время службы, и из этой святая святых доносится позвякивание льда, стук ножей и журчание воды. Рыбу выносят для молчаливого обозрения, потом снова уносят, чтобы разделать, еще раз приносят для повторного осмотра и, наконец, вручают клиенту завернутой в чистую вощеную бумагу в обмен на астрономическую сумму. Так что приглашение на домашний ужин от человека, живущего рядом с одной из этих рыбных лавок и знающего толк в стряпне, я не променяю ни на один, или почти ни на один, ресторан в любой или почти любой стране мира. Но что об этом известно за пределами Англии? Ровным счетом ничего. И лучшее тому доказательство — история про моего давнишнего ученика, швейцарца Клауса, который во всем своем величавом блеске недавно вновь возник на моем пути на берегах Женевского озера, в сердце Швейцарии, в сытом граде телятины и сливок.
Про мальчика по имени Клаус я впервые услышала от шапочной знакомой, которая дружила с его английскими родственниками: дядей и двумя тетками. Все они жили в коттедже под Айторном. Мать Клауса, третья из сестер, скончалась меньше чем за год до этого, отец, швейцарец, тоже уже несколько лет как умер, и племянника решено было усыновить. Теперь Клауса пытались устроить в частную английскую школу, а для этого необходимо было сдавать вступительный экзамен на общих основаниях.
— Очень неглупый паренек, — рассказывала мне приятельница. — Очень способный, с безукоризненным английским, но... лучше они вам все сами объяснят. Правда, с разговорами-то у них не очень, люди они флотские.
— Плотские? — переспросила я.
Почему-то первая мысль моя была об утехах. И о животе.
— Флотские. Моряки, одним словом. Брат служил в Королевских ВМС, одна из сестер тоже, в женской вспомогательной службе, а теперь, как их списали на берег, места себе не находят. Обычное дело. Своей семьи ни у кого нет и не было никогда, так что можете себе представить. Сейчас подобный расклад нечасто встретишь. Ну, взрослые все больше молчат. А мальчику не хватает воображения. Вы ведь, кажется, даете частные уроки, да? Мне кто-то говорил. Уж они бы вам были так признательны, так признательны!
Коттедж, где жила семья моего нового ученика, находился не на побережье, а чуть в глубине, надо было ехать по ровным проселочным дорожкам через Шолден, мимо Нортборна с его привидениями, и потом по узенькой тропинке через кукурузные поля. Стоял ласковый сентябрьский денек, и я с удовольствием крутила педали, оставляя позади один указательный столб за другим. Мелькали заросшие травой перекрестки, на которых не было ни души, и непонятный белый ветряк на фоне синего неба. К деревне Клауса вело неширокое шоссе, которое там же и обрывалось, переходя в немощеную сельскую улицу. Дом — он назывался «Сливовый коттедж» — стоял в самом ее конце, поэтому из него открывался вид на поля, речку, дремлющие вязы и буки. По берегу бродили тучные черные коровы. Над головой простиралось безбрежное небо. Крохотная рассыпанная вдоль реки деревушка спала мертвым сном.
Мальчик сам вышел на порог и застыл, придерживая руками псевдосредневековый засов. На стене рядом с дверью висел псевдосредневековый же фонарь, а под ним — деревянная табличка с вырезанным на ней названием: «Сливовый коттедж». Мальчик посторонился, пропуская меня внутрь, и через коридор, где мебели почти не было, а вот резиновых сапог — в избытке, я увидела сад и розовую клумбу, над которой согнулся кто-то крепкий, но неразличимый. По полу на аккуратных фанерных веерообразных сушилках из магазина «Сделай сам» были разложены срезанные осенние розы, снабженные металлическими бирками. Высокий подросток, вцепившийся в засов, стоял чуть не по колено в розах, такой прыщавый, такой ершистый, с угрюмо потупленными глазами, прикрытыми кожистыми веками, с нескладными руками и столь отчаянно тощий, что казался почти вогнутым. В его взгляде мне почудилось отвращение, но потом я подумала, что виной всему постигшее его несчастье.
Из-за угла дома появилась одна из теток, скорее всего, воен-но-морская. Она толкала перед собой тяжеленную тачку. Мы отвернулись, пока она откатила ее вниз по дорожке. Разговаривая со мной, она достала из кармана недоеденный рогалик и принялась его жевать. Потом, когда мы с Клаусом отправились в заднюю часть дома, где находился кабинет, из кухни, мимо которой мы проходили, выглянула вторая тетка. Там внутри повернуться было негде от пластмассовых емкостей с черенками. На столе стояла большая консервная банка с супом, две банки поменьше с фасолью в томате и пакет с нарезанным белым хлебом. Когда мальчик уселся за дядин стол перед окном, давешний неразличимый человек разогнулся и двинулся прочь от клумбы. Проходя мимо окна, он, не глядя в нашу сторону, заученным движением вскинул руку к голове. Позднее я увидела, как он стоит у компостной кучи и чистит банан. Снятые шкурки он методично отправлял в компост, а потом задумчиво посмотрел на банан и швырнул его туда же.
Клаус и впрямь оказался во всех отношениях неглупым. У него были феноменальные способности к языкам, так что на английском он говорил не просто уверенно, а практически как носитель: легко, естественно и без акцента. По его словам, французским и немецким он владел на том же уровне, а испанский «набирал». Точные науки, как он мне объяснил, для него «никакой сложности не составляли», и сомневаться в этом у меня причин не было, поскольку вскоре я поняла, какой у него цепкий, рациональный склад ума.
Но мне предстояло обучить его писать сочинения на добровольно-принудительную тему, а он пока что не имел представления о том, как к этому подступиться. Мы разбирали один образец за другим, но каждое мое предложение Клаус неизменно встречал скептической улыбкой.
— Это невозможно. Смотрите, здесь написано: «Путешествие». Это же неконкретно. Так ничего написать нельзя.
— А ты прямо так и напиши, просто вырази свою точку зрения.
— Но это будет невежливо. И не слишком дальновидно, потому что настроит комиссию против меня.
— С чего ты взял, Клаус, совсем не обязательно! Скорее, наоборот. Ты, по-моему, понимаешь все слишком буквально. И чересчур всерьез. От тебя требуется просто сесть и написать все, что ты знаешь о путешествиях.
— Но я путешествовал всего один раз, самолетом из Женевы до аэропорта Гатуик, а потом сюда на машине.
— Не беда, многие люди и того не делали. Для кого-то переход через поле — уже путешествие. Представь, что ты вышел и отправился куда-то из этой комнаты, в сад, потом дальше, к реке. Чем не путешествие? Пойти посмотреть на коров — это путешествие. Посидеть где-нибудь, поразмыслить — тоже путешествие. Подумай, как это можно повернуть.
— Неужели кто-то будет это читать?
— Это уж от тебя зависит! Напишешь интересно — будут.
— Но мне-то неинтересно.
— Н-да... Ну что ж...
Еще один урок на той же неделе:
— Ладно, попробуем зайти с другого конца. Скажи, что тебя интересует.
— Математика. Перевод. И...
Равнодушно скользившие по мне глаза теперь уставились в окно, на догорающее солнце. Дядя нынче вечером на сцене не появлялся, но его плетеное кресло с пухлой неяркой подушкой просматривалось под тремя молодыми деревцами, росшими у стены из местного красного кирпича, порядком выветрившегося. Рядом на траве валялась забытая шляпа. В лучах заката розы на клумбе полыхали каким-то отчаянным цветом. Я вдруг вспомнила, что Клаус долгие годы воспитывался без отца, а недавно потерял мать.
— Надо все-таки постараться и что-то сделать, — сказала я.
Убедившись, что у него есть все составленные мною памятки с описанием различных подходов к той или иной теме, а также образцы сочинений, я засобиралась домой. Он, как всегда, вежливо проводил меня до дверей. В кухне вторая, «сухопутная» тетка, более женоподобная, чем сестра, стояла перед старой газовой плитой и сосредоточенно обугливала на сковородке консервированную фасоль в томате.
— Ну что ты будешь делать! — сокрушенно воскликнула она, когда мы проходили мимо. — Готовить-то у нас особенно некому, в саду дел невпроворот.
Я перехватила взгляд Клауса и впервые ощутила, до какой степени инородным телом он казался в этом доме. Это были чужие территориальные воды, и в них он едва держался на плаву. В последующие несколько недель, пока Клаус тужился, пытаясь излить на бумаге хоть малую толику своей души, постоянный запах пригоревшей стряпни и кусочничающие тети-дяди, возникающие в саду то здесь, то там, стали порядком действовать мне на нервы.
Однажды желудок Клауса подал голос. Я вытащила из сумки плитку шоколада, поломала ее на куски и положила на стол. Он к ней не притронулся.
— Угощайся!
— Спасибо, но я ем только швейцарский шоколад.
— Попробуй, это же очень вкусно!
— Нет. Я просто хочу поесть. Хоть раз сесть и поесть нормально.
— Ладно, в следующий раз я принесу тебе швейцарский шоколад. А сейчас опиши мне, что такое голод. Опиши, как ты это чувствуешь.
Он воззрился на меня с изумлением.
— Что же тут описывать? Ну, это очень неприятно.
— Подумай, на что похоже это ощущение. Сравни его с чем-нибудь.
— То есть я должен употребить метафору, правильно? Как вы мне объясняли.
— Совершенно верно. Ну, давай, употребляй!
— Голод — это как... голод. Он похож сам на себя. Мне кажется, его ни с чем нельзя сравнить.
— Господи ты Боже мой!!! Ладно.
Да, я знаю, что это жестоко, что это запрещенный прием, но у меня не было выхода.
— Тогда опиши что-нибудь другое. Что-нибудь страшное. Смерть, например. Расскажи мне про нее.
— Каким образом? Я пока еще не умер.
— Ты нет. Но у тебя умерла мама. Опиши мне ее смерть. Расскажи мне, как это было. Я слушаю.
— Я при этом не присутствовал.
— Расскажи, как ты об этом узнал. Где ты находился в этот момент, дома? В больнице?
— Это была не больница, а клиника.
— Опиши эту клинику. Расскажи, какая она. Вот тебе бумага, ручка, если хочешь, я могу выйти, чтоб тебя не смущать.
— Вы мне не мешаете.
Я все-таки отправилась в сад и подошла к трем молодым терносливам. Стволы деревьев покрывала серо-зеленая, отливающая серебром кора, и они казались пушистыми и теплыми на ощупь. Среди трепета бледной листвы и серебряных ветвей проглядывали пучки мелких, крепеньких густо-синих ягод. В траве у корней громоздилась кучка спиленных сучьев, черных и корявых. Очевидно дядя складывал сюда то, что потом пойдет на растопку. Там попадались тяжелые, плотные ветки с серебристо-свинцовой древесиной, такой же старой, как стена, рядом с которой они некогда росли, а может еще старше. Дерево таило в себе летние запахи вековой давности, теперь давно забытые. Как же донести все это до мальчишки, ну пусть не все, но хоть малую толику!
Его большие башмаки зашаркали по траве, и он появился, сжимая в пальцах листок бумаги, на котором было написано сочинение про смерть. Вот что я прочла:
В 13:40 моя мать находилась в пластиковой кислородной палатке, в руке она держала специальное устройство. В больнице все было организовано очень хорошо и эффективно, поэтому, когда сиделка сказала мне, что общаться с матерью теперь невозможно, потому что сквозь пластмассовые стенки она все равно не услышит, что я говорю, я согласился с ее словами. Сиделка предложила мне пойти выпить кофе в помещении для персонала в дальнем конце отделения. Я так и сделал, а в 13:50 услышал, как по коридору бегают люди, и увидел врача, направлявшегося в палату. В 13:59 вошла сиделка, чтобы сообщить мне о смерти матери.
— Эх, Клаус, ты... Послушай, Клаус, пожалуйста, посмотри внутрь себя. Вернись туда. Вспомни, — произнесла я с нажимом.
Он сел в скрипучее кресло и уставился на сливовые деревья. Потом написал:
Меня почти сразу же (в 14:20) спросили, хочу ли я забрать с собой обручальное кольцо матери, потому что иначе оно либо потеряется, либо его заберут сотрудники похоронного бюро. В 14:30 мне вынесли кольцо и другие ее вещи. В 14:33 мне предложили попрощаться с ней, но я отказался смотреть на мертвое тело и сказал, что предпочел бы запомнить ее живой. Мне еще раз предложили кофе, потом поинтересовались, не нужно ли позвонить кому-нибудь, чтобы меня отвезли домой. На оба предложения я ответил отказом и приблизительно в 14.40 вышел из здания больницы.
— Но Клаус...
— Послушайте, Лиззи, — начал он.
Во мне шевельнулась надежда.
— Дело в том, Лиззи, что моя мать была не особенно приятным человеком, так что я не переживал, когда она умерла.
— Все, — произнесла я, — сдаюсь.
Мы смотрели на сливовые деревья, а мелкие терносливы смотрели на нас. На серебристой коре коротко вспыхнул розоватый отблеск закатного солнца.
— Что это за слива? — спросил Клаус.
— Это тернослива. У нас, в Англии, ее очень любят. Очень древнее растение, ставшее частью нашей истории. Ее завезли сюда несколько веков назад. Терносливу еще называют дамасской сливой, так что, возможно, в Сирии ее пробовал сам святой Павел.
— А это что, вкусно?
— Очень, но только в готовом виде. У нее довольно резкий вкус, очень сильный. Поэтому нужен сахар. А со сливками — просто божественно. Сочетание двух этих красок...
— Я ни разу не пробовал дамасскую сливу.
По пути домой, проезжая по дорожкам, по выпуклым тропинкам через осенние поля, мимо ветряка, окруженного льном, я все время думала: «Бедное маленькое ничтожество. Бедное-несчастное самодовольное надутое ничтожество. Что же надо было сделать, чтобы из тебя такое выросло? Или, может, ты таким уже родился?»
— Ну уж нет, — пообещала я, — дамасскую сливу ты у меня, голубчик, попробуешь.
С этими словами я набрала номер его спартанских теток и сообщила им, что в воскресенье мы приглашаем Клауса на обед. Отобедать, — произнесла я в трубку (а вы пропалывайте свои лобелии и завидуйте!).
— Отобедать?! — повторили они ошеломленно и восторженно. — У вас?!.. В 12 30. Это так мило с вашей стороны! У нас самих совсем нет времени заниматься такими вещами, особенно сейчас, когда столько хлопот с урожаем. Прямо даже неловко.
— И что же в меню? — бодро спросил меня муж. — Английская классика? Пятнистый Дик с заварным кремом? Еще какой-нибудь пудинг? Имбирный? Мясной пирог с почками? Правильно, пусть бедолага привыкает к школьной жизни.
— Ничего подобного. Вот увидишь. Совсем наоборот!
— А что будет пить наш юный друг? Нальем ему винца или купим пару банок колы?
— Я, честно говоря, думала, что вино.
— Придется сходить в супермаркет. До другого у него нос не дорос.
— А как насчет нас с тобой?
— Ну, это другой разговор. Надеюсь, приличное вино хоть как-то поможет скрасить ситуацию. Я только одного не понимаю, зачем разводить всю эту канитель, если, по твоим словам, он чудовище. Подумать только, вообще ничем не интересоваться, и это в четырнадцать-то лет! Уму непостижимо!
— А вдруг все не так страшно? Ладно, попытка — не пытка.
— Так что же у нас завтра подают? — осведомился мой муж накануне торжественного обеда, собираясь провести ревизию винного погреба. — Ты хочешь сказать, у нас будет и мясо, и рыба?! И это, по-твоему, обычный воскресный обед?!
— А еще сырная тарелка. И пудинг. И открытый пирог с терносливами. А на закуску я сделаю тарталетки с паштетом. Так, потом рыба. Правильно, рыба. Потом ростбиф с йоркширским пудингом, он ведь об этом даже не слышал, а на гарнир потушу цуккини и брокколи с травками под соусом на фазаньем бульоне с вином и настоящей английской горчицей с бальзамическим уксусом. И боливийский кофе. А потом он останется на чай.
— Послушай, а ты, часом, не влюбилась?
— Да меня от него с души воротит! Но ему я нос воротить не дам. Он приехал в Англию учиться, так что пусть выучит, что у нас умеют готовить. Такой урок я ему с радостью преподам.
На обед были купленные у Кэвеллов морские языки с лимонным соком, горячие, хрусткие, обжаренные в панировке до изогнутой корочки. Потом шотландская говядина, филейная часть, нежная и сочная, словно запеченная в тесте, с зелеными овощами и маленькими морковками, приправленными сливочным маслом с петрушкой и мелко порубленным сырым лучком. Картофель, естественно, дезире, я отварила до полуготовности и сунула на семнадцать минут в духовку на самый верх запекаться, предварительно сбрызнув оливковым маслом.
— Масло первого холодного отжима, — сказала я, а когда Клаус спросил «Что значит холодный отжим?», а муж ответил: «Наверное, это отжим без любви», Клаус искренне расхохотался.
Отжим без любви превратил подрумянившиеся в печке картофелины в золотистые хрустящие цветки с мягкой сердцевинкой. Потом был сорбет из красной смородины (знаменитая суррейская смородина из Рушам-Фарм), а к открытому пирогу с терносливами я выставила на стол кувшин густых желтых сливок из Соллей-Фарм; благодаря этому месту Ворс упоминается в мишленовских справочниках. И сыры: чеддер (я потратила уйму времени, чтобы выбрать из пяти отличных видов самый-самый), местный шевр из козьего молока и отменный дабл глостер.
Слоеное тесто для открытого пирога мне удалось на славу. Я заранее охладила нож, миску и воду до ледяной температуры, и оно получилось хрустящим и тающим во рту, распадающимся на полупрозрачные чешуйки, а внутри, погруженные в застывшее вязкое озерцо из пунцового сиропа, нежились темнобокие терносливы, ни дать ни взять пышнотелые негритяночки на курорте. Сверху вся эта красота была присыпана коричневыми кристалликами тростникового сахара.
Клаус ел и ел. И мы ели. Он сидел молча, порозовевший, погруженный в себя. На последнем головокружительном вираже гостеприимства я метнулась в кухню и через мгновение вернулась с испеченным для него блинчиком, политым кленовым сиропом. Когда я выкладывала его со сковородки на горячую тарелку Клауса, он соскользнул туда с шелестом, словно падающий кленовый лист.
Мы спросили, не хочет ли он вина к мясу, и он медленно и серьезно осушил два бокала.
— О, Шоссань-Монраше, — произнес он, обращаясь к мужу. — Благодарю вас, сэр.
Он выпил бокал английского вина со льдом и сказал, что оно очень хорошее и «очень похоже на рислинг».
— Будь ты постарше, — улыбнулся муж, — я бы угостил тебя рюмочкой барсака, под сливы это французское вино идет замечательно.
— Я бы с удовольствием, спасибо большое, — ответил Клаус. — И возраст тут совсем ни при чем. Мой отец научил меня пить, не теряя головы. Он был виноторговцем.
— Но когда же он успел? — озадаченно спросила я. — Он ведь умер, когда ты был маленьким.
— Совершенно верно. Мне было девять. Думаю, я прогуляюсь до дома пешком. И вам не нужно меня отвозить, мне хотелось бы слегка освежиться перед возвращением в «Сливовый коттедж».
Мы немного прошлись вдоль моря, откуда открывался вид на темно-синие берега Франции. День стоял удивительно ясный, но в воздухе пахло дождем. Я, желая пошутить, сказала, что Франция сегодня открыто заявляет о себе, но Клаус пропустил метафору мимо ушей. Не прошли мы и нескольких шагов, как он спросил:
— А вы действительно собирались пригласить меня на чай? Я ни разу не пробовал настоящий английский чай.
— А как же твоя мама-англичанка? — спросили мы с мужем в один голос.
— У нее был один сад в голове.
Я не просто собиралась пригласить его на чай, я, можно сказать, для этого работала не покладая рук, и на столе стояли толстенькие треугольные ломтики ржаного хлеба с маслом, тоненькие треугольные ломтики белого хлеба с маслом, сконы с маслом и к ним вазочка домашнего клубничного варенья с ягодами, зависшими в прозрачном сиропе, словно рубиновые подвески. У нас была пышная воздушная буханочка Сэлли Ланн, достойная пера Джейн Остин, и бисквит с прослойкой из джема, покрытый белой сахарной глазурью. У нас были свежайшие корзиночки с лимонным заварным кремом и тарталетки с малиной, крошечные, размером с пятачок, и тающие во рту. У нас был бисквитный рулет с начинкой не из хилых липких вишен, а из горького шоколада. И вот уж верно, что охота пуще неволи, хоть я и убила на это пять часов, и Пасха была давно позади, на столе красовался настоящий фруктовый симнел-кекс, утопавший в сладком как мед и свежем как воздух нежнейшем марципане.
А потом мы, с Божией помощью, доставили мальчика теткам.
— Нет, хоть ты у нас и правда чокнутая, — подвел черту мой муж по дороге домой, — но теперь на белом свете есть хотя бы один швейцарец, который навсегда запомнит, с каким трепетом англичане относятся к еде. Для международной общественности это должно быть откровением. Другой вопрос, сможет ли он написать экзаменационное сочинение. Рискну предположить, что нет. Срежется.
Но Клаус не срезался. По счастливой случайности одна из экзаменационных тем по выбору звучала как «Радости застолья», и, насколько я понимаю, его сочинение вылилось в перечисление названий необычных блюд, рецептов и краткий этнологический трактат. Экзаменатор, которого Клаус по праву должен считать своим добрым ангелом, должно быть, несколько оторопел. Клаусовы дяди-тети прислали мне вместе с оплатой за труды гигантское растение в горшке, а от ученика я получила очень официальное благодарственное письмо. Он вырос, стал в своей Швейцарии адвокатом, и мы, как водится, долгие годы поддерживали отношения на уровне рождественских открыток, а потом и открытки сошли на нет, и о Клаусе благополучно забыли.
И вот прошлым летом, отдыхая в Женеве, мы узнали из газет, что его назначили кантональным судьей. Игнорировать подобную новость было негоже, мы послали Клаусу поздравление, и уже на следующий день он звонил нам в отель. А потом мы получили приглашение на ужин.
Боже, какой излучающий благоволение великан вышел нам навстречу! В нем чувствовалась стать, достойная Мафусаила. Как он раздался в высоту и ширину, бледный, исполненный важности, неторопливый. Взвешивающий каждое слово. Голос его звучал пронзительно, словно писк летучей мыши, но это очевидно профессиональная особенность всех кантональных судей, ведь им приходится выступать в пустых залах суда[1] — такова единственная швейцарская несообразность, про которую мне доводилось слышать, но, надо полагать, несообразность весьма серьезная.
Он познакомил нас со своей супругой, и мы отправились ужинать в самый-самый из всех женевских раззолоченных ресторанов, где меню было под стать швейцарцам: коротенькое, богатое (калориями) и предсказуемое до зевоты. Вино по вкусу очень напоминало наше белое сухое из Шонбургера, но упомянутое мною название сорта «Сент-Николас в Аше» вызвало у Клауса неопределенную полуулыбку, призванную замаскировать непонимание. Хотя, с другой стороны, чего было ждать, если прошло тридцать лет!
Конечно же, мы рассыпались в благодарностях, и круглолицая хохотушка-жена Клауса сказала, как они рады, что смогли доставить нам удовольствие. И прибавила, как мы, должно быть, рады, что смогли вырваться в Швейцарию: сбежать от английского климата и английской еды.
— Сама-то я у вас ни разу не была, — улыбнулась она, — но мне рассказывали. Из уст, как говорится, в уста.
Я заверила ее, что климат в наших краях отличается восхитительным разнообразием и совсем не похож на то, что ей наговорили. И еще я ждала, что Клаус скажет хоть полслова о еде. Смотрела на него и ждала.
Конечно же, минуло столько лет, но хоть что-то, хоть какой-то пустяк должен был шевельнуться в памяти, ведь должен же? Морские языки от Кэвеллов, божественный йоркширский пудинг, тарталетки, блинчик с кленовым сиропом, Сэлли Ланн, отменные сыры, нежащиеся в сиропе негритяночки? Хоть тень воспоминания должна была остаться в подкорке этого унылого рассудительного гурмана, где-то же прятался голодный мальчишка, получивший в дар один упоительный, сладостный английский день!
— Я потом там больше ни разу не был, — сказал Клаус. — Но об Англии кое-что помню. В Кенте росли такие прелестные маленькие сливы. Где я мог их видеть, Лиззи? В вашем саду? Да, такие красивые, темно-синие, и на вкус, кстати, просто прелесть. Но, по-моему, это не английский сорт. Откуда они? С Ближнего Востока? Да, из Дамаска.
Мертвые дети
Ежевичные кусты были, как всегда, в октябре: непролазные, с гирляндами серебристых, черных, фиолетовых и красных ягод. Ягод на ветвях оставалось полным-полно, но многие, подернувшись плесенью, висели готовые сорваться вниз, или уже усыпали дерн крохотными шиншилловыми комочками. С той поры, как она гуляла на этой пустоши с детьми, тогда еще совсем маленькими, чего только здесь не приключалось: и пожар бушевал, и трава на корню жухла от какой-то хвори, и даже ураган налетал, так что деревья валились направо-налево, словно сметенные с доски шахматные фигуры, и лежали, поверженные и униженные, бесстыже задрав к небу вывороченные пласты земли, облепившей корни.
Но ежевике все было нипочем, и она покрывалась и покрывалась новыми побегами на радость новым поколениям сборщиков, блуждающих в зарослях с полиэтиленовыми пакетами и лиловыми от сока ладонями. Детские одежки так изменились, какие-то комбинезоны, джинсы, неуклюжая спортивная обувь, не разберешь, мальчик перед тобой или девочка. Ее дети были в платьицах и шортиках, в сандаликах и белых носочках. Давно. Тридцать пять лет назад.
С годами Алисон Эйвори подсохла, чуть одряхлела, походка замедлилась, но чувствовала себя прежней, в чем-то даже легче и счастливее, потому что жить стала свободнее. Незачем было собирать ежевику, незачем торопиться домой к мужу, потому что мужа уже не было, и в отсутствии этих отвлекающих факторов она в свои восемьдесят два могла по-настоящему быть самой собой.
Ежевика, слыханное ли дело! Дома и без ежевики хватает беспорядка. В подарок ее не сваришь: друзья-знакомые в таком возрасте, что варенье предпочитают без зернышек. Тазы для варки давно были розданы по детям, внукам и благотворительным организациям. В пору самой получать сваренное кем-то варенье — или, как теперь говорят, конфитюр. Миссис Эйвори всегда с содроганием ждала, что придет день, когда и ей начнут дарить маленькие разноцветные баночки.
Но пустошь она любила, любила ежевичник с его пружинистыми изгибами ветвей и пыльными лазами у корней. Недавно в самой его гуще, на крохотном пятачке травы, между кустами, установили скамейку в память о собаке, которая «столько лет тут рыскала». Эти слова, кличка пса и даты его жизни были выбиты на табличке, прибитой к спинке. Поставили скамейку в марте, и, кажется, до сих пор никто о ее существовании так и не проведал.
Когда миссис Эйвори привозила сюда детей, они расстилали на этой заповедной полянке скатерть для пикника и усаживались вокруг. Теперь она медленно опустилась на дощатое сиденье и перевела дух.
Здесь она была полностью отрезана от мира.
Кого только ни заносило на пустошь с той давней поры пикников: бродяг, онанистов, развратников, грабителей, даже убийца был! О месте пошла дурная слава. Узнай кто, что она сидит здесь в одиночестве, какой бы поднялся переполох! «Престарелая Титания под сенью леса», — улыбнулась она.
Сегодня было по-особому тихо. Время обеда прошло, чай пить рано, школьники все еще за партами, а малыши мирно спят. Никто в целом свете не знает, где она. Прикрыв глаза, миссис Эйвори вслушивалась в тишину.
«После этого безобразного обеда, — думала она, — после всей этой боли...»
Обед пришлось посвятить делам будущего. Сама-то миссис Эйвори твердо верила, что размышлять о будущем вредно. Равно как и о прошлом, если уж на то пошло. Пусть вокруг все становилось более и более зыбким, тут она была непоколебима. Эта дремотная осенняя пустошь, эти ежевичины, такие тучные, такие плодоносные, бесконечно воскресающие к жизни, бесконечно наливающиеся соком, бесконечно падающие на землю, этот бесконечный звон детских голосов, когда они, невидимые, несутся по гаревой дорожке к ветряной мельнице...
— Отдай!
— Сама отдай!
...значит, уроки уже закончились.
— Идите сюда немедленно! Только попробуйте мне изгваздаться!
— Смотри, что я нашла!!!!
— Я кому сказала?! Нам же еще...
— Миллион миллионов ежевик!!! Миллион миллионов!!!
— Говорю же вам, нам пора. Господи, куда же я дела эти ключи? Где собака? Где ее черти носят?
Она слышала, не слушая, пропуская голоса сквозь себя, словно воду. «Пусть текут вокруг бедной моей головы. Глупой моей, дурной моей головушки».
Обед затеяли из-за завещания. Ее дети, Пит и Энни, приехали издалека и с тщательно спланированной одновременностью возникли на пороге точно в назначенное время, назначенное в ходе длительных обсуждений, поскольку это была не первая, и даже не вторая попытка собраться на семейный совет. Вопросы наследования предстояло обсуждать в ресторане роскошного отеля «а-ля шато», выросшего на пустоши и слывшего местом для избранных.
Туда они и пошли. Мимо неглубокого пруда, через великолепные новые ворота прямо к вылизанному до блеска парадному входу, где обнаружили расставленных у каждого столба официантов с надутыми физиономиями, лоснящиеся шторы из стеганого атласа с фестонами и подборами, а также весьма немногочисленных посетителей, сидевших на леденящем душу расстоянии друг от друга. Половина из них оказалась японцами, застывшими, оцепенелыми от всеобщего молчания и, казалось, горько сожалеющими о том, что их занесло сюда из центра Лондона.
Когда Пит и Энни были маленькими, на этом месте стоял дом престарелых. Как-то раз Энни пробралась на территорию со стороны парка, начинавшегося сразу за усадьбой: вскарабкалась по насыпи, потом залезла на террасу, огороженную цепями (а теперь ласкавшую взор белой садовой мебелью и искусственными растениями), и прижалась носом к садовым окнам, чем до смерти напугала тех обитателей, которые еще были в состоянии реагировать на сигналы из внешнего мира.
— А зачем они спят сидя? Сели в кружок и спят. А у одного слюни прям на губе висят.
— Просто они очень старенькие, — объяснила дочери миссис Эйвори.
Энни глубоко задумалась. Ей было пять лет. Круглое, как солнышко, личико терялось в пылающем солнечном нимбе золотых волос, блестящих и шелковистых. Глаза, поднятые на мать, были доверчиво и изумленно распахнуты. Миссис Эйвори понимала, что ее дочь впервые столкнулась с тем, что человек смертен.
— Я тоже буду старенькая?
— Конечно, но это совсем не страшно.
По дороге домой Энни спросила:
— И ты станешь старенькая?
— Да, но не такая, как они. Я тебе обещаю. Слово даю: я состарюсь по-другому. И ты тоже.
— И папа? И Пит? Они тоже по-другому?
— Ну конечно!
Энни уселась в коляску и мигом заснула, уютно завалившись на бок. Они медленно тащились домой, подгоняя канителящуюся собаку, которая отказывалась идти куда надо, а потом путалась под ногами и под колесами. Пит накрыл своей маленькой теплой ладошкой ее пальцы, лежавшие на ручке коляски.
— Знаешь, мам, мы, наверно, все состаримся.
Вспоминая милое серьезное личико своего шестилетнего сына, миссис Эйвори все никак не могла взять в толк, откуда же взялась его нынешняя свирепость? Пит сегодняшний не вызвал бы у того малыша ничего, кроме ужаса. Хотя вот уже много лет миссис Эйвори была знакома с этим оскалившимся чужаком, взять это в толк у нее не получалось.
В ресторан, очищенный от патины времен и прямо-таки источавший чувство превосходства, весьма, кстати, сомнительного, Пита не пустили, потому что он был в джинсах. И не при галстуке.
— Да как вы смеете, сегодня, в конце концов, суббота, еще утро, и потом, у нас же заказан столик!!!
— Таковы наши правила, сэр.
И даже Энни, главе окружного совета, несмотря на дорогой дизайнерский костюм, отличный жемчуг и авторитет, основанный на удачном замужестве, удачном разводе и четырех прелестных и весьма удачных детях, не удалось тронуть сердце метрдотеля, недалекого и холодного как сосулька, не желавшего знать ничего, кроме службы.
А посему Алисон Эйвори, Питу и Энни пришлось повернуть назад, пройти через пустошь и, чувствуя себя неуместно расфранченными, сесть за испещренный следами от стаканов с пивом столик в местной забегаловке, где здоровенные недоросли со щетинистыми подбородками и волосатыми подмышками орали что-то друг другу, пытаясь перекричать музыку, а заплеванный газончик перед входом был усеян пустыми стаканами, стеклянными и бумажными. Пит и Энни кипели от злости.
— Как здесь можно жить, я не понимаю? Кругом одни мещане, пошлые, малообразованные нувориши, — фыркнул Пит, — и иностранцы к тому же!
— Но мы-то переехали сюда, потому что здесь все было так дешево, — вздохнула его мать, — и как-то очень безыскусно. Настоящая эдвардианская идиллия. Вы только-только родились. Как сейчас помню, я все время думала: «Будем каждый день гулять с ними на пустоши. Они каждый божий день будут бегать по траве!» После Лондона здесь было так спокойно, так тихо...
— Зато сейчас тут о-очень даже громко, — огрызнулся Пит. — Разговаривать придется где-то в другом месте. Ну что, вернемся домой? Или, может, ну его? Как-нибудь в другой раз?
— Что, опять? Ну уж нет, — возмутилась Энни. — Сколько можно переносить? И не будет у меня другого раза, по крайней мере, до Рождества.
— Но до Рождества еще целых три месяца, — подняла глаза мать.
— Именно. Но я, смею заметить, работаю, — отрезала Энни.
Пит, живущий загадочной жизнью свободного художника, при этом ни в чем себе не отказывающий (его джинсы были от знаменитого римского кутюрье), заявил сестре, что нельзя стремиться всегда все делать самой. Пора переучиваться.
— И не подумаю, — отозвалась она. — Да, я все сама! И только благодаря этому добилась всего, что имею!
— Вот с этого места хотелось бы поподробнее!
— Дети, пожалуйста, — простонала миссис Эйвори, ковыряя лежавший перед ней на тарелке брусочек лазаньи с черной фасолью.
— Мы, конечно, можем вернуться домой и поговорить там, но ведь нам троим в твоей квартире просто не на что будет сесть. Может, поговорим на пустоши? Чем плохо? Найдем какое-нибудь местечко...
— Не нужно, — ответил Пит, — правда, не стоит. Для меня, если честно, это Божий промысел. Неловко было говорить, раз уж все пошло наперекосяк, но для того, чтоб приехать, мне пришлось в Лондоне кое-что отменить. Кое-что очень важное. Если можно, давайте-ка на сегодня поставим точку. Мне действительно пора, так я, может, еще успею. Мамуль, ты же не собираешься прямо сегодня умирать? Выглядишь ты замечательно. Мы повидались, пообедали вместе, это ведь тоже важно, правда? А теперь давай-ка мы проводим тебя домой.
В голосе его слышались умиротворяющие и радостные нотки. Потом он метнул свирепый взгляд на сестру, ожесточенно листавшую ежедневник. Миссис Эйвори отложила вилку в сторону.
— Знаете, я на самом деле тоже за то, чтоб разойтись. Как-нибудь в другой раз я с удовольствием выберусь к кому-нибудь из вас в гости, например, к тебе, Энни, а ты, Пит, к нам присоединишься, ведь правда? Проведем весь вечер вместе, времени будет много. Мне так хочется скоротать с вами обоими целый вечер, чтоб никуда не спешить.
— А что если сразу договориться с поверенным на определенное время, а для мамы заказать такси и привезти ее прямо в Темпль, в Грейс-инн, — предложил Пит.
— Я категорически против! — отрезала Энни
— Почему, позволь спросить?
— Потому что это бесчеловечно, как будто речь идет только о цифрах! Как же можно вот так говорить о завещании? И потом, мы-то с тобой все-таки ни в чем не нуждаемся.
— И слава Богу, — подняла глаза Миссис Эйвори.
Она чувствовала странный прилив нежности.
Энни внимательно посмотрела на мать.
— Мамочка, давай-ка мы отведем тебя домой, а то ты совсем устанешь.
— В разговорах о завещаниях нет ничего бесчеловечного, и мне бы хотелось обсудить кое-какие цифры. У нас есть Смитсон. Он отличный поверенный и в курсе всех наших дел. Мне нужна профессиональная консультация. Я доверяла его отцу, доверяю ему. Но мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре. Я знаю, что вы разумные люди, но мне хочется быть уверенной, что потом не будет никаких недоразумений. Давайте на этом и порешим. Договоритесь о встрече со Смитсоном, скажем, через месяц. Энни, умоляю, выкрои время! Я обязательно приеду, так что мы совсем скоро встретимся... — После еле заметной паузы миссис Эйвори продолжила: — ...но только, пожалуйста, не на Рождество.
Все трое обменялись понимающими улыбками. Материнское неприятие Рождества давно стало у них притчей во языцех.
— У меня на счету сорок рождественских праздников, — произнесла (заученно) миссис Эйвори. — И все их я вынесла на своих плечах, без чьей-либо помощи. Так что с меня хватит. При одной только мысли о Рождестве мне становится тоскливо и страшно. Но в любое другое время я с удовольствием приеду погостить на денек.
В воздухе висело какое-то противостояние, от которого всем троим было неловко.
Но у машины Энни, припаркованной перед домом миссис Эйвори, дети расцеловались с матерью почти ласково. От провожаний вверх по лестнице на третий этаж мать отказалась.
Все трое посмотрели вверх, на ее окна.
— Я прекрасно дойду сама, — произнесла она.
— Уверена? Может все-таки, мы тебя забросим?
— Я абсолютно уверена. И потом, я пока не иду домой. Мне хочется погулять на пустоши.
— Это не опасно?
— Господи, я же гуляю там каждый день всю свою жизнь!
— Только не заходи в дебри, — улыбнулся Пит. — Держись ближе к краю.
Энни и Пит сели в машину, опустили окна и какое-то время безрадостно глядели перед собой в преддверии предстоящей дороги, предстоящего вечера.
— Или в поисках утраченных чувств, — подумала миссис Эйвори. — Думают, что они вот переменились, а я все та же, хотя это полный вздор. Им неприятно про меня думать. Но это ненадолго, это пройдет. Отомрет. Умрет. Вместе со мной.
Лица детей показались ей измученными.
— Нелегко им, — подумала миссис Эйвори, заметив вдруг в волосах дочери непрокрашенную седину.
Энни открыла очешник и водрузила на нос очки.
Лицо Пита было обращено в профиль. Залысина на лбу стала глубже.
— Сардонический медальон, — произнесла миссис Эйвори.
— Что-что? — переспросил Пит.
— Я молчу.
У него между бровями, над переносицей, залегли две глубокие вертикальные морщины. Она дотронулась до них пальцами. Сын отпрянул.
— Ты всегда так делал.
— Ты тоже. Всегда мне говорила: «Будешь хмуриться, они так и останутся». Ты говорила, что я хуже Хватая. У него вся морда была в морщинах. Так и говорила: «Ты же хуже собаки!» Честное слово, мам, ты прямо так и говорила, что я хуже собаки, представляешь?
— Но я же любя! И собаку я любила.
— Морщины были не у Хватая, а у Биддулфа, — вмешалась Энни.
И под споры об умерших собаках автомобиль рванул с места.
— Не заходи далеко, а то заблудишься, — доносилось из окна.
— Я позвоню, — махал рукой Пит. — Жаль, что так все получилось. Жуткий вышел обед. Ладно, до связи. Ужасно обидно.
Потом ей захотелось дойти до ежевичника. Она пошла назад мимо пруда, мимо кафешки, где они обедали, мимо отеля-шато и дальше, за гаревую дорожку терренкура. Прошла мимо последних участков, где на границе полей для гольфа застыли дома, словно готовые бороздить волны галлеоны. Прошла через первые деревца пустоши. Раньше, чтоб не утомлять короткие детские ножки, весь этот долгий путь приходилось проделывать на машине. Ее сухопарое старческое тело чуть кренилось вперед, голова опущена, лицо повернуто в сторону, словно уклоняясь от порывов пронзительного, холодного ветра.
Она поплотнее запахнула пальто и почувствовала прилив удовольствия. Ей неизменно доставляла удовольствие мысль о собственной фигуре, о том, какую стройность и элегантность удалось сохранить, несмотря на возраст. Узкие ступни высохших ног ступали осторожно, стараясь не споткнуться.
Позади душистый ракитник, росший под еловыми лапами вдоль высохшего ручья, и вот наконец ежевичная поляна с ее приветной новенькой скамейкой.
Она села.
Усталости не было. Все свою жизнь она терпеть не могла слез, а вот теперь, к вящему неудовольствию, плакала.
Она плакала по мертвым. Не по мужу, давно ставшему для нее тенью, не по матери, уже нет, и, конечно же, не по отцу, которого потеряла еще школьницей. Не по старым друзьям минувших лет. Не по юному своему телу, не по молодому лицу.
— Не по свежести желаний, не по стройным лодыжкам, — всхлипывала она, — не по моим знаменитым бровям треугольничками, похожим на французские диакретические знаки над гласными. Кто-то ведь так и называл их, accents circumflex, а пятилетняя Энни говорила «мои ненаглядные домики». Не по любовникам, не по утраченным кумирам, нет. Я плачу только по своим детям. Моим мертвым детям. Господи, верни мне их!
Они вылезли, пригибаясь, из ежевичных зарослей. Оборки на платьице Энни были заляпаны соком ягод. Она заметила миссис Эйвори и испуганно схватила Пита за руку. Дети застыли на месте.
— Я же совсем забыла, какая у него макушка, — подумала миссис Эйвори.
Мальчик и девочка в старомодных костюмчиках рассматривали миссис Эйвори, тянувшую к ним руки.
— Я помню это платьишко, — сказала она Энни. — Сок так и не удалось вывести.
— Нет, — отозвался Пит. — Она его только сегодня надела. Мама пока про сок ничего не знает. И вы не можете знать.
— А вот и знаю.
Протянутые к ним руки распахнулись еще шире.
— Я правда знаю. Ну, подойдите же ко мне!
— Нет, — отрезала Энни.
— Нам мама не велит, — поддержал ее брат.
— А я вам сказку расскажу.
Дети заколебались.
— Спасибо, — сказал Пит. — Нам мама всегда сказки рассказывает. Она тут рядом, за кустами, просто ее не видно. Она ключи от машины не может найти. Нам надо помогать искать, а то она уже вообще дошла.
— Господи, — думала она, — и коленки его я забыла. И то, что у нее был прямой пробор.
Она слышала свой молодой голос, зовущий к себе детей. Пит и Энни сжались и метнулись в лаз под ежевичными ветками.
Из последних сил она крикнула вслед:
— Возле машины поищи. Ты обронила их, когда вылезала. Только не паникуй, сейчас ключи найдутся, и вы поедете домой, я даю вам слово, вы доедете, и все будет замечательно.
Энни должна была высадить Пита на Слоун-сквер. Автомобиль замер на двойной желтой линии, они сидели и ждали, пока поток машин не иссякнет, чтобы можно было открыть дверь и выйти.
— Она прекрасно себя чувствует, — сказал Пит.
— Да, крепкая, подвижная. Вот пятна на руках — это, конечно, ужас.
— Еще бы не пердела.
— Как ты можешь! Газы у каждого бывают. У тебя тоже. И у меня.
— Господи ты, Боже мой!
Их соединяла вместе близость разговора, в котором не смог бы участвовать третий.
— А по поводу денег — как всегда, сплошная непонятица, — вздохнул Пит. — Ой, не знаю, сколько еще лет пройдет, пока мы до чего-то договоримся. Ее ничто не берет. Она вечная. Это, я думаю, результат тоскливой жизни. Ужас, а не жизнь.
— Ужас, а не день, — отозвалась Энни. — А на пустоши хорошо, да? Помнишь, как мы однажды от нее удрали? Ну, помнишь, она еще ключи от машины не могла найти. Кстати, с возрастом, если вдуматься, она стала много собраннее.
— Да, давали мы ей жизни.
— Не скажи. С нами особых хлопот не было. Я знаю, что говорю, у меня есть, с чем сравнить.
— А помнишь старуху, на которую мы наткнулись в ежевичнике? Она нам еще сказала, где искать ключи от машины.
— Ага. Я так ее испугалась! Мы никогда про нее не говорили. Даже друг с другом.
— И маме ничего не сказали. Ни слова. А мы ведь тогда все ей рассказывали. Абсолютно все. Я по крайней мере.
— Я тоже, — пожала плечами Энни.
Пит прищурился, глядя куда-то вдаль
— В ежевичнике, — сказал он, — это было в ежевичнике. Славная такая старуха. И точно в эту пору. Господи, иногда мне кажется, что все это было даже не вчера, а сегодня.