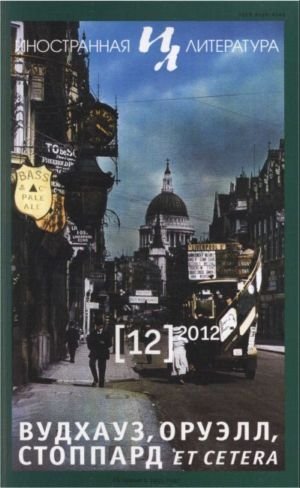
П. Г. Вудхауз
Моя война с Германией[1]
СЕГОДНЯ повсюду, от Берлина до Владивостока, от Пеблса в Шотландии до Маттахамквехасета в Новой Англии, звучит один и тот же вопрос: «И что потом?» Повсюду мыслящие люди глядят в будущее и спрашивают, что оно сулит. Все более или менее сходятся в одном: с окончанием военных действий жизнь не станет такой, какой была до сентября 39-го. Прислушайтесь к любому разговору, и вы услышите что-нибудь вроде: «Попомните мои слова, после войны все будет иначе», или «Попомните мои слова, после войны все переменится», или «Попомните мои слова, после войны ничто не будет по-старому».
Вполне возможно, что все эти люди обсуждают будущее Европы, но не исключено, что они говорят обо мне. С 21 июля 1940 года немецкое правительство принимает меня в своей заслуженно популярной сети заведений для интернированных (напомните как-нибудь рассказать про тюрьму в пригороде Лилля, где я провел неделю — вот было времечко!), и сейчас все цивилизованное человечество задается вопросом: «Каким Вудхауз выйдет из каталажки? Будет ли это тот же забавный старикан, — спрашивает себя человечество, — что болтался тут последние лет шестьдесят, или нечто новое и неожиданное? Скажем, увеличится его лысина или останется тех же размеров? Станет он краше — если такое возможно — или подурнеет? Улучшится его фигура на казенных харчах или картофельная диета добавит ему лишний подбородок, губительный для классического профиля? Одним словом: чего ждать от Вудхауза?»
От такого вопроса не отделаешься пожатием плеч и равнодушным «Понятия не имею». Публика вправе требовать, чтобы от нее не утаивали столь важную информацию. Последнее время я немало размышлял по этому поводу. Иногда я думаю одно, иногда — другое. Изложу мои основные выводы.
Для начала расчленим Вудхауза на составляющие, как, вероятно, говорили себе в мае прошлого года пилоты немецких бомбардировщиков, сбрасывая бомбы вокруг моей виллы в Ле-Туке. Итак:
1. Вудхауз, человек.
2. Вудхауз, англичанин.
3. Вудхауз, кумир общества.
Здесь некоторые перемены определенно наличествуют, и я не знаю, насколько они понравятся обществу. Все зависит от того, сколько сладости и света оно может вынести.
В первые недели я так упрямо старался не поддаваться обстоятельствам, что явно переусердствовал с жизнерадостностью. Я сам это вижу. У меня развилась привычка с видом По-лианны улыбаться каждому встречному и восклицать «Доброе утро! Доброе утро! Какое чудесное утречко!» тем неунывающим тоном, который за пределами лагеря мало кто сможет выдержать. Если эта привычка сохранится и после войны, она будет очень сильно раздражать окружающих. Надеюсь лишь, что в переменившихся условиях все выправится само собой, и я вновь превращусь в старого ворчуна, чье утреннее приветствие больше походит на глухой рык загнанного леопарда.
Вопрос о моей внешности не представляется мне существенным. Верно, что, укладываясь каждый вечер в девять часов, я чрезвычайно похорошел от здорового сна. Лагерфюрер, проходя мимо меня на поверке, вынужден прикрывать глаза ладонью, а охранники, заглядывая через колючую проволоку, в панике перешептываются: «Ну вот, сегодня Вудхауз еще красивее! Сколько ж можно?! Это не опасно?»
Тревогу охранников можно понять. Эти честные малые боятся (и правильно боятся), что моя лучезарность поставит под угрозу безопасность водителей и пешеходов. Однако они забывают, что я в любой момент могу ее приглушить, если отращу бороду.
Многие из моих собратьев по плену заросли до бровей. Больно смотреть, как милое лицо давнего знакомца день за днем скрывается под натиском дремучего леса. Некоторые выглядят гаже остальных, но все — гаже некуда, и невольно жалеешь капрала, вынужденного будить их по утрам. Ничего себе начало дня!
Тем не менее им нельзя отказать в уме. Борода прибавляет человеку от двадцати до сорока лет; рано или поздно здешнее начальство телеграфирует в Берлин, что лагерь переполнен дряхлыми старцами, которых стоит выпустить, пока они еще способны выйти за ворота своими ногами. Борода полезна также, если решишь совершить побег. Полезно иметь при себе собственные джунгли, куда можно юркнуть от погони. Взвод немецких солдат, высланный на поиски интернированного Смита или интернированного Монагана в дебри их бороды, заплутает через первые же пять ярдов. «Темен девственный лес»[2], — скажут они себе и повернут обратно, пока не закончились вода и провиант. А ежели они и найдут беглеца, то примут его за доктора Ливингстона.
Так что готовьтесь увидеть бородатого Вудхауза.
Здесь перемены будут не внешними, а внутренними, и перемены эти очень значительны. До войны я скромно гордился принадлежностью к английской нации и считал, что, родившись в Гилфорде, графство Суррей, проявил удивительное в столь нежном возрасте благоразумие. Теперь, прожив несколько месяцев в здешней кладовке для англичан, я несколько порастерял былую уверенность. Семя сомнений было брошено в мой мозг, и оно проросло. Я по-прежнему глубоко уважаю и люблю человека в старой матерчатой кепке, составляющего костяк нашего лагеря, да и про себя не могу сказать ничего дурного. Однако британцы, не знающие ни слова по-английски, меня немного смущают. Всякий раз, как я выпячиваю грудь, чтобы воскликнуть «Счастливейшего племени отчизна!»[3], я слышу, как мои собратья по плену разговаривают на фламандском. Как я уже заметил, это смущает.
На двери столовой висит плакат следующего содержания:
Please shut the door.
Fermez la port S.V.P.
Deur sluiten AU.B.
Zamknąc с drzwi prosze[4].
И всякий раз, как я проше замкнончь джви, меня обуревают сомнения: а стоило ли делаться англичанином? Уж очень английское общество разношерстное.
Дело в том, что, если пройтись частым бреднем по Франции, Польше, Норвегии, Бельгии и Голландии и выловить всех людей с британским паспортом, улов будет своеобразный. Здесь в лагере англичанин может быть охотником за головами с Борнео или сыном болгарина индокитайского происхождения от негритянки из Сенегамбии. Я совершенно убежден, что между нами затесались бабуины, и считаю, что это чересчур. Властям следовало бы выпустить, по крайней мере, хвостатых. Специалисты из гестапо вполне в состоянии дать заключение в сомнительных случаях. Всем, кто еще не научился ходить на двух ногах, надо немедленно предоставить свободу.
Сомневаюсь, впрочем, что у Вудхауза, когда он вернется на родину, сохранится много национальной гордости. Например, я больше не смогу цитировать из Киплинга про «не знающих закона дикарей»[5] — побоюсь, что кто-нибудь встанет и спросит, не об англичанах ли я. И даже если ответить на это беспечным «Замкнончь джви проше», все равно будет неловко.
Данный раздел особенно важен. Многие знают, что до войны я был более всего известен как гость на званых обедах и в загородных домах. Я играл в свете примерно ту же роль, что некогда Красавчик Бруммель[6]. Герцоги не начинали есть, пока не увидят, какую вилку я взял, графини шептали своим сыновьям и наследникам: «Повторяй за Вудхаузом и точно не ошибешься». На банкетах мне бывало неловко чувствовать на себе взгляды всех собравшихся.
Теперь я должен буду учиться застольным манерам с нуля. Если в будущем соседка за обедом наклонится ко мне, я решу, что она покушается на мой хлебный паек. Если мимо пройдет дворецкий, я не удержусь от вопроса, нет ли сегодня надежды на лишний черпак баланды. Если молодой франт услышит разгневанный вопль: «Эй! Тому малому положили три картофелины, а мне только две!» — и увидит красное от возмущения лицо, то и лицо, и голос будут мои. В лагере привыкаешь отстаивать свои интересы.
Сегодня я знаю лишь один способ обедать: по свистку схватить миску, ложку, старую коробку из-под сигар и выстроиться в очередь к баку. Если после войны ваш лакей подаст мне картошку, я растеряюсь. Здесь я привык получать картошку так: протискиваешься мимо того, кто стоит перед тобой в очереди, и протягиваешь коробку из-под сигар. Старый Джордж Марш запускает обе руки в ящик, загребает картошку и перегружает в коробку. Если это и впрямь добрейший Джордж Марш, а не кто-нибудь из его бессердечных коллег, он ловит мой умоляющий взгляд и добавляет еще чуточку. Так же обстоит дело с рыбной похлебкой, ячменной кашей и кислой капустой, только их накладывают черпаком, что усиливает драматизм.
До чего же отрадно видеть, как наши учтивые и всеми любимые раздатчики оделяют нас вышеупомянутыми деликатесами! Очень скоро понимаешь, что перед тобою не зеленые новички, а настоящие профессионалы! Есть один человек, чьего имени я пока не запомнил, но в раздаче рыбной похлебки он то же, что Бобби Джонс[7] — в гольфе. В тот миг, когда он начинает замах, сразу видишь руку мастера. Он усвоил главное правило: не дергайся, не верти головой, не своди глаз с миски.
Многие молодые и неопытные раздатчики вкладывают в удар чересчур много силы, забывая, что все решает последнее движение запястья. Тот человек никогда не допускает такой ошибки. Он знает, что главное — правильно рассчитать движение. Легкий, почти небрежный замах, черпак никогда не поднимается выше плеча, и, когда ты, расставив ноги, собираешься, чтобы принять удар, — вззз! — похлебка гранатой взмывает в воздух и плещет в самую середину миски. Хороший раздатчик почти гарантированно попадет в цель с расстояния в три фута и обрызгивает тебя лишь самую малость.
Это что касается званых обедов. Что до загородных визитов, я буду крайне непритязательным гостем. Если после войны вы решите пригласить меня в свою сельскую резиденцию, не тревожьтесь, что не можете предоставить мне отдельную ванную. Теперь я предпочитаю совершать утренний туалет в обществе пятнадцати-двадцати себе подобных.
И вам не придется ждать меня к завтраку. Я тут привык вставать рано. Ровно в шесть звучит побудка, и тут же в спальню с топотом вступает крупное подразделение немецкой армии. Впереди шагает капрал, который орет: «Auf!»[8], рядом с ним горнист дует во всю мочь. И все встают. Как-то не приходит в голову поступить иначе. Герберт Уэллс написал роман про человека, который проспал тысячу лет. Будь у того в спальне немецкий капрал, он бы проснулся куда раньше.
Я вижу, что не ответил на вопрос о своей фигуре. Что ж, придется сказать горькую правду. Боюсь, что послевоенному миру стоит приготовиться к расширенному изданию Вудхауза. Немецкая картошка — очень питательный овощ, однако приходится выбирать между нею и стройностью. Или одно, или другое. И я до сих пор не нашел в себе сил отказаться от немецкой картошки. Мы получаем ее на первое и на второе, и трудно сказать, в каком блюде она соблазнительней.
А еще есть немецкое пиво. Достойный напиток — и, если вам есть чем платить, вы получаете его без ограничения. Увы, оно тоже не способствует похуданию. Да, друзья, которые все эти месяцы молятся о моем возвращении, еще будут ворчать, что получили вдвое больше, чем просили.
Итак, вот ответы на вопрос: «Чего ждать от Вудхауза?» Теперь остается лишь один, самый животрепещущий: как старый маэстро выпутается из этой передряги?
Будь я холостяк и без собаки, я бы не особенно торопился покинуть лагерь. Мы хорошо питаемся, много спим, что до тяжелой работы, все, кто старше пятидесяти, от нее освобождены. А молодежи физический труд только на пользу, как думаю я частенько, покуривая трубочку и глядя, как мои младшие товарищи уходят грузить уголь или расчищать снег.
Более того, воздух в Верхней Силезии прекрасный, охранники — образцы мужественной красоты, радующей глаз; довольно скоро привыкаешь висеть на колючей проволоке, как шляпа на вешалке.
Однако я — женатый человек с пекинесом и боксером и потому желал бы при первой возможности изменить место проживания. Я вижу только один выход: нам с Германией надо сесть за круглый стол и заключить сепаратный мир. Нетрудно будет прийти к условиям, устраивающим обе стороны. Единственная уступка, которой я намерен добиться от Германии, — это чтобы она выдала мне буханку хлеба, велела господам с ружьями у ворот отвернуться и доверила остальное.
В ответ я готов отдать ей Индию, комплект моих книг с автографом и тайный рецепт приготовления картофельных ломтиков на обогревателе, ведомый только двоим: интернированному Артуру Гранту и мне. Предложение действительно до следующей среды.
П. Г. Вудхауз
Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой