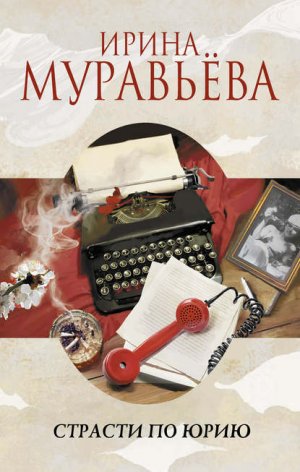
Часть I
Никто не ожидал, что в декабре зацветут розы. Бутоны их, уже слегка сморщившиеся от ноябрьского ветра – хотя и теплого, но все же порывистого и тревожного, как и полагается ветру, несущему в пышных, огромных раздутых губах, волосах, крепких крыльях суровую весть о грядущей зиме, – бутоны зажглись и смущенно раскрылись. Да что там бутоны! Земля вся прогрелась – вот главное. Земля разомлела настолько, как будто бы завтра вся зазеленеет. А ей не цветения ждать полагалось, а колких и крепких объятий мороза.
Вот так и с людьми. Не смерти ждет человек и даже не старости, хотя вокруг сколько примеров: вон с палкой какой-то сутулый прошел, а вон понесли на носилках старуху, – и все же, проснувшись поутру, увидев, как синью охвачено небо, человек начинает думать о том, что он никогда не умрет, никогда не состарится, и думает только об этом, хотя своих мыслей не осознает: они, как дыхание, неощутимы. А если предчувствие вдруг и сожмет уставшее сердце, то это не тогда случается, когда мужчина или женщина средних лет, но все еще полные сил и желаний, пьют, скажем, свой утренний чай или кофе и им нужно быстро одеться, бежать (кому на работу, кому в магазин!), а дел, и забот, и звонков впереди так много, что дня никогда не хватает, – не в эти минуты сжимается сердце, а ночью, когда человек крепко спит – так крепко, что даже рука затекает.
Варвара Сергеевна часто видела себя стоящей на краю обрыва. Весь смысл этого мрачного сна заключался в том, что спастись можно только при одном условии: не оглядываться, не обращать внимания на влажную и жаркую волну – дыханье чужой притаившейся жизни, враждебной по сути, несущей ей гибель. Она стояла на выскальзывающем из-под ноги камне, не шевелясь, закат все ярче и ярче разгорался перед ее слезящимися глазами, и в этом мучительном свете чернела одна неподвижная, длинная тень. Стояла, пока этот сон не смывало внезапно нахлынувшей грязной водою. Утром она просыпалась с мешками под глазами, с затекшей левой рукой, подходила к зеркалу, быстро растирала продолговатые щеки, широко раскрывала черные, отливающие синевою глаза и часто до слез ужасалась тому, как гаснет и меркнет ее красота. Еще бы: одни неприятности. Жизнь походила на распластанную шкурку под острым ножом скорняка, но шкурка была вся живой, ножом ее резали с кровью.
Спасение было одно: быть с ним, и пусть он защищает. И он защищал, хотя если уж говорить о нем, то он-то и был скорняком, он и резал. Варвара во многом вела себя так же, как в детстве, и ей часто пеняли на эту ее ребячливость. Ребячливость-то и спасала. Так же, как в детстве, когда она пряталась в самые далекие уголки, завешивалась какой-нибудь простыней, затаивалась, и ужас, что вот-вот найдут, все разрушат, сменялся восторгом, и новый, из жгучих огней пополам с чернотой и кровью, шумящей в ушах, чудный мир, в котором ей было тепло до истомы, валил, обволакивал и уносил, как волк на себе уносил Василису, – вот так и сейчас: она прибегала к нему в мастерскую, завешивала окна, срывала с себя всю одежду и быстро, как будто за ней кто-то гнался, ныряла к нему, в его жадные руки. Всякий раз, когда они в душной этой мастерской опять, в сотый раз, без единого звука – лишь мощно шумящая кровь в голове – сливались в одно существо и казалось, что ног слишком много, а рук ни одной, она начинала дышать глубоко, свободно, прекрасно, не так, как всегда. Она поднималась над грешной землею, и ребра ее холодели внутри, как будто по ним провели очень быстро осколком слоистого льда.
Юрочка, знаменитый писатель Юрий Николаевич Владимиров, был Вариной самой заветной любовью. Все прежние ее увлечения и даже два брака по сравнению с тем, через что она проходила сейчас с ним, казались набросками, серыми слепками.
А жизнь начиналась непросто. Варвара была такой красивой, что в детстве, когда бабушка шла за руку с ней по бульвару, всегда кто-нибудь приставал к ним, заговаривал, мешал разговору. Бабушка относилась к подобным приставаниям болезненно, и эта болезненность передавалась Варе. Ей было лет восемь, когда за бабушкой увязался лохматый, в большом грязном шарфе молодой человек, умоляя привести девочку на киностудию «Мосфильм» и показать ее Рубену Исхаковичу. Бабушка наотрез отказалась идти на киностудию, и тогда лохматый встал на колени и так, не вставая, по свежей траве, шел долго за ними и что-то покрикивал. Они убежали от него и бежали долго, пока не оказались в безопасности, спрятались в «Гастрономе», где Варя выпила два стакана томатного сока с мякотью, предварительно размешав в этом соке пол-ложки серой грубой соли, насыпанной горсткой на блюдце. С годами она поняла: все эти аханья, цоканья, прищелкиванья костяшками, посвистывания, вспышки зрачков, которые липли к лицу, – все это: «мужчины». Когда она начала сама ездить на метро в школу, ей приходилось сразу же доставать из портфеля учебник и делать вид, что она не может от него оторваться, хотя ото всех этих знаков внимания то строчки сливались, то буквы крошились. И было совсем уже гадко и стыдно, когда у них засорилась раковина на кухне, пришел кисло пахнущий ржавчиной слесарь, опустил свои волосатые ручищи прямо в гнилую грязную воду, а Варя почему-то стояла и смотрела, не могла оторваться, пока он не оглянулся вдруг воровато и не выдохнул ей прямо в лицо: «Меня бы в такую… запусти, так я и не вылезу!» Она не знала слова, которое растопырилось внутри его вороватой и непонятной ей фразы, но сразу выскочила из кухни, как будто ее обварили, и плакала долго, закрывшись в уборной.
Во дворе их дома на Смоленской вечно торчала шпана, поэтому Варвару не выпускали гулять вместе с другими девочками, которые так и льнули к этой шпане и всячески пытались обратить на себя внимание самых что ни на есть отпетых хулиганов с такими веселыми, добрыми лицами, что плакать хотелось от жалости: все ведь сопьются. Тринадцатилетние Варины подруги не знали, что парни сопьются, им просто хотелось тепла. Хулиганы излучали тепло, такое ровное и заманчивое, как будто внутри их горели рефлекторы, и жемчужная от мороза слюна, сплюнутая на снег их красными, как клюква, губами, была красивее, чем брошка на платье. Они исподлобья смотрели на девочек, дивясь их невинности, громко шутили, а девочки, вовсе не все понимая, смеялись их шуткам и жались друг к дружке. Это были простые девочки из простых семей, по воскресеньям их матери в цветастых халатах, тапочках на босу ногу и с огромными от бигуди головами под газовыми платочками выносили помойные ведра и делали это с размахом и весело. Варя стояла у окна и смотрела на то, как чужие полуголые женщины с багровыми от мороза лицами и шеями скользили почти босиком по дорожке, протоптанной к бакам, потом поднимали тяжелые ведра, и полы цветастых халатов, как птицы, шарахались в разные стороны.
Ее мама умерла давно, так давно, что Варя ее и не помнила. Но помнила запах. Она знала, что это запах духов «Красная Москва», но в доме у них отродясь не душились, а запах все жил. Иногда, особенно спросонья, утром, она вдруг чувствовала, что запаха нет, он ушел, и ее охватывала паника. Но запах опять возвращался. Он плыл, едва уловимый, капризный, упрямый, как будто его возвратили силком, то от бахромы на диванной подушке, то даже от связки ключей. На кладбище, куда Варя иногда ездила вместе с папой, темнел красный камень с большой фотографией. Мама смотрела мимо Вари, как будто забыла о ней и как будто ей даже неловко, что там, на земле, другие бегут по морозу, теряя в снегу свои рваные тапки, а ей, с этой очень красивой прической, досталось беспечно глядеть в облака. Все, кого Варя знала, не сомневались в том, что у нее НЕТ мамы, но и дед, и отец, и бабуля, и, главное, сама Варя относились к маминой смерти с подозрением, и хотя ни один из них не произносил этого вслух, но каждый в душе твердо верил: они с ней когда-нибудь встретятся.
Вчера вечером, когда нужно было уходить из мастерской и опять расставаться с Юрочкой, – а свидание получилось нервным, скомканным, и Юрочка хмурился, как будто куда-то торопился, – Варвара Сергевна, сидя в одном белье на кровати и внимательно следя черно-синими глазами за погрустневшим своим любовником, сказала, вздохнув:
– Сегодня день маминой смерти.
– Ходила на кладбище?
– Что мне там делать?
Юрочка ничего не ответил, и она знала, что он по своему замкнутому характеру не станет бросаться в такой разговор, а даст ей сказать, а потом промолчит, и так, чтобы ей показалось, как будто он с нею во всем согласился. Но лицо его при этом обязательно вспыхнет отражением какой-то собственной мысли, которой Юрочка не собирается с нею делиться. Он был словно лодка, которую привязали к берегу очень длинною цепью, и всякий раз, когда поднимается ветер и море штормит, эта лодка, мирно спящая на песке, гремит и пытается вырваться. Конечно же, ей далеко не уплыть, но эти порывы пугают.
Вот и сейчас, когда Варвара решительно сказала, что ей нечего делать на кладбище, а он промолчал и начал зачем-то уже одеваться, нагнулся, чтобы завязать шнурки на ботинках, и этим движением спрятал лицо, она сразу вспыхнула, вскочила с кровати, села перед ним на корточки, оттолкнула его руки, сама завязала шнурки и спросила:
– Ну, что ты молчишь?
– Так а что говорить?
– Нет, ты подожди! Ты решил доказать…
– Да что тут доказывать… – Он дернул своей обожженной щекою и все-таки встал.
Обожженная щека, которую он прятал под седыми волосами и стеснялся ее, хотя, как искренне думала Варвара, его умное лицо с высокими татарскими скулами и ясными глазами только выигрывало от темной плесени небольшого ожога, который его отличал ото всех, – эта бедная щека была ей знакома во всех своих впадинках, родинках, шрамах, и сейчас, когда он задергал вдруг ею, и встал, и двинулся к вешалке, словно не видел, что Варя сидит на полу, она перегородила ему дорогу, обхватила его шею руками, прижалась губами к ожогу и замерла.
– Повалишь меня, – усмехнулся он кротко.
Но они уже снова оказались на кровати, и он покорно опустился на подушки, глядя на нее своими вдруг особенно заблестевшими глазами. Она лежала на нем, обеими смуглыми и сильными руками сжимая его плечи, и волосы ее, такие же черные, как и глаза, и с той же внутри синевою, лились на него водопадом. Поплыли, поплыли… Ты где? Я с тобой. Послушай, как бьется! Послушай, как бьется! Зачем же ты вырвалась? Я? Я не вырвалась…
Он ей подчинялся, но только сейчас, в постели, внутри ее тела, а стоит ему оторваться, уйти, она ведь опять остается одна, опять умирать, ждать звонка, и опять – бряцанье цепей, этот жуткий их скрежет!
За окнами стало темно, снег пошел.
– Когда папа сказал мне, что мама моя умерла, – прошептала она, прижимаясь к нему и слушая постепенно успокаивающийся стук его сердца, – мне было лет шесть…
Слова ее тихо дымились во сне. Они были частью огня, продлевали тепло, и лицо Владимирова, еле различимое в наступившей темноте, напоминало клочок какого-то облака, светлого по сравнению со всем остальным черным небом, затянутым плотными тучами.
– Ты плачешь?
– Но, мой ненаглядный, а как же не плакать?
Пусть помнит, насколько ей трудно. Пусть чувствует, что она плачет все время. На самом деле она плакала так, как плачут люди, достигшие наконец того, к чему они стремились, и сладко топящие боль напряжения с помощью слез. Ей было жаль его, и одновременно она не могла не радоваться тому, что сейчас он уже никуда не торопится и не смотрит на часы. Он был рядом с нею, дышал в ее волосы, гладил мизинцем ее сине-черные, длинные брови.
Она победила и плакала тихо.
– Когда мне сказали, что она умерла, – а я думала, что она куда-то уехала и вот-вот вернется, – я никому не поверила. Дети не понимают, что такое смерть… Они чувствуют, что это не навсегда…
Крепкая шея его напряглась, как будто он подавил зевоту. Варвара тут же насторожилась:
– Ты спать хочешь, Юрочка?
– С чего ты взяла?
– У нас дома было очень много маминых фотографий, – быстро, не давая ему заскучать, заговорила она. – И я по вечерам, засыпая, представляла себе, как мы идем на кладбище и достаем ее из-под земли.
Он вздрогнул, прижался к ней крепче.
– Она была такой же, как на этих фотографиях. И ты знаешь, ничего страшного в моих фантазиях не было! Совсем даже наоборот. Понимаешь?
Варвара не смела расслабиться: его жена, при одной мысли о которой кровь стыла в жилах, была, и жила, и дышала одновременно с нею, и думала что-то свое про Варвару, про мужа, про жизнь. По «Свободе» читали отрывки из его романа, и это грозило каким-то решением, которое будет принято властями, но о котором никто из них, то есть самого Владимирова, его жены и Варвары, пока что не знал. В ресторане ЦДЛ, понизивши голос настолько, что сами себя плохо слышали, бурлили собратья по перу. Всем хотелось иметь собственное мнение о жизни Владимирова, о книге Владимирова, об этой любви его на стороне, но пили все столько, что мнение – любое, и самое крепкое, – быстро слабело.
Она придавливала своей растрепанной головой его горячее плечо, плакала и Бог знает что бормотала ему в ключицу, в ожог на щеке, в эту шею, где кожа лоснилась от слез, как от пота.
– Когда я умру, – прошептала она и с ярким восторгом блеснула глазами, – ты только не верь. Не ходи на могилу. Меня там не будет. Я буду с тобой.
Он, кажется, даже и всхлипнул слегка. А может быть, ей показалось. Она имела право говорить ему все, что приходило в голову, и даже ошибки ее, даже ее неловкости и слова, которые часто казались смешными, служили их пользе, как ружья солдатам.
Ни он, ни она, ни друзья, ни знакомые не представляли себе, как долго власти будут терпеть то, что Владимирова печатают на Западе и отрывки из его романов постоянно читают вражеские голоса. Могло затянуться, могло быстро кончиться. Что такое Запад, оба они представляли себе так же смутно, как и большинство людей, живущих в отрыве от этого Запада. Были какие-то счастливчики, которых выпускали туда ненадолго, и они возвращались обратно, слегка словно бы и прибитые чем-то. Зато с парой джинсов и магнитофоном. По кругу ходили одни и те же истории, как великие музыканты, которым должно было быть безразлично все, кроме прекрасной возвышенной музыки, варили сосиски в умывальниках. Частенько питались кошачьей едою, которая там продается в консервах. И вкусно. Не хуже икры.
Чем больше валилось снегов на Россию, чем больше дождей шло весной, чем были крупнее и крепче грибы, которые все собирали, варили, потом муровали их в банки и склянки, тем призрачней был этот Запад, в котором, как думали часто наивные люди, добро отделилось от зла.
Варвара холодела при одной мысли, что Юрочку вот-вот выкинут из Союза, как выкинули Солженицына, а милый не развелся с женою и их с Варварой отношенья никак не оформлены. Ей и без того было тягостно, гадко быть «женщиной», как говорили на кухнях, и «спать» с ним – да, спать, а не жить! – поскольку с Варварой он именно спал, она была «женщиной», жил он – с женой. А разлюбив жену, вернее сказать: полюбив Варвару в дополнение к жене, он с этой женою расстаться не мог. Вот тут уж действительно: нечего делать. В Юрочке была не только особая душевная глубина, в которую Варвара старалась даже и не заглядывать – «понять до конца все равно не пойму, а сердце и так обливается кровью», – в нем была железная устойчивость, благодаря которой он мог вытерпеть больше, чем другие, и надорваться в конце концов, как это случается с тихими деревенскими людьми, которые, жизнь протащив на плечах, вдруг падают прямо среди чиста поля, и Бог забирает их кроткую душу. Сейчас, когда нужно было, в конце концов, пойти на то, чтобы окончательно расстаться с женою и соединиться с измученной страхами и ожиданиями Варварой, он словно бы ждал, что случится такое, что освободит от принятия решений, и медлил он не потому, что боялся жены или сплетен, и не потому, что сильно любил и жалел свою дочь, а лишь потому, что устойчивость в нем и сила терпеть были выше, мощнее любой суеты и тщеславия страсти.
Жена его, женщина умная и, может быть, даже не глупее самого Владимирова, знала о нем то, чего не знала ослепленная любовью и борьбой Варвара. Владимиров начал зимою писать. Причем не короткую повесть – роман. А значит: надвинулось время особое. Его, ото всех отделенное время. Варвара еще не жила с ним, не знала, как утром, небритый, угрюмый, он тупо сидит за столом и глядит в одну точку, как плачет и стонет во сне, и не знала, насколько жесток он бывает, как может вдруг весь затрястись и прикрикнуть, и голос его будет тонким и странным…
Из-за своей поглощенности работой он, скорее всего, и не осознавал сейчас того, что происходило вокруг. А происходило разное. Выслали задиристого Барановича, склочного Устинова, грустного и усталого Шевчука; блистая худыми лопатками, в страхе бежали Бог знает к кому балерины, и весь пароход прежней жизни, огромный, с залитой водой, продырявленной палубой, где раньше гуляли, вертели зонтами и ели пломбир, запивая «Столичной», вдруг весь накренился, и солнце погасло. Далекое белое солнце пустыни.
– Ты обещал мне поговорить там завтра, – шепнула она и ребром ладони вытерла свои слезы с его щеки. – Кто знает, как долго все это продлится…
– Сперва я с Катей поговорю, – тяжело и неохотно вздохнул он. – С Ариной потом.
– Но ты ведь не с Катей разводишься.
– Не с Катей. Но Катя важнее.
И он произнес это так, что только одно и осталось: смолчать. Она и смолчала. Мастерская Владимирова, полученная им в те годы, когда он считался художником и состоял в союзе именно художников, была недалеко от станции «Кировская», в глубине забеленного снегом, пушистого двора, в котором с притворной душевностью, грустно светились безлюдные окна. Эту мастерскую Варвара считала своим домом наперекор тому, что у жены Владимирова Арины были ключи от нее, и если она до сих пор ни разу не воспользовалась этими ключами и не открыла двери в ту минуту, когда ее муж бестолково стонал, вжимаясь в Варварино смуглое тело, то только по одной причине: Арине, законной жене, прожившей с Владимировым почти тридцать лет, скандал был не нужен. А нужен он был – и причем позарез – одной только вздорной Варваре Сергеевне. При этом Владимиров, честно удивлявшийся тому, что в нем – с этим гадким ожогом – смогли полюбить столь прелестные женщины, не всегда назначал свидания в мастерской, и это вызывало у Варвары множество мелких, дурных подозрений: ведь кто-то мог быть у него и еще, не только она и не только Арина. Такая вот чушь приходила ей в голову. Вскоре Варвара приходила в себя и, пристально вглядываясь в его ясные, глубоко посаженные глаза с застывшей в них тихой тоскою, пугалась, что он может взять да уйти. И бросить ее, и Арину, и Катю, и этот свой дом, где сидела консьержка, и этих друзей своих в замшевых куртках, и чад ЦДЛ, и премьеры, и встречи. Вот так вот уйти поздно ночью – и все. И стать то ли странником, то ли монахом. Стоять на коленях и греть свою щеку у тихого пламени тающей свечки. Грешная связь Юрия Николаевича с Варварой была неожиданной для тех людей, которые хорошо знали Владимирова, но длительность и сила этой связи по-своему укрупнили его без того весьма необычный и странный характер. Мало у кого из приятелей Владимирова, для которых замшевая куртка и замшевые ботинки значили не меньше, чем новая встреча и новая женщина, не было ежегодно, а то и ежемесячно сменяющих друг друга любовниц. Расходы, конечно, росли, но при этом приток крови к сердцу был очень полезен, а также случались и взрывы рассказов, стихи начинали струиться, как речка, жена не казалась такой тошнотворной. За все это нужно платить. И платили.
Владимиров смог полюбить. Сначала Арину и после Варвару. Теперь он любил их обеих и мучился. И, как это всегда случается, к одной житейской неразрешимости добавилась вторая: писатель Владимиров и власть Советов. Варя, слава Богу, еще не знала о том, что написанное им письмо попало вчера к журналистам. При всей своей вспыльчивой резкости она была очень наивной, намного наивней, чем он, легко могла броситься в самое пекло, а всех журналистов оттуда, прожженных и жадных до низких сенсаций, считала едва ли не ангелами. Варины оценки, ее разделение мира на черное и белое, ее внезапная подозрительность были бы тяжелы для Юрия, если бы в присутствии Вари – с одной только Варей и больше ни с кем – Владимиров не чувствовал себя так, словно ему не пятьдесят, а восемнадцать. И этот ее обожающий взгляд, и эти ее сумасшедшие пальцы… Да что говорить! И кому объяснять!
Дома была Катя, дочка, которую двадцать два года назад он кормил по ночам из бутылочки, пока Арина, только что окончившая мединститут, сутками дежурила в больнице. Сейчас она стала взрослой, тонкой, похожей и на него, и на Арину, с узкими, светло-карими отцовскими глазами и выпуклым материнским ртом. То, как презрительно кривила она губы, давно говорило Владимирову, что Катя догадывается о происходящем и презирает отца за ложь. Она сидела за письменным столом в своей комнате, боком к нему, и свет настольной лампы ярко освещал ее лицо и красноватый локон на длинной шее. Она повернула голову, и ноздри ее, как быстро заметил отец, вдруг расширились. Он понял, что Катя почуяла что-то, как чует собака.
– Я скоро вылечу из института, – сказала его дочь и неторопливо заправила красноватые волосы за ухо. – К тому все идет.
Та простота, с которой она сообщила ему, что жизнь ее сломана им, была еще даже страшнее, чем ноздри, втянувшие запах отцовской измены. Он стоял под ее светло-карим сузившимся взглядом, как осужденные стоят на суде и ждут, пока им огласят приговор.
– Да, папочка, да, – с легкой иронией сказала она, встала, подошла к окну, открыла форточку и закурила. – Все очень понятно и все очень просто.
– О чем ты?
– У нас есть стукач один в группе. – Она затянулась, и красный огонь сигареты вдруг вспыхнул, как будто готовился к смерти. – Все знают, что это стукач.
Выбросила сигарету за окно, захлопнула форточку и снова вернулась на прежнее место.
– Он несколько лет назад не поступил и загремел в армию. А в армии стал голубым. Он хрупкий, как женщина, женоподобный. Вернулся из армии, вдруг его приняли. А он, говорили, на тройки все сдал. С какой такой стати они его приняли? Ну, вот и стучит. Сам висит на крючке.
– Зачем мы о нем говорим?
– А мы не о нем говорим, а о нас, – приподнимая брови, сказала дочь. – Сегодня он попросил у меня что-нибудь почитать. Ну, из твоего, из самиздатовского. Так прямо подошел и попросил. Говорит: «Вся Москва читает, а я никак не могу достать».
– А ты что?
– А я говорю: «Я сама не читала. Достанешь, дай мне».
И она засмеялась.
– Есть хочешь?
– Хочу.
– Ну, давай разогрею, – сказала она и вдруг вся покраснела. – А ты пока можешь помыться.
Можно было не услышать, что она сказала, и не заметить, как она покраснела, но он не привык избегать того, что приносит боль, и спросил:
– Что, потом так пахну?
– Не потом. Духами.
Ноги Владимирова приросли к полу.
– Прости, – всхлипнула она. – Прости меня, папа.
Он согласился бы на все что угодно: любые оскорбления, любые упреки, но только не на то, чтобы Катя смотрела на него так, как она посмотрела сейчас: с недоумением и жалостью. Прежде он никогда не сталкивался с ее жалостью, но знал, что она не могла быть наигранной, потому что ничего наигранного не было в Катиной душе.
В дверь громко позвонили три раза.
– Опять потеряла ключи! – воскликнула дочь. – Я сто раз говорила: «Носи запасные!»
Красная от холода Арина снимала в коридоре дубленку, которую купила на прошлой неделе у живущей на втором этаже Лиды Мухиной, дочери режиссера, обессмертившего в кинематографе «Сказку о шамаханской царице и черной курице». Семья Лиды Мухиной тоже испытала на себе трудности с цензурой: отец ее, старый, с львиною гривой, увлекся любовными сценами; будучи глубоко опечален наступившим своим возрастом, решил взять реванш хоть в искусстве: его шамаханка с фазаньей головкой уж так соблазняла все русское войско, что фильм положили на полку. Отец сперва долго боролся за правду, потом заболел и в конце концов умер. А Лида нырнула на дно – занялась спекуляцией.
Жена аккуратно повесила драгоценную одежку в стенной шкаф и сразу же прошла на кухню. Ресницы ее и волосы на лбу были мокрыми от растаявшего снега. Больше всего Владимирову хотелось запереться в кабинете и снова приняться за роман, потому что с романом его разлучали настойчивее и острее, чем с Россией и семьей, – с романом его разлучали, наверное, так, как Ромео с Джульеттой, и он был готов лечь в гробницу живым, но только чтобы не мешали писать.
Когда Баранович говорил ему, что в этой стране невозможно не лгать, он опускал глаза и даже не пытался объяснить Барановичу то, что понимал сам: а он понимал, что любое представление, которое складывается даже у самых близких людей о наших делах и о наших поступках, далеко от того представления, которое имеем об этих делах и поступках мы сами; но иногда представление других о том, что мы делаем, гораздо ближе к рентгеновскому снимку, в то время как наше собственное представление о себе похоже на очень расплывчатый оттиск.
С самого начала Владимиров старался не лгать. Но обстоятельства последнего времени складывались так, что избежать вранья никак не удавалось: если его не ловили на обмане внутри семьи, не намекали ему на его измену, как это только что сделала Катя, то нужно было врать там, куда его дважды уже вызывали, требуя объяснений. Он не лгал, когда на вопрос, как оказалась на Западе его рукопись, отвечал, что не знает. До вчерашнего дня он действительно не знал, но вчера ему прямо сказали, кто именно это сделал, и теперь, чтобы заслонить мальчишку, который передал его рукопись английскому журналисту, нужно будет продолжать упираться и разыгрывать из себя дурачка. Та ненависть к власти, которая сейчас разбушевалась в нем, не была неожиданностью, хотя прежде он ее никак не проявлял: она была частью души и стояла внутри неподвижно, как лес подо льдом. Он знал, что замерзнет, но все же тянул до последней минуты. Пока их терпенье не кончилось. Сажать не сажали, ссылать не ссылали, но выдавливали его, как, бывает, простой человек выдавливает чирей из-под кожи, захватывая его своими неумелыми пальцами.
Дверь в кабинет была закрыта, но Арина и Катя так громко разговаривали в коридоре, что он в конце концов перестал работать и прислушался.
– А я говорю, что сейчас ты никуда не пойдешь! – кричала жена. – Мы и так по уши в дерьме, зачем же еще добавлять?
– Что изменилось со вторника, когда ты не вмешивалась? – голосом, очень похожим на материнский, возражала дочь.
– Во вторник к тебе еще не подослали стукача и не было этого письма, которое твой отец…
Значит, они уже знают о письме. Он встал и вышел в коридор.
– Что у вас тут?
Он спросил негромко, но с той привычной властной интонацией, которая прежде давала им понять, что его работа требует тишины. Сейчас этот тон был нелепым.
Ни дочь, ни жена ничего не сказали.
– Катюша, куда ты идешь?
Катя насмешливо усмехнулась, взяла с подзеркальника сумку.
– Куда ты? – спросил он смущенно. – Почти уже ночь.
– Ну и что?
Арина махнула рукой и ушла на кухню. Катя застегивала молнию на сапогах, молния скрежетала и не поддавалась. В конце концов она так и оставила один сапог застегнутым до половины, исподлобья блеснула на отца глазами и хлопнула дверью.
Арина, жена, была рядом, и можно было спросить у нее, куда это на ночь глядя отправилась дочь, но он ничего не спросил, а опять вернулся к себе и сел за стол. Телефонных аппаратов в их большой квартире было два: у него в кабинете и на кухне, где Арина, чтобы не мешать ни ему, ни Кате, устроила себе маленькое пестрое царство: здесь цвели ее цветы на подоконнике, висел шкафчик с хохломой, стоял ярко начищенный самовар, который Владимирову подарили в Туле, когда он выступал там в городской библиотеке.
Телефон зазвонил, и они одновременно сняли трубки.
– Юра, включи радио, – пробормотал окающий бас Валерки Семенова. – Опять твое письмо читают.
Владимиров положил трубку на рычаг и пошел на кухню. Жена стояла спиной к нему.
– А я что могу? – вдруг громко и злобно вскричала она. – Ты с ним говори, не со мной!
Она обернулась на звук его шагов: лицо у нее пылало, и голубые глаза были точь-в-точь похожи на глаза только что пойманного зверя, какими они бывают в первые минуты неволи.
– Да, я уж включила, – сказала Арина Семенову. – Сейчас только громкость прибавлю.
«…нельзя закрывать глаза на то, – голос диктора так взволнованно выговаривал каждое слово, словно он был соавтором владимирского письма, – что дело писателя в той стране, которую я продолжаю чувствовать своей Родиной, далеко выходит за рамки его художественного творчества, поскольку ограничения, которые испытывает в моей стране писатель, не позволяют ему сосредоточиться на своем творчестве, что было бы естественным, а заставляют…»
Ударом ладони жена выключила радио, и диктор замолк, как будто бы этим ударом она ему выбила сразу все зубы.
– Скажи: ну зачем?
– Что значит «зачем»? – он сморщился. – Больше не мог.
– Другие же могут!
Жена опустилась на стул, прижала ладони ко рту, но тут же отдернула их. Лицо ее показалось Владимирову сильно подурневшим и как будто оплывшим.
– Хитрить научился, – сказала жена. – Уж все говорят мне про эту циркачку, а ты все молчишь!
Он не понял, почему она назвала Варвару циркачкой, но быстро догадался: первый муж Варвары, за которого она выскочила сразу после школы, был клоуном в цирке. Арина все знает, и даже про клоуна.
– Прости, что я скрыл от тебя.
– Вот это по-твоему! – вся огненно-красная, закричала жена и обеими руками разом подняла кверху свои кудрявые поседевшие волосы. – Вот так ты всегда отвечаешь! Не за то прости, что предал, а за то, что раньше не поставил в известность!
Она уронила руки, и волосы ее с размаху упали обратно на плечи, как будто они тоже крикнули что-то.
– Мне гадко. – Арина сглотнула слюну. – Так гадко, ты даже представить не можешь. Тошнит меня ото всего.
Владимиров опустился на табуретку и налил себе холодной заварки в красную керамическую чашку.
– Что у тебя руки-то так дрожат? – вдруг быстро спросила Арина. – Смотри! Так прихватит – своих не узнаешь!
– Давай мы об этом не будем…
– Давай мы не будем. Давай разводиться. Как можно быстрее.
Много месяцев он готовил себя к тому, чтобы сказать ей о разводе, а сейчас, когда она сама заговорила об этом, Владимиров остолбенел.
– Ну что же ты так удивляешься, Господи! – вскричала она. – Что мы, первые, что ли? А ты вот ввязался в дурную игру! В опасную, Юра!
Владимиров опустил глаза. Этого он как раз и ждал от нее.
– Ты думаешь, что я за славой погнался?
– За бабой погнался ты, а не за славой! А все остальное само подоспело!
– Постой… Объясни! Ты про это письмо? При чем здесь она?
– Она? – повторила Арина. – Она ни при чем. Зачем ты, дурак, влез в политику? Какой из тебя диссидент? Все передеретесь, все переругаетесь, и этим все кончится! Вся ваша смелость! Ты на Барановича, Баранович на Солженицына, Солженицын на Винявского – да что говорить! А главное, будет ведь не до работы! Ведь ты ничего не успеешь же, Юра! Одни только письма и будешь строчить!
Он почувствовал в ее словах правду, но не это перевернуло его сейчас. Он понял, что жизнь их закончилась. Часы, честно отсчитывающие его время с Ариной, остановились, и наступила такая тишина, такое безмолвие вдруг наступило, что даже в природе такого не встретишь. Это только казалось, что он потерял ее из-за Варвары, которая заняла ее место. Ее места не занял никто. Она и Варвара находились по разные стороны души и не сообщались между собой, потому что жизнь с Ариной была в сосуде одного времени, а жизнь с Варварой – другого.
– Когда же ты хочешь со мной разводиться? – спросил он.
– Как можно быстрей, – прошептала Арина. – Пока ты еще что не выкинул… А то ведь на площадь пойдешь…
– А этих людей ты за что поливаешь? Они ведь собой рисковали…
Арина не дала ему договорить.
– Собой рисковали? Скажите на милость! Кто это себе такую роскошь может позволить: собой рисковать? Тот, кто ни за кого другого не отвечает! А это ведь люди с детьми! С малолетними! И им их не жалко! Давай мы не будем о них говорить, об этих героях. – Она перевела дыхание. – А ты, кстати, не знаешь, почему Солженицын не вышел тогда же на площадь? А почему он за Синявского с Даниэлем не заступился? Не знаешь? А хочешь, скажу? Потому что ему тогда не нужны были лишние неприятности, он книжку дописывал, очень все просто! И академик наш тоже не в монастырь пошел водородную бомбу замаливать, а сразу туда, где пожарче, где бьют барабаны! В тени не привыкли сидеть. И тихого дела не знают, не ведают.
– Вещаешь ты, как протопоп Аввакум… Ребенка с водой сейчас выплеснешь.
Арина быстро посмотрела на него.
– Ребенка не я, Юра, ты его выплеснул. Она тебе про стукача рассказала?
Он молча кивнул.
– Ну, видишь… – вздохнула Арина. – Тебе, Юра, лучше уехать из дому. Нельзя тебе жить сейчас с нами, не нужно.
Он ждал, что она это скажет, но, увидев, как Арина неестественно выгнула шею, словно последние слова причинили ей физическую боль, весь сжался внутри.
– Прошу тебя, Юра, – сказала жена. – Дай ей доучиться спокойно. Она уж и так комок нервов.
– Откажетесь вы от меня? – спросил он чуть слышно.
Она промолчала, потом опустила голову и, стараясь случайно не задеть его своим телом, ушла в спальню.
Владимиров допил холодный чай из красной керамической чашки, потом вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Открыл холодильник, увидел вареную картошку в кастрюле, сел на корточки и начал жадно есть ее обеими руками, обмакивая куски в солонку, которую поставил прямо на пол. Изнутри головы сильно давило на глаза, поэтому он погасил свет, сидел в темноте. Потом пошел спать, чувствуя, что не заснет ни на секунду, но заснул сразу же, как только, не раздеваясь, свалился на узкий и неудобный диван в своем кабинете. Его разбудили какие-то звуки. Со сна ему показалось, что в доме щенок, который скулит. Он встал и в наброшенном на майку пиджаке вышел в коридор. Звуки, похожие на щенячий скулеж, вырывались из спальни. Владимиров открыл дверь. Арина, голая, в одном белом лифчике, сидела на кровати и, обхватив голову обеими руками, плакала, скулила и взвизгивала так, как это делают щенки, только что оторванные от матери.
– Уйди! – продышала она. – Уйди, я кому… – И тут же разбудивший Владимирова звук снова вырвался из ее горла, и она захлебнулась в нем. – У-у-у-у-ю-ю!
– Ариша! – забормотал он, обнимая ее и укутывая своим пиджаком ее голое тело. – Ариша!
– Ю-ю-ю-ю! – Она пыталась сказать «Юра», но это изнеможденное «ю-ю-ю» срывалось на тот же самый невыносимый для слуха, беспомощный вой, тонкий, страшный и нежный, от которого Владимирову хотелось оглохнуть.
До сих пор ничего страшнее этой ночи в жизни не было. Арина, мокрая от слез и пота, стуча зубами, цеплялась за его плечи, руки ее соскальзывали, и он обнимал ее, прижимал к себе, слыша, как дико стучат оба сердца, и что-то пытался сказать, обьяснить, но Арина мотала головой, отдирала от себя его руки, потом приникала опять, и снова, как будто их что-то толкало, они вдруг вжимались друг в друга, не двигались, но тут же новая волна отчаяния обрушивалась из темноты, они разлеплялись, отодвигались по разные стороны кровати, и этот животный, неистовый вой опять разрывал ее горло.
Он знал, что если сейчас пообещать жене расстаться с Варварой, выдрать из их жизни последние два года, поклясться, что больше никто никогда не станет угрозой их дому, который Арина спасала, лечила, свивала, как птица свивает гнездо, – он знал, что одно только слово сейчас, она бы поверила сразу. Еще можно было солгать. Он молчал.
Наконец Арина оторвалась от него и, растрепанная, распухшая, в мокром от слез лифчике, расстегнутом и повисшем на одной бретельке, ушла в ванную, заперлась там, а Владимиров, сидя на развороченной постели, смотрел тупо в пол, на котором поблескивала выдранная из ее уха сережка. Потом он снова накинул на плечи пиджак и вернулся обратно в кабинет.
Проспал он, наверное, долго. День уже мутнел, темнел, заплывал болезненной слепотою, в которой, казалось, все движется ощупью: машины, троллейбусы, люди. Деревья прогибались под тяжестью налипшего на них снега, и когда этот снег вдруг с медленным шорохом рушился вниз, то обнажалась голая, черная и костлявая рука дерева, пугающая так, как может напугать протянутая рука нищего. В квартире было тихо, так тихо, что клекот батарей, обычно запрятанный в глубину других звуков, сейчас был отчетливо слышен. На полу в коридоре лежала записка: «Юра, я очень прошу тебя сегодня же уехать. В спальне – два чемодана с твоими вещами, я все собрала. Книги пусть пока останутся дома, иначе это займет у тебя слишком много времени. Мы с Катей сегодня ночуем на даче. Так лучше. Арина».
Его выводили из дому. Не он уходил, а его выводили, как школьника, за руку. Вещи собрали. Конечно: «так лучше». Дача была в Загорянке, и там, на даче, была печка, но воду нужно было набирать из колодца на соседнем участке, а печку топить отсыревшими за зиму дровами. Он представил, как Катя с Ариной приехали сегодня в это мертвое белое царство, где стоят заколоченные на зиму дома и светится только сторожка, как они разгребли снег, заваливший калитку, открыли ее, протоптали тропинку к крыльцу, прошли через незастекленную террасу, засыпанную снегом, из-под которого кое-где чернеет скользкая прошлогодняя листва, вошли в студеные пещеры двух комнат и, дыша морозным паром, начали готовиться к ночлегу. И Катя в своей черной шубке пошла за водою к колодцу. Он увидел руки ее в пестрых варежках, вытаскивающие длинное и узкое ведро и ставящие это ведро на обледенелую скамеечку, услышал чистый звук мерцающей воды, которую Катя переливала из узкого колодезного ведра в их старое, в беленьких крапинках, ведрышко. Ему стало нечем дышать. При этом он вдруг почему-то очень заторопился скорее уйти из дому, хотя впереди был целый вечер и целая ночь. Сначала он решил, что поедет в мастерскую, но мысль о том, чтобы одному ночевать сегодня в мастерской, по-детски напугала его. Уже стоя в пальто, он позвонил Варваре. Ее очень звонкий и радостный голос ответил сейчас же.
– Все, Варя, я еду, – сказал он негромко.
– Ты едешь? Ко мне?
Он почувствовал, что она просияла, увидел ее черные глаза, в которых изредка, как у кошки, вдруг вспыхивали голубые огни, грустно усмехнулся тому, как невольно забилось его сердце, как оно покорно шевельнулось навстречу этому радостному голосу, и твердая уверенность, что теперь уже ничего нельзя изменить, пришла к нему снова. Он надел пальто, обмотался связанным женою шарфом и с чемоданами в обеих руках спустился на первый этаж. Он спустился пешком, потому что в лифте можно было нарваться на знакомых. Консьержка, новая, только неделю как начавшая свою работу в этом доме, проводила его круглыми глазами.
– Вы в отпуск? – спросила она влажным басом.
Владимиров кивнул и, хлопнув дверью, вышел на улицу и сел в такси.
Наверное, все это время Варвара стояла у окна и смотрела вниз. Она видела, как подъехала машина, и вылетела из подъездной двери ему навстречу, не накинув даже пальто, а так, как была, в легком шелковом халате, привезенном из Японии ее недавно умершим отцом, халате, поразившем когда-то Владимирова своими дивными красками, оттенками синего и золотого, которые переливались и дрожали на ее невысоком ладном теле. Он еле успел расплатиться с шофером, как она уже набросилась на него прямо на улице, обняла своими горячими руками и тут же заплакала и засмеялась.
– Ты все там сказал? Отпустили?
– Нет, выгнали. – Он усмехнулся.
Она на секунду оторвалась, расширенными глазами всмотрелась в него, желая убедиться в том, что он не шутит, потом облегченно вздохнула.
– Да ты им не нужен! – мстительно пробормотала она и сделала попытку отобрать у него один из чемоданов.
Владимиров покачал головой, и нельзя было понять, к чему относился этот жест – то ли отрицание ее уверенности, что он не нужен, то ли запрет притрагиваться к чемодану. Они вошли в квартиру ее отца, в которой Варвара жила после своего развода с молоденьким, очень талантливым клоуном, который прославился быстро и умер. Считалось, что спился, но Варвара говорила, что главной причиною стали наркотики. В квартире было набросано, накидано, но чисто. Особенностью Варвары была чистота, а то, что вещи валялись где угодно, мало ее беспокоило. В коридоре она стащила с Владимирова пальто и прижалась к нему. Теперь он чувствовал стук ее сердца, сильный и торопливый, сразу напомнивший ему, как ночью стучало сердце у жены, которую он прижимал к себе и обнимал теми же руками, которыми обнимает сейчас Варвару.
– Ничего не рассказывай! – сказала она, хотя он и не собирался рассказывать. – Я знать ничего не хочу.
Это было неправдой: измученная ревностью, она стремилась узнать о его жизни как можно больше, и он нисколько не винил ее за это. Он знал, что ей больно, и знал, что, несмотря на свою вспыльчивость и способность к любому, самому несправедливому взрыву, Варвара была и добра, и доверчива. В прошлом году, когда Владимиров взял ее с собой в одну из архангельских деревень, и там оказались четыре старухи, голодные кошки и два тощих пса, и жизнь этих нищих старух, их дикая жизнь, зимою текла в темноте, какая бывает уже после смерти, Варвара слегла. Перед болезнью она сняла с себя все до последней рубашки и все отдала этим нищим старухам, два раза ездила в районный центр на тряском автобусе и закупала для них продукты, варила овсянку для этих собак, кормила их лысых, ободранных кошек, устроила баню в одном из дворов. Она намыливала деревенских жительниц, голых и равнодушных, мочалкой, не брезговала, раздвигая их худосочные ноги, поливала водой из ковша, промывала им головы, а старухи тихо жмурились и с покорностью подставляли свои согнутые спины, давали себя и чесать, и кормить, и им, может, даже казалось тогда, что нету ни бани, ни бабы из города, а есть только снег, темнота и зима, а булки и запах шампуня им снятся.
На вторую неделю у Варвары поднялась такая температура, что Владимиров, который уже был не рад, что затеял эту поездку по девственным, диким местам на Двине, решил побыстрее вернуться в столицу. Всю обратную дорогу она плакала, кусала ногти, ее колотило от жара, и потом, когда, уже в Москве, она начала поправляться и он попробовал обнять ее и, может быть, даже рискнуть и на большее, она удивленно раскрыла глаза и вдруг посмотрела презрительно.
– Опять за свое? – прошептала она. – А им каково? Уехали, бросили. Им-то что делать?
Теперь они сидели на кухне, и Варвара кормила его обедом. Он понимал, что она наслаждается новизною своего положения, поэтому даже и кормит его с какой-то блаженной замедленностью. Она вынула из серванта самую красивую посуду, разложила вилки, ножи и ложечки, медленно разлила суп, бросила в середину тарелки веточку петрушки, потом капнула на нее сметаной… Два года их тайной жизни прошли на таком накале страсти, спешки, скандалов и нежности, что – хоть она и приносила иногда в мастерскую еду – поесть не спеша редко им удавалось, и Варвара страдала от того, что с ней Владимирову не хватает уюта, к которому он так привык, живя дома. А однажды, когда он пошутил и сказал ей, что все, начиная с их самой первой встречи, иногда кажется ему призрачным и словно все это не с ним, а с другим человеком, Варвара обиделась и так рыдала, что он был не рад своей шутке.
…Он ехал в мастерскую на троллейбусе, и голова его была перегружена мыслями о романе, к которому он недавно приступил, заранее чувствуя, что именно этот роман он будет писать до конца своих дней. Ему не было дела ни до кого, ни до чего, особенно – женщин, потому что он был женат и любил свою жену. Троллейбус остановился. Владимиров увидел, что там, в городе, начался дождь, и сизая, нежная тьма, которая приходит на землю только с весенним дождем, когда едва-едва начинают распускаться деревья и все заволакивается каким-то дымком, – вот эта слоистая хрупкая тьма вспыхнула под выпученными глазами троллейбуса, осветила тех, кто стоял на остановке, и когда они, стряхивая с себя дождь, поднялись по ступенькам, лица их вдруг показались ему похожими друг на друга: все бледные, все светлоглазые, мокрые, и все улыбались немного испуганно. Она вспрыгнула последней, изо всех сил пытаясь закрыть покривившийся зонт, похожий на птицу, только что попавшую под колеса грузовика, которая бьется своими крылами, а кости торчат во все стороны.
Она пыталась закрыть свой зонт, мешая и тем, кто вошел и стоял, и тем, кто сидел – в частности, Владимирову, по затылку которого проехалось это сломанное крыло, и он с досадой привстал, чтобы помочь ей. Лица он не видел, но видел руку в блестящей от дождя темно-красной кожаной перчатке и черную, намокшую, очень густую прядь волос, прикрывшую спицу зонта, отчего его сходство с большой искалеченной птицею только усилилось. Владимиров привстал, а она приподняла зонт и даже негромко досадливо вскрикнула, что так и не может с ним справиться. Их лица столкнулись. Вокруг были люди, троллейбус качало, а они, на секунду нашедшие себе защиту под этим зонтом, на секунду заслоненные им ото всех, узнали друг друга так просто и страшно, как будто им кто-то кивнул головою.
– О чем же ты думаешь, Юрочка? – спросила она сейчас, уверившись в том, что он навсегда ушел из дома и теперь не посмеет прожить ни одного дня на свете без того, чтобы не сказать ей, как он его прожил. – Ты рад, что мы вместе?
Варвара, как всегда, ставила вопрос слишком прямо, и оттого получалось грубо и неловко. Он хотел быть с нею, но радости от того, что он сделал, он не мог и не смел испытывать: радости не было. А объяснять ей, почему не было радости, значило смертельно обидеть ее и еще больше накалить в ее душе ненависть к Кате и Арине.
– Семенов сказал мне вчера, не прямо, конечно, но он намекнул, что меня не сегодня завтра исключат из Союза, а потом предложат уехать. Сценарий простой и известный. Нам нужно жениться, а то ты не сможешь поехать со мной.
Он увидел, как она побледнела, потом закусила губу, но сдержалась: ее кольнуло то, как он сказал: «не сможешь поехать со мной». Как будто он представляет себе возможность уехать и без нее!
– Для того, чтобы оформить наш брак, – и она вопросительно и испуганно взглянула на него, – ты должен расторгнуть свой брак, и тогда…
– Она, – сказал он так, как всегда говорил с ней о жене: никогда не называя Арину по имени, а только «она», – она готова развестись хоть сегодня, но сегодня уже поздно, все закрыто. Ну, завтра.
– Еще бы! – У Варвары слегка раздулись ноздри. – Еще бы! Теперь ведь с тобою опасно! Зачем ты там нужен?
– А здесь? – пробормотал Владимиров.
Варвара всплеснула руками.
– А здесь? Как ты смеешь! Пойду на край света! В тюрьму? Пусть в тюрьму!
– Нет, лучше давай: в рудники, – грустно пошутил он и притянул ее к себе.
Она села к нему на колени и обеими руками обхватила его за шею.
– Я знаю, что очень тебя веселю. Да смейся себе на здоровье!
Владимиров зарылся лицом в ее волосы.
– Какое там: смейся? Я сам потону и вас потащу за собою…
Варвара вспыхнула от того, что сказал «вас», то есть опять соединил ее и семью, забыв, что семьи больше нет, есть только она. Владимиров подошел к окну, раздвинул тяжелые шторы и всмотрелся в незнакомые очертания домов напротив. В одном из окон горел такой яркий красный свет, как будто бы в комнате развели костер, и от этого красного огня стало еще тревожнее на душе. В большой спальне, где все было накидано и набросано, но пахло духами и свежестью простыней, Варвара, оборачиваясь и сияя на него глазами, перестилала большую постель и, когда он сказал, что смертельно хочет спать, быстро погасила большой свет, оставив только ночник в виде божьей коровки, одна черная крапинка на теле которой была в сто раз больше любой существующей божьей коровки, и Владимирову пришло в голову, что божья коровка такого размера появится, если случится война со всеми ее водородными бомбами.
Во сне он увидел, что Арина протягивает ему ручное зеркало и говорит: «Смотри». Он смотрит, но зеркало, ставши большим, отражает все, что есть в комнате, и даже деревья за окнами. Все, кроме него самого. Его больше нет.
Проснулся в поту. Рядом спала Варвара, и лицо у нее было беспомощным и кротким. Владимиров тихо встал, вышел на улицу, промерзшую, еле освещенную зимним небом, и поехал в мастерскую.
Дверь его мастерской была открыта настежь, из комнаты доносилась возня и чужие голоса. Он взял себя в руки и вошел осторожными и спокойными шагами, хотя его изуродованная щека горела и дергалась. Двое молодых людей рылись в книжных шкафах. На полу аккуратно лежали стопки просмотренных ими книг и бумаг, а вот на столе был отвратительный беспорядок. Стол, полный черновиков, мелких набросков в рабочих тетрадях, записных книжек и писем, стол, к которому никто, кроме него самого, не имел права притрагиваться, потому что только он знал, что именно находится в каждом из этих черновиков и в каждой тетрадке, сейчас был похож на живое, вздыбленное, насмерть оскорбленное существо, узнавшее вошедшего хозяина и обернувшееся к нему.
Молодые люди выпрямились при его появлении, и один из них протянул Владимирову ордер на обыск.
– На каком основании, – сдерживаясь, спросил Владимиров, – вы вломились в чужое помещение?
– Спокойно, товарищ Владимиров, – вежливо сказал тот, который вручил ему ордер. – Все по закону. Вчера вечером вас лишили советского гражданства, и помещение, предоставленное вам государством для работы над произведениями, в которых вы клеймите наш строй, вам больше не принадлежит.
Во рту у него пересохло. Сон с зеркалом сбылся.
– Я требую, – прыгающими губами сказал он, – чтобы мне предоставили адвоката…
– Так вы же не арестованы, Юрий Николаич, – еще дружелюбнее ответил тот же молодой человек. Владимиров заметил, что у него ясные васильковые глаза. – Зачем вам адвокат? Мы сейчас проверим ваше имущество на предмет запрещенной к хранению и распространению антисоветской литературы, а потом вы спокойно тут собирайтесь, пакуйтесь, берите, что нужно, а вечером мы заглянем и эту квартиру опечатаем.
– Когда меня лишили гражданства? Как это можно: заочно лишить гражданства?
– Так что же нам делать с такими, как вы? – И парень моргнул васильками. – Да едьте, куда вы хотите! – Лицо его было полно удивления. – Раз мы вам не нравимся, едьте, пожалуйста!
Его напарник, с плоским бурятским лицом, низенький и очень мускулистый, продолжал быстро, как робот, перетряхивать каждую книжку в шкафу и на веселый тон синеглазого поначалу не обратил никакого внимания. Потом оглянулся и тихо сказал:
– Да шо ты, Сергей, к варнаку привязался?
Владимиров вздрогнул, услышав знакомое слово «варнак». В Сибири так называют каторжников, бродяг и всякий чужой человеческий мусор. Его обожгло.
Подъездная дверь громко хлопнула, и долговязый, в вязаной шапочке на лысой голове, корреспондент одной из западных радиостанций в сопровождении толстого, похожего на кудрявую сонную девочку фоторепортера английской газеты, быстро топая ногами, влетел в разгромленную мастерскую.
– Господа товарищи, – сибирским говорком сказал бурят, не выпуская из рук очередной книги. – Прошу покинуть помещение, идет секретная государственная операция.
– Мы присутствуем при незаконной акции Комитета государственной безопасности: обыске в мастерской знаменитого писателя Юрия Владимирова, только что лишенного советского гражданства… – торопливо заговорил долговязый в магнитофон. – Господин Владимиров! Как вы относитесь к тому…
– На улицу, на улицу, пожалуйста! – с досадой вскричал синеглазый. – Ну что, елы-палы! Работать мешают!
И синеглазому, и буряту, и тем людям, которым казалось, что они управляют событиями в этой стране, трудно было понять, что, какие бы решения они ни принимали, все в этой стране и все в зимней их жизни идет как идет, а они только смотрят на то, как идет, не зная, что сила их распоряжений похожа на силу указки, которою машут синоптики, важно очерчивая на географической карте продвижение теплого воздуха или, напротив, мощного снежного бурана.
Владимиров вспомнил свой спор с Барановичем, который до хрипа доказывал, что, если бы не Сталин и не Гитлер, ничего того, что произошло в двадцатом веке, не произошло бы, а он возражал маленькому, напоминающему гусара александровских времен Барановичу, что происходит только то, что неминуемо должно произойти, а Сталин и Гитлер всего-навсего исполняют предначертанное и появляются не сами по себе, а потому, что должны были появиться, и именно об этом писал Толстой в «Войне и мире», и именно это содержится в Библии, отчего Баранович, совсем уже потный, малиновый, яростный, упрекал его в идеализме и предлагал подставить вторую щеку, что было бестактно, поскольку ожог на щеке у Владимирова был все-таки сильно заметен.
Он еще потоптался на пороге бывшего своего дома, потом тихо вышел обратно во двор. Корреспонденты выбежали за ним, и долговязый прямо к его рту приставил свой микрофон.
– Как вы можете прокомментировать поступок советских властей по отношению к вашей личности? – старательно спросил долговязый.
– В нашей стране, – устало ответил Владимиров, – понятие «личность» не соблюдается.
Он знал, что теперь нужно многое сделать, нельзя отступать и необходимо устроить вокруг себя как можно больше шума, как это умело устроил Солженицын, сам написавший свою биографию в отличие от упрямого, сошедшего с ума Шаламова, – он знал, что для того, чтобы ничего не произошло сейчас ни с Катей, ни с Ариной, ни с Варварой, не говоря уже о нем самом, придется как можно мощнее описать то, что творится в литературе, назвать имена фаворитов и жертв, окружиться примерами, тогда «они» съежатся и не посмеют коснуться ни Вари, ни Кати с Ариной, – но он не успел открыть рта. Во двор ворвалась его женщина, как он мысленно называл иногда Варвару.
Его женщина не уступала ни одной из героинь Достоевского и ни одной из античных героинь, а может, была посильнее и тех, и других. Она ворвалась в сонный двор, где не было еще никого из пригревшихся в тепле своих коммуналок жителей, а были только он, долговязый журналист в своей красной вязаной шапочке и фоторепортер английской газеты, похожий на толстую девочку. Но только она ворвалась – в распахнутом черном пальто и без шапки, с засыпанными снегом неподколотыми волосами, – весь двор словно преобразился: со всех проводов вдруг посыпались птицы, отчаянно вскрикнула кошка в помойке, а к окнам прилипли какие-то лица, как будто сейчас вот начнется кино, нельзя потерять ни секунды.
– Позвольте мне тоже сказать! – громко, таким свежим, переливающимся и сильным голосом перебила Владимирова Варвара, что долговязый корреспондент отступил прямо в сугроб и тут же протянул ей микрофон. – Я жена Юрия Владимирова и я заявляю всему миру, всем, кто сейчас слышит нас, что подобного беззакония ни я, ни мой муж не будем терпеть! То состояние, в которое приведены в СССР свободная мысль и свободное слово, заставляет нас вспомнить о сталинском времени, которое непонятно только тем западным политикам, которые заигрывают с Советским Союзом и не знают, через что прошли два, по крайней мере, поколения русских людей…
– Вы считаете, – старательно, боясь сделать ошибку в чужом языке, сказал долговязый, – что нынешние времена не отличаются от времен Сталина и писатели так же страдают под гнетом властей, как страдали…
Она не дала ему договорить:
– А вы не считаете? Или вы думаете, что только лагерь, только лесоповалы и баланда ломают дух человека и убивают творческую личность?
– Послушайте, – кашлянув, вмешался Владимиров, – вы хотели, чтобы я высказался по поводу того, что произошло лично со мной…
– Не только! Не только с тобой! – Варвара взяла его под руку и крепко прижалась к нему. – Мой муж отличается редкой скромностью, ему никогда не хотелось влезать в политику, но нас заставляют… И я хочу сказать, что сейчас наша жизнь, моя жизнь с писателем Юрием Владимировым, находится в настоящей опасности! Мы идем по лезвию ножа! Я – гражданская жена Владимирова, и я требую, чтобы нам дали возможность узаконить наши отношения, с тем чтобы я могла последовать за своим мужем туда, куда ему позволят выехать. Я уверена, что, раз моего мужа уже лишили советского гражданства, та же самая участь должна постигнуть и меня…
Лиц, прилепившихся к окнам, становилось все больше. Некоторые квартиросъемщики открыли даже форточки, несмотря на холод, и высунулись наружу, чтобы не пропустить ничего из происходящего во дворе.
Послышались первые комментарии:
– Скажи: безобразница-баба! Ишь, хвост распустила! Езжайте, езжайте в свою заграницу! Не очень заплачем!
Владимиров обнял Варвару за плечи как раз в тот момент, когда сонный и пухлый фоторепортер защелкал своим аппаратом, и все это сразу поплыло куда-то из блеклого утра и мокрого снега в далекое и неизбежное время, когда на земле этой больше не будет ни их, ни свидетелей тягостной сцены, а от аппарата останется остов, осколок, кусок, но сама фотография, возможно, останется жить.
Развод с Ариной произошел в четыре часа дня, незадолго до того, как закрылся загс, и женщина, похожая на воробышка, полумертвая от множества истерзавших ее бед и свидетельств о смерти, пепельно-серая в отличие от той полнощекой, кудрявой, какая сидела за дверью напротив и вся расцветала от громкого марша, от огненно-красных невест, женихов, так просто и быстро отдавших свободу за женскую ласку и студень с котлетой, – эта маленькая, пепельно-серая женщина неживым голосом сообщила, что брак гражданина Владимирова Юрия Николаевича с гражданкой Владимировой Ариной Григорьевной расторгается по взаимному согласию обеих сторон. Вот здесь распишитесь. И здесь. Вот вам копии.
А еще через день, в десять часов, как только открылся тот же самый загс, полнощекая, но настороженная (поскольку расписывали Владимирова вне очереди, но было получено распоряжение сверху расписать и не задавать лишних вопросов) женщина с красной праздничной лентой через все ее крупное, во многих местах выпуклое тело поздравила только что сочетавшихся законным браком гражданина Владимирова Юрия Николаевича и гражданку Краснопевцеву Варвару Сергеевну. Сказала от самого сердца, что рада за них и желает им счастья. Законной и крепкой советской семьи.
Все, что произошло с ним за последнюю неделю, было, в сущности, так страшно, что он чувствовал себя в каком-то полубеспамятстве, как будто все это произошло не с ним или не совсем с ним, а он должен телесно участвовать в том, что делает, говорит и решает тот человек, которого сейчас принимают за Юрия Владимирова. Варвара просила его давать интервью – от корреспондентов не было отбою, и иногда они вдруг напоминали ему тех красновато-зеленых человечков, которые преследовали его всякий раз, когда он был ребенком и болел с высокой температурой. Но он давал эти интервью, в которых говорил, что писатель не может работать, если ему не предоставляют свободы творчества, а когда его спрашивали, собирается ли он продолжать писать романы на Западе, он честно отвечал, что не загадывает, как сложится его жизнь, поскольку ни разу там не был. И оттого, что он старался отвечать как можно честнее, его интервью были не такими выигрышными и не такими броскими, как интервью Барановича, Винявского и Устинова.
Варвара, конечно, ставила ему в пример Солженицына, который сразу разобрался и с Западом, и с Востоком, отчего сделался неуязвимым ни для того, ни для другого, поскольку изворотливость его арифметического ума и закаленность сердца помогали ему протиснуться сквозь джунгли людского устройства и тут же движением ладони стряхнуть колючки, песчинки и всех насекомых. На то он и был Солженицыным, что говорить.
Два университета, расположенные в Германии не так далеко друг от друга, приглашали Владимирова прочесть несколько курсов по русской и советской литературе, но одновременно с их приглашениями возникла идея журнала, который, как была уверена Варвара, должен будет оказаться и сильнее, и во сто крат интереснее того, затеянного Устиновым издания, которое советская пресса поливала помоями так щедро, с такою обильностью, что сами поливщики диву давались. Все эти планы, как со страхом чувствовал Владимиров, устремлялись к одному: к тому, что ему придется бросить роман, который терзал его так, как отца, вынужденного с утра и до глубокой ночи зарабатывать деньги вне дома, терзает мысль о больном ребенке, брошенном на попечение соседки.
Ни разу не поговорили с Ариной. Она не подходила к телефону, хотя он каждое утро спускался в одном пиджаке к автомату, скрипел ледяной двушкой, заталкивая ее в промерзшую щель, и долго, с беспомощно бьющимся сердцем слушал гудок, представляя себе свой дом, кабинет, хохлому над плитою и плечи Арины, дрожь которых так и осталась внутри его пальцев с той ночи. Нельзя было думать об этом. Иначе пришлось бы, наверное, ползти обратно, по снегу, в свой дом. Дома не было.
В день перед отъездом он приехал к Кате в институт, чтобы попрощаться. Она ждала его в вестибюле, спокойная, но ярко-бледная, такая, что он даже испугался, не заболела ли она, и сразу сказала, что у нее очень мало времени, потому что сегодня они целый день работают в больничном морге и она отпросилась всего на пятнадцать минут. Он понял, почему она такая бледная и измученная, и мысль, что Катя, дочка, только что пришла из морга, где она что-то делала c мертвыми, вызвала в нем испуг и отвращение.
– Не суди меня, – сказал он глухо. – Сложилось так, милая…
– Сложилось… – голосом, похожим на материнский, повторила она. – Да это ведь смерть!
Она сказала «смерть», потому что, наверное, только что пришла из морга. Ее нужно было обнять сейчас крепко и не уходить никуда. И вместе вернуться домой. И поужинать вместе. И жить вместе дальше. Откуда вдруг смерть?
– Поверь мне! – сказал он. – Поверь! Я сделаю все, чтобы мы с тобой встретились…
Он обхватил ее голову и прижал к себе. На них начали оглядываться, и, испугавшись, что он может опять чем-то повредить ей, Владимиров отпустил ее и быстро вложил в карман ее белого халата конверт с деньгами. Она отступила на шаг. Лицо ее мелко дрожало.
– Прощай, мой отец, – сказала она. – Пиши до востребования.
Быстро и широко миновала пространство до лестницы и, быстро ввинтившись в поток остальных, мелькнула в пролете и скрылась.
Он возвращался из института по Комсомольскому проспекту. Темнело так быстро, по-зимнему, и в окнах уже горел свет. Проехавшая машина обдала его брызгами коричневой жижи. Владимиров остановился и показал водителю кулак. Он их никогда не увидит. Ни дочки своей, ни Арины. Никогда не будет идти вечером по Комсомольскому проспекту, и ветки, покрытые льдом, сквозь который чернеет кора, ему не напомнят застывшие руки худых балерин. Перед дверью магазина «Дары природы» толпились люди. Развесная клюква в сахаре, любимое лакомство Кати, лежала, сверкая, в деревянных ящиках с легкой изморозью по бокам, и краснощекая продавщица, ловко подцепляя ягоды ковшом, ссыпала их в бумажные кульки, взвешивала, получала деньги и распухшими пальцами отсчитывала сдачу.
– Больше не становитесь! – простуженно закричала продавщица. – Товар заканчивается!
Но он все-таки встал в самый хвост очереди, и ему досталась последняя горсточка этой клюквы, с которых уже облетела вся пудра, – она была кислой и горькой, как прежде, когда, вся живая, росла на болоте. И он разжевал эту кислую клюкву с таким наслаждением горя, с такою готовностью, чтобы заплакать, что тут же заплакал навзрыд, и закашлял, и сразу схватился за скользкое дерево.
Вечером того же дня он вдруг заметил, как похудела Варвара, и подумал, что с его стороны это почти подлость: тащить ее куда-то в Германию, языка которой она не знает, работать не сможет и, стало быть, должна действительно посвятить ему всю свою жизнь. Но под утро она вдруг разбудила его поцелуями и такими нетерпеливыми объятьями, что он, разумеется, ответил ей, и эта любовь, наступив, длилась, длилась, и оба стонали, сжимая друг друга, и ноги Варвары качались над ними, как только стволы очень юных березок качаются ночью от сильного ветра. А когда он наконец отпустил ее и они откинулись на подушки, крепко держась за руки, он услышал, что она всхлипнула, и тут же подумал, что лучше прямо сейчас упросить ее не ехать с ним, остаться дома, и все постепенно уладится: она молодая, красивая, умная, с хорошей квартирою, с образованием…
– Если ты не возьмешь меня с собой, – вдруг громко сказала она в темноте, – я точно повешусь. Вот здесь, в этой комнате.
Часть II
Сахарный, пряничный городок, в котором они жили первые две недели перед тем, как перебрались во Франкфурт, казался Владимирову не настоящим городом, а театральной декорацией. И то, что внутри этой декорации ходили люди и ездили машины, а в магазинах продавали толстый хлеб и красные колбасы, которые, поблескивая неживой кожей, свисали с потолка до самых макушек огромных мясников, иногда даже настораживало его и тоже казалось как будто неправдой.
Приезжал повидаться Устинов из Брюсселя. Свидание вышло нервным и запальчивым. Устинов поссорился с бардом и, стремясь доказать свою правоту, клеймил теперь этого хитрого барда направо-налево.
– Вы его не раскусили! – кричал Устинов, подливая себе из бутылки, которую сам же и привез. – Никто не раскусит его так, как я!
– Смотрите, Мишаня, зубы не обломайте, – сказала негромко Варвара. – У барда народная слава. Вот если бы Юрочка смог…
Устинов не дал ей продолжить.
– При чем здесь твой Юрочка! Юрочка твой мухи не обидит!
– Не преувеличивай, Миша, – усмехнулся Владимиров. – Обижу за милую душу. Слона, а не только что муху.
– Я тебе так скажу, – угрюмо ответил Устинов, – ты должен сразу определиться, с кем ты и почему. Мы все не любим ГБ, но это – единственное, что нас объединяет. А этого недостаточно. Ругаемся так, что… Почти убиваем друг дружку.
Владимиров вспомнил, что именно это и предрекала Арина, когда по «Свободе» зачитывали его письмо.
Денег у них с Варварой было мало, но когда по всему городу начались зимние распродажи и он увидел, как гордо-презрительно проходит его Варвара мимо этих витрин, где красным фломастером зачеркнуты прежние цены, а желтым написаны новые, он отдал ей все эти деньги и был поражен тем, что, когда она через шесть часов вернулась домой, от денег почти ничего не осталось. И пока он думал, стоит ли сказать ей, что нельзя было столько тратить, Варвара быстро сняла с себя все до нижнего белья и, вспыхнув от счастья, принялась примерять перед зеркалом новую одежду. Он увидел, что она выбрала самые яркие цвета и самые причудливые фасоны, что юбки, которые она, изогнувшись, застегивала с трудом, слишком обтягивали ее живот и ягодицы, что с маленьким перышком белый беретик совсем ей не шел, но решил ничего не говорить, и, когда она, радостная и взволнованная, повернулась к нему в коротком клетчатом платье, курточке из кожаных обрезков и высоких, на шпильках, бордовых сапогах, он сделал такое лицо, как будто ему это все очень нравится. Чувство вины, мучающее его по отношению к Арине и Кате, переходило и на Варвару. Ему все время казалось, что она много терпит из-за него, что в Москве положение «его женщины» было самым что ни на есть для нее унизительным, да и теперь не легче.
Одно воспоминание до сих пор пропарывало Владимирова насквозь: была премьера фильма «Мой друг Иван Лапшин» в Доме кино, и он пошел на эту премьеру с Ариной, не зная, что Варвара тоже достала через кого-то пригласительный билет и, ничего не сказав ему (понимала, что он не захочет этой встречи!), пришла туда первой, стояла в фойе, нарочно, чтобы не пропустить той минуты, когда появятся они с Ариной, и ужасом адским его обожгло, когда он вошел туда бодро, с мороза, и встретил глазами глаза своей «женщины». Она была очень хороша в не по сезону открытом и нарядном черном платье, стояла совершенно прямо, раздув слегка ноздри, и он с тою болью, с которою видишь в толпе близкого тебе человека и понимаешь, что сейчас именно ты и есть причина несчастья этого близкого человека, – он с болью взглянул на нее, давая понять, чтобы она не подвергала их испытанию, ушла бы с проклятой премьеры, и она ответила ему таким презрительным, полным ненависти и одновременно страдания взглядом, что он с трудом удержался от того, чтобы не сбежать самому.
И тут же, чувствуя, что движения его становятся деревянными, помог Арине раздеться, и Арина еще и оперлась на его руку, снимая сапоги и надевая лаковые туфли, сдал оба пальто в гардероб, и они прошли мимо Варвары, теперь совсем белой, как мрамор.
Весь следующий день она не подходила к телефону, а он, хотя и злился на нее за эту выходку и поначалу даже думал проучить, – он сдался, звонил ей почти непрерывно, пока она наконец не подошла и не сказала ему набухшим слезами, измученным голосом: «Не смейте меня беспокоить». «Я жду тебя здесь, в мастерской», – сказал он, и она приехала через час, ворвалась к нему, как фурия, засыпанная снегом, огненно-красная от слез и все-таки накрашенная, потому что не любила, когда он видел ее без косметики. Владимиров начал было говорить, объяснять ей, что он не хочет чувствовать себя преступником, что у него есть обязанности по отношению к семье, с которыми она должна считаться, что он не собирается каждый раз спрашивать, куда ему ходить и с кем, но Варвара вдруг близко-близко подошла к нему, ударила его по лицу так сильно, что он на секунду ослеп, а потом, сама ужаснувшись тому, что сделала, опустилась перед ним на колени. А еще через полчаса, когда она уже спала на его плече с размазавшейся по щекам тушью, дышала так ровно, спокойно, по-детски и все ее лицо было соленым от слез, которые он осушал своими быстрыми, тихими поцелуями, а слезы лились и лились, – он вдруг беспощадно подумал, что нужно на что-то решаться, а то они оба не выдержат этого.
Теперь, в Германии, когда она набросилась на эти дешевые тряпки и победно притащила их домой, как зверь к себе в логово тащит останки другого, убитого зверя, он еще сильнее почувствовал свою ответственность перед ней и не представлял себе, чем она наполнит жизнь, что будет делать с утра и до вечера, когда ему наконец посчастливится вновь приняться за прерванный текст и, кроме того, заниматься журналом.
Перед самым отъездом во Франкфурт он спросил у Варвары, не думает ли она о ребенке. Ему было за пятьдесят, а ей тридцать шесть, и обстоятельства не слишком располагали к тому, чтобы рожать детей, но Владимирову казалось, что никакой женщине, особенно такой темпераментной и любящей, как она, нельзя прожить жизнь без ребенка.
Варвара была огорошена его вопросом и весь вечер просидела в сторонке, не сказав ни слова и тихо капая на сгиб руки расплавленным воском, которым оплывала ярко-розовая свеча. Воск слегка обжигал ее руку, и она морщилась, ждала, пока капля застынет, потом отколупывала ее и капала снова.
– У меня было два аборта, Юрочка, – сказала она наконец. – Один от Нинеля (так звали умершего клоуна), другой от соседа по дому, актера. И срок оба раза был очень большим.
– И что же ты не родила? – пробормотал Владимиров, чувствуя и жалость к ней, и брезгливость, и стыд, что он чувствует эту брезгливость.
– С Нинелем мы уже развелись к тому времени. Я думала, что оставлю ребенка, рожу все равно. А пошла к врачу, и мне говорят: а его уже нету, сердце остановилось. Давайте вытаскивать. Двенадцать недель было мальчику. А со вторым… Сама не выдержала, пошла и сделала. У этого соседа жена была, двое детей. И жили мы рядом, он на четвертом, я на пятом…
Она с мукой, но испытующе посмотрела на него.
– Ну, в общем, ты знай, – пробормотал Владимиров. – Я, конечно, немолодой, будущего своего мы толком не знаем, но я тебе как на духу говорю…
– Ты хочешь ребенка? – Варвара его перебила.
– Но не обо мне разговор. Тебе это важно…
– Да ты – мой ребенок! – И она с размаху села к нему на колени, обняла и крепко прижала его голову к своей груди. – Ты – мой ребенок, Юрочка! Я не могу забеременеть, мне доктор сказал после второго аборта: «Если вы вдруг родите, это будет чудо». А чудо случилось ведь, Юрочка! Ты – мое чудо. Ты – крошечка мой, ты мой мальчик…
Она задохнулась от слез.
– И больше не смей меня спрашивать! Не будет ребенка!
Вдруг что-то опять испугало ее:
– А может быть, зря ты связался со мной? Когда я такая вот – неполноценная?
Лицо ее пошло красными пятнами.
– Ты мог бы мне сразу сказать! Зачем же сейчас упрекать?
Владимиров сморщился.
– Да Варя, побойся ты Бога! Когда я тебя упрекал? Я думал, что ты молодая, здоровая женщина…
– А я оказалась больная, негодная! Ну что, Юра? Так? Говори!
– Ты хочешь меня доконать? – спросил он ее.
Она опустилась на стул и испуганно посмотрела на него.
– Я всегда боялась, что ты меня возненавидишь. Я, Юрочка, так умереть не боюсь, как этой боюсь твоей ненависти…
И снова ему стало стыдно и жалко ее этих черных затравленных глаз, и слез, побежавших опять по лицу, и всех ее резких, неловких движений. Он остановился у окна, отдернул штору, и снег, так беззвучно и мягко сиявший, приблизился всем своим ласковым, добрым, широким крестьянским лицом.
Редакция того журнала, за выпуск которого он теперь отвечал, помещалась на окраине города в одноэтажном помещении, поделенном на пять небольших комнат. Зарплату предложили такую высокую, что они сразу почувствовали себя миллионерами. Квартиру сняли неподалеку от редакции, в двух шагах от трамвайной линии. Владимиров всегда неохотно встречался с корреспондентами, а сейчас, ставши редактором журнала, физически ощутил, что его снова загоняют в угол. Посторонние люди со въедливыми, но не искушенными в страданиях глазами задавали ему вопросы, которые казались ему бестактными, и он, чувствующий другого человека так остро, как хороший музыкант, оказавшийся в зрительном зале, чувствует расстроенный инструмент в оркестре на сцене, угадывал эти вопросы еще прежде, чем ему успевали задать их, и старался отвечать так, чтобы его не причислили ни к политикам, ни к общественным деятелям.
– Мой отъезд, – говорил он своим спокойным и тусклым голосом, – не является выражением протеста тому социальному строю, который я оставил в России. Тем более формой борьбы с этим строем. Я по своей природе человек скорее аполитичный и никогда не стремился на баррикады. Я, в общем, писатель, и этим все сказано.
– Получается, что вас насильно выдворили из страны и вы готовы вернуться? – крикнула из зала коротко стриженная женщина в черном берете.
Он взглянул на нее и увидел, что она, наверное, мать-одиночка, ненавидит мужчин, которые ее крепко обидели, лесбиянка, работает в левой газете, живет с очень бойкой подружкой… Он увидел, как она вечером приходит домой, бросает куда-нибудь в угол берет и ей навстречу из маленькой, неубранной комнаты выходит ее дитя, скорей всего девочка, которая смотрит всегда исподлобья.
Стриженой журналистке было наплевать на русского писателя Владимирова, потому что она не знала его языка (вопросы задавались через переводчика) и не читала ни строчки из того, что он написал, но ей нужно было, чтобы он добавил несколько деталей в знаменитый на Западе миф, который уверяет, что в России не только гуляют медведи по улицам и летом не тают снега, но, главное, там не бывает и счастья. Толкая его на ответ поострее, она хотела, чтобы именно ее материал оказался в утреннем выпуске газеты, в которой уже появились в свое время запальчивые интервью с Устиновым и Марь Степанной, женою Винявского, тоже писателя.
– Меня поставили перед выбором, – морщась, ответил он, – писать так, чтобы это было удобно властям, или уехать. Я стремился к тому, чтобы не только писать то, что нахожу нужным, но думать то, что думаю, и чувствовать то, что чувствую. При нынешнем положении вещей и жесткой неумной цензуре это стало практически невозможным. Я уехал прежде всего для того, чтобы спокойно писать. Никакой политической позы, поверьте, в моем отъезде не было.
– Так вы не хотите вернуться? – уже без запальчивости, а грустно и хрипло воскликнула стриженая, и ее ненакрашенные, возбужденные глаза встретились с его угрюмыми глазами.
А он вспомнил Катю, от которой за все это время не было ни одного письма, и подумал о том, что если бы он мог жить в одном городе с ней и хотя бы раз в две недели сидеть с ней в какой-нибудь скверной столовой, смотреть, как она ест пельмени… Да разве им скажешь такое?
– Я четко разделяю, – ответил он, сглатывая ком, – человеческую жизнь, напрямую связанную с тем местом, в котором ты родился, потому что там не только ты, но и твои дети, и могилы твоих родителей, и вынужденную человеческую биографию, которую ты проживаешь из-за того, что на этом месте, где ты родился, происходят стыдные для твоей совести дела…
И, заметив, как погасли возбужденные глаза журналистки, понял, что ответил слишком сложно и завтра в газете ответ его будет весьма упрощен.
– Юра! – воскликнула Варвара, когда, поднявшись после долгого и мутного сна, Владимиров со всклоченными волосами, открывшими его больную щеку, вышел в кухню. – Юра, ты пойми, что так нельзя отвечать! Устинов звонил и кричал, что ты только подливаешь масла в огонь, потому что раскол эмиграции – это то, с чем нужно бороться…
– Опять?
– Что «опять»?
– Опять нужно с кем-то бороться? Когда же работать?
Она ясно взглянула на него своими черными глазами.
– Ну, люди скучают, – сказала она. – Им хочется цели… Неважно какой. Не все ведь – Владимировы…
– Знаешь, – пробормотал он, – меня лет десять назад привезли в больницу с сотрясением мозга. Во Вторую градскую. Я на ледянке поскользнулся, с Катюшкой гулял, и так башкой треснул по льду, что… Привезли, короче. Раздели почти догола, и девчонка, студентка, наверное, начала меня осматривать, ощупывать. У нее было такое выражение лица, как будто она варит суп или комнату пылесосит. Не то что равнодушное, а просто никакое. Старательное, но совсем без эмоций. А я вдруг подумал: «Вот это дела! Вот это и значит: быть «телом»!» Сейчас я, похоже, опять просто «тело».
– Юрочка! – прошептала Варвара, чуть не плача от сострадания к нему. – Я, миленький, знаю: ты должен писать. Пиши свой роман. Я возьму на себя…
– Что ты возьмешь? – испугался Владимиров.
– Политику. Я разберусь, я смогу. Уж тут-то полегче, чем было в Союзе!
«Плохо, что она не может родить, – тоскливо подумал он, гладя ее по голове. – Все было бы проще…»
В самом начале марта заговорили о перестройке, и словно бы острым весенним дымком, щекочущим ноздри и очень заманчивым, вдруг стало тянуть от любого события. Все одинаково разволновались. Мишаня Устинов, чувствуя личную ответственность за так называемый «развал Советского Союза» и не зная еще, на которую из разболтанных платформ ему вспрыгнуть, каким замахать ярким флагом, сказал, что время пришло всем собраться. Поэтому в мае он устраивает большую эмигрантскую конференцию неподалеку от Брюсселя в одной из старинных чудесных гостиниц. Мишаня не на шутку испугался того, что пропустит роковую минуту, и новое судно – все тот же «Титаник»! – отправится в плаванье, но без него. А злая хитрющая Марья Степанна с таким же хитрющим пронырой Винявским усядутся на капитанское место. Разбойнички те еще…
Владимиров животом чувствовал, что ничего хорошего на этой конференции не получится, а могут быть только скандалы и ссоры, но Варе смертельно хотелось в Брюссель.
– Ты только смотри не скандаль, моя радость, – сказал он тоскливо. – Не стоит врагов наживать…
Собрались, поехали. На заднем сиденье лежал желтый чемодан с Варвариными нарядами. Она молодела на глазах от предвкушения большого собрания новых людей, и как она скажет всем чистую правду, и как она выступит, а Владимиров жадно курил в открытое окно и думал, что этих вот белых коров, которые, как облака над землею, плывут посреди голубого и белого, – вот этих коров хорошо бы запомнить и вставить куда-нибудь в текст. Еще он подумал, что в сознании простого, выросшего на земле человека рай должен быть связан не с роскошными плодами и невиданными животными, а именно с теплым парным молоком и ласковой, сытой, спокойной коровой….
Место, выбранное нетерпеливым Мишаней Устиновым для проведения конференции, располагало к дружелюбию и солидарности. Солнце теплого, хотя и ветреного дня освещало бывший княжеский замок, который лет десять назад перестроили под гостиницу. Кроме самого замка, гостиницей служили и два небольших домика, таких старых по своей архитектуре, что ступени их были навеки покрыты темно-зеленым мхом, а узкие окна со ставнями совсем не пропускали в комнату света, и когда Владимиров с Варварой вошли в нее, им показалось, что наступила ночь. Напротив окна возвышалась старинная кровать под ослепительно-белым покрывалом, а на сундуке, который заменял диванчик, лежали подушки, такие же белые. Варвара принялась развешивать вещи в шкаф, а Владимиров открыл ставни и высунулся в окно. Темная дубовая аллея, прямая, как чей-то прекрасный характер, шумела листвою. Судя по ветру, казалось, что вот-вот то ли хлынет дождь, то ли придет гроза, но ветер шумел и шумел, а ни дождя, ни грозы все не было, и отчетливо проступала прозрачная река вдалеке, которая, скорее всего, протекала уже за пределами принадлежащего гостинице куска леса. Закуковала кукушка, и все это: ветер, аллея, река, закатное солнце на небе, – все преобразилось от звука знакомого птичьего голоса и так посвежело от этого голоса, как будто на всем была тонкая пленка и вдруг эту пленку содрали.
– Вот так бы пожить, Варя, а? – сказал он, оборачиваясь к Варваре, все еще раскладывающей вещи. – Ну ведь до чего хорошо! Кукушка-то как в Переделкине!
Она посмотрела на него беспокойно блестящими глазами:
– А ты не заметил, что, когда мы повернули с дороги в парк, по боковой тропинке шел Мишаня с Заботиным? Я хотела попросить, чтобы ты притормозил, но ты смотрел в сторону, и, кроме того, я боялась, что мы опоздаем к обеду. Пора. Уже надо идти.