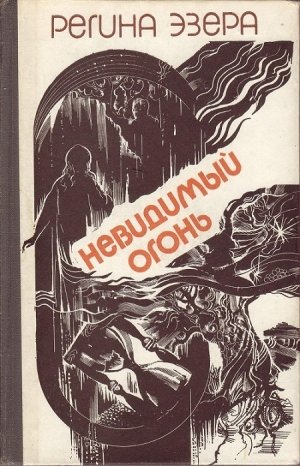
Это самое удивительное происшествие в моей жизни
Автор
Острая боль вонзилась в меня огненной струей, впилась в грудь ядовитым шипом и поддела меня, как мотылька, стальным острием. Под ребрами пылало что-то жгучее, тяжелое, недвижное, я знала, что это должно быть сердце, и все же отказывалась признать этот раскаленный бесформенный предмет своим сердцем, от которого бежали цепенящие токи по незнакомой, холодной как лед и тоже совсем чужой, как бы вовсе и не моей левой руке. Липкие горячие щупальца ползли по шее, обвились, сомкнулись. Меня охватил страх близкой смерти. Из сдавленной глотки не исходило ни звука, и только изо рта прерывисто струился пар. Я чувствовала то, чего никогда не чувствовала прежде, — я ощущала, как кровь движется по моим жилам, не бежит, не течет, а именно движется, медленно прокачиваясь по кровеносным сосудам, будто густое и мутное, застывающее при охлаждении, жидкое стекло.
Боль пронзительная и жгучая, налетевшая внезапно, как молния, потихоньку и полегоньку начала меня отпускать, выходя из моего тела и существуя с ним рядом, как тень, связанная со мной и от меня зависимая, но уже от меня отдельная. Этот спад, однако, не принес облегчения, он сопровождался тошнотой. По мере того как отступало страдание и уходило чувство тяжести, я теряла как будто и внутренние органы. Сердце, желудок, легкие, печень и селезенка, которые только что были спазматически сжаты в горящий клубок, находились также вне меня, и я ощутила под ложечкой гулкую пустоту, как если бы от моего туловища осталась одна оболочка с полой серединой, пустая скорлупа, смятая кожура, поскольку держаться ей было не на чем.
Стремясь найти опору, я наугад протянула правую руку в серое зыбкое пространство и наткнулась на что-то острое. Мне казалось, что я лежу, спрятав лицо в жесткую шерсть большого зверя, она касалась моих ладоней, колола мой лоб и тупо щекотала веки. В сознании слабо мелькнула догадка, что это трава. И вдруг я ее увидала — в такой близости, что стебли казались огромными, будто лишились привычных размеров, или, возможно, привычных размеров лишилась я.
Трава мелькнула и, колыхаясь, опять слилась с удушливой мглой, в которой смутно проступили большие темные контуры, легко и плавно колеблющиеся, как отражение в ровно текущей реке. То был силуэт арки. Я знала, что здесь нет и не может быть никакой арки, инстинкт восставал во мне против видения, отрицая его возможность и близость. Но арка, словно в час рассвета, обрисовывалась все явственней в царившем вокруг бесформенном хаосе, величаво-массивная, исполинская и в то же время воздушно-легкая, как мираж.
Сказочная таинственность арки обладала странной мистической силой, она пугала и одновременно властно к себе тянула — я видела, как необоримо она мной овладела. Хотелось отвернуться, но я не отвернулась. Идти не хотелось, но я шла — как под гипнозом продвигалась все ближе к серым могучим опорам, хоть меня и сковывал леденящий страх. Под величавым сводом, плавно смыкавшимся где-то высоко над моей головой, я в последний раз пыталась отступить. Кто-то, чудилось, меня окликал, звал назад. И все же я не вернулась. Неведомая сила, заставлявшая меня идти и не оглядываться, идти и не возвращаться, пересиливала мой ужас, мою волю и меня самое.
Я подчинилась и, словно освобождаясь от условностей и воспоминаний, от связей с вещами и людьми, ощутила никогда не испытанную полную раскованность, какую чувствуешь в свободном полете. Не было больше ни страха, ни сожалений или сомнений — все покрывала застывшая корка некогда бурлившей лавы. Никакие страдания и страсти меня больше не терзали. Страдания и страсти принадлежали к телесной части моего существа, теперь же собственная плоть, которая до сих пор казалась мне столь важной и доставляла столько забот, сделалась лишней и ненужной, я сбросила ее без мук и сожалений, как змея сбрасывает кожу или рак скорлупу, и парила в незнаемом прежде бездумном вакууме.
За аркой, которая, как недавно казалось, ведет в струящуюся пустоту, открылся старый, в белесых контурах статуй и обелисков сад, погруженный то ли в предрассветный сумрак, то ли в полумрак гаснущего дня, когда местность окунается в дымку и дальний мутно-серебряный свет. Определить, который час, было невозможно. Тусклое сияние могло исходить как от скрытой облаками луны или севшего за горизонт солнца, так и от дальнего зарева большого города. Еще загадочнее было время года. Деревья стояли голые, однако цвели розы. Ничто не имело ни цвета, ни запаха, вокруг ни дуновения, ни признаков жизни. Дорожки белели, затянутые девственным снегом, как после недавней метели. Нигде не было видно следов, но так как следов не оставляла и я, то девственность снега могла быть обманчивой и по нему, возможно, ходили и до меня.
Столь же мнимой оказалась и совершенная пустынность парка с безмолвными деревьями и каменными статуями: то, что сперва представлялось мне обелисками, на деле было вовсе не обелисками, а человеческими фигурами. Постепенно, и очень медленно, словно преодолевая тяжкую инерцию, у меня на глазах они шевельнулись, и по саду прокатился глуховатый стон, словно шорох облетающих в безветрии листьев, шелест птичьих крыльев или жужжание шмеля. Этот нежный певучий звук не мог исходить от движения людей, и тем не менее он возник от замедленного, с громадным усилием или, быть может, в глубоком сне совершенного ими качания.
Зыбкие фигуры казались сначала безликими, как тени, и безличными, пока в одной из них я не узнала Феликса Войцеховского. Он в нескольких метрах от меня и, словно отдыхая во время прогулки, сидит на светлой скамье из реек, опершись на трость цвета слоновой кости. Контуры этих двух предметов, выделяясь четкостью линий, графичностью, как бы гасят, смазывают силуэт человека, почти слившийся с монотонной серостью окружения. Возможно поэтому кажется, что его ступни зарыты в землю. И все же нет, виной такому обману зрения Нерон, который лежит у самых ног Войцеховского, отчасти закрыв их своим телом, — пес лежит на брюхе и, положив морду на передние лапы, привычно охраняет хозяина. Я кивком головы приветствую Войцеховского. Это непроизвольный жест — ведь тот скорее всего меня не видит, хотя и сидит, повернувшись чуть склоненным лицом в эту сторону. Мой поклон и в самом деле остается без ответа. Ни в лице Войцеховского, ни в позе никаких перемен.
На плече у него сидит Тьер. Я жду — как-то он примет мое появление. Но он не поворачивает и головы. Враждебность его угасла так же, как экзотические краски оперения, и взгляд пустой, как у совы при свете дня.
Мое приближение оставило равнодушным и столь бдительного обычно Нерона, морда которого также повернута ко мне. Одно время казалось, что глаза у собаки закрыты, между тем они открыты, но смотрят куда-то мимо, на невидимый мне предмет, однако без интереса и без всякого выражения. Застывшие ноздри тоже, видимо, не чуют запахов, ведь запахи это волны мельчайших частиц вещества, а здесь, помимо меня, не перемещается ничто — движение тел не переходит в движение вперед, люди только покачиваются, как деревья на ветру, туда-сюда, туда-сюда, и снова, и опять колеблются, но не трогаются с места и, очевидно, никуда не стремятся. К тому же от меня, вероятно, не исходит больше характерный запах, особенный и неповторимый у каждого человека, который Нерон знает и отличает от сотни других. Я подхожу ближе и привычно к нему тянусь, сама толком не зная зачем: мне вовсе не хочется к нему прикоснуться, будто предчувствие говорит мне, что шерсть Нерона не будет теплой и шелковистой, как прежде, и она действительно холодная и шершавая, словно вываляна в сыром песке.
Когда я протягиваю руку, звон, наполняющий сад, усиливается — вероятно, этот загадочный звук, как от всех обитателей сада, исходит и от меня. В легкий шелест иногда вплетается глуховатый стук по металлу или, быть может, по стеклу и этому звяканью сопутствует что-то вроде бледного мерцания блуждающих огоньков. Этих тусклых светлячков рассыпает Вилис Перкон, мерно пересыпая крупную дробь, как горох, с ладони на ладонь, с какой-то тупой бесцельностью, точно в глубоком сне или в туманном забытьи. Ничто для него не существует, ничто не привлекает его внимания, и ничего вокруг он не видит — наверно, и дробь свою тоже, и она звенит, как старые, давно изъятые из обращения и потерявшие цену деньги. Я постояла немного перед ним, но он не повернул ко мне лица, я не интересовала его ни в малейшей степени, как и все остальное.
Невдалеке от Перкона стоит Лелде. Ее тонкий стан в светлом платье сливается с белизной растущей вблизи голой березы, и сама она походит на молодую березку. Длинные прямые волосы еле заметно веют в невидимом токе воздуха, белесые, как и все в этих ночных сумерках, и выглядят заиндевелыми, или поседевшими, или посыпанными пеплом. Тело ее до того хрупкое, будто она долго голодала. Но от сильной худобы острые, не по-детски суровые черты лица, которым темные глазницы придают выражение застывшего страдания, удивительным образом светятся, как если бы дальний закат, рассеянно освещающий в парке все, отражался именно на лице Лелде. Она исполнена воздушной легкости, подобно кисее тумана, которую может разметать порыв ветра, и тоже покачивается в заведенном ритме, подвластная ему, как и прочие обитатели парка. В движениях чувствуется легкость, как у птицы в последнюю долю секунды перед взлетом, когда земное тяготение преодолено, только тело еще не вполне оторвалось от земли.
— Лелде! — позвала я.
Мой голос прозвучал шорохом сухих листьев — так шелестят осенью на сквозняке дубовые венки, забытые в клети после Иванова дня. И ни малейшего признака, что она меня слышала.
Я вглядываюсь в новые и новые лица, но все они как маски — с рельефными чертами и каменным выражением, лишенным какого бы то ни было чувства. Только фигуры, как засохшие стебли, шурша, колышутся в каком-то неизменном внутреннем ритме. Все они мертвые.
Но от такого открытия, которое должно бы вселить в сердце ужас, во мне не дрогнула ни одна жилка, как будто бы и сама я ничем от других не отличаюсь. Я ничему не удивлялась и ни в чем не сомневалась, Это царство надо принимать таким, какое оно есть, тут не годятся мои представления о мире, где все находится в развитии, превращении, здесь правят другие законы — время тут не имеет значения, оно остановилось, застряв где-то между часами суток и временами года; тут нельзя совершить ошибку, но и нельзя ничего исправить, тут нечего бояться, но и надеяться не на что, тут все покрывает пепел, под которым не тлеют угли.
Быть может, это покойное, безбурное покачивание, убаюкавшее людей, — награда за все, что на веки веков осталось по ту сторону величавого свода арки? И быть может, эти невидимые волны укачают до бесчувствия и меня, хоть пока я еще хожу по нетронутым дорожкам парка, однако утратив живой человеческий запах и голос?
Люди вокруг меня стоят и сидят в разных позах, настолько погруженные в себя, что окружающее для них не существует. Недоступная моему разуму высшая сила стерла различия и противоречия между ними — тут нет ни начальников, ни подчиненных, ни врагов, ни влюбленных, неизменное выражение на лицах — лишь отсвет прошлого, как заря над горизонтом после захода солнца. Застылость исказила некогда прекрасные черты, некрасивым же придала чистоту линий мраморных рельефов. Предметы и вещи имеют здесь совсем иную ценность и назначение. Часам отсчитывать нечего, купить за деньги ничего нельзя, и шляпки стальных гвоздей, и медная чеканка имеют такой же благородный блеск, как золотые кольца высокой пробы. Тут не существует грани между старостью и молодостью, ведь старость и молодость понятия временные, относительность же понятия времени ничто не доказывает столь убедительно и глобально, как это царство.
Какое может иметь значение, что Лелде пятнадцать лет, если ей никогда не будет шестнадцать? Или что Феликсу Войцеховскому пятьдесят три? Много это или мало в мире, где не существует даже недавнего или далекого прошлого, только прошлое как таковое, прошлое вообще, в котором события и судьбы слились и смешались, как воды двух рек и ручьев, и покрылись коркой льда? Сюда, где не знают ни надежд, ни сожалений, нельзя ни опоздать, ни явиться раньше времени. И те, кто летел сюда опрометью, как мотыльки на огонь, и те, кто все мешкал, и отступал, и откладывал миг прихода с часу на час, со дня на день, не упустили решительно ничего. Здесь нашлось уже место для миллиардов и находится место для новых миллиардов, здесь нельзя ничего купить, захватить или занять то, что предназначено другому, как порою бывало в другом мире. Так что все могут быть спокойны: и тот, кто вечно сетует, брюзжит и постоянно боится, как бы его не обошли, не обделили, и тот, кто никогда не умеет за себя постоять и потому сплошь и рядом остается ни с чем.
Мало-помалу и для меня время теряло привычный смысл. Долго ли я бродила по саду и в каких единицах вообще здесь измеряют срок? Я видела, что у многих тут — как у Вилиса Перкона дробь, а у Войцеховского трость, собака и Тьер — есть с собой кое-какие вещи, но в общем и целом это вовсе не драгоценности, если не считать, например, кольца, которое от долгого и постоянного ношения казалось неотделимым, прямо-таки вросшим в палец, как родинка или как ноготь, сделавшись как бы частью пальца, так что его и вещью уже не назовешь.
Что же касается некоторых других предметов, то назначение их, напротив, казалось непонятным. Я заметила небольшой сверток, замотанный в платок или скатерть, который, прижав к груди, держала Алиса, обхватив обеими руками так, как держат охапку длинных цветов — гладиолусов, лилий или роз. Но сверток выглядел слишком округлым и ровным для того, чтобы в нем могли быть цветы, к тому же их не завертывают в такую толстую ткань, даже в сильный мороз, ведь она своей тяжестью может помять или сломать хрупкие лепестки. Этот сверток я вроде бы где-то видела, с ним явно что-то такое связывалось, но припомнить, что именно, я не могла.
И двухлитровый бидон, стоявший рядом с тетушкой Купен, я тотчас узнала, хотя эмаль в блеклом полумраке выглядела скорее серой, чем синей. Но все сомнения рассеивал лохматый кусок бечевки, которым к ручке из гнутой проволоки была привязана крышка, чтоб не слетела и не потерялась. Тетушка Купен во всем ценила чистоту и порядок, а бидон без крышки — разве это посуда для молока, ведь туда налезут мухи и всякая нечисть. Бидон был тот самый, в котором она мне всегда оставляла утреннее молоко.
Проходя мимо, я нечаянно его задела, и жестяная посудина звякнула коротко и глухо — звук не разлился по просторам сада эхом, а тут же заглох, как звон в плотно закрытом помещении. Без содержимого и без всяких видов наполниться молоком бидон стал просто цилиндрической жестянкой, бесполезной и никому не нужной. И тем не менее он здесь — именно бидон, а не какая-то другая из вещей, в течение долгой жизни принадлежавших Марианне Купен. Возможно, он значил для нее нечто такое, чего мне просто не дано понять: ведь что мы по сути знаем о скрытом огне, который невидимо тлеет в наших ближних? Всю жизнь я старалась туда заглянуть, но разве когда-нибудь это мне удалось? Войцеховский, Лелде, Вилис Перкон, Алиса, тетушка Купен были моими соседями и знакомыми в Мургале, их жизнь протекала фактически у меня на глазах, а что я знаю об их невысказанных и сокровенных желаниях, воспоминаниях, которые не облечь в слова, в связный рассказ, — ведь они порой только зарницами, только сполохами играют на дне сознания; что я знаю об их осознанных и неосознанных порывах, и не казалось ли мне иногда драматичное смешным только потому, что не затрагивало мою особу — не причиняло боли, не ранило, не бередило душу и ничем мне не грозило? А трагические судьбы мавра Отелло и белокурой Сольвейг, горничной Кристины и знатного князя Мышкина — разве не казались они мне величественными, потрясающими? Ну а сильные страсти и роковые слабости — не представлялись ли они комичными, если происходило это здесь, по соседству, в обыденной жизни? Разве не поразила меня научно-техническая революция в гораздо большей мере, чем самое удивительное творение, какое знали и знают история и природа, — душа человека?
Моими знакомыми были и Петер, Велдзе и Хуго Думинь, которых я тоже здесь встретила, хотя слово «встретить» тут, может быть, не совсем уместно.
Аскетически-резкие черты Хуго, типичные для желудочного больного, с заостренным, каким-то дерзким носом и устало, печально опущенными уголками рта очень мало разнятся с обликом Хуго, каким я знала его прежде: апатичное выражение давно уже начало сковывать его лицо, каменевшее медленно, но верно и необратимо, одновременно лишая глаза красок и блеска, между тем как зрачки покрывались матовым льдом, каким они затянуты и сейчас. Он сидит скорчившись, в напряженной позе, будто прислушиваясь к чему-то происходящему у него внутри и судорожно прижав руку к впалому животу, словно чувствует боль или по меньшей мере ее опасается, хоть и наверняка уже ничего не ощущает. До его угасшего сознания не доходят ни внешние раздражения, ни внутренние импульсы, точно так же, как и до тех, кто расположился невдалеке от него: Петера, на котором, единственном из обитателей парка, я заметила шляпу, отчасти скрывавшую комок грязи, прилипший ко лбу, или Велдзе, голова которой, как видится издали, повязана темной полоской с лохматыми краями, скорее лоскутом ткани, чем лентой, но оказывается ни тем, ни другим. На ее лбу глубокая рана. Взгляд Велдзе устремлен вверх, прямо на меня, но меня она не видит. В расширенных глазах изумление и ужас. И хотя я знаю, что это лишь видимость и ничего такого она не чувствует, я все же, сама того не сознавая, подхожу ближе и обнаруживаю еще кое-что: затененное шляпой пятно на лбу Петера тоже вовсе не грязь, которая легла бы на кожу непременно бугром. У него же вмятина, щербина или дыра с рваными краями.
Я молча смотрю на них, и они так же безмолвно глядят на меня. Они не нуждаются ни в сострадании, которого я не могу больше испытывать, ни в помощи, которую не могу оказать, — им ничего не нужно, ни от меня, ни от кого бы то ни было.
Во мне тоже, как и прежде, ничто не дрогнуло, не шевельнулось, и никаких токов извне — от этих трех серых, подобных каменным изваяниям фигур — я тоже не ощущала. Но именно в эту минуту со мной и произошло нечто — загадочное, таинственное превращение, которое я не в силах была объяснить и понять ни тогда, ни потом. Я очутилась как бы в потоке белого света, и каждая линия, каждая деталь, точно при вспышке, проявилась с небывалой четкостью и остротой. Так же, как от росы становится видной почти прозрачная, тонкая сеть паутины, так и серебристое это сияние высветило собравшихся тут людей.
Как птенец, проклюнувший скорлупу неведения и вылупившийся из яйца, я внезапно увидела то, о чем раньше имела лишь смутное, а то и вовсе превратное представление. Более того — в своем внезапном озарении я знала даже то, чего знать никак не могла: многие из этих людей, смотревших на меня, — убиты, хотя рука убийцы прямо ни одного из них не коснулась, ведь способы умерщвления бывают разные.
Я поняла и то, чего никак не могла понять: зачем у тетушки Купен с собою бидон и что в свертке у Алисы, Это царство, отняв у меня желания и волю, чувства и голос, наделило меня даром, которого я жаждала, о котором мечтала всю жизнь. И вот моя мечта сбылась: о людях, чьи оцепенелые губы никогда уж мне ничего не расскажут, я знаю все, знаю больше, чем когда-либо мне могли сообщить уже безмолвные уста, знаю так досконально, будто прожила жизнь каждого из них. И мало того — в необъяснимом прозрении мне дано заглянуть в бурлящий хаос, где лишь слабо еще проступают размытые контуры будущего.
Это было, наверное, высшей наградой, какой только я могла удостоиться за то, казалось, немногое, что я утратила, пройдя под легким сводом арки, и должно было стать венцом всех моих трудов и мечтаний, однако во мне и сейчас ни единой стрункой не отозвалось никакое чувство. Чужие мысли и поступки я могла лишь бесстрастно наблюдать, не более того, как будто и от моей души осталась только скорлупа, пустая оболочка, опавший чехол.
…И вот я снова в Мургале, и трубы на крышах мирно дымят, как деды своими трубками, в ясное небо, холодное и чистое, как стекло, и струи — белые, и седые, и просто серые струи дыма текут, вьются и тянутся вверх, и упираются прямо в небо, где-то в дальней дали, в вышине рассеиваясь и развеиваясь, будто сливаясь с ярким сиянием, которое льет, едва поднявшись над лесом, слепяще оранжевое утреннее солнце, льет взахлеб, беспрестанно, льет расточительно и щедро надо всем сущим, делая поля розовыми, тени синими и лиловыми деревья. Снега намело и нападало жуть сколько, снег сеялся и шел хлопьями, падал и сыпался неуемно, три дня и три ночи он валом валил, отыгрываясь за осенние дожди и гололед, за слякоть и грязь, когда не на чем отдохнуть взгляду и от сплошной унылой серости у человека и даже зверя сжимается сердце.
Снега давно уже было довольно, слишком, не в меру набилось его всюду, куда только он мог проникнуть и забраться; он втискивался и забивался, влезал и пробирался всюду, где только мог застрять и зацепиться: в заборы между досками, в стыки шиферных плиток, в щели между дранкой и в оконные щели, в петли пальто и в шерсть животных. Уже сровняло кочки и канавы и замело зайцев на лежках, а снег все вился на ветру острыми косыми лоскутьями и думать не думал уняться, как будто бы там, наверху, прорвало громадный мешок и некому его завязать, как будто на небесах чудит снежная мельница и нет никого, кто мог бы ее остановить и положить конец этому белому безумию.
А сегодня все так торжественно, так царственно, так невозмутимо спокойно, будто еще недавно, еще вчера не творилось светопреставление, не бушевали страсти. Галки с сорванными голосами сидят на деревьях и, лишь изредка, иногда расправляя затекшие крылья, стряхивают снежную порошу, и та осыпается пылью с золотыми блестками. Не лают собаки, и петухи не поют, петухов заперли в курятники — не тонуть же им в белых перинах, мургальским петухам с медными впрозелень хвостами и красными гребнями, гордо торчащими вверх, или ухарски сбитыми набекрень лиловыми гребнями!
Между валами снега чуть не в человеческий рост, которые затемно по обе стороны большака нагребли грейдеры, натужно пыхтит «рафик», затем тормозит у кирпичной будки, забранной стеклом, автобусной остановки и, грузно переваливаясь, катит дальше, в Раудаву, куда везет и мургальцев — в среднюю школу, в большой шикарный универмаг и меньшие, не столь шикарные лавки, в высокие и не столь высокие учреждения. И опять в воздухе стынет тишина и только из механических мастерских волнами бьет в прозрачное утро металлический звук — бим-бам, бим-бам; как дальние колокола, этот низкий гул и звон, это уханье и лязг, что в безветрии колеблет воздух над заснеженными полями и крышами, как ритмичный фокс, исполненный на ударных.
Мургале, Мургале. Я прожила тут девять лет. Девять лет это все и ничего. Девять лет тому назад я вообще не знала, что на свете существует Мургале — малый темный кружок на карте, не кружок даже, скорее точка, где неведомо как, непонятно как могло сгрудиться и уместиться больше сотни домов, сельсовет, аптека, почта, парикмахерская, восьмилетняя школа, магазин и ветеринарный участок, могло сбиться в кучу и разместиться все то, что носит имя Мургале. Непонятно это на карте, а в натуре — в натуре возможно, и еще как. На бумаге многое выглядит иначе — на бумаге кажется, что Мургале стоит чуть не у самой Даугавы, а на деле это вовсе не так. До реки, если считать по прямой, будет километров десять — десять километров леса, прорезанного большими и малыми дорогами и дорожками, которые с октября до мая можно одолеть только на гусеничном тракторе и огромном «МАЗе», так что машинам помельче и посубтильней приходится давать крюк по шоссе, а там наберется уже километров двадцать, а то и все двадцать два или, как говорит Марианна Купен, три полных мили.
Голубая ниточка, видная на карте, — это Выдрица, хотя и сомнительно, чтобы когда-нибудь в ней жила хоть одна выдра, а если и жила, то не иначе как тронутая: воды в речке к середине лета воробью по колено, так что на мелководье торчат кверху крутые лбы и старческие плеши камней и даже в глубоких местах зеленые космы водорослей струятся и треплются поверху течения, и каждый камешек, каждая рыбешка, улитки в своих перламутровых домиках и личинки ручейника в чехликах видны, как в стекло аквариума. Да и зимой тут нету ни особой глубины, ни прочного льда, ведь то, что в лютые холода построит и отшлифует до стального блеска мороз, изгрызут мышиными зубами течение и теченьица, источат и погубят за два дня оттепели. Зато на берегах речки зимует такая удивительная птичка, такой специалист по подледному лову, такой дерзкий ныряльщик, как оляпка, которая лихо, очертя голову кидается в полынью, в прорубь, не тонет, не замерзает и вновь подается на север как раз перед тем, как речка начнет бунтовать, набухать, выйдет из берегов и обрушится на луга, затопляя дороги, унося мостки и учиняя другие проказы и пакости; но весна на то и весна, весной даже мургальский барон в своем склепе зубами скрипит, когда мимо идут молодые девчонки.
А сейчас, после снегопадов, Выдрицу почти вовсе замело, забило точно взбитыми сливками, и на снежной белизне лишь местами где темнеет, где блестит полынья, где рябит, обтаивая кромкой.
Таково Мургале сегодня.
Несмотря на мороз, дверь ветеринарного участка открыта настежь, и у крыльца, фыркая включенным мотором, стоит машина — маленький, юркий, как воробей, серый газик, а не этот гибрид труб с распылителями, воронок с баками, горбатый и рогатый, яркий железный ящик, этот бронтозавр автостроения, это чудовище на колесах — дезинфекционная установка «ДУК». И с только что обметенного крыльца с небольшим чемоданчиком в руке, едва заметно прихрамывая, спускается не кто иной, как сам Феликс Войцеховский, спускается легко, грациозно, постукивая иногда по ступенькам тонкой тростью, отнюдь, казалось, не из надобности, а так, из спеси и чванства.
Войцеховский — ветеринарный врач Мургальского участка. До знакомства с ним я представляла себе ветеринаров жилистыми, с медвежьей хваткой дядями и здоровыми, как кобылы, тетками, ну а Войцеховский сложения изящного и хрупкого, с наголо бритой головой и высоким лбом мыслителя, и к тому же слишком элегантен и франтоват, слишком галантен и щеголеват, чтобы, рассуждая здраво, быть мало-мальски приличным коновалом. Он похож скорее на зубного техника или чиновника министерства, скрипача в симфоническом оркестре или часовых дел мастера, он мог бы иметь дело с антикварными вещицами и иностранными туристами, отпевать покойников и комментировать на телевидении международные события, он мог бы делать многое, но только не то, что делает сейчас, — не спускаться по лестнице, чтобы сесть в газик и отправиться на фермы, где пахнет силосом и воняет навозом, где чем только не разит таким, чего, кажется, никак не может вынести и вытерпеть его тонко очерченный нос с благородной горбинкой и чуткими ноздрями. У Войцеховского вид человека, которого мутит даже от сладковато-пресного запаха крови, который с гнойными воспалениями и запущенными ранами знаком разве что по нейтральной научной терминологии и никогда не разглядывал грубое в своей оголенности естество, которое кроется за вполне благозвучными латинскими словами. Вся его внешность — прямой вызов привычным представлениям и косности суждений: ведь он считается одним из лучших ветеринарных врачей района и, к слову сказать, не только считается.
Сойдя вниз, он останавливается и, прищурив веки, обводит взглядом это сияние, искрящееся всеми цветами радуги, смотрит вокруг удивленный, пораженный, ослепленный, впивая взглядом акварельную ясность зимнего утра, изменившую до неузнаваемости привычный, наскучивший пейзаж. Наконец Войцеховский замечает и меня, коротким, пластичным жестом вскидывает пальцы к виску, к меховой шапке, и я, кое-как собрав свои скудные познания в польском, полушутя-полусерьезно отзываюсь:
— Dzien dobry, panie Woicechowsky!
— Куда-нибудь едем? — спрашивает он, уже открывая дверцу газика и предлагая свои услуги, но мне никуда ехать не надо, по счастью — никуда, да и что за охота ехать куда бы то ни было в такой день.
Сначала он ставит в машину чемоданчик, затем трость и тогда уж садится сам, делая все не спеша, с чуть замедленной, словно подчеркнутой, грацией, и хотя это слово «грация» может показаться неточным и неуместным, ведь речь идет о мужчине, причем пожилом и в придачу немножко хромом, может представиться еретическим или язвительным, мало того, может выглядеть насмешкой над здравым смыслом и понятием красоты, отдавать просто ерничеством, пустозвонством — да, хоть все это может так выглядеть и представляться, казаться и восприниматься, я не нахожу другого, более верного обозначения для легкости и свободы движений Феликса Войцеховского, что сродни пластичности как балетного танцовщика, так и дикого животного, и за внешней легкостью прячет целенаправленность, выносливость и физическую силу.
Сев в машину, Войцеховский берется за ручку дверцы. Секунда — и та захлопывается, еще секунда — колеса приходят в движение, взметая облако рыхлого снега, и… Но в этот момент, в этот самый последний момент из калитки Каспарсонов стремглав выбегает Лелде и, махая рукой, бежит следом. Портфель застегнут всего на один замок, пальто — всего на одну пуговицу, а шарф только захлестнут, он реет и пляшет, на бегу и от тряски живого движенья разматывается все больше и больше — ярко-красный на снежной белизне, как цветущий мак, бьющийся в ритме бега, как струя крови. Автобус, конечно, ушел, на первый урок она, само собой, опоздала, и счастье еще, что на свете есть Войцеховский, такой старичок Феликс Войцеховский со своим служебным драндулетом, на котором, может, и удастся догнать автобус. Ой, да не прогулять бы хоть второй урок, физику — ведь физику ведет классный руководитель!
Лелде, спотыкаясь, вваливается в газик, часто дыша, падает на сиденье рядом с Войцеховским, запыхавшаяся, не в силах ни поздороваться, ни вообще вымолвить слово, она только счастливо улыбается белозубым ртом сквозь клубы пара, которые прерывисто возникают и рассеиваются, вырываются изо рта, и жемчужно-розовые, тают в студеном воздухе.
И вновь рука тянется и захлопывает дверцу, и газик снова трогает с места, и опять взметает белый вихрь снега. И мне видно зажатый в дверце кончик красного шарфа, он вздрагивает в такт движению как высунутый язычок. Подпрыгивая на расчищенных ледяных ухабах, газик быстро набирает скорость и уходит все дальше, и по мере его удаления кончик шарфа превращается в живое, дрожащее маленькое пламя и на повороте, словно его вдруг задули, мгновенно гаснет.
ТЮРЬМА, ИЛИ РАССКАЗ О ЛЕЛДЕ,
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ,
НО ТАКЖЕ ОБ АВРОРЕ И АСКОЛЬДЕ
— С-смотри… П-посмотри! — восклицает он тихим, приглушенным голосом, как всегда в минуты сильного волнения чуть заикаясь, и весь он — сплошное удивление, невероятное изумление, оно струится и льется, лучится и рвется из совершенно круглых зрачков его расширенных глаз. — Видишь? В-вон!
Но Лелде уже и сама видит.
В темных недрах воды мелькает и движется что-то блестящее, глянцевое, точно белыми огнями горящее, то и дело мигающее, искры мечущее, похожее на яркую звезду и серебряно-ершистую рыбу одновременно; скользя мимо них, оно играет огнем и пламенем и, сверкая, мерцая, уходит под кромку льда, скрываясь из виду и больше не показываясь ни разу, ни на секунду, хотя они во все глаза глядят ему вслед, туда, где только что все это было. Но там ничего больше нет — сгинуло, пропало.
— Ты в-видела? — опять шепчет Айгар, уже слабо веря, что все это ему не почудилось, что это не обман зрения, не фокус, не ловкий, эффектный трюк из «Занимательной химии».
— Что? — переспрашивает Лелде машинально, не думая о том, что произносят ее губы. — Что? — словно во сне повторяет она вновь и наконец приходит в себя: — Это была оляпка,
— Оляпка? Ты скажешь!
— Это оляпка.
— Откуда ты взяла?
— Я знаю.
Она не объясняет, где она это вычитала или от кого слышала, она говорит просто и уверенно «я знаю», говорит так, будто знала всегда, с незапамятных времен, и даже раньше, будто родилась с этим знанием. Это так странно, что Айгар смеется, и Лелде поднимает на него глаза. Уши его заячьей шапки, наверху не связанные, распались и свисают вниз на разной высоте. На носу горят янтарем первые ранние веснушки, на белой коже они кажутся выпуклыми, и глаза его, обычно темно-серые, глядят сапфирами, кончик носа замерз, посинел и блестит, а из воротника пальто торчит длинная, по-мальчишески тонкая шея, какая-то беспомощно, трогательно тонкая и до того худая, что внушает Лелде почему-то жалость. Почему? И все же, глядя на его шею, эту комично тонкую шею, Лелде не смеется — ее охватывает теплое и вместе с тем щемящее чувство. Грусть заволакивает ее лицо дымкой, стирая с него детские черты и как бы намечая сеть будущих складок и морщин, что делает его чужим — непривычно серьезным и удивительно взрослым. Ее рот складывается в мягкую болезненную улыбку, предназначенную Айгару и не предназначенную никому, и Айгар, который никогда не отличался интуицией — чем-чем, но только не чутьем, — вдруг каким-то шестым или седьмым чувством угадывает, почему Лелде сошла с автобуса на одну остановку раньше и теперь стоит на мосту и никуда не идет, стоит на мосту через Выдрицу на пятнадцатиградусном морозе и не двигается с места и даже ничего такого не говорит. Ей не хочется идти домой!
Вот они оба и стоят. Лелде смотрит на свои часики и вздыхает. Айгар вслед за ней смотрит на свои и тоже вздыхает; его тяготит затянувшееся молчание, когда не знаешь, что сказать и как себя вести. Можно подумать, что они ждут чего-то или кого-то, кто не идет, не является, кого они никак не могут дождаться. Но Айгар по натуре человек действия, поступка и просто не в силах стоять так, без дела. И, зажав портфель между колен, он нашаривает в кармане спички, пачку сигарет и вытряхивает себе одну штуку.
— И мне дай, — говорит Лелде.
— На!
Он чиркает спичкой и подносит огонь к лицу Лелде. Та на него не смотрит и, опустив ресницы, все свое внимание сосредоточила на оранжевом пламени, словно завороженная его легким, беспечным трепетаньем.
— Ты берешь в рот не тем концом! — замечает он. — Наоборот надо, фильтром.
— Да? — удивляется Лелде, и, пока она поворачивает сигарету и разглядывает, с какого конца фильтр, а с какого табак, спичка гаснет. Но он зажигает новую, чиркая по коробку несколько раз, так как пальцы успели замерзнуть и перестали слушаться.
— Потяни, тогда загорится. Ты что, никогда не курила?
— Я? — Ее веки по-прежнему опущены и слегка дрожат. — Почему ты так думаешь?
Закурить наконец удается, И, зажав сигарету в тонких негнущихся пальцах, Лелде затягивается и пускает дым смешно и неловко, и выбившиеся волосы то и дело касаются ее щеки легкими бурыми стеблями.
Хорошо бы посидеть, но тут негде приткнуться, все замело снегом, и они курят, облокотившись на деревянные перила моста, а внизу трется об лед и журчит речка. Краски ясного февральского дня акварельно чистые, прозрачные, воздух стынет в безветрии, мороз крепчает, и ночью, надо полагать, еще усилится.
— Лелде!
— Ну?
— Хочешь, покажу тебе циркуляцию?
— Что-что?
— Циркуляцию дыма. Смотри! Фокус-покус. Раз, два, три — опа-а!
Айгар делает сильную затяжку и раскрытым ртом пускает дым кверху, но тот почему-то не тает, не рассеивается, а послушно течет ему в ноздри.
— Ну, скажешь, я не виртозавр? — спрашивает он, видно, в ожидании похвалы, чего же еще, ведь трюк и правда весьма эффектный.
Но Лелде ничего не говорит.
По пути на ночлег в направлении к мызному парку над их головами пролетает нестройная стайка галок. Большие деревья в той стороне уже одеваются предвечерней серо-фиолетовой дымкой и та затягивает легкой мутью жемчужно-розовый небосклон.
— Послушай, — наконец заговаривает она, хотя и не глядя на Айгара, а провожая глазами птиц,
— Ну?
— Чего бы ты хотел больше всего? Если бы мог выбирать…
— Я? — откликается Айгар, тоже не оборачиваясь, к Лелде; запрокинув голову так, что чуть не слетает шапка, он тоже следит взглядом за галками. — Ясное дело чего — я хотел бы ружье!
— Ружье? — Она сводит темные брови и, помолчав, пока не удалились птицы, продолжает: — Ну а серьезно?
— Я же сказал — чтобы у меня было ружье! Двустволка. А еще лучше — автомат, он сам подает патроны из магазина в ствол.
Теперь Лелде переводит взгляд на Айгара.
— Неужели правда у тебя нет никакого желания? Совсем никакого? — Она искренне удивляется, хотя он выразил свое желание достаточно ясно и понятно.
— А еще мне хотелось бы мотоцикл, — добавляет он. — Маленький «козлик», как у Ингуса, а лучше всего, конечно, «Паннонию», и не какую-нибудь — с коляской.
Лелде неловко стряхивает с сигареты пепел.
— Боже мой, да зачем тебе коляска? — недоумевает она.
— Зачем? — переспрашивает Айгар и сплевывает в снег. Вот так вопрос! Да мотоцикл с коляской это же совсем другое дело, чем без коляски, мотоцикл с коляской… это почти «Запорожец»! — А зачем другим? — отвечает он вопросом на вопрос и опять сплевывает.
— А зачем другим? — эхом отзывается она в тон Айгару и смеется.
И его это вдруг задевает, ведь мотоцикл — свой собственный моцик, да еще с коляской — его мечта, а мечта дело святое, ее нельзя касаться, разглядывать свысока и осмеивать, даже если это делает Лелде, и может быть, именно ей меньше всего следует это делать: ведь у Каспарсонов есть машина, хоть и только «Запорожец», но положа руку на сердце он все же мощнее самого распрекрасного моцика, мощнее «Явы», и той же «Паннонии», и даже большого «Ижа». И ему вдруг приходит в голову: а чего, интересно, желает человек, если у него есть машина? Наверно, вторую? «Москвича», если у него есть «Запорожец», или «Волгу», если у него «Жигули»? А если есть и «Волга»? Чего желает человек, у которого есть «Волга»?
Лелде перевешивается за перила и кидает вниз сигарету. С шипением падает та в полынью, скользит поверху к кромке льда и, подхваченная течением, пропадает из виду.
— А чего хотела бы ты? — спрашивает он не без вызова, так как в душе все еще зол на Лелде за ее смех. Подумаешь, тоже мне… А все же обидно, черт побери!
Лелде оборачивается и, думая о чем-то своем, Ангару неизвестном, прямо светлеет лицом, не улыбается или смеется, а именно светлеет, так что желание ее должно быть особенное, и Айгар ее одобряет:
— Ну, валяй!
Но Лелде отвечает уклончиво:
— Ты будешь смеяться.
Так она говорит и не прибавляет ни слова, только в задумчивых глазах играют светлые огоньки.
— Какое-нибудь обалденное платье?.. Ну, может быть, бусы? — наугад перебирает Айгар, стараясь хоть примерно себе представить, чего может пожелать девушка, да еще такая, как Лелде, у которой и так вроде все есть.
— Бусы! — презрительно восклицает она. — Господи, какой ты еще ребенок.
Ну, знаете! Нету, ей-богу же нету таких слов, которые больнее задели бы его самолюбие, и, пряча обиду, он не находит ничего умнее, как вновь заняться «циркуляцией», пока не спохватывается — вот болван! — и, устыдившись, морщит нос и щелчком отправляет свой окурок следом за сигаретой Лелде. Описав в воздухе дугу и в последний раз вспыхнув, окурок падает в снег.
— Тогда не знаю, — резко бросает он, в глубине души жалея, что вообще ввязался в этот разговор. Пусть не говорит — небось спит и видит импортные тряпки, нейлоны да колготки, что же еще, а вид делает такой, будто у нее на уме что высокое!
— Это вовсе не вещь, — чуть не с обидой порывисто возражает Лелде, словно угадывая его мысли. — И вообще… ты этого не поймешь.
— Ну, нет так нет…
И оба опять молчат. Из парка долетают сонные, сиплые голоса галок. Не пора ли двигать? Тоже удовольствие тут балдеть! Постояли, покурили — и хватит.
— Как по-твоему, не пора нам идти? — под конец не выдерживает он, ведь и правда замерз как собака, да и делать здесь ей-ей нечего, и вдобавок зверски хочется есть, а от ближних домов плывут аппетитные запахи, тянет жареным — мясом с луком, а может и яичницей, он любит глазунью с салом, прослоено оно мясом или нет, все равно, ему так и этак нравится, была бы только сильно зажарена, чтоб по краям хрустела коричневая корочка. И, вообразив себе это, он нетерпеливо переминается с ноги на ногу и совсем уже больше не склонен здесь киснуть, даже с Лелде.
— Можно, — отвечает она покорно и грустно, словно мирясь с неизбежным, и он, опомнившись, опять думает о том, что ей не хочется идти домой. И ему вдруг становится очень жаль ее: сколько раз, бывало, и он в такую влипнет историю, что домой возвращаться — нож острый. А возвращаться надо. Куда же податься, куда пойдешь? Хотя в такие минуты хочется быть далеко-далеко, за тридевять земель, сесть на собственный мотоцикл и… айда куда глаза глядят.
— Может быть, тебе хочется… куда-нибудь того? — примирительно говорит Айгар, очень ясно представляя себе самочувствие человека, которого отказываются нести домой ноги.
— Как это — «того»? — переспрашивает она, думая о своем.
— Ну так. Рвануть отсюда куда-нибудь, — в неопределенном направлении машет рукой он.
— Уехать?
— Ага.
Лелде молчит, потом кивает:
— Иной раз да.
Так она говорит и, подумав, добавляет:
— Но это… не то. Нет, ты не поймешь. Не сердись, Айгар, но ты не поймешь…
Она и сама-то не знает, как это назвать. Оно как забытое слово, которое она силится вызвать в памяти и не может, оно так и вертелось на кончике языка в тот момент, когда мимо летели птицы, а потом истлело, растаяло, оставив лишь острую тоску по чему-то очень доброму и прекрасному и очень зыбкому.
Они идут мимо заснеженных домов и занесенных садов, мимо пухлых сугробов и белых мохнатых деревьев, среди всего привычного, но преобразованного снегопадом так дивно, что они бредут и шагают будто вовсе не по Мургале. У дома Войцеховского, поджидая хозяина, сидит Нерон с заиндевелыми усами.
— Нерон! — окликает его Айгар через забор, но пес на него никакого внимания, и хвостом не вильнет, и ухом не поведет, не взглянет, как будто Айгар ноль без палочки, пустое место. Слепив снежок, Айгар швыряет его через забор. Но снег, как всегда в сильный мороз, сухой и рыхлый, рассыпчатый, и снежок распадается, разлетается еще в воздухе, на лету.
— Зачем тебе это? — хмуря брови, говорит Лелде, хотя Айгар в псину не попал и попасть вовсе не хотел — так только, подразнить, чтоб из себя не воображала. Ну ясно, он в очередной раз сел в лужу и, скрывая неловкость, морщит нос, всей душой желая, чтобы вдруг начался пожар, или война, или откуда-то взялись шпионы, или стряслось еще что-нибудь ужасное, и он мог бы проявить храбрость, отвагу, так чтобы все только рты разинули.
Но ничего такого в Мургале случиться не может и не случается. В Мургале пахнет жареным мясом, яичницей, из труб, уходя в недвижный воздух, столбом вьется дым, в Мургале, кидаясь снегом, дерутся первоклашки и, когда Лелде с Айгаром проходят мимо, бросают и в них.
Кто-то взвизгивает:
— Жених и неве-еста!
Другие азартно подхватывают нестройным хором:
— Же-них и не-ве-еста… тили-тили тесто…
Вот черти!
Ангара просто в жар кидает — он грозно оборачивается. Гомон тут же обрывается, выдыхается и исходит коротким задушенным прысканьем, бульканьем, хрипом — отзвуком сдавленного смеха.
— Ну п-подождите! — кричит он, бледнея от злости, и у него так и чешутся руки, буквально, в прямом смысле слова.
А Лелде идет себе дальше, будто ничего не слышит, будто происшествие не имеет к ней ни малейшего отношения, идет, ни на миг не останавливаясь и даже не замедляя шага, и Айгар, бросив малышню, догоняет Лелде и шагает рядом. Крики, смешки за спиной постепенно опять оживают, набирают силу, и Айгара с Лелде скоро вновь догоняет и настигает дразнящий недружный хор:
— Же-них и не-вес-та… тили-тили тес-то!..
Айгар искоса взглядывает на Лелде, вопросительно смотрит, испытующе — и внезапно, вдруг, так нежданно, будто прежде ее не знал и теперь видит впервые, так нечаянно для себя самого, что просто понять трудно, где у него раньше глаза были, делает потрясающее открытие, что Лелде красивая. Тонкий профиль, темно-русые длинные, гладкие волосы, стройная фигура — все в ней изящно и, оттененное белизной снега, так красочно: румяное от мороза лицо, черный блеск волос, красный, как маков цвет, шарф, серая шубка. И ослепленный этим изяществом, яркостью красок, как солнцем, он чувствует, что лицо его заливает жаром, и оттого теряется еще больше. Он не знает, куда деть глаза и руки, и неотрывно смотрит куда-то вдаль, а ладони сует в карманы, зажав портфель под мышкой, и пальцы, отпотевая в тепле, немеют и горят, и так же горят и пылают уши под незавязанной шапкой. Он желал бы коснуться Лелде и в то же время не смеет даже взглянуть в ее сторону. Он мечтает — скорее б показался его дом и спас его от этой беды и напасти, и в то же время дом приближается пугающе быстро, бежит навстречу, как скорый поезд. Его охватывает сильное, жгучее желание удержать Лелде, не упустить и рассказать что-нибудь интересное, такое потрясное, чтобы она не захотела уйти, но язык у него точно приклеенный, голова пустая как барабан и ни единой мысли — хоть шаром покати, а ведь он совсем не из молчунов, скорее напротив, за словом в карман не лезет и не раз получал по шее именно за болтовню.
Но пока он думает, размышляет, что бы такое выдать, Лелде бросает ему:
— Ну, так чао до завтра! — и отправляется дальше. Она и не оглядывается ни разу, ни единого раза, хотя идет все медленней и медленней, будто вот-вот остановится и дальше не пойдет, вообще никуда не пойдет, и все же назад — назад она не оглядывается. И Айгару уже третий раз приходит в голову: ей страшно не хочется домой, идет как в тюрьму. Наверно, поцапалась с предками. Разве не может быть? Может, еще как может… Брр, учителя в школе, учителя дома, вот жуть-то — как Лелде вообще терпит? Если бы у него так… ей-богу, тогда б ему крышка… Тогда уж, честное слово, лучше уйти из дому, хоть в общежитие. По крайней мере, сам себе хозяин…
И в то время как он, глядя ей вслед, так рассуждает, Лелде доходит до магазина, который еще не закрыт, задерживается у витрины и разглядывает то немногое, что выставлено, хотя ей и без того все там знакомо и к тому же затянуто ледяными узорами. Она заходит в магазин, смотрит и примеряет туфли, которые ей совсем не нужны и на покупку которых к тому же нет денег, в продуктовом отделе мешкает возле конфет, которых ей вовсе не хочется, обводит взглядом ряды бутылок, пузатые стеклянные банки с сахаром и крупами, пачки печенья, какао и вафель и вдруг видит: вот оно — сигареты! У нее такое чувство, будто все время она безотчетно искала именно их и в конце концов вот нашла. И она берет пачку. Курить ей не хочется, скорее напротив — от той еще сигареты слегка мутит, однако пачка рождает странное, почти необъяснимое чувство независимости, уверенности в себе, и по мере приближения к дому Лелде ее то и дело ощупывает, как в минуту опасности тянутся к оружию.
Ворота Каспарсонов, залепленные и побеленные снегом, полуоткрыты. Во дворе, прислоненная к забору, стоит деревянная лопата. Яблони заметены по плечи, и белый покров сада прошит мелкими ямками кошачьих следов. Все дышит полным, глубоким покоем. От незапертых дверей гаража до ворот снег, расчищенный, видимо, наспех, расписан свежими отпечатками шин «Запорожца». Значит, отца нет дома. И в Лелде тотчас слабеет напряжение, как будто бы отпустили туго натянутую тетиву, и облегчение настает такое стремительное и резкое, что у нее слабеет сердце, и кружится голова, и раскрывается сжатая ладонь.
Она судорожно вздыхает, как после долгих рыданий, и заходит в дом.
Едва скрипнула дверь, Аврора слышит — кто-то пришел. Лелде? Или Аскольд? Машина как будто не подъезжала. Значит, наверное, Лелде. Давно уж пора. Из передней доносятся легкие шаги и мягкий скрип сапожек, звякает о крючок вешалка. Конечно, Лелде: Аскольд ходит совсем по-другому, шумно, стремительно, от избытка энергии и нервного нетерпения все у него в руках стучит, звенит и гремит. Аврора отворяет дверь — в сумраке передней маячит фигура дочери.
— Ты?
— Я, — отзывается Лелде.
— Что света не зажигаешь?
— Мне и так видно.
Но Аврора протягивает руку, включает.
От Лелде веет морозной свежестью, и прядки волос по обе стороны лица еще в белом инее.
— Чего так поздно?
Но Лелде, глубоко дыша, молча стаскивает сапоги, и иней на ее волосах тает быстро, почти видимо для глаз.
— У тебя же сегодня шесть уроков, — продолжает Аврора, привычно, как и полагается учительнице, запомнив, во сколько у Лелде кончаются уроки. — Или потом собрание было?
— Нет.
Лелде влезает в шлепанцы.
— Так ты должна была приехать предыдущим автобусом.
— Я и приехала. Только прошлась немного.
— Иди мой руки и садись есть.
Лелде идет на кухню впереди. Они обе почти одного роста, только дочь тонкая, стройная, и рядом с этой естественной хрупкостью Аврора, как всегда, особенно остро чувствует свою тяжеловесность и неуклюжесть.
— Прошлась… — вспомнив, удивляется она. — В такой мороз? Неужто тебе не было холодно? — При одной мысли о морозе она вздрагивает.
— Красиво так. Все в снегу.
«Да, — думает Аврора, — намело, будь оно неладно. Чистишь, чистишь — руки отваливаются. А я и не заметила: красиво ли, не красиво…»
Почти машинально она поворачивается к окну, но вид на двор скрывают отчасти занавеска, отчасти потное стекло, и разглядеть толком ничего не удается, лишь ветви яблони — как толстые корявые крючья, нарисованные прямо на стекле.
— Где же ты гуляла?
— Нигде, так просто.
— Так просто… — с невольной жалостью к себе повторяет Аврора. «А я? А у меня?.. Разве у меня есть время пройтись так? Не в школу, или в магазин, или еще куда, а «так просто»? Без цели, не по делу — для своего удовольствия? Где уж! Стопки непроверенных тетрадей. Полная корзина грязного белья. Третий день некогда сварить чего-нибудь свеженького. Опять щи. Они, правда, и разогретые вкуса не теряют, а все же…»
Лелде садится за стол. Налив ей и себе уже приевшихся щей, Аврора устраивается напротив. Третий стул свободен. Аскольд еще не вернулся из Раудавы.
— Отец поехал в районо, — говорит Аврора, заметив, что дочь бросила взгляд на стул. — Ну, ешь! Что ты не ешь?.. Одна ходила?
— Нет. — Лелде берется за ложку. — С Айгаром.
— Перконом?
— Да.
«С Перконом, — вновь задумывается Аврора, невольно примериваясь к Айгару женским взглядом. — Хоть бы еще видный был парень! А то… веснушки… шея как у ощипанного цыпленка. И успеваемость не очень-то», — размышляет она с неудовольствием, теперь уже как педагог: с пятого по восьмой класс она вела у них математику и немало помучилась с Айгаром Перконом, в особенности по алгебре.
— Как у него сейчас с алгеброй? — любопытствует она, хотя, строго говоря, ее это больше совсем не трогает: когда-то был ее учеником, а теперь не ее. — Двойки есть?
— В табеле нет, — коротко отвечает Лелде.
Аврора морщится — еще бы! Само собой, в табеле нету. В конце четверти кое-как, с божьей помощью натягивают. Так же, как раньше.
Они молча пребывают каждая в своем мире.
— О чем ты задумалась? — наконец спохватывается Аврора, заметив, что Лелде по-прежнему смотрит на стул Аскольда, как если б отец там сидел, невидимый, сидел и наблюдал, как они едят, что говорят, сидел и следил за каждым их движением, прислушивался к каждому сказанному слову. Дочь думает об Аскольде. Но что именно, как? Со злом или со стыдом, с упрямством или с тайным желанием помириться? Что сейчас думает Лелде, глядя на пустующее место?
Представить себе это Аврора не может, даже примерно. Лицо дочери не выражает ни гнева или упрямства, ни сожаления или обиды, ни одного из тех чувств, которые были бы естественны и логичны после вчерашней ссоры, а значит — в какой-то мере понятны. Во взгляде скорее сосредоточенность, напряжение, и обращен он в себя, вовнутрь, как будто Лелде старается вспомнить что-то важное, существенное и очень нужное, но это ей никак не удается. То, что она силится восстановить в памяти, наверняка связано с отцом, Аскольдом. Но что? Что оно такое, это существенное, значительное в мире Лелде, который, как полагала Аврора, для нее открытая книга? Она носила дочь под сердцем, родила и воспитала, она знает, что Лелде нравится и что нет, что она ест и чего не ест, какой предмет ей дается и какой нет, она знает, что иной раз Лелде разговаривает во сне и не может похвастать музыкальным слухом, что у нее идеальные, безупречные зубы, а плечи после перелома ключицы одно чуть выше другого, она знает, какой у дочери вес и даже состав крови, процент гемоглобина и количество лейкоцитов, она знает все и не знает ничего и стоит словно перед запертыми воротами, сквозь которые виден свет, а что за ними, не разобрать — только смутная игра теней и светлых бликов.
Это хрупкое нежное дитя, которое она любит и за которое она в ответе, уже больше не то, не такое, каким оно было еще год назад, даже полгода тому назад, и ее представления — уже прошлое, вчерашний день и даже позавчерашний. Дочь всегда казалась Авроре очень чистой, открытой, в ней был типичный для юности, порою наивный идеализм и юношеский максимализм. И вдруг как снег на голову — эта подделка отцовой подписи, а это уже не то, что съесть без спросу банку варенья или меда, это другая, новая категория проступков, которые в известных случаях караются законом и совершить которые Лелде по своей натуре просто не способна и тем не менее совершила, причем с таким необычайным легкомыслием и пугающей безответственностью, с какой клептоман берет чужую вещь, — без каких бы то ни было угрызений совести и хотя бы малейшего чувства вины.
Аврора вздыхает. Трудный, тяжелый возраст полового созревания… С какими только вывертами этого переходного времени она не сталкивалась в школе, но ей почему-то всегда казалось, что Лелде это не коснется, к Лелде это не относится, Лелде будет исключением. Материнские иллюзии, материнская слепота. И вот Лелде сидит по ту сторону стола, глядя то на Аскольдов стул, то в окно, и Аврора не знает, как приступиться и что сказать, как будто провинилась не Лелде, а она и будто бы ей, а не Лелде следует сейчас думать, ломать себе голову, как поправить дело.
— Надо все же с отцом помириться, — наконец произносит она, не очень уверенная в том, следовало ли это говорить сейчас, когда они сидят друг против друга за тарелками горячих щей. — Извиниться, загладить вину, и все будет в порядке, — добавляет она, с неудовольствием замечая, что слова ее прозвучали слишком просительно, чуть не заискивающе, подобострастно. Аврора намеревалась сказать их спокойным и терпеливым тоном, они же вырвались какие-то приниженные, чуть ли не умоляющие, как будто именно ей, в первую очередь ей, нужно это примирение, это согласие во что бы то ни стало. Она внутренне противится своему тону, невольно досадует на себя, но ведь слово не воробей, сказанного не вернешь.
Лелде хмурит темные брови.
— Я ничего ему не сделала!
Аврора откашливается. Ну вот, пожалуйста, наглядный пример — ни малейшего сознания своей вины!
— Мнения на этот счет, наверно, могут быть разные, — говорит она строго, однако стараясь не горячиться, чтобы не обострять и без того острую, накаленную атмосферу. — Отец, как видишь, очень рассердился.
Лелде вскидывает глаза на мать.
— А как на моем месте поступила бы ты?
Аврора смотрит на дочь, пытаясь скрыть легкое смущение. Что это? Искреннее непонимание или новый выпад?
— Речь не обо мне, — уклончиво отвечает она. — Но я, между прочим, никогда в жизни чужую подпись не подделывала. Подумай, в какое глупое положение ты ставишь отца! Ему же теперь…
— А мне? Что, по-твоему, было делать мне? — со слезами в голосе вскрикивает Лелде. — Если требуют справку… а я не могу идти на физкультуру и тебя нету? У нас освобождают только по справкам родителей. Отец спросил бы, почему я не иду на гимнастику — что я могла ему сказать? Что? Что? Ну скажи, что!
Лелде бросает ложку, прячет лицо в ладони, и ее плечи вздрагивают.
«Зачем я затеяла этот разговор именно сейчас?» — думает Аврора. Но ведь и молчать тоже нельзя. Нельзя же без конца молчать и делать вид, что ничего не случилось. Надо выяснить все до конца и поставить на этом точку, а иначе жить под одной крышей невозможно.
Но вместе с рыданьями дочери, которые отдаются в ней эхом, в нее льются, вибрируя, и лихорадочно-нервные токи, и она вдруг понимает, что боится возвращения мужа, не чувствует уверенности в себе и беспомощно чего-то страшится, будто бы это не Аскольд, ее муж, а начальник, и только начальник, которому она обязана во всем подчиняться.
…Аскольд же в этот час — в прекрасном расположении духа. «ЗИМы» и «МАЗы», «Латвии» и «рафы», трясясь целый день и гоняя туда и обратно, туда и обратно, к второй половине дня постепенно сровняли, утрамбовали до блеска зимнюю дорогу, и «Запорожец» катит по ней бодро-весело, лишь иногда мягко и плавно покачиваясь. И Аскольд, который сперва сомневался, не поехать ли лучше автобусом, опасаясь застрять со своим «Запорожцем» в этих сугробах, был сейчас рад, что не проявил излишней осторожности и благоразумия, ведь на машине от Мургале до Раудавы минут двадцать пять езды, в то время как автобус тащится целых сорок, если не больше, причем курсирует с интервалом полтора-два часа, так что выигрыш во времени очевидный, бесспорный. К тому же по пути бензоколонка, можно заправиться, и самое главное — на остановке, недалеко от колонки, он замечает Ритму.
Не сказать чтобы Аскольд так уж охотно возил на своей машине соседей и знакомых. Только поддайся, чуть отпусти вожжу, и всякий дурак станет тобой помыкать как шофером такси: отвези туда, потом отвези сюда! А везешь, так ты же еще должен развлекать болтовней, молоть чепуху и отчитываться, куда едешь да зачем, и, со своей стороны, расспрашивать, куда и с какой целью держат путь они, и слушать, как тебе изливают душу, содержимое которой тебя не волнует, не волнует ни в малейшей степени. Тем не менее ты должен притворяться, что слушаешь, и хоть время от времени вставлять: «Нет, в самом деле?» — или же вздохнуть: «Да-а, бывает…» — и все единственно ради того, чтобы не портить отношений, чтобы не прослыть занудой и брюзгой, нелюдимом и гордецом, хотя после этого ты противен себе до тошноты и кажешься себе отпетым лицемером и ослом. Но Мургале есть Мургале, у него свои свычаи и обычаи, свой ритм и свои понятия, и приходится с ними считаться, им подчиняться, если хочешь здесь жить спокойно и если ты к тому же директор здешней школы, а значит, местное начальство, к нему же люди приглядываются зорче и кости ему перемывают охотней, чем простым смертным. Так уж повелось, и что-то изменить, повернуть по-своему нет надежды — разве что избегать пиковых положений и неприятных встреч, что по мере сил Каспарсон и делает, оставляя за собой право выбирать пассажира, и он тормозит у автобусной остановки недалеко от бензоколонки, где стоит Ритма Перкон, потому что к Ритме все вышесказанное не относится.
Ритма это Ритма.
В руках у нее пакеты, и длинный сверток — наверное, с цветами, — и круглая картонная коробка, вся обмотанная шпагатом.
Ритма открывает дверцу «Запорожца» и с ослепительной улыбкой говорит:
— Ты очень любезен, Каспарсон.
Дожидаясь автобуса, она раскраснелась, а при виде Аскольда, как ему кажется, краснеет еще больше, и ее круглое румяное лицо — мелькает у него в голове — становится похоже на яблоко.
— Домой едем?
— Будь по-твоему! — отвечает он со смехом, ведь ее вопрос задан так, как будто дом у них общий.
— Чего ты смеешься, Каспарсон? — спрашивает Ритма не без лукавства, но произнеси он вслух то, что пришло ему в голову, это наверняка прозвучало бы глупо, и Аскольд, разумеется, воздерживается и вместо этого помогает ей разложить на заднем сиденье покупки. — Каспарсон, о господи, вот увалень, не ставь же торт на цветы! В бумаге каллы! — восклицает она с преувеличенным, слегка наигранным ужасом, и Аскольд перекладывает свертки и коробку, послушно и даже с удовольствием ей подчиняясь и выполняя ее приказы, и ее особый, чуть фамильярный, подтрунивающий тон, только ей одной свойственный и Аскольду знакомый, создает вокруг них, как в азартной игре, постоянное и волнующее напряжение.
Так. Все разложено, Ритма садится рядом, и Аскольд чувствует морозную свежесть, которой напитаны поры ее одежды и пушистый воротник, волосы и даже как будто бы кожа, и какой-то запах — наверно, духов, или, может быть, пудры — еще оттеняет эту свежесть, овевая Аскольда загадочно женственными ароматами.
— Вот тебе на — продавщица ездит за покупками в город? — выжимая сцепление и включая скорость, говорит Аскольд, подлаживаясь под ее настроение.
— А ты видел когда-нибудь у нас в магазине торты? — метнув на него быстрый взгляд, вопросом отвечает Ритма; он смотрит на нее, отвернувшись от дороги, и его обжигает горячий Ритмин взгляд. — Я — нет.
— Я не ем торта, — замечает он. — Так что мне это безразлично.
Теперь смеется Ритма.
— Ты не ешь торта, Каспарсон… не куришь… не пьешь водки… У тебя нет никаких недостатков. — Она вдруг становится серьезной и после короткого молчания опять с напускным ужасом передергивается. — Я побаиваюсь людей, у которых нет никаких слабостей.
— У меня другие пороки, — развеселившись, оправдывается он. — Я подмазываюсь к начальству, собираю почтовые марки, сидя скриплю стулом и не люблю свою жену.
Брошено это шутя, несерьезно, так беззаботно и небрежно, что слова скорее отрицают свой смысл, чем подтверждают, тем не менее он испытывает легкую неловкость и догадывается, что был нетактичен, без особой нужды и связи упомянув Аврору и хотя бы косвенно, мимолетно коснувшись их отношений. И, стараясь загладить впечатление, он иронично добавляет:
— Но уж твой Перкон, я надеюсь, в избытке наделен теми недостатками, которые, по-твоему, Ритма, делают человека человеком!
— И не только теми, — беспечно отвечает она со смехом, исключая тем самым всякую хоть малейшую вероятность, что Аскольду, со своей стороны, удастся косвенно затронуть теневые стороны ее жизни. — Между прочим, у Вилиса нынче день рождения. И все это — по случаю торжественного события. — Она кивком указывает на заднее сиденье, где пакеты, сверток с каллами и картонная коробка мелко дрожат от вибрации мотора.
— Сколько же ему стукнет? — любопытствует Аскольд, ни с того ни с сего подумав: «Разве каллы носят не на похороны? Холодный, типично кладбищенский цветок…»
— До пенсии всего ничего, — тем же игривым тоном отзывается она. — Ровно три года, Каспарсон.
Значит, пятьдесят семь. Господи, какая же у нее с Вилисом разница в годах? Спросить? Неловко. К тому же тогда пришлось бы осведомиться о возрасте Ритмы, а это уж ни в какие ворота, хотя ей никак не может быть и сорока. По паспорту. А на вид тридцать два или три, максимум тридцать пять. Роскошная женщина… Аскольд ловит себя на мысли, что обе они — и Аврора и Ритма — принадлежат к одному и тому же типу, полным брюнеткам, однако то, что ему кажется серым, некрасивым и даже безобразным в Авроре — круглое лицо, полный бюст, широкие бедра и тяжеловесность в фигуре и походке, — те же самые свойства и черты, какие он терпеть не может в Авроре, какие в Авроре его только раздражают, в Ритме его прельщают и пленяют ярко выраженной женственностью, которую подчеркивают и оттеняют духи, губная помада, пудра, тушь для ресниц, таинственный и немножко мистический арсенал косметики, говорящий о желании нравиться, покорять, одерживать победы — желании, которое откровенно выражают Ритмины взгляды, жесты, голос и которое так и струится из недр ее существа, заставляя Аскольда чувствовать себя настоящим мужчиной, а не только супругом, отцом, начальством.
— Как видишь, Каспарсон, совсем-совсем не круглая дата, — произносит Ритма, думая о Вилисе, своем Вилисе Перконе. — Так что мы празднуем, можно сказать, в узком семейном кругу. Но чтобы уж совсем ничего, ведь тоже нельзя, правда?
Это один из тех риторических вопросов, которые никакого ответа не требуют — ни согласия или подтверждения, ни сомнения или возражения, и, вообще говоря, Аскольду это неинтересно, ему до этого нет никакого дела, скорее наоборот — в который раз он замечает в себе неприязнь к Перкону, нетерпимость, а тут еще эти каллы и торт, настолько неподходящие подарки для мужчины, что делают его просто смешным. Аскольд уже чувствует знакомое желание поиронизировать, проехаться по этому поводу, но вовремя останавливается, ведь Перкон ничего плохого ему не сделал и вообще их пути-дороги сходились всего несколько раз, да и то это громко сказано. Года два назад Аскольд как директор вызвал Перкона в школу, когда Айгар провинился, да изредка Перконы и Каспарсоны встречались на каких-нибудь торжествах у соседей, как, например, в прошлом году на празднике совершеннолетия (или то была грандиозная свадьба?), когда Ритма оказалась рядом с Аскольдом за столом и они даже немного потанцевали. Его антипатия к мужу Ритмы не имеет и не может иметь под собой ни твердой почвы, ни оснований, Аскольд это сознает и все же испытывает к Перкону предубеждение, неприязнь, как к врагу, что-то вроде чувства явного превосходства, как если бы решающим, определяющим в их отношениях были мускулы, природная грубая физическая сила. Он подавляет рассудком, сдерживает в себе желание унизить Перкона и охаять, задеть и выставить в смешном свете — желание, которое всячески старается скрыть, инстинктивно стыдясь этого, ведь Перкон всегда держался с ним корректно, дружески и учтиво.
— Велдзе достала мне по знакомству арманьяк, — оживленно сообщает Ритма, как будто им действительно больше не о чем говорить, абсолютно не о чем, кроме как об этом из ряда вон выходящем событии, удивительном и неописуемом, этом эпохальном событии — дне рождения Вилиса Перкона. — Ты знаешь, Каспарсон, что такое арманьяк?
— Не совсем, — роняет он нехотя.
Такой ответ Ритму только веселит, и она со смехом восклицает:
— Бог ты мой, какая невинность!
— Я не вращаюсь в избранном обществе.
— Зря ты насмешки строишь, Каспарсон.
— Что сделаешь, если я не наловчился завязывать контакты и доставать таким способом дефицит? Тут нужен, так сказать, особый нюх.
— У тебя и так все есть, — подумав, говорит она изменившимся голосом, чуть ли не с грустью.
Он удивлен.
— Все? А именно?
— Все, — только повторяет Ритма, описывая рукой неправильный замкнутый круг, как бы рисуя в воздухе детский символ полного счастья.
У него вырывается короткий смешок.
— Ну чего тебе не хватает? — любопытствует теперь она.
Тогда это и случается. Он ни к чему не готовился, и все происходит внезапно, само собой, в мгновение ока, — оставив на руле только левую руку, он берет в правую Ритмину ладонь, она в варежке, он не чувствует тепла ее кожи, только живую форму пальцев, его поражает собственный поступок, он слабо себе представляет, каким может быть следующий шаг, следующий жест и какое за этим может последовать слово, как будто его ведет слепая сила — земного тяготения или центростремительная, но Ритма отнимает руку, говоря:
— Не балуйся, Каспарсон! Еще заедем в канаву.
Она произносит это привычным, игривым и легким, почти всегда неизменным тоном, за которым сейчас может скрываться самая сложная комбинация переживаний и чувств, но с тем же успехом может и не скрываться ничего, ведь и его прикосновение может означать многое и может не означать решительно ничего, так что с внешней стороны они квиты. И все же Аскольд чувствует недовольство собой и своим поступком, сам не зная, жалеет ли о том нечаянном движении, которое и лаской не назовешь, или, напротив, досадует на себя, что упустил нечто, проморгал и оно навсегда кануло в прошлое. И он хочет, чтобы Ритма не придала никакого значения этому мелкому инциденту, и в то же время безотчетно желает, чтобы этот случай оставил память, какой-то след в ее душе — смущение или хотя бы тайное волнение или раздумье. Но по ее поведению трудно что-либо заключить. В манере и голосе не меняется ничего, как будто порыв Аскольда, поползновение к близости она приняла как должное, как нормальную дань своей чарующей женственности, как законное, само собой понятное свидетельство своей прелести, которую он прекрасно сознает. И такое отношение Ритмы его задевает, как бы смазывая самобытность его личности и делая его мужчиной вообще, рядовым представителем своего пола и только, но одновременно и распаляет, толкая преступить, самоутверждения ради, все границы.
«Какая чепуха! — размышляет он, слегка иронизируя над собой и освобождаясь тем самым от смущающих двойственных мыслей. — Не хватало еще, чтобы я как балбес стал заигрывать с каждой смазливой бабенкой!»
Он старается разжечь и поддержать в себе критическое, насмешливое отношение к происшедшему и к Ритме тоже, которая изредка поглядывает через плечо, словно бы снова убеждаясь, что торт не накренился, а цветы не съехали с сиденья и вообще вещи целы и невредимы и в руки виновника торжества попадут в наилучшем виде.
В ее поведении сквозит что-то мелкое, ребяческое и забавное, она оглядывается, как маленькая девочка, на купленные игрушкп, не в силах скрыть простодушной радости, и в голове у Аскольда мелькает, что она не слишком умна, что интеллект — не сильная ее сторона, а сильная — экстерьер… фактура.
Он усмехается про себя, сам того не сознавая, зато Ритма его ухмылку замечает и тут же, без околичностей спрашивает:
— Над чем ты смеешься, Каспарсон? Надо мной?
Глазаста она, это факт, ловка и проворна и очень откровенна, и ее открытость и прямота подкупает, пленяет, обезоруживает что ли, рядом с ней Аскольдова ирония выглядит притворной, двуличной и ненатуральной.
— Нет, — отвечает Аскольд, против воли немного смущаясь под пристальным взглядом Ритмы, испытующую зоркость которого он скорее угадывает, чем видит. Он слышал об удивительной, необъяснимой женской интуиции, и ему невольно хочется выйти из ее круга, за пределы досягаемости, как будто Ритма в состоянии без слов угадать, вызнать и все остальное о нем и о его жизни, его влечениях и срывах — о том, что он в себе таит за семью печатями, не подпуская никого близко и опасаясь даже чужих догадок.
— Могу себе представить, — немного погодя произносит Ритма.
Однако у него не хватает духу спросить, что она себе вообразила. И хотя ее догадка может оказаться сущей ерундой, лишь грубым домыслом, весьма далеким от истины, и в конце концов просто невинной шуткой, Аскольд подсознательно боится возможного совпадения ее догадок с правдой и того, что эта правда будет названа своим именем, как будто Ритма наделена мистическим даром прозревать и обнажать также и то, что лишь подозревает, не до конца еще понимая, сам Аскольд.
Они въезжают в Мургале. Свет в окнах, разгоняя уже густые сумерки, окрашивает снег в непривычно синий цвет. Поверхность сугробов иногда сверкает как бы искусственными, синтетическими блестками, и вокруг так красиво, как на новогодней открытке, до наивности, до безвкусицы романтично и красиво.
Аскольд тормозит против дома Перконов, где свет горит и сияет, брезжит и мерцает во всех окнах. Ритма собирает свои вещи и, обойдя вокруг машины, останавливается у дверцы водителя, и Аскольд выходит — теперь он должен выйти, раз Ритма подошла и остановилась рядом. Секунду она будто медлит, колеблется, потом осторожно и неловко, боясь уронить что-нибудь или помять, перекладывает свертки в одну руку и под мышку, зубами, как ребенок, стягивает варежку и подает ему на прощанье руку. Он схватывает ее в приливе нежданной радости, которая мигом сметает прежнюю неловкость, хотя не произошло и не происходит решительно ничего необычного для такого случая. Напротив, все очень обыкновенно — они только прощаются за руку, как и принято. Он с удовольствием донес бы Ритмины вещи до самого дома, но видит, что в его услугах здесь не нуждаются: встречать Ритму в одном костюме и с голой головой, возможно даже по случаю торжества слегка под хмельком, идет сам именинник, Вилис Перкон, и впереди него, завидя хозяйку, трусит черный кот, черный как смоль, так по крайней мере кажется в сумерках, прямо исчадье ада. Не дожидаясь, пока благоверные встретятся, Аскольд садится в машину и трогает, и за те триста-четыреста метров, что разделяют дома Перконов и Каспарсонов, настроение у него портится окончательно и бесповоротно, как будто бы возвращается он в тюрьму.
Аскольд в точности, буквально до мелочей может себе представить, что ожидает его дома, и не воображение отнюдь, а годы и годы супружеской жизни позволяют ему безошибочно угадать, как пройдет вечер в кругу семьи, ведь все, с минимальными отклонениями, повторялось сотни раз и приелось, опостылело своим однообразием, постоянным повторением. Он чувствует себя усталым и взвинченным, он жаждет сейчас только покоя и не имеет никакого желания рассказывать, как съездил в Раудаву, неохота и есть, неохота вникать в ребячьи фокусы Лелде, не хочется видеть укоризненное, мученическое лицо Авроры. Он чувствует себя разбитым, хотя больше сидел, чем ходил сегодня, измученным и усталым, как набегавшийся пес. Со злостью загнанного человека Аскольд думает о том, что он, как сам господь бог, должен отвечать за всех и за все: за неуспеваемость каких-то безмозглых гусынь и тупоумных ослов, и за тех жучков, которые привезли для столовой тухлое мясо, и за неизвестного барана, которого угораздило в химическом кабинете бухнуть в раковину ртуть, и за ту козу, которая в разгар учебного года вздумала идти в декретный отпуск, и школа остается без пионервожатой. Он отвечает за учебный процесс и внеклассные занятия, за контакты с родителями и с районо, на его плечах кабинеты и столовая, канализация и ремонт, и никому нет дела до того, что у него только две руки и одна голова, и в сутках всего двадцать четыре часа, и что вообще он всего только человек, а не всесильный маг и волшебник — только человек…
Триста-четыреста метров по укатанной зимней дороге — слишком малое расстояние, чтобы найти ответ хотя бы на один из вопросов, которые над ним висят, но, для того чтобы прийти в раздражение, этого более чем достаточно. И когда он оказывается у приоткрытых ворот своего дома, Аскольду приходит на ум, что он с большим удовольствием дал бы еще круг, чтобы несколько отдалить момент возвращения и немного развеять угрюмость, — хорошо бы проехать до леса, свернуть на любую просеку, выйти из машины и послушать на закате дня, как с деревьев в безветрии падает снег. Успокоиться, глядя на неспешную и бесцельную забаву природы, и тогда уж не торопясь вернуться.
В сумерках лес кажется совсем близким, еще ближе, чем при дневном свете. Сумрак и дымка стерли, слили контуры отдельных деревьев, и лес стоит темно-серой стеной, подковообразно охватывая Мургале с трех сторон. Но, пожалуй, лишь на одной-двух из лесных дорог проложили за день колею грубые печатные шины тяжеловозов, груженных бревнами и дровами, или гусеничный трактор, а просеки, понятно, заметены, в девственном снегу, и на «Запорожце» он там застрянет как пить дать. Это было бы глупо. Но пешим по целине ему и столько не пройти. Да еще в туфлях — он так и не сумел найти, достать приличные теплые ботинки, а дело понемногу уже идет к весне… Выходит, надо примириться с тем, что кажется всего благоразумней, а благоразумнее сейчас вернуться домой. И, выбравшись из машины, он растворяет ворота настежь, с кривой усмешкой думая, что и такой оборот дела имеет свои плюсы и по крайней мере не нужно будет отчитываться перед Авророй, где он так долго был, что делал и что он мог делать чуть ли не темной ночью, когда все учреждения давно закрыты. Пришлось бы что-то выдумывать: ведь всякое праздношатание, езда без определенной цели, это нечто такое, что не умещается в сугубо практической, на деловой лад настроенной голове Авроры, и потому ловкая, а главное — правдоподобная ложь всегда в ее глазах стоит большего, чем непонятная правда.
Поставив машину, он закрывает и запирает двери гаража, потом затворяет и ворота. Слабо, тускло освещенный и оттого словно подслеповатый дом погружен в тишину и не подает никаких признаков жизни, и свежий, обжигающий воздух вокруг стен застыл стерильно-чистый, без примеси каких бы то ни было запахов, как дистиллированная вода, и колет ноздри ледяными иголочками. Мороз, должно быть, усиливается. Сколько сейчас, интересно, градусов, и по расчищенной без него дорожке он шагает к окну с прибитым снаружи термометром. Однако вплотную туда не подойти — пришлось бы ступить в снег, и в блеклом рассеянном свете так и не удается рассмотреть, до какого деления шкалы спустился красный спиртовой столбик. То ли семнадцать, то ли двадцать два градуса…
Сквозь оконное стекло и занавеску в светло-зеленом круге от настольной лампы видна сгорбленная спина Авроры. Над чем она склонилась, тоже не разглядеть, но ясно, что над тетрадями. Он знает эту ее привычную позу и без всяких усилий может домыслить все остальное, что более или менее скрывает занавеска: не совсем одинаковую покатость круглых плеч, очки в черной роговой оправе, которые она всегда надевает, садясь за письменный стол, седые толстые нити, резко, как бы рельефно выделяющиеся в густых-густых до сих пор, темных, схваченных на затылке волосах. Все в Авроре массивно, как в гранитном памятнике, основательно и прочно вытесано, без лишних деталей, без орнамента, без легких завитков, и ее поза, в которой, вопреки тяжеловесности фигуры, сквозит неуловимая беспомощность и крайняя усталость, как всегда, кажется слабо вяжущейся со всем остальным и вовсе не отвечающей сущности Авроры. И, замечая в себе невольную, непрошеную, столь не совместимую с его настроением жалость к жене, Аскольд с грустью и с иронией думает, что одной жалости все-таки мало, чтобы соединить двух людей, и что лишь зыбкая, шаткая грань отделяет сочувствие от презрения.
Он вновь огибает угол дома, возвращается к двери и заходит. В темной прихожей ни из одной щели, ни из замочной скважины не сочится свет, признак того, что тут есть живые люди. Дух спирает от запаха кислых щей, как будто весь дом протушила эта вонь; с мороза она кажется особенно крепкой — такой острой, что отдает кошачьей мочой. На память ему приходит кот, который бежал встречать Ритму, и в этой нечаянно всплывшей сцене его опять что-то раздражает и сердит, нервирует, унижает, заставляя чувствовать себя кретином и шутом. Воспоминание вновь пробуждает и разжигает в нем свербящее недовольство собой: оно не имеет ясной, определенной почвы, оно требует разрядки, все равно какой — рубить дрова или носить мешки, прилив нервной энергии сменяет недавнюю апатию, ищет выхода в каком-то действии, внезапной вспышке гнева, хоть и не можешь назвать его причину. Зря, пожалуй, он сомневался и колебался, надо было проехаться куда глаза глядят, пусть бы даже и увяз в свежем рыхлом снегу, не такое уж это большое, непоправимое зло, ведь в багажнике, как всегда, лежит легкая складная лопата. Так нет же, он, как школьник, испугался Авроры, поддался усвоенным за долгие годы привычкам, уже переросшим в рефлексы и комплексы. Всей их совместной жизнью с первого же шага заправляла, ведала и командовала Аврора — прямо или косвенно, но за ней всегда было последнее слово, и никогда, если не изменяет память, не бывало иначе. За шестнадцать лет он превратился из подчиненного Авроры в ее начальника, из зеленого юнца с новеньким дипломом в кармане вырос в директора передовой восьмилетней школы. У него лучшие кабинеты и чуть ли не самая высокая успеваемость в районе. Но что, что изменилось по существу?
А дальше? Дальше что? Какие у него перспективы? Какие виды? На какие перемены можно рассчитывать? Пожалуй, на директорство в Раудаве, в средней школе — был сегодня вроде бы такой намек. Но, разумеется, с Авророй, связанный, скованный одной цепью с Авророй, делая вид, что в семье у них тишь и гладь, так как самый пустячный скандальчик, не шум даже — только подозрения, тень скандала сразу же свели бы на нет все и в считанные дни сровняли с землей кропотливо, по кирпичику сложенное здание. Сразу бы взметнулась старая пыль, сразу бы вытащили на свет давние грехи и грешки и присочинили новые, поползли бы догадки и домыслы. И никто бы ему этого не простил, потому что в жизни педагога, особенно педагога в провинции, не должно быть ничего такого, что могло бы дать пищу злым языкам.
И, впервые сформулировав для себя эту мысль так отчетливо, Аскольд вскидывает руку и щелкает выключателем. Тесное, темное помещение озаряется вдруг ярким светом, который слепит глаза. От мирно висящих на плечиках и крючках пальто, лежащих на полке шапок, стоящей в ряд обуви и одежной щетки на столике веет уютом, покоем и привычным порядком. Никто не занял крючка Аскольда, не положил свою шапку на его место — эти мелочи тоже говорят об устойчивости домашнего быта, привычек и отлаженном стиле жизни, что, обостряя его эмоции, внушает Аскольду чувство мрачной безысходности. К тому же он, пристраивая пальто, неловким движением сбивает набок вешалку: от тяжести зимних вещей в стене сильно расшатались гвозди. И этот казус заводит его еще больше, потому что вешалку надо прибивать заново, сперва замазав дыры в крошащейся штукатурке, и делать это придется не кому-нибудь, а именно ему, единственному мужчине в доме, замешивать раствор, искать гвозди, прибивать, терять дорогое время, тогда как эту ерунду за десять — пятнадцать минут мог бы сделать любой дядя без всякой квалификации, для этого вовсе не нужно высшее филологическое образование.
«Развесили тут весь свой гардероб!» — думает он об Авроре и Лелде, в особенности о Лелде, у нее одной здесь целых два пальто — не только зимнее, но и осеннее — и вдобавок лыжный костюм, будто во всем доме, кроме как тут, нет другого места. Скользя взглядом по вещам Лелде, он замечает сильно оттопыренный карман пальто и скорее машинально, чем с осознанной целью ощупывает его снаружи. Там какие-то четырехугольные предметы. Теперь уже с проснувшимся интересом Аскольд сует руку в карман. Носовой платок. Еще носовой платок. Лелде есть Лелде. Автобусная карточка. Ученический билет. Слипшаяся ириска. Спички. Зачем спички? И… пачка сигарет…
— Так, — про себя бормочет он, не в состоянии сразу опомниться. — Так, — говорит он себе, будто лишь постепенно, сомневаясь и не веря, постигает значение, смысл открытия.
Аскольд не мог бы сказать, что он рассчитывал найти в набитом кармане ее пальто, по сути он не искал чего-то определенного и ничего конкретно себе не представлял, и обнаружить в одежде Лелде нечто вроде сигарет — уж этого он не мог себе вообразить никогда в жизни. И его, убежденного противника курения, нетерпимо и даже воинственно настроенного, эта находка коробит и ранит больно, как предательство. До сих пор ему и в голову не приходило размышлять над тем, как бы он поступил в такой ситуации и какое решение было бы правильным. Он даже теоретически не допускал, чтобы его дочь… пятнадцатилетняя, еще сопливая девчонка, к тому же из учительской семьи, где курение всегда порицалось и осмеивалось как низменная и постыдная слабость, — чтобы она стала палить и дымить по темным углам как разболтанный малец. Он готовился воевать скорее с губной помадой и тушью для ресниц, со всеми этими румянами, белилами и тенями, на которых девчонки просто помешаны, прямо свихнулись. И вот тебе на, как обухом по голове — сигареты!..
И растерянно стоя в передней у вешалки, покосившейся под грузом одежды, и тупо глядя на вынутые из кармана мелочи, он, словно прячась от самоочевидного, чувствует смутное желание положить назад пачку сигарет, сунуть в самую глубь кармана, под автобусную карточку, ученический билет и оба носовых платка, прочь, с глаз долой, будто он ничего не видел и ничего не знает. Чтоб не надо было говорить, доказывать, объясняться… Господи, как не хочется вновь начинать вчерашнюю ссору, эту бессмысленную распрю и грызню, эту свару и кутерьму, содом и ералаш, как страшно надоело и опротивело все, решительно все, и как хорошо бы сделать так, будто ничего не было, перечеркнуть, развеять в прах…
Аскольд вздыхает, опять чувствуя себя бесконечно, донельзя усталым и выжатым и мечтая лишь о покое и одиночестве. Его желания очень скромные, но он знает, что и они сейчас неисполнимы, а он привык смиряться и делать всякий раз то, что нужно, необходимо, а не то, чего хочется, к чему лежит душа. Нажав на ручку, он входит в комнату, где Аврора — как он видел в окно — при свете настольной лампы проверяет контрольные старшеклассников.
Не поздоровавшись, он пересекает комнату и, открыв следующую дверь, зовет:
— Лелде! — и возвращается.
— Я и не слышала, как ты подъехал, — говорит Аврора и, отодвинув стопку тетрадей и сняв очки, поднимается его кормить. — Ты ведь не ел? У меня есть щи.
Сообщать об этом не было никакой надобности, назойливый дух кислых щей слышен и здесь, хотя и слабей, чем в прихожей.
— Ты ничего не привез из города? — спрашивает она.
— В голову не пришло, — рассеяно отвечает он. — Никакого заказа, по-моему, не было.
— Да, конечно, — соглашается она.
На ходу обдергивая кофту, некрасиво задранную на спине, она идет в кухню, громко шаркая войлочными тапками, которые удобны, пока сидишь, но походку, и без того тяжеловатую, делают неуклюжей. Аврора идет, переваливаясь как утка, и Аскольд, глядя ей вслед, это замечает, но картина не вполне доходит до его сознания.
Он выжидает, пока Аврора скроется за дверью, и окликает снова:
— Лелде?!
Лелде слышит и первый зов, но никак не попадет под столом ногами в тапки, и когда оклик раздается вторично, Лелде, наклонясь, шарит руками по полу, наугад, как слепая, шевелит словно застывшими пальцами: строгий голос отца ее подстегивает и одновременно сковывает. Она хочет действовать быстрее, однако двигается как сонная, хоть и сознавая, что отца задержка только сердит, мало того — с каждой секундой, злит все больше, но не может ничего с собой поделать. Всегда послушные, гибкие руки и ноги делаются как чужие, и сердце бьется не там, где обычно, а где-то выше, в горле, в глотке, и она тщится его проглотить, как застрявший кусок.
Так, наконец тапки, вот они. Она сует в них ноги и направляется к двери, вся съежившись, будто ожидая удара. Она все время знала, что этот момент наступит, целый день осознанно и подсознательно его ждала, и боялась, и старалась его оттянуть, отодвинуть куда-то в будущее, где он растворится, исчезнет. Она к нему готовилась и все же не могла себе представить, какой ее обуяет страх — как будто она идет на пытку; какой ее охватит ужас, всплывший сейчас из забвения и поднявший со дна то жуткое, что она весь день силилась и не могла вспомнить, и вспомнить боялась, хотя вызвать это в памяти казалось так существенно и важно.
И вот сейчас, приближаясь к двери, за которой ждет отец, в самый неподходящий момент, какой только можно вообразить, когда надо собраться с мыслями, с силами к предстоящему разговору, в самый неурочный момент она неожиданно вспоминает то самое — свой вчерашний сон — и от воспоминания вздрагивает всем телом. Она вдруг опять схватывает контуры почти растаявших бредовых видений, которые, казалось, навеки, безвозвратно канули в небытие, но вот вновь проступают, смутно всплывая из подсознания.
Ей снилось, что она убила отца. Она не знала, как убила и чем. Только отец был мертвый — лежал навзничь, со сложенными, как в гробу, руками, с такими недвижно острыми чертами, словно это совсем не его черты, и желто-серое лицо, как бы обтянутое целлофаном, выглядело столь чужим, словно было и не его лицо, и все же она поняла, что это отец и что убила его — она…
— Лелде, ну в чем дело? — достигает ее ушей уже нетерпеливый крик. — Ты идешь или нет?
— Да, — глухо отвечает она, пытаясь взять себя в руки и думать о чем-нибудь другом, как будто бы жуть, охватившая ее при этом воспоминании, написана на ее лице и, струясь из нее токами, может пугающим откровением переселиться в отца.
Наконец она выходит, и взгляд ее сразу же падает на собственные вещи в отцовых руках, и в лицо ударяет кровь, и краска растекается по нему горячо и жарко от воротника платья до полукружья волос. Ее потрясает обнаженная интимность вещей: извлеченные на свет из укрытия, из темноты кармана и выставленные напоказ на двух широких, больших ладонях, они кажутся постыдными и жалкими. Носовые платки мятые и не слишком чистые, а ириска, забытая в углу кармана, и впрямь безобразна — облеплена сором, обмусолена, как будто ее пососали в обертке и припрятали на потом. И вот эти вещи себя выставили с таким дерзким бесстыдством — как вывернутые внутренности, пугая своей омерзительностью, чего Лелде еще минуту назад как-то не сознавала.
— Ну, как это понимать? — вопрошает отец. — Ведь ты не станешь утверждать, что кто-то подложил тебе это в карман, без твоего ведома, и лишь по недоразумению все это замаскировано сопливыми платками?
Ах, да! Отец же говорит о сигаретах, о купленной сегодня пачке, которую она забыла в кармане и которая теперь — самая свежая и нарядная из ее вещей — блестит гладким, матовым, одетым в целлофан боком.
— Да, — быстро произносит она, не думая что говорит.
— Что да? По недоразумению, значит?
— Н-нет, — отрывисто говорит она.
— Так да или нет?
Она смотрит на отца, опять совсем не вовремя и очень явственно представляя его себе таким, каким видела во сне.
— Нет! — порывисто повторяет она, отступая на полшага назад, и ее губы судорожно сжимаются.
— Ладно, тогда пойдем дальше.
Они оба молчат, наверное выжидая, кто начнет первый; говорить, видно, не хочется ни тому, ни другому. В конце концов заговаривает отец:
— Вчера ты подделала справку для физкультуры, довольно умело, можно даже сказать мастерски — надо полагать, не без прилежной тренировки — воспроизвела мою подпись… — Он снова замолкает, наверно ожидая от Лелде объяснений, или возражений, или запоздалых извинений, но, так ничего и не дождавшись, немного погодя продолжает: — Сегодня ты приносишь сигареты. А завтра?.. Завтра, может быть, ты явишься с пол-литром, а? — добавляет он, раздельно, с нажимом произнося «пол-лит-ром», точно выплевывая каждый слог.
Лелде молчит.
— Ну? — подгоняет отец.
— Нет, — невразумительно бормочет она.
— Что значит нет?
Но Лелде почему-то не может выйти из круга коротких, отрывистых «да» и «нет», как будто они заклинания, способные защитить от дурного глаза и злых языков. Заметно и видно, как сильно они раздражают отца, как бурно растет его нетерпение, но она ничего не может с собою поделать. Она чувствует, что сейчас, сию минуту его прорвет и опять, как вчера, он выпалит что-нибудь такое… такое… что обожжет как пощечина, как плевок. «Что он такое вчера сказал? — думает Лелде, хотя лучше бы этого не вспоминать. — Странное такое… чудное название — то ли человека, то ли животного». По обе стороны отцова рта мускулы напрягаются, вытягивая губы в тонкую прямую полоску, и черты становятся острыми, нос тонким, и кожа бледнеет до желтизны тона слоновой кости, сразу преображая лицо и придавая ему ледяную холодность.
— Куряка этакая! — сквозь стиснутые зубы цедит отец. — Табачница! — буркает он со сдержанным гневом и откровенным презрением, глядя на нее сверху вниз как на что-то грязное и гадкое, раздавленное и растоптанное, гниющее и смердящее, от чего тошнит, и спирает дыхание, и дрожат ноздри. Никакой крик, никакая брань не могут сравниться с тем взглядом, исполненным отвращения, насмешки и презрения, каким отец взирает на нее с высот своего роста и непреложной правоты, и, спрашивая, требуя у нее объяснений, ответа, он в то же время каждым своим жестом и выражением лица, всем своим видом показывает, что не верит ничему и не поверит ни единому слову, что бы она ни сказала, заранее отвергая ее правоту и даже не допуская мысли о возможности такой правоты. Отец ждет только одного: покорности, раскаяния, извинений. В его руках — вещественные доказательства, и перед их лицом неясные мотивы поведения Лелде, где доказать ничего нельзя, выглядят так неубедительно и легковесно, так смехотворно и жалко… На стороне отца железная логика и очевидное превосходство в физической силе, и это загоняет Лелде в угол, в силки, в капкан, взрывает близкую к трансу оцепенелость, и она вдруг срывается на пронзительный, какой-то щенячий визг:
— А ты? Ты? Ты лазишь в мою сумку… роешься в моих карманах! Ты…
Так, вот оно, теперь и отец начнет кричать, не выдержит наконец и начнет кричать; но он только усмехается, холодно и презрительно.
— Отрадно, что после вчерашних событий в тебе хоть проснулся интерес к этической стороне подобных явлений, чего до сих пор, увы, не наблюдалось. Судя хотя бы по твоим фиктивным справкам. — Она безотчетно делает несогласный, протестующий жест, но отец продолжает ровным голосом: — Только ты, по-моему, превратно толкуешь характер наших отношений. Не ты мне, а я тебе отец, и не тебе за меня, а мне за тебя отвечать — морально и юридически. И до тех пор, пока ответственность лежит на мне, я и буду решать, как действовать. Ни у кого не спрашивая разрешения, моя милая, и ни с кем не согласовывая свои взгляды. Прошу это запомнить. И вообще… Убери, противно смотреть! — резко меняя тон, вдруг рявкает отец, как будто ему отвратительно и невыносимо, нестерпимо больше спокойно-холодное, неспешное течение слов, и, оставив себе только сигареты, он швыряет на стул ее вещи, так что ириска падает на пол и закатывается под стул. — А в следующий раз я буду вынужден принять радикальные меры. Так что заруби себе на носу! Ну, убирай, убирай! Куряка!
Не глядя на отца, Лелде собирает свои вещи. Наклонясь негнущейся спиной за ириской, она роняет коробок спичек, и он тарахтя падает отцу под ноги. Лелде поднимает ирис и тянется рукой за спичками, они лежат совсем рядом с двумя огромными черными мужскими туфлями, до того близко, что ей видно каждую бороздку на коже, узлом стянутые шнурки и небольшую царапину спереди, и прямо перед глазами — коричневые в зеленую полоску мужские носки под влажным, в налипшем снегу, краем брюк, и ей хочется только одного: хоть бы отец сжалился и чуть-чуть отошел, хоть на полшага отступил назад или в сторону, чтобы ей не пришлось нагибаться у самых его ног, чтобы в лицо не ударил рвотный запах кожи и обувного крема. Но куда там — отец стоит, точно врос в пол своими крепкими длинными ногами, и она, низко склонившись над ними, роняет от нервной дрожи и ученический билет: падая, он раскрывается и лежит фотографией кверху, где Лелде и впрямь ужасна — с мутными, потухшими глазами дохлой рыбы, дурацким завитком на лбу и тупо отвисшей челюстью, которая кажется отвисшей еще больше и несуразней, когда билет плоско лежит на полу и выставлен на обозрение. И взгляд отца на своей спине она ощущает жгуче, как всаженный между ребер нож.
Так, слава богу, наконец все собрано. Она стискивает вещи в ладонях и прижимает к груди, боясь, как бы что-то опять не выскользнуло, не упало на пол, и направляется к двери. Ее душат слезы, она молит, она думает только о том, чтобы не расплакаться. «Только не реветь… только не хныкать… не распускать нюни…» — думает она, судорожно прижимая к себе вещи, страшась окрика, слова, звука шагов за спиной, всего, что может разорвать висящее на волоске мнимое спокойствие.
Войдя в свою комнату, Лелде повертывает ключ в двери, падает ничком на кровать и заливается слезами. Она плачет долго и горько, сперва уткнувшись лицом в подушку и судорожно всхлипывая, потом тихо и устало, уже как бы по инерции, а еще немного погодя, уже почти успокоившись, открывает ученический билет и, взглянув на свою фотографию, опять хлюпает носом — она выглядит такой уродиной и тупицей, такой идиоткой, что впору выть волком. И она оплакивает свой мутный взор и нелепую челюсть, снова глотая слезы, пока не обессиливает совершенно. Полежав еще немного, она садится на кровати и прислушивается.
В доме тишина. Ни малейшего шума, ни разговора не слышно, ни шагов — как будто бы Лелде дома одна. Ни радио не работает, ни телевизор, и снаружи, из темноты, тоже не долетает ни звука.
Лелде вытирает лицо, сморкается и, вздрогнув, зябко поводит плечами. Что-то холодно. В одних носках она подходит к печке и прикладывает руки. Жар от кафеля чуть не обжигает ладони, а тело бьет легкий озноб. Ей себя жаль. И еще ей жаль сигарет. Хорошо бы сейчас закурить: говорят, они успокаивают, когда нервничаешь, и согревают, когда мерзнешь.
К двери приближаются шаги. С той стороны кто-то нажимает на ручку и отпускает. Постучат? Не постучат? Нет, не стучат, шаги удаляются, и опять настает мертвая тишина. Мама? Кажется, да. Наверное, мама…
Стук молотка прогоняет тишину. В кухне или в прихожей кто-то забивает или спрямляет гвозди, долбит ритмично и глухо, как дятел. Наверно, отец. Интересно, что он будет делать с этой пачкой? Не понесет же назад в магазин. И как она могла забыть сигареты в пальто? Правда что балда!.. И к тому же знала, что отец всюду лазит. Выудил из сумки записку, учуял в кармане сигареты. Все надо прятать, как от вора… Как от… шпиона…
Стук стихает. К ее двери вновь приближаются шаги, мать за дверью что-то говорит, может быть ей, может о ней, разобрать нельзя, зато слышен голос отца: «Пусть себе посидит! Голод не тетка…» Это о ней, о Лелде, о ком же еще, да так громко, чтобы и ей было слышно. Голод… Смешно. Есть не хочется ни капли, а голова тяжелая и пустая. Несмотря на отцовы слова, мать, кажется, не уходит, видимо надеясь, что Лелде откроет, или не зная, что ей сказать, что предпринять. Лелде ждет, что будет дальше. Но ждет напрасно. Только за дверью по-прежнему кто-то стоит — стоит и стоит, тоже ожидая, что будет: что скажет, что сделает она. Проходит минут пятнадцать… полчаса… час… Наверняка так только кажется и никого там нет, нельзя же стоять без конца. И все же она почти чувствует ободряющее присутствие другого человека, ей слышится даже его дыхание. Ступая на цыпочках, она подкрадывается к двери, прикладывает ухо и слушает тихое живое биение, как стук морзянки, посылаемый живым существом. Приходит в себя — это же ее пульс! — и разочарованно возвращается; обхватив руками, подтягивает к груди колени и, не ожидая больше ничего и ничего больше не желая, сидит на кровати в каком-то странном — тоскливом и в тоже время сладостном — унынии, чувствуя себя одинокой и покинутой, сидит долго, без мыслей, как в полусне.
Выходит она из комнаты в поздний час, когда дом погружается в полную темноту. Не зажигает света и она, ощупью бредет в кухню и, налив из чайника еще теплой воды, умывается и пьет. На дворе такой мороз, что кухню быстро выхолаживает, стекла затянуты прозрачным затейливым узором, который серебристо мерцает в ночном сумраке, и на белесой стене — светлый прямоугольник окна.
Она подходит к окну.
Небо чистое, усеяно большими и малыми, близкими и далекими звездами, и большие и близкие искрят синевато, а малые и далекие сливаются в белое сияние, льющееся из космоса, где царит глубокий вселенский покой. Она трогает стекло, оно гладкое и холодное, на нем остаются круглые, как темные вишни, следы ее пальцев. На седом, еще тоненьком слое инея легко написать буквы, слова и даже целые фразы. Ее манит такая возможность, но она не знает, что бы ей написать на стекле, посеребренном светом звезд, и к утру все равно иней затянет, заткет и сотрет все…
Она возвращается в комнату и ложится.
Оконный проем белеет, как стеклянная стенка большого аквариума. Сквозь занавеску не видно отдельных звезд — сплошное матовое, тусклое мерцание, которое делает комнату нереально сказочной, как пучину.
Слышится гул мотора сильно припозднившейся машины, едущей неизвестно откуда и кто ее знает куда. Сколько может быть времени?
«Может, ты хочешь куда-нибудь… того?» — как сквозь туман, мелькает у нее в голове.
Да, иногда, думает она. Но это… не то… Ты этого не поймешь.
Стихает и гул машины, и возле самого уха тикают только ручные часы.
«Ты знаешь, что такое быть сердобольным? — думает она. — Есть такое слово, я читала. Не знаю, что оно значит, но это должно быть что-то очень хорошее… очень… я только не знаю, что это… сердоболие… Странное слово, правда?..»
Аврора слышит легкие, как шелест, шаги Лелде. Не спится? Есть захотелось? Ходит как привидение, даже света, наверно, не включила — в дверную щель или замочную скважину пробился бы хоть лучик, хоть полоска, хоть светлый блик. О чем можно думать, расхаживая по темному дому далеко за полночь? И вообще… что она знает о внутреннем мире другого человека? Одни догадки, допущения, одни домыслы, даже о своих близких только предчувствия и предположения, только гадание на кофейной гуще.
Опять та же дума.
Когда, в какой момент успела Лелде так сильно отдалиться? Два раза пыталась она войти, и оба раза дочь не отворила — как чужой женщине, строптиво заперлась и так и не открыла, и вот сейчас, среди ночи, скребется и шелестит крадучись, как домовой, да тихо так, почти неслышно, как будто ходит по чужой квартире: ни петли не скрипнут, не звякнет посуда, одни шуршащие шаги впотьмах, и те не нарушают тишины, но лишь подчеркивают, усугубляют, так же как рядом, у другой стены, дыхание Аскольда. Спит? Не спит? Заснул? Не заснул? Во сне он обычно похрапывает, а сейчас — дышит ровно, слышны только сипловатые, хриповатые звуки, как размеренные вздохи. Уснул? Или только делает вид? Чтобы не надо было отвечать, говорить… Странно лежать так, с открытыми глазами, чувствуя, что и другой лежит так же, только притворяется спящим.
— Аскольд!
Тишина. Ритм дыхания чуть сбивается, потом выправляется, и так вполне может быть — спит ли он, или бодрствует.
Зачем было звать? Что это может изменить? Или спасти? Создать иллюзию близости?
Шепотом произнесенное имя еще звучит в ее ушах. Аскольд. Жесткое имя, неподатливое, ни уменьшительного от него, ни ласкательного. Ас-скольд. Как оссколок… осстрие… оссть… Как ось, вокруг которой вертится недоступный мир Аскольда.
Сколько раз вообще ей открывалась душа Аскольда за долгих шестнадцать лет? И часто ли ей доводилось чувствовать искреннее волнение за этой холодной строгой внешностью?
Может быть, в первый раз, когда он пил близость жадно, неистово, ненасытно, как голодный, и лихорадочно шептал бессвязные и нежные слова не то заклинания, не то благодарности, пока не провалился в сон, — и вдруг она осталась в темноте одна, еще в объятиях, в кольце горячих рук Аскольда, еще чувствуя на своем лице живое дыхание и слыша гулкое биение сердца, но уже одинокая, уже словно брошенная.
Или в день свадьбы, когда она, скрывая талию за собранной в бант лентой, сияла от гордости и счастья, а он был как в воду опущенный?.. После двенадцати он вообще куда-то исчез, и ей пришлось идти искать; ночь была почти такая же, как сейчас, — ясная, безветренная и безлунная и тоже холодная, хотя и не такая морозная; она нашла его во дворе в черном, свадебном костюме и с голой головой, и в темноте белели его волосы; он стоял, глядя вдаль, как привязанный, истосковавшийся по дому пес, отданный чужим людям; она позвала его громким шепотом, как и сейчас: «Аскольд!» — в надежде, что он обернется, оглянется. Не обернулся, не оглянулся. Ее взгляд, ее голос не имел никакой власти над его чувствами. Она своего добилась и отвоевала право лишь на это большое, безупречно сложенное тело. Она этого хотела, желала горячо, во что бы то ни стало, просила и унижалась, требовала и настаивала, она даже пошла на отчаянный шаг — не помня себя, помчалась в Раудаву, в райком комсомола, как будто бы речь шла о жилье, в котором она нуждалась, или о пособии, которое ей необходимо, о вещи, предмете, деньгах, а не о живом человеке. И все же она своего добилась.
Но какой ценой — это она впервые постигла только в ту ночь, в ночь после свадьбы, когда Аскольд стоял один, одинокий, под зимними звездами, озаренный слабым, падавшим из окон светом, сгорбленный и поникший. Ее счастье было его несчастьем. До этой минуты ей все казалось, что надо только оформить отношения юридически, а все остальное само собой уладится. И тут ее охватила внезапная жалость. К Аскольду? Или к себе? Никогда и ничего до той поры она не покупала такой ценой — ценой страданий другого человека; и ощущая под свадебным платьем первые слабые толчки, робкие движения ребенка, и глядя на черную широкую, как-то беспомощно сгорбленную спину Аскольда, она, дрожа в легком платье на зимнем холоде, молча его оплакивала, как оплакивают мертвых…
С годами многое отступило, улеглось, утратило остроту — они притерлись друг к другу. В ней теплилась надежда, что рождение ребенка что-то всколыхнет в Аскольде, изменит, пробудит. Но к младенцу муж остался равнодушным, и Аврора восприняла это с обидой и болью, это ранило ее — ее материнскую гордость и материнскую любовь, возникшую в ней стихийно и самовластно, столь же естественно и внезапно, как в груди появляется молоко. Аскольд же скорее избегал дочери, чем тянулся к ней, Правда, он привез из Раудавы коляску, а из Риги кроватку, он объездил аптеки в поисках марли и сосок, но только по обязанности, из чувства долга. Не по своей охоте. Покойница мама говорила: такие они, мужчины, сроду и есть, и ничего тут не сделаешь, и Аскольд еще не из худших — такой заботливый, рачительный, а чего же еще требовать от мужика, вон лавки и магазины обегал, дров наносил и какие плахи еловые разделал, которые сам черт не расколет, — парень из себя видный, и Аврора должна молить бога, что у нее такой муж, да к тому еще и не бабник, не пьяница. Аврорина мать была простая женщина, и вообще замужние бабы мерят счастье-несчастье простым аршином: если бы пил да скандалил, если бы распускал руки… Да где там! И черного слова не скажет. Что же еще было делать Авроре как не смириться — свыкнуться с тем, что ребенок для мужа лишь косвенный виновник неудавшейся жизни, помеха и обуза.
Так прошел примерно год, немногим больше года. И как-то раз весной Аврора встрепенулась от еле слышных звуков, проснулась не так чтобы совсем — в клетках мозга еще гнездилась дрема. Открыла глаза: подойдя к окну, Аскольд держал на руках Лелде. Их озарял алый свет весеннего утра, было еще очень рано. И как странно — Аскольд пел! Это было нечто вроде мурлыканья, вроде бормотанья, приговариванья в такт шуточных слов, каких и на свете нет, растянутых и обрубленных, вывернутых наизнанку, дурашливых и просто невозможных сочетаний звуков, иногда переходящих в мелодичный свист. Это было скорее пением птицы. Жесткий профиль, который, казалось, иным быть не может, выглядел смягченным, нос был смешливо и добродушно сморщен, и рослая фигура в кальсонах и трикотажной рубашке с голой грудью казалась непривычно округлой и трогательно комичной. Вся сцена была до того неожиданной, так мало похожей на повседневность, будто виделась сквозь туман еще не рассеявшегося сна, размывший реальные черты. От Аскольда веяло чем-то искренним, непритворным и ясным, как свет, и она боялась шелохнуться, чтобы не спугнуть это чудо. Но он бдительным чутьем все равно уловил, что она не спит, осекся и, бросив несколько будничных, безразличных слов, поспешил принести Лелде матери, без горечи, скорее с облегчением, освобождаясь от ребенка. Протянув руки к Лелде, она старалась найти, отыскать на его лице следы чудесного сияния, будто не веря, не смея верить внезапной перемене. Но лицо Аскольда и в самом деле не выражало никаких чувств. Холодная, бесстрастная маска закрыла его, как ставни. Этот случай не изменил ничего. И она с удивлением и грустью думала о том, до чего же красив Аскольд, красив до слез, как античный бог, и хотя он совсем рядом — только руку протянуть, ее муж, отец ее ребенка, ее собственность, он все же ей не принадлежит…
А сейчас? Стала ли она ему ближе хоть капельку, хоть на йоту? И знает ли она о нем после стольких лет супружества больше, чем в начале их совместной жизни? Разве ее предчувствия не строятся по-прежнему на догадках и подозрениях, что Аскольд телом и душой стремится, рвется, жаждет уйти? Но прежняя ли это тяга к чему-то неясному, не вполне осознанному? Или она перешла в пылкое влечение к чему-то определенному, желанному, манящему! И можно ли верить предчувствиям? Полагаться на одни домыслы?
Аскольд лежит и размеренно дышит. Уснул? Или все еще бодрствует? Что ему снится, когда он спит? О чем думает, когда бодрствует?..
Как знать, не пробьет ли в скором времени час, когда Аскольд все же уйдет, разорвет все узы и уйдет из ее жизни, которую она вила, как птица вьет гнездо, по стебельку, по веточке, никогда ничего не пуская на самотек, не отдаваясь течению, но всегда стремясь регулировать события, направлять их наилучшим, по ее мнению, образом, ведь человек же сам кузнец своего счастья. И то, что она называет своей жизнью, — плод отнюдь не случайного стечения обстоятельств, но сознательных и целенаправленных поступков и действий.
У нее есть дочь, муж, работа, не баснословный, но кое-какой достаток — у нее как будто бы есть все. Если спросить у коллег и знакомых, чего, по-вашему, не хватает Авроре Каспарсон? Все же, чего? Ну, вместо старого «Запорожца» мог бы быть новый, ну, вместо «Кристалла» — «ЗИЛ», вместо «Темпа» — цветной «Электрон». А в остальном… Такая милая дочка, муж красавец, все живы-здоровы, и за квартиру воевать не надо, не то что другим, свой дом есть, правда еще с довоенных времен, от отца перешел по наследству, но перестроенный, оштукатуренный, под новой крышей. Чего же еще можно желать, если все уже есть?..
Если она когда-нибудь чего-то желала страстно, так это Аскольда — его близкого теплого дыхания рядом, у противоположной стены, до которой всего десять шагов… десять миль… десять вселенных… Почему ее большая неизбывная любовь оказалась столь мучительной и безнадежной — как затяжной неизлечимый недуг, привязанность — как проклятие, страсть — как наркомания, близкая к безумию, к помрачению, унизительная и смешная, и, по мере того как сама она неотвратимо стареет, ее страсть выглядит все унизительнее и смешнее, столь несовместимая с ее возрастом, ее фигурой, сединой и очками. Женской интуицией она чувствует, не может не чувствовать, насколько она мужу безразлична, мало того — надоела ему и опротивела, она не может не замечать, что Аскольда в ней раздражает все: тело, лицо, походка, голос, как раз то, что от нее никак не зависит, как раз то, что изменить не в ее силах. Для Аскольда она готова на любые жертвы: отдать свою кровь, отдать свой глаз, почку или костный мозг, она согласилась бы жить в нужде, терпеть голод, сносить боль. Только ему ничего этого не нужно. Он жаждет только одного: раскрепощения, свободы, того единственного, чего она не может, не в состоянии ему дать, нет, нет, нет, никогда, ни за что, ни в жизни, ведь потерять Аскольда значит потерять все, это крах, смерть, это хуже смерти…
А он безмятежно спит.
«Аскольд!»
Жесткое имя, неподатливое, ни уменьшительного от него, ни ласкательного…
И, глядя раскрытыми глазами в темноту, Аврора вдруг опять испытывает страх — страх перед будущим, перед завтрашним днем. Что делать? Как быть? И не знает, не ведает, что делать и как быть. Аврора — умная и дальновидная женщина — не находит ответа.
А назавтра — назавтра все повторяется. Не совсем так, конечно, не точь-в-точь, тютелька в тютельку, ведь ничто на свете не повторяется стопроцентно, и пастельные тона смешались в сплошной серый фон, и небо насупилось и повисло над маковками деревьев и крышами, сливаясь с летучим, блуждающим, реющим дымом — его гоняет, треплет и рвет в клочья северный ветер, и снег, двигаясь полосами и перекатываясь волнами, звенит и жужжит, и воздух полон шепота и шелеста, и все прочие звуки остались где-то по ту сторону этой шумящей звуковой завесы. Такой ветер к перемене погоды. Если он подует с востока, то живо под метлу расчистит небо и, жгучий, кусачий, будет яриться и выть, пожалуй, с неделю, а может и дольше. Если же он придет с запада, воздух станет влажным, вязким и тяжелым, и сосны будут шумно вздыхать, в предчувствии таянья, пока сверху не начнет незаметно сеяться и накрапывать, моросить и капать то ли дождь, то ли туман и придет оттепель.
А пока на земле властвует поземка, и ни одной расчищенной дороге, ни одной открытой тропке не спастись, не уцелеть: ее засыплет, заметет с краями. Только вечные полыньи на Выдрице черными ртами ловят и глотают снег, ненасытные утробы, и язык лютого ветра вылизал мост подчистую. Право же, мост отнюдь не лучшее место для беседы, где разгонистый ветер забирается в петли и поры одежды, проникая в каждый шов. Тем не менее снова здесь останавливаются Лелде и Айгар — Айгар, конечно, тоже сошел с автобуса на одну остановку раньше и тоже побрел сюда. Если бы не такой дикий, не такой зверский холод!
Лелде свешивается за перила, смотрит вниз — к полынье все так же бегут и спешат белые клубящиеся и воздушные ручейки снега и пропадают в черно-лаковой воде, текут и катятся к ледяной кромке, будто дымясь немножко, и скрываются, и нет их больше, и ползут и метутся новые, и опять исчезают — бесследно, безвестно, как будто ничего не было, ничего не случилось. Странное это зрелище, и почему-то не отвести глаз, так же как от пылающего огня. Казалось бы, что там такого, ничего — ничего особенного, только движение, лишь повторение, лишь неуловимый ритм, а почему-то не оторвать глаз…
— Лелде!
Она оборачивается. Айгар достал курево; что же ему остается, бедняге, если Лелде не говорит ни слова и на него даже не взглянет? Смотрит и смотрит вниз, шарф плещется на ветру…
— Хочешь?
— Давай.
Она протягивает руку за сигаретой и, так же как вчера, чуть не берет ее в рот не тем концом. Айгар зажигает спичку. Она гаснет. Он чиркает вновь, и накрыв пламя ладонями, подносит к лицу Лелде.
Спичка опять гаснет.
— Стань сюда, спиной к ветру.
Лелде подходит. Ну вот, она смотрит на него, как он хотел. Так лучше? Он опускает глаза, у него дрожат пальцы. Глупо — спичку зажечь на ветру, и того не может.
— Дай я сама, — говорит Лелде.
— Ничего… я сейчас…
Он расстегивает пальто и, заслонившись бортом, чиркает спичкой в третий раз.
— Быстро, ну!
Лелде наклоняется, и так близко, что лица Айгара коснулся пух ее шапочки и на мгновенье даже волосы — каштановая, почти черная прядка, выбившаяся из-под вязаной шапки. Так, наконец закуривает. И она распрямляется, отворачивается и опять глядит вниз, с того же места, на то же самое — как течет и сбегает в полынью снег; узкая спина в серой шубке сгорбилась, и красный как маков цвет шарф плещется и болтается за перилами.
— Лелде.
— Ну?
— У тебя дома неладно, а?
Но она будто не слышит, только шарф горит огнем на ветру.
— Лелде?!
Громыхая по мосту, мимо едет грузовик с бревнами. Шум прокатывается ударом грома и растворяется в воздухе, полном звенящих звуков.
— Лелде, ну…
— Что?
— Что-нибудь дома случилось?
— Н-нет. Как будто ничего…
Вот с ней и поговори! «Как будто ничего…» Случилось все-таки или нет? Как же это понять — «как будто ничего»?
Она молча затягивается и пускает дым, пускает дым и затягивается, иногда стряхивая на ветру пепел. Он подходит к ней, заглядывает в лицо и вздрагивает; в глазах у Лелде слезы!
— П-почему? — встревоженно спрашивает он, сразу начиная заикаться.
Он никогда не видел, чтобы Лелде плакала. Как раз тем она ему всегда и нравилась, что не была похожа на других девчонок. За девять лет он ни единого раза не видел у нее слез. Даже тогда, когда на физкультуре она упала с брусьев и сломала себе кость — не какую-то там ерунду, а ключицу, — и то не ревела.
А теперь… плачет.
И, не думая о том, что он делает, Айгар в слепом порыве хватает Лелде за плечи, вскрикивая высоко и пронзительно, как петух:
— Н-ну с-скажи… с-скажи — что с тобой? С-скажи!
Сигарета валится из рук и падает в снег.
— Н-ну с-с-скажи! — настаивает он, чуть не срываясь на крик.
Но она молча протягивает руки, берет в ладони его лицо — и смотрит в упор. Ее зрачки в тумане слез широкие-широкие и радужная оболочка — в светлых крапинках. Руки на жарком, пылающем лице кажутся ледяными, а взгляд, глубокий, живой, пристальный, вперен в Айгара. И губы шевелятся, произнося беззвучные слова, торопясь, повторяя, сбиваясь, точно это ворожба, понятная только ей, ей и больше никому, даже Айгару, которым завладевают колдовские чары, смыкаясь вокруг точно серебряным кольцом — так жестко и плотно, что перехватывает дыхание, а ее губы взахлеб, лихорадочно шепчут и шепчут, как заклинание, таинственные, загадочные слова:
«…не бросай меня… пожалуйста, не бросай… хотя бы ты не бросай…»
Она ни на что не жалуется, не требует никаких обещаний и клятв, не кричит, ее немая, точно во сне, бессвязная мольба, вслух не высказанная, истлевает, иссякает, почти неуловимая для слуха и для глаз, воспринимаемая лишь по наитию, только догадкой, только чутьем. И ладони Лелде на лице Айгара — это ласка и не ласка, то и не то, что ему виделось в воображении, это меньше и больше того, что ему представлялось. Это совсем, совсем по-другому, чем в книгах и фильмах… и в мечтах. Кружится голова, стучит сердце, и ужасно мерзнут в ботинках ноги. Лелде отнимает руки, так, вот и все, кончилось. Или, может, ему следовало поцеловать Лелде? Может быть, да, он не уверен, а может, и нет. Да и как это было сделать, если ее руки были на его лице? Никак нельзя. Сколько раз он мысленно представлял себе, как и что бы он сделал в подобном случае, но никогда это не рисовалось его воображению так… Лицо пылает жаром, уши горят под меховой шапкой, не завязанной, и как ее завяжешь, если оборвалась одна тесемка и пока еще не пришилась.
— Холодно, — говорит Лелде и вздыхает.
— Холодно, — вторит ей Айгар и тоже вздыхает.
Холодно, это верно, и ничего тут не сделаешь. Надо идти домой. Ноги мерзнут, нос течет. Нет, всяко ему грезилась эта картина, но только не так. Он шарит в карманах носовой платок, опасаясь, что, может, забыл его или посеял, и в такой момент капля на кончике носа — ну, знаете, это нокаут! Однако платок находится. В одном кармане спички и сигареты, в другом — платок и кучка сушеных тыквенных семечек, погрызть можно.
— Хочешь? — не зная, как ему теперь держаться, предлагает он, взяв в горсть несколько штук.
— Что там у тебя такое?
— Семечки.
— Хочу, — говорит она, тоже таким тоном, словно ничего такого не случилось, и протягивает ладонь. Пальцы у нее тонкие и совсем, чуть не до черноты, посиневшие. Но что делать — как будешь в варежках есть семечки? Айгар сыплет ей немножко в горсть, и она вкусно щелкает семечки, как белка.
— Сегодня в столовой опять был молочный овощной суп, — вспоминает она. — Терпеть не могу! — И при этих словах ее даже передергивает.
— Не сахар, конечно, — примирительно соглашается Айгар, хотя против молочной похлебки с овощами ничего не имеет, суп как суп, и за счет таких приверед вроде Лелде он к тому же срубил целых три порции — после четвертого урока, так что сейчас не мешало бы подкрепиться. Интересно, чем вообще она живет, Лелде? И то невкусно, и это, одни семечки вон грызет с аппетитом. Оттого и худая. Ну а красивая — да, очень. И, вспоминая ее руки на своем лице, он преисполняется такой гордости, что готов хоть на площади кричать о своей радости, и ее прикосновение в памяти стало уже лаской, более чем лаской, в воспоминании это — нежное объятие, и шепотом, почти беззвучно, почти в беспамятстве сказанные слова «не бросай меня» вселяют в него сознание своей значительности, своего могущества и всесилия.
А Лелде щелкает тыквенные семечки, шарф плещется на ветру, и вокруг жужжит гонимый поземкой снег.
— Я пойду тебя провожать, — говорит Айгар, как будто одно его присутствие гарантирует ей защиту и безопасность.
— Провожать? — машинально переспрашивает она, снова думая о чем-то своем.
— Да, до самого дома, — браво заверяет он.
А она грызет семечки и не отвечает, не возражает — не надо, но и не говорит ладно.
— О чем ты задумалась, Лелде? — остывая, спрашивает он.
— Я? — очнувшись, говорит она. — Так просто…
Это хоть капельку, хоть на пятак лучше вчерашнего: «Нет, ты этого не поймешь» — отстраняющих, презрительных, унизительных слов, они ранили его в самое сердце и даже глубже, и скажи она их сегодня, после всего, что между ними произошло… Ну а что такого произошло? Что? Вздумай он кому рассказать, его поднимут на смех, ведь он же стоял как столб, как чурбан, он и пальцем не шевельнул, и слова не проронил, он даже ее не поцеловал и только позволил себя гладить… Вот дуралей, да кто его гладил! И вдобавок у него тек нос, и он старался изо всех сил, чтобы Лелде этого не заметила — он не был уверен, есть ли в кармане платок. И еще у него мерзли ноги. Лелде его ласкала, а он как идиот думал о своих жалких конечностях. Опять свое! Да кто его ласкал, черт побери?
— Провожать? — переспрашивает Лелде, как будто слова Айгара лишь постепенно доходят до ее сознания. — Ладно, пойдем.
И он — ни с того ни с сего он смеется, как-то глупо, счастливо, и ему теперь все равно, да ему начхать, что подумают про них и скажут другие. Он и знать ничего не хочет, что прямо не касается Лелде…
Они снова шагают по Мургале, но никто не дразнит их женихом и невестой, хотя сегодня, пожалуй, для этого больше оснований, чем было вчера. Мелюзга отсиживается по домам, у печей, потому что погода собачья. И хотя на дворе погода собачья, Нерон у двери Войцеховского не сидит — наверно, пустили старика погреться. Ветер развеял все запахи, не тянет ни мясом с луком, ни глазуньей на сале, ни сеном или хлевом — кругом дует и метет морозно и колко. На стужу повернет или на оттепель? Что принесет с собой северик, этот вестник перемен?
«Хоть бы только опять не насыпало снегу!» — думает Аскольд, бредя домой по свежим рыхлым наносам. Натопить пожарче в такой мороз с ветром еще как-то можно — оконные рамы у Каспарсонов без щелей и пол на чердаке засыпан шлаком, так что дом после ремонта тепло держит. Главная беда — снег. Намело, навалило одним махом за все бесснежные зимы сразу! Только успевай разгребать и откидывать. И так уж горы, валы какие выросли, а если еще насыплет… Нужна оттепель — вполовину, если не больше, осела бы пышная перина, не пришлось бы вязнуть по колено. Ну да. Утром грейдеры, как обычно, дорогу расчистили, а она все равно как высевками засыпана и неровно закидана, по наезженной части вьются и катятся белые ручейки и волны, заполняя рытвины, ямы и скопляясь у дорожных столбиков, у заборов с подветренной стороны и подножия зданий. И как ни близко от школы до дома — полкилометра и то не будет, — пока дойдешь в туфлях, намучаешься, и непригодность их для такой погоды не только видна всякому, но и дает себя знать ледяной сыростью в левой туфле.
Не умеет он ничего достать — даже приличных зимних ботинок! Другой бы от таких прогулок с мокрыми ногами давным-давно нажил какую-нибудь хворобу или чахотку, а ему хоть бы хны, и, кстати сказать, он ни разу в жизни не бюллетенил. И Аскольду в каком-то смысле даже льстит и его отменное здоровье, которое не берет, не может одолеть самый страшный грипп, и неумение, скажем, решить ту же «проблему» зимних ботинок: они такой дефицит, что он, при вечной своей запарке, ни разу не сумел зайти в магазин в нужный момент, тогда именно, когда их привезли и продают простым смертным.
А окольные пути ему не по нутру. Хватит и того, что без блата, а порой и весьма сомнительных операций не обойтись, когда что-нибудь срочно, позарез нужно школе. Но это дело иное, тут другой разговор. Школа есть школа, это не его личная машина и его личные ноги. Он не желает делать что бы то ни было против своих убеждений, в благодарность за услугу, тем более что в его распоряжении нет никаких материальных средств, чтобы отплатить за любезность, только школьники, дети, только школа, и тут торговать нечем, нечего менять — тут отношения должны быть ясными и чистыми, чтобы никто не посмел тебе что-то предложить и что-то достать, ведь ничего не достают и не предлагают даром. От него тоже будут ждать и требовать мелкой услуги. А у него только ученики, дети, только школа, где ничего не продается и не покупается. Все, что у него есть, приобретено честным путем, законно, получено по наследству, куплено с прилавка, а не из-под прилавка.
И если это сознаешь и здраво рассудишь, то не так и трудно, не так неудобно, во всяком случае не так страшно шагать в туфлях по рыхлым наносам, чувствуя в левой туфле сырость, ведь за доброе имя, как и за все на свете, надо платить.
Да, платить…
В голове как-то случайно всплыло это слово, и Аскольд с неудовольствием о него спотыкается. Платить… Чем, каким образом? Раз существует плата, должна быть и цена. Какова же цена доброй славы? Сколько надо платить за то, что в сердцах ли, из зависти тебя могут назвать олухом или зазнайкой — ведь Мургале есть Мургале, — но ханжой, лицемером, у которого на людях одна песня, а дома другая, не назовут? Дома… «Есть у рыбки песенка…»
«Где я читал это? И по какому поводу?»
Да, он платил дорогую цену. И какую именно, знал только он. И устал платить. Запутался в долгах. Каждый день требует новых процентов, и в последнее время они все растут. И дальше так же? Еще двадцать лет — до пенсии и потом до смерти? Тянуть лямку, пока понемногу не ослабнет разум и не притупятся чувства, не угаснут желания и железные мышцы не станут дряблыми, как студень?
Он полон сил… Полон с избытком. Он пенится и шипит, как бокал шампанского, но киснет, как выдохшийся лимонад, при одном только взгляде на Аврору. Иногда ему приходят на ум странные фантазии, например, что Аврора могла бы покрасить волосы, брови, подвести губы, искусно ли, неумело, все равно, ведь вряд ли какая бы то ни было косметика — наивно было бы думать! — способна что-то изменить в их отношениях, во всяком случае не в такой мере, чтобы пробудить в нем несуществующие чувства. Просто усилия и старания Авроры подтверждали бы хоть ее желание привязать его женственностью, хотя бы мнимой привлекательностью, обаянием, а не только брачным свидетельством, общим с нею домом и имуществом, что делает легкие и почти незаметные узы брака оковами и постоянно заставляет Аскольда остро сознавать навязанную ему неволю и чувствовать себя узником в камере, пойманным петухом, псом, посаженным на цепь юридической и материальной зависимости.
«Что бы она стала делать, если бы я вдруг сказал, что ухожу? — неожиданно мелькает у него в голове. — Наверно, тут же помчалась бы в районо или в райком!»
Он думает об этом с иронией, но потом догадывается, что так оно и будет: она в самом деле поедет жаловаться в районо или в райком, будет стучаться во все двери и сделает все возможное, и невозможное, чтобы вернуть мужа.
— Живого или мертвого! — говорит он вполголоса со злой усмешкой, носком сырой туфли пиная льдышку, и мысль его сама собой обращается к Ритме, он думает о ней — оживляет в памяти взволнованную атмосферу, царящую вокруг Ритмы как магнитное поле. Все в ней исполнено очарования, какое свойственно еще неузнанному и неугаданному, неизведанному и непокоренному, все окутано таинственностью, сквозь которую можно двигаться лишь ощупью, строить догадки, как строят карточный домик, ошибаться и на ошибках ничему не учиться, ибо женщина существо загадочное, ее эмоции диктуются не логикой, и ничего тут нельзя предсказать и уложить в стройную схему с ясными причинами, следствиями и прогнозами, ведь чувства изменчивы, текучи, непостоянны, и то, что было верно вчера, сегодня может совершенно никуда не годиться.
А может быть, именно в этой неизвестности и неопределенности — главная притягательная сила, может быть, он устал именно от постоянства, однообразия, от железобетонной стабильности? Покой тоже выбивает из колеи, так же как стресс. Мир полон таких парадоксов. Тревога от чрезмерного покоя. Жажда тишины — и вред тишины абсолютной. Бегство от толпы — и нестерпимый гнет одиночества. Влечения и желания, несовместимые с главным стержнем характера. А быть может, несовместимые лишь по видимости? И так только кажется? Разве стержень в человеке — то же самое, что, скажем, ствол у ели? Но и ствол у дерева бывает голый или скрытый ветвями и хвоей, прямой или кривой, развилистый, или расщепленный, или сломанный так, что одна из основных ветвей берет на себя роль лидера…
А что есть «лидер» в человеке? В чем, по крайней мере, его функция?
«В стремлении ввысь, — думает он. — А к чему стремлюсь я? Чего я хочу, чего желаю?» «У тебя и так есть все, Каспарсон…» Но разве, не лицемеря, не притворяясь, кто-нибудь станет утверждать, что у него есть все? Вряд ли. Человек всегда хочет еще чего-то, больше, чем у него есть. И если бы, к примеру, исполнилось три его желания, он тотчас назвал бы еще одно — четвертое: «Четвертое желание, — усмехается про себя Аскольд, — чем это не термин, почти что понятие…»
Как бы то ни было, но не мимолетная связь и не пошлый роман — его четвертое желание, и не легкий флирт, оставляющий привкус похмелья. Ему ясно как день, чего бы он не хотел. А в чем заключается его мечта? В чем ее суть, зерно? Может быть, у нее вообще нет ясных очертаний, или он всерьез над этим не думал и еще колеблется между традиционным представлением о плохом и хорошем, жгучей неудовлетворенностью и беспокойством? И нужна ли ему именно Ритма, только она — как совокупность физических и духовных качеств, как неповторимая личность, или с такой же силой его могла бы увлечь и пленить другая женщина, в той же мере противоположная Авроре, как Ритма? Пожалуй, так, но в данный момент это Ритма, а все остальное — теоретизирование на пустом месте, гадание на кофейной гуще: только она или не только, могла бы или не могла… Сейчас это она, определенно она — Ритма, и его охватывает столь же определенное желание увидеть именно ее, и только ее, и нет ничего проще, чем это желание исполнить: что может быть естественней и понятней, чем завернуть по пути в магазин. Если только у Ритмы не выходной…
Нет, у Ритмы не выходной. Она в продуктовом отделе, но не у прилавка, а складывает на съемные полки черный хлеб и белые булки. Она стоит спиной, но Аскольд сразу узнает ее сдобную фигуру, которую белый халат, стянутый в талии узким ремешком, делает еще плотнее, подчеркивая крутую линию бедер. Белая наколка еле схватывает и удерживает копну темных кудрявых волос. И, прежде чем пройти в промтоварный отдел, Аскольд невольно замедляет шаг, на миг останавливаясь и, точно в рамку, заключая в круг зрения пышные Ритмины формы.
И она оглядывается — держа в каждой руке по белому батону, она оборачивается и улыбается, сразу расцветая, словно тотчас почувствовала его взгляд и — даже больше — знала наверное, что он придет, и втайне все время его ждала. Аскольд здоровается издали, она слегка кивает в ответ, снова отворачивается и привычными движениями продолжает складывать хлеб, больше не оглядываясь. А он стоит, мешкает, будто ожидая еще чего-то, что должно последовать, произойти, не представляя себе конкретно, что может произойти и чего он хочет дождаться.
Потом он заглядывает в промтовары. Теплых ботинок, как водится, нет. И вообще из обуви сорок пятого, его размера есть лишь какие-то черные не черные, серые не серые ужасные чеботы и мужские не мужские, женские не женские импортные сандалии с пряжками, которые на лето, может, и подойдут какому-нибудь бородачу, провинциальному франту, но в которых не может выйти учитель, тем более здесь в Мургале, без того чтобы ребята не пялили на него глаза, а их мамаши и бабки не слопали его без соли.
Так он думает, рассеянно скользя взглядом по полкам, в оживленном, приподнятом настроении, какое бывает обычно лишь в легком подпитии. И мрачноватый самоанализ, которым он себя донимал по дороге, как бы отодвинулся в прошлое, утратил важность в сравнении с этой минутой, когда ничего особого вроде и не происходит, и тем не менее она затмевает собою все — тоже как во хмелю.
Кончив сгружать привезенный хлеб, Ритма вернулась к прилавку помочь другой продавщице обслуживать покупателей. И ничего нет естественней и проще, чем встать в хвост, дождаться своей очереди и купить что-нибудь из того, что здесь есть. Немного — сколько там влезет в папку, в карманы пальто. Магазин полон запаха хлеба и леденцов: ну, скажем, буханку свежего черного хлеба взять под мышку и грамм двести-триста монпансье, их так хорошо погрызть, когда проверяешь тетради, особенно сочинения, — от леденцов не слишком полнеешь, зато они взбадривают и даже слегка успокаивают, когда наткнешься на идиотский ход мысли или застрянешь в синтаксических джунглях.
И Аскольд становится в очередь и поверх голов наблюдает за Ритмой, смотрит на ее ловкие, рассчитанные движения, маленькие пухлые ладони, которые, блестя ободком кольца на безымянном пальце, взвешивают, сыплют, подают, получают деньги, отсчитывают сдачу, и снова режут, и кладут на весы, и тянутся за булками, и пустые бутылки меняют на полные. С легкой улыбкой, которой сам не замечает, он следит за тем, как Ритма делает такие будничные и привычные для продавщицы движения, приобретающие значение чуть ли не ритуала, когда их совершает Ритма, не поводя и бровью в сторону Аскольда и все же — он это смутно чувствует — постоянно ощущая на себе его пристальный взгляд, и оттого, пожалуй, держится слегка недоступно, без прежней естественности, непринужденности, однако это притворное небрежение по-своему красноречивее пылких взглядов. Деланное равнодушие говорит только об обратном, и Аскольд улавливает это безошибочно и сразу.
Ритма сегодня уже не такая, какой была вчера, и по мере продвижения Аскольда к прилавку кажется даже, что руки-ноги у нее как связанные: из рук падает нож, звякает об пол монета, палец цепляет на счетах лишнюю кость. Все это, может быть, просто случайности, каких за рабочий день, как ни крутись, наберется немало, но не менее вероятно, что причина этих мелких промашек в скрытой женской нервозности, ведь сами по себе они бы не стоили и внимания, если по этому поводу пошутить, посмеяться, на худой конец чертыхнуться, что ли. Ритма же, напротив, держится серьезно, слишком, чуть не до робости серьезно — как на экзамене, как на конкурсе, когда за каждое движение ставят оценки, баллы. Со вчерашнего дня что-то изменилось. Если тогда, в машине, Аскольд чувствовал себя не совсем уверенно, все время ощущая над собой власть Ритмы, она же, наоборот, была смела, лукава и даже немного дерзка, то сегодня она смущается и силится скрыть неуверенность. И его это окрыляет, вдохновляет, расковывает и поднимает в собственных глазах, иначе он не был бы мужчиной: уклончивость побуждает к действию, а бегство вызывает желание догнать — извечные законы природы не сгинули вместе с мамонтами и морскими коровами, они живы и в семидесятые годы двадцатого века и справедливы для homo intellectualis почти в той же мере, как для неандертальца.
Но вот Ритма поднимает глаза и обращается к Аскольду, в конце концов это ее обязанность — независимо от желания или нежелания, симпатий или антипатий — уделить внимание покупателю и что бы там ни было выслушать, обслужить.
— Что будем покупать, Каспарсон?
Ну, тон у нее прежний, как и вчера — свободный, слегка игривый, и слова из ярко накрашенного рта вылетают круглые и гладкие, как желуди… Только взгляд, внимательный, испытующий, устремлен вверх, в лицо Аскольду с едва заметными, скрытыми тенями беспокойства. Он просит триста граммов леденцов, самых дешевых конфет, какие здесь есть, и, сам не зная зачем, спрашивает:
— А есть у тебя… арманьяк?
Взвешивая леденцы, Ритма бросает на него быстрый взгляд, точно стараясь угадать, что это — просто болтовня, лишь бы не молчать, или же намек на вчерашнее, ведь они, когда вместе ехали, говорили про арманьяк.
— Сегодня нету, — шутя отвечает она, как будто в Мургале он когда-нибудь был. — Зато есть «Волжская».
Аскольд вздрагивает с деланным отвращением, и они оба смеются.
— Что еще? — спрашивает она, подавая кулек леденцов.
— Буханку черного, пожалуйста.
Она обводит взглядом полку, придирчиво выбирает один каравай, потом другой и, поколебавшись, еще и третий в поисках самого лучшего — как же иначе, и кладет перед Аскольдом хлеб с коричневой блестящей коркой, гладкий, без трещин и хорошо пропеченный.
— А нельзя попросить бумаги? В мою папку не влезет.
— Для хлеба не полагается, Каспарсон.
— Как и для селедки? — шутливо справляется он.
— Для чего?
— Для селедки.
Она со смехом достает лист серой оберточной бумаги с обтрепанными краями.
— Что еще будем брать?
— Спасибо, Ритма, все. Я и так скупил полмагазина.
Стоит все это пятьдесят четыре копейки, как он подсчитал, и даже приготовил мелочь. Он кладет деньги, и однокопеечная монета катится по прилавку, но Ритма у самого края ловит ее, накрыв ладонью, как муху.
— Верно?
— Да… кажется, да, — отзывается она, и рассортировывая мелочь в ящички кассы, неожиданно спрашивает: — У тебя что, завтра получка, Каспарсон?
— Нет. Почему ты так думаешь?
И она вдруг краснеет — так внезапно и густо, что разве только дурак не поймет, что она хотела сказать. Его это задевает и сердит. И все же краска на лице и явное смущение Ритмы, которая, видно, хотела пошутить дружески и беззлобно, а выпалила эти слова как-то неделикатно и очень прямо — как пальцем в глаз ткнула, лишний раз свидетельствует о том, что она сегодня не в себе и теряет над собой контроль. За привычно кокетливым тоном сквозит незнание, как себя держать с ним, она старается быть прежней, веселой и чуть легкомысленной, но это ей слабо удается.
— Много будешь есть, растолстеешь, — примирительно шутит Аскольд, думая при этом, что за мелкие покупки, видимо, надо расплачиваться по меньшей мере пятеркой, чтобы со своей мелочью и в самом деле не выглядеть как нищий на паперти. Усмехается: век живи — век учись! А она, заметив его усмешку, краснеет еще больше.
— Ты на меня намекаешь, Каспарсон?
— В каком смысле?
— Насчет еды и толщины.
— Боже упаси, Ритма, ничуть! — восклицает он искренне и сердечно.
И она, помолчав немножко и уже на него не глядя, говорит:
— Следующий!
Вот и все. Остается взять буханку под мышку и шагать к выходу. Ну, как же обстоит с романтикой, которой он, направляясь сюда, жаждал? Он и сам не может сказать как, и дала ли ему эта встреча удовлетворение или обманула надежды. Но чего же он, собственно, ждал, как ее себе рисовал?
И все же… Есть какая-то невыразимая словами, почти неуловимая связующая нить между ним и Ритмой — как сигнализация на расстоянии, как шифрованная связь.
У двери Аскольд, не удержавшись, оглядывается, хотя лучше, разумней этого не делать здесь, в магазине, на глазах у людей. Ритма глядит ему вслед, смотрит серьезно, кажется даже грустно или, быть может, тоскливо, а его — его обдает горячей волной.
«Прямо как мальчишка! — думает он, стыдясь своего хмельного волнения, столь неприличного его годам и к тому же в неподходящей обстановке. — Во всяком случае, ничего такого не произошло, что давало бы хоть малейший повод для телячьего восторга».
Это попытка взглянуть на себя со стороны, себя остудить — тщетные старания, ведь в глубине души он этого вовсе не хочет, вовсе не желает остыть, успокоиться и погаснуть. Пусть! Пусть это мальчишество, пусть это глупость, пусть даже эта приподнятость — самообман. Разве мало есть видов самообмана и средств для его поддержания? Ну, скажем, алкоголь, наркотики или мания величия, сознание своей незаменимости. Последние в отличие от первых двух имеют лишь то преимущество, что они не губят здоровье. А может быть, все-таки губят? Приводят к бессоннице и неврозам? Ведут к накоплению в организме холестерина и развивают атеросклероз, а он, как известно, вызывает инфаркты, инсульты? И разве вся жизнь, в конце концов, не сплошная порча здоровья, иначе бы она не завершалась — не могла бы по логике вещей завершиться — естественной развязкой, именуемой смертью? И разве улыбки, так же как боль, не оставляют морщин? И разве от счастья не льют слезы, так же как от страданий? И разве первый же вздох ребенка не вылетает с криком, а не со смехом?
Это философия, ладно, ну а мораль?
Доброе от злого, верное от неверного отделяют устои и традиции, законы и условности — и все это действительно ясно и понятно, бесспорно и непреложно, если взять его порознь, по частям, по каждому тезису в отдельности, но все становится очень расплывчатым, растяжимым и шатким в той путанице, которую называют человеческой жизнью и человеческим характером. Вряд ли кто станет оспаривать право Аскольда на счастье в общем и целом, но как только он сделает шаг к его осуществлению на практике, многие тут же назовут его негодяем и подлецом, осудят и отвернутся, и понятия счастья и несчастья сразу же утратят какой бы то ни было конкретный смысл или же в любом случае право на счастье будет признано только за Авророй.
И пожалуй, впервые за долгие годы в голову ему приходит вопрос:
«А Аврора? Она счастлива?»
Надо полагать, что да, счастлива, — разве иначе она вцепилась бы в него, как клещ? Но, быть может, это всего лишь женская боязнь каких бы то ни было перемен? Страх перед одиночеством? Раздутое, доведенное до абсурда чувство долга? Твердокаменная уверенность, что ребенку нужен отец?
Но сколько можно приносить себя в жертву эмоциям и взглядам другого человека, столь правильным — правильным до отвращения, столь безошибочным, что просто тошнит…
Впереди Аскольда идут двое, парень и девушка, совсем еще дети, их стройные тоненькие фигуры маячат то явственней, то смутно сквозь вихри сдуваемого с крыш снега, который окутывает дорогу, точно белым дымом, текущим струями, вьющимся клубами, и порой смазывает контуры юной пары. А в кратких передышках между порывами ветра темно-серая спина паренька и светло-серая спина девушки вновь выныривают из снежной дымки, и оба они казались бы плоскими, картонными фигурками, если бы в этой сплошной серой мгле не трепетал кусочек огненно-красного шарфа, который делает картину живой и реальной. Расстояние сокращается, потому что Аскольд шагает шире тех двоих — у пего мерзнет левая нога и стынут в перчатке пальцы, прижимающие к боку буханку хлеба. Он занят своими чувствами, своими мыслями, и идущая впереди пара, то обрисовываясь, то растворяясь в метели, смутно и безлично маячит в поле его зрения сквозь снежную кисею, почти не задевая его сознания.
И вдруг он точно просыпается: Лелде! Конечно, Лелде. Глаза ему залепило, что ли? Лелде — с каким-то мальчишкой. Он знает, само собой, всю юную поросль в Мургале, однако, по узкой спине в темно-сером пальто и черному затылку с торчащими врозь ушами заячьей шапки разве что родной отец узнал бы подростка, который тащится рядом с Лелде, именно тащится, в буквальном смысле слова, и то же самое делает Лелде, оба еле плетутся, волоком волокут ноги, только что не ощупью пробираются сквозь метель, не замечая ни снега, ни ветра, ни мороза… а потом сморкаются, кашляют и гриппуют, и все это с восторгом, с упоением, и готовы продолжать в том же духе — лишь бы был повод прогуливать уроки — до тех пор, пока наконец не вырвутся из школы с облегчением, как с каторги, с твердым намерением не возвращаться… и возвращаются, как, например, он — никогда не думал не гадал, а вернулся, без энтузиазма, стиснув зубы, но приехал сюда, в эту чертову дыру, расплачиваясь за свою наивность и доверчивость, за ошибочные представления о том, какая будущность ждет филолога… Ну его к черту, какое это имеет отношение к делу! Отношения и правда не имеет никакого, и лучше не ломать над этим голову: что было бы, если бы… если бы да кабы во рту росли грибы… Примеры для урока грамматики, когда проходят условное наклонение, и то, надо сказать, примеры не из удачных…
Ну вот, Аскольд уже почти дома, и ничего с его ногами не сделалось, с его руками не стряслось. И под конец он почти догнал тех двоих, что шагали впереди и теперь прощаются. Лелде проходит в калитку, а парень стоит, глядя ей вслед. И правда — совсем желторотый, лет пятнадцати, не больше, плечи узкие, шея тонкая, стоит, уши на шапке болтаются, как лопоухий заяц. У двери Лелде оглядывается, видит Аскольда, а парень — тот не замечает, а все глядит как немой, как глухой, смотрит с какой-то светлой, мальчишеской грустью, так не идущей, до смешного не идущей к его курносому лицу. И эта сцена, свидетелем которой стал Аскольд, очень живо и остро напоминает ему другой недавний эпизод, где главным действующим лицом был он, — приводит на память назойливо и дерзко, своим нечаянным сходством его унижая, оскорбляя и как бы выставляя его чувства столь же смешными и жалкими, как у этого… молокососа и сопляка, который, надо же, торчит у калитки и не может отвести от Лелде глаз, стоит как пень, замерев, как завидевший дичь легавый пес. И некоторая схожесть ситуации раздражает и досаждает, тем более что этот парень — Перкон, Айгар Перкон, сын Вилиса Перкона, который ничего не унаследовал от броской красоты своей матери, а как две капли воды похож на отца: та же тонкая фигура, узкоплечая и плоскогрудая, та же птичья шея и торчащие уши, тот же нос и даже такие же веснушки — и этот Перкон-младший, копия и двойник отца, как напоминание и вызов ошивается именно тут, у дома Каспарсонов.
Наконец он замечает Аскольда. Обращает к нему чуть встревоженный взгляд сапфировых глаз, тоже, видно, унаследованных от отца, — кому это надо заглядывать за очки Перкону-старшему, какие там у него зенки.
— Добрый день, — говорит Айгар, напряженно, почти судорожно сглатывая слюну и что-то поспешно пряча за спину — наверное, папиросу, что же еще. Со временем станет такой же заядлый курильщик, как папаша, если уже не стал.
— Ну, здравствуй, здравствуй, — отзывается Аскольд.
Многословной эту встречу у калитки не назовешь. Что еще может сказать бывший ученик прежнему учителю и бывший учитель прежнему ученику? Ничего не значащие слова, чтобы сгладить обоюдную неловкость? Выказать притворный интерес? Продлить на миг удовольствие, взирая на типичные черты мужской породы семейства Перконов? Или унизиться до того, чтобы дать волю досаде — отпустить колкость, ехидную остроту и потешить себя чужим смущением?
Не стоит, и потом это было бы мелко. И Аскольд, миновав Айгара, заходит в калитку и шагает к дому.
Поздороваться поздоровались, как положено, что же еще?
Ну а тот? Торчит еще или наконец убрался? Пусть топчется, если приспела охота, пусть постоит — остынет… Но закрывая входную дверь, он видит — ушел, да, все же ушел. Тем лучше. В конце концов забор Каспарсонов не самое подходящее место для всяких жучков, чтобы здесь отираться.
«Пусть не маячит под окнами с папироской», — думает Аскольд, и брюзгливое, гложущее недовольство другими и собой зудит и свербит в нем, тревожит и мешает, как нелопнувший чирей.
В прихожей Лелде еще стаскивает сапоги и, когда он входит, даже не поднимает головы, как будто он чужой, какая-то заштатная личность, которую не удостаивают не только приветствием, но и взглядом.
— Лелде!
Она поднимает веки медленно, нехотя, точно без времени потревоженная и этим недовольная, вроде и не считая нужным скрывать свое раздражение. Кроется ли за этой подчеркнутой вялостью и медлительностью робость, или это сознательный наигрыш?
— Будь так любезна, дыхни на меня!
— Зачем это? — вскрикивает она нервно, визгливым голосом, так резко выпрямляясь, что стукается головой о вешалку, и та снова, как вчера, перекашивается — только на другую сторону.
В этом действительно нет нужды, ни малейшей: едва Лелде открывает рот, сквозь морозную свежесть, исходящую от одежды, так и несет затхлой, терпкой вонью, которая нагло бьет Аскольду в лицо — как из сточной канавы, а не из юного румяного рта. В Аскольде вспыхивает отвращение, бунт, это чувство пронзает его электрическим током и стихийно вызывает ответную реакцию. Быстрым взмахом он заносит руку…
В глазах Лелде мелькает ужас. Она издает какой-то звук, а может быть, это звериный стон, и, сразу сгорбившись и словно переламываясь пополам, прячет лицо в ладони.
Разве он хотел ударить? Он приходит в себя, остывает. Неужто он хотел ударить?
В позе Лелде что-то покорное, беззащитное, что пробуждает в Аскольде жалость, и его физическое превосходство становится его слабостью — беспомощность обезоруживает, воскрешая древние законы природы, по которым сильный не только пожирал слабого, но и защищал.
«Затмение какое-то нашло», — все больше отрезвляясь, думает он, будто наблюдая себя со стороны и удивляясь странной вспышке гнева и столь необычному состраданию — несовместимым чувствам, сила и глубина которых так не соответствуют поводу.
Что это со всеми с ними сталось? Наваждение какое-то. Жизнь дала трещину и катится под уклон, обрастая неурядицами, как снежный ком…
Так думает Аскольд, глядя на согнутую фигуру Лелде, с угловатыми, еще детскими плечами, худыми руками, заслонившими лицо длинными, девичьи тонкими пальцами, на совсем птичьи ноги в коричнево-пестрых чулках.
Ну а дальше что? Кто из них двоих по справедливости должен извиниться? Как поправить дело, не уступая трусливо, не теряя достоинства и уважения к себе в такой ситуации, когда твои запреты и предупреждения не возымели никакого действия?
И сколько можно так стоять, играть в молчанку? Пока Лелде не открывает рта, от нее пахнет только морозом, от одежды и волос — еще не выветрившейся уличной свежестью, смешанной со сладким ароматом будто сейчас скошенной ржи. Ах вот оно что, запах же идет от хлеба, лишь прикрытого серой бумагой: отходя в тепле с мороза, он пахнет — самый лучший каравай, с блестящей коричневой коркой в мелких трещинках, как старая глазурь.
— Лелде…
Она медленно отнимает руки от лица. Оно покрыто зеленоватой бледностью, искажено мукой, на себя не похоже.
— Лелде, послушай…
Но она не слушает. Страдальческое выражение совсем преображает ее лицо.
— Меня… меня сейчас вырвет! — бросает она и убегает, как стояла, в одних чулках.
Хлопает дверь, звякает крючок — каждый звук слышен явственно, неприкрыто, обнаженно.
Так.
И Аскольд остается в прихожей один с таким чувством, будто его обвели вокруг пальца, надули, оконфузили. Прокашливается. Кладет наконец буханку. Снимает пальто. Делать нечего — надо опять чинить вешалку: прибивать, ковыряться, пачкаться. И поневоле слыша каждый звук за узкой дверью с накинутым крючком, он с легкой иронией думает:
«Вполне нормально. Весьма естественная реакция организма на никотин…»
— Аскольд!
— Да?
— Тебе не кажется, Аскольд, что она больна?
«Точное время — двадцать два часа тридцать минут…»
— Выключи, пожалуйста.
«Сегодня в Соединенных Штатах Америки…»
Щелчок выключателя — и сразу мертвая тишина, с шелестом и стуком за окнами, в которую оба они вслушиваются помимо и даже против своей воли. Завеса таинственных, почти призрачных шумов в этот ветреный вечер отгораживает дом Каспарсонов от других домов, как полоса воды отделяет корабль от берега, и Аврора чувствует желание подойти к окну, чтобы увидеть другие освещенные окна, ощутить близость, присутствие других людей.
— Аскольд…
Он поднимает глаза от тетради и поворачивает голову.
— Не думаю ли я, что?.. Отнюдь. Это от сигарет.
Задумавшись, Аврора вертит в руке авторучку, усталым привычным движением снимает очки, чтобы дать отдых глазам. Веки горят, точно в них песку насыпали. Надо будет потом сделать компресс или…
— Она, по-моему, со вчерашнего утра не ела. И такая худая, прямо страх…
За окном опять что-то шуршит ли, стучит ли. Наверно, антенна от телевизора колышется на ветру — антенна, а может, и провод.
— …кожа да кости. Ноги как спички, Сомневаюсь, что она вносит за обеды. На родительском собрании завуч жаловалась, что из двух девятых классов обедают всего человек десять.
Молчание.
— Когда я звала ее ужинать, а она не пошла, я ей сказала: «Лелде, говорю, ты сегодня хоть что-нибудь ела?» Ела, говорит. Я спрашиваю — что. И знаешь, что она мне ответила?
— Ну?
— Семечки!
— Семечки?
— Да, тыквенные семечки.
Аскольд пожимает плечами.
— Не понимаю, Аврора, почему ты делаешь из этого чуть не трагедию. Моя бабка, правда, когда-то считала, что от тыквенных семечек заводятся глисты, но эта гипотеза, если не ошибаюсь, научно не подтвердилась.
Они смотрят друг на друга, он — за легкой усмешкой пряча досаду, что его отрывают, она — сомневаясь теперь, вовремя ли она завела этот разговор, именно сейчас, когда перед ними стопки тетрадей, но полная решимости поговорить о дочери, прийти к чему-то и действовать в согласии ли с мнением Аскольда, или вопреки ему, и Аскольд должен выслушать, найти время, уделить внимание, ведь он отец.
— Твоя ирония, Аскольд, совсем неуместна, — холодно говорит Аврора. — Глисты не глисты, но вообще… Кто знает, по каким они валялись карманам, какими руками их брали. Да еще в такое время, когда в Риге свирепствует грипп, который дает всякие осложнения…
— …как воспаление легких или менингит, не меньше, или того ужасней — брюшной тиф, эпилепсию или сифилис…
— С тобой невозможно разговаривать!
— Аврора, у меня еще пятнадцать сочинений, а на часах уже почти одиннадцать. В половине седьмого мне вставать. И поверь, у меня нет ни малейшей охоты пускаться в рассуждения. Тем более по вопросам, которые входят в компетенцию эпидемиологической станции.
Ну, что теперь? Продолжать в том же духе — вежливым тоном, не повышая голоса, обмениваться колкостями? Замолчать и в который раз смириться? Или поговорить прямо, без обиняков — начистоту, и будь что будет, так ведь тоже жить нельзя.
Она сама пугается своих мыслей; боже сохрани, только не это! Пока не перейден последний предел, за которым нет возврата и примирения, за которым ничего уж не поправить, не загладить, — только не это! Уж лучше неясность. Ведь кто-то же придумал эти слова — счастливое неведение? Пусть не всегда счастливое. И тягостное, и мучительное. И все же это лучше, чем жестокая, неумолимая правда. Лучше неясность — что там под повязкой, под пластырем, чем открытая рана.
Аврора испускает вздох и, нашаривая рукой очки, все еще с грустью глядит на Аскольда. Конечно — устал он за целый день; круги под глазами, в уголках губ морщины… волосы начинают седеть и редеть, особенно это видно при свете, на фоне лампы.
— Порой кажется, что ей даже не хочется идти домой… — говорит Аврора с тихой жалостью, как бы думая вслух.
Морщины по обе стороны его рта проступают резче, складываясь в странное выражение — не то в ехидную гримасу, не то в печальную улыбку. Кажется, вот-вот он с горьким смехом скажет: «В точности как и мне». Но нет, молчит, таким же шарящим движением находит на столе ручку, подвигает ближе тетрадь, склоняется над ней.
Разговор окончен. Ну, прояснил он что-нибудь? Стало что-то понятней? Сошлись они на чем-нибудь, договорились, что-нибудь решили? Или выводы надо сделать сейчас — после него?
Если бы не этот разговор, они проверили бы хоть по одной тетради: Аскольд — сочинение по «Временам землемеров», Аврора — домашнюю работу по геометрии.
Аскольд, видно, никак не сосредоточится — скрипит стулом. Всегда он так, когда работа не клеится: скрипит сиденьем, сам того не замечая, иной раз тупо вслушиваясь в ритмичный хруст, который вряд ли доходит до его сознания, как тиканье часов, и порой, надо полагать, его совсем не слышит. Может быть, это от нервозности, нетерпения? Или это способ спрятаться от других раздражителей за такой вот шумовой завесой? Когда ему скажешь, он очнется и какое-то время действительно не скрипит. Но тишина длится лишь до тех пор, пока он снова не наткнется на какое-нибудь прескверное место, и все начинается сначала. Чик, чик, чи-ик… Аскольд быстро расшатывает самый крепкий стул, приспосабливая его к своим привычкам. Размеренный скрип, который его успокаивает, Авроре мешает, так что им лучше бы работать в разных комнатах. Но так уж повелось, и Аврора втайне боится каких бы то ни было новшеств и перемен, которые могли бы ее с мужем разлучить, разделив хотя бы стеной их общего дома…
Нет, сегодня ему не работается — не прошуршит перевернутая страница, не ткнется в бумагу перо. Сколько можно читать одно и то же место? Что там такое необычайно важное, такое значительное, какие открытия, какие небывалые зерна мыслей рассыпаны на этой странице, небрежно исписанной косым беглым почерком?
Аскольд отодвигает стул, выходит в переднюю и возвращается с кульком.
— А ты? Не хочешь?
— Что там у тебя?
— Леденцы.
— Не надо, и так толстею.
Он не уговаривает, опять садится, насыпает из фунтика перед собой маленькую пеструю кучку, прямо на стол, прямо на полировку. Кидает один леденец в рот и вновь принимается за работу.
Будет скрипеть? Не будет?
Скрипит,
— Ну, дай и мне немножко, — соглашается наконец Аврора.
Аскольд молча указывает кивком на фунтик. Теперь отодвигает стул она, ногой нашаривает под столом куда-то ускользнувшую тапку. Подходит к столу Аскольда. Поднимет он голову, посмотрит? Не поднимает, не смотрит. Да и чего там смотреть. Кулек раскрыт — только протянуть руку.
Подойдя, она взглядывает на мужнин затылок — сквозь все еще волнистые волосы уже серовато светится кожа.
«Необратимые процессы старения, — вдруг думает она со странным удовлетворением, чуть ли не со сладким чувством мщения, пораженная демократичностью этих жестоких процессов, которые не признают исключений и перед которыми все равны, так же как перед смертью. Рядом с Аскольдом она всегда чувствовала себя обделенной, обойденной, несправедливо униженной — невзрачная жена красивого мужа, бесплатное приложение к толковому директору; она долго и упорно, порой отчаянно защищала свои завоевания, боясь именно старости и при всем при этом быстро, преждевременно и безнадежно старея. Но ей почему-то всегда казалось, что во внешности Аскольда ничто измениться не может, что его молодость и красота пребудут вечно — постоянные, неизменные, как у статуи Аполлона, стойкие и не подвластные времени; не будучи легковерной и наивной, она тем не менее в душе верила, что Аскольд будет исключением, на которое не распространяются, не могут распространяться законы природы, как они не распространяются на сверхъестественные существа.
II вот перед ней совсем рядом, в двух шагах, маячит взъерошенный, с проседью затылок, который неудержимо и неотвратимо редеет и с годами будет лысеть и сквозить все больше, лишний раз подтверждая, что богов нет и не может быть. И, словно вздыхая полной грудью после долгих и тщетных мучений, она обнимает Аскольда, приникает к его спине и, слыша сквозь одежду глухие редкие удары сердца, шепчет бессвязно и счастливо, как пьяная:
— Старичок мой… мой ты старикашечка… милый мой, дорогой…
Аскольд не говорит ни слова, только ощетинивается молча, как непривычный к ласкам пес. Но она все равно прижимает его и гладит, и голубит, не переставая сбивчиво и бессвязно бормотать нежные бессмысленные слова, в то время как на дворе что-то колотится, что-то стучит и трещит под ветром, не утихающим даже ночью, И теперь уж яснее ясного, что это к перемене погоды. К усилению мороза все это либо к оттепели.
«Только бы не к снегу!» — опять думает Аскольд, но, выйдя во двор, видит, что снег уже идет. Струится на ветру белыми прядями, крупными хлопьями — да, вот он опять, незваный, ненужный, непрошеный, непоседа такой, угомону на него нет, идет, сыплется среди ночи, когда все спят, несется и летит, хотя его и так полным-полно, конопатит и без того заделанные трещины и щели, тыркается туда, где уже давно нет места, набивается и скопляется и, как пена, падает через край, так что будильник придется ставить на шесть, чтобы успеть хоть как-то сладить, совладать с этой прорвой, которая валит с неба.
Он идет проверить, закрыт ли гараж, хотя вряд ли кто в такую погоду вздумает угнать машину. Гараж заперт, дорогу от него до ворот уже затянуло рыхлым, толщиною в ладонь слоем, который на глазах растет и пухнет как на дрожжах, и этой ночью можно спать спокойно, без забот и тревог можно спать до утра, пока не зазвонит будильник, если не будешь подхватываться от стука: провод телевизионной антенны ветром кидает о борт крыши. Надо придумать, как его закрепить, чтобы не бился. Впрочем, сколько их там бывает, бурных ночей. Как ни крутит днем, как ни вертит, к вечеру обычно стихает.
Светлый занавес снежинок уже скрыл соседние дома справа и слева — в этот поздний час ни один луч не блеснет в темных жилых и хозяйственных постройках, и лишь дом Каспарсонов сияет маяком в падающей снежной мгле, за которой, должно быть, начинается край света. Светятся и мерцают окна только их дома. И до сей поры — окно Лелде.
Проходя недавно мимо и увидав в ее окне свет, Аскольд хотел заглянуть к Лелде, сказать… Что же именно? Что такое он хотел сказать? Наверное, ничего особенного. Разве только чтобы не засиживалась — пора ложиться, но вполне возможно, и еще что-нибудь. Там бы видно было. Но она снова заперлась, дерзко давая понять, что не хочет никого видеть, не хочет разговаривать. Скрестись за дверью, стучаться как нищему слишком унизительно, на такое он не способен, и нельзя от него этого требовать, ведь в конце концов и плата за примирение — как и за все на свете — имеет свой предел. Он хотел сделать первый шаг. Это самое большее, что он мог себе позволить, ведь и возможности наши имеют границы, порог допустимого. Он готов был войти в дверь, но просить милостыню за дверью не в силах — это за порогом его возможностей. И он прошел мимо, уязвленный, разочарованный и тем не менее с чувством облегчения, будто сбросил камень с плеч. И сейчас тусклый свет ночника в окне будит в нем желание заглянуть туда, как в душу другого человека, запертую для него, так же как дверь.
Что он надеялся там увидеть? Что там может открыться такое, о чем он не подозревает? И какая разгадка тайны могла бы вновь все поставить на место в той сплошной путанице, которая зовется отношениями и в которой они бродят вслепую, постоянно рискуя разминуться?
«Да, верно», — думает он, все больше, однако, загораясь — и не только желанием что-то для себя прояснить, но и мальчишеской жаждой приключений, риска: ведь это будет плохо и очень неловко, если его застигнут, увидят, как он подглядывает в окно Лелде, но желание берет верх. Зачерпывая в туфли снег, Аскольд пробирается к окну, задирает голову… и свет гаснет!
Он отшатывается, словно получив пощечину. Какое гадкое, унизительное чувство! Это, конечно, случайность, стечение обстоятельств — из светлой комнаты в снежной мгле его наверняка не было видно; это было бы сверхъестественно, против законов физики — допустить, что его увидели. Ничего подобного не было и не могло быть — Лелде просто легла спать. Ведь настает же минута, независимый от внешних обстоятельств момент, когда палец сам собой тянется к выключателю и свет гаснет, так же как погас накануне вечером и погаснет завтра. И все же ощущение противное — будто его уличили в постыдной слабости, надули, зло высмеяли, отчего досадуешь, злишься, сам не зная на кого и за что: на себя — за свою глупую выдумку? На другого — за подвох?
Окно потонуло в черной тьме, в которой текут и сеются белые хлопья. Аскольд стыдится своего поступка. Смешно подозревать, что с ним сыграли злую шутку, и если кто и был неделикатным и допустил бестактность, то именно он. Человек устал, лег спать, да и поздно уже, очень поздно. И хорошо быть дома в такую ночь, когда на дворе метет метель, и ветер чем-то шуршит и скрипит, и время от времени что-то стучит и гремит.
Как быстро, однако, Аскольда всего запорошило! Снег набился в складки пальто, в петли, засыпал волосы. Наверно, все же надо было надеть шапку. Как же без шапки. Но он думал: выйдет на минутку, сколько там он пробудет, можно и так, с голой головой. И вот пожалуйста, он весь обсыпан, точно мукою мельник.
Задрав голову, он ищет глазами антенну, но и она, как и все кругом, растворилась во тьме и в кружении хлопьев. Слегка отряхнувшись, он возвращается в дом. И вновь, проходя мимо двери Лелде, чуть замедляет шаг, прислушиваясь. Тишина, насколько вообще может быть тихо в такую ветреную ночь. Темень, насколько может быть темно, когда из-под двери и в замочную скважину сочится из комнаты свет.
И тем не менее тихо и темно.
Пусть себе спит…
Но Лелде не спит, она не может заснуть: подушка горячая, как грелка, но только не ровная, резиново-гладкая, а холщовая, волосяная, шерстистая, словно в наволочке из меха или грубой махровой ткани, которая колет лицо. И лицо горит, пылает огнем, и подушку все время надо перевертывать — прохладной стороной кверху, перевертывать снова и снова, и минуту спустя опять и опять, ведь… Она как каравай хлеба, овальная, твердая и шершавая, с растресканной коркой, корявой и колкой, как спекшаяся глина… Подушка полна гороха и гальки, выпирающих сквозь наволочку маленьких кругляшей, которые при малейшем движении хрустят и скрипят, и голова в них уходит глубоко, так что ее не поднять, не оторвать, так что не встать, хотя встать надо — встать и пойти, потому что очень хочется пить, нестерпимо, а вода на кухне, в двадцати шагах, всего двадцати шагах длиною в вечность. А дом полон хождения и шумов, везде стучат, скрипят, тарахтят, хлопают дверями… Кто там ходит? Кому там что нужно? Кто там никак не угомонится?
Зачем так жутко натопили? Во рту сухо, язык липнет к нёбу, и нёбо какое-то не такое, громадное — как свод, как грот в скале, где каждый звук отдается басом, а кашель гулкий как лай: гав-гав… И так это странно, что смех берет. И смех тоже отдается так: гав-гав-гав, отражается от круто изогнутых стен большого свода, как многоголосый собачий лай, как тявканье бегущих собак. Они мчатся сюда, большие и малые. Со стоячими и висячими ушами и вовсе без ушей. Хвостатые и бесхвостые. Голые как люди и заросшие шерстью наподобие ягнят. Черные и белые. Серые и пестрые. Рысят и скачут. Бегут и мчатся сюда с несметной стаей своих щенят, нюхая воздух на ходу мокрыми носами, которых целая уйма, такая масса, что они снуют и летают в воздухе как жуки, как мотыльки. Туче собак нет ни конца ни края. До самого горизонта — сплошная волнистая масса движущихся спин, и катится она прямо сюда. Тысячи, миллионы лап, вдавливаясь в почву своими выступами и выемками, вспарывают ее, взбаламучивают, как водную гладь. Вся земля начинает волнами ходить и раскачиваться как море, дыбиться и метаться как конь, норовящий скинуть седока, и боязно сорваться и улететь кто его знает куда, и надо держаться — держаться, чтобы…
Она падает — и просыпается.
«Что это со мной? — тупо думает она. — Заболела?»
Так уже было однажды в детстве. Засыпая, она летала над самой собой, и это было так странно, так волнующе, когда она, как с парашютом, летала сама над собой, глядя на себя сверху, и в то же время очень, очень мучительно, трудно и жутко. Потом появилась сыпь, да столько, что кожа стала пестрой, как ситец в красную точку, но мало-помалу все пришло в норму.
Протянув руку, она зажигает ночник, задрав рукава, оглядывает одно плечо, потом другое. От красноватого света кожа розовая, без точек и пятнышек, чистая и гладкая, а в локтевых сгибах вспотела, но ничего такого на ней нет.
Принять аспирин? В ящике должны быть таблетки. Если добавить аспирин в цветочную вазу, цветы будто бы стоят дольше. Дольше? А может и нет. Она испробовала, но так и не сумела выяснить — стоят они дольше или нет. Остальные таблетки должны быть в столе. В ящике. Вот она немножко отдохнет, поднимется и найдет… Может быть, пройдет голова. А то стянуло ее как железным обручем, который давит, особенно в висках и на лбу, там, где почти сходятся брови. Дурья башка, болеть вздумала!..
Она привстает на локте. Все-таки кружится. Ничего, полегоньку… Одну ногу, другую… Теперь еще поднять мягкое место. Так. Самое трудное позади. Привыкнет — и перестанет кружиться. Где тапки? Одна… тут. А другая? Наверно, под кроватью. Как обычно. Всегда так — то под кроватью, то под столом. Пока найдешь… Ей-богу, как старуха — дрожат колени. Она вдевает ноги, шаркая шлепанцами, доходит до стола, выдвигает ящик и роется вслепую — блокноты, карандаши, логарифмическая линейка, стержни для ручки, ластики, лупа, ножницы… Ну где же таблетки? Лотерейные билеты, поздравительные открытки… А, вот они! Нет, это пурген… фотографии, почтовые марки… Первобытный хаос, честное слово! Наконец-то вот они. Под коробкой акварельных красок. Целых две еще, как она и думала. Выпьет обе сразу — и к утру выздоровеет…
Тсс, кто это там ходит? Кому не спится, кто там стучит, чем скрипит?
А, ветер, это ветер.
Не зажигая света ни в столовой, ни в передней, Лелде ощупью добирается до кухни. Так же как прошлой ночью, прямо напротив светится окно, смутно белеет, тускло, как сквозь матовое стекло. И она, тут же забыв, зачем шла, пересекает кухню, направляясь туда, к бледно мерцающему квадрату, движется тихо и медленно, как зачарованная, как лунатик, видя и как бы чувствуя только окно, как ночная бабочка видит и чувствует огонь.
Подходит.
Стекла не вспотели и не затканы серебристо-сказочными ледяными и снежными узорами, на которых можно царапать буквы, писать слова. Не мерцают звезды. За окном маячит бездна, полная подвижной мглой, в которой нет ничего — одни вихри и белые сгустки… визг и шорох… перешептыванье… тихий смех… вороватые шаги…
И она в страхе подается назад.
Кто шептал? Кто смеялся? Кто?
По спине бегут мурашки. Она хрипло кашляет, заглушая ладонью звуки, которые отдаются где-то глубоко и глухо, как в пещере, и напоминают лай.
«Зачем я пришла? Что искала? А, таблетки! Где они?..»
Но таблетки, видимо, остались там, в комнате. Скорее всего на столе. Ведь в кухне она, кажется, никуда ничего не клала. А может быть, клала? Какая тяжелая голова! Тяжелая и пустая. Нет, надо сходить за таблетками… надо сходить…
Ступая ощупью в темноте, она возвращается — и вдруг спохватывается: где я?
Вдох — выдох. Мерное дыхание. Выдох — вдох… Мама? Как тут могла очутиться мама — тут, в ее кровати?.. Она удивленно осматривается: отец! Щекотный цепенящий ток холодными муравьиными лапками ползет вверх по ее шее, к затылку, стягивая на голове кожу. Отец умер! Лежит, как и тогда… как тогда во сне — навзничь, сложив на груди руки, с серым и неподвижным, точно обтянутым пленкой лицом, и черты заостренные, чужие. Она вслушивается — нет дыхания, ритмичного, мерного чередования вдоха и выдоха, как бывает… как должно быть, когда человек просто спит.
Отца убили!
Она делает еще два шага к кровати. Стоит в изголовье. Дышит? Нет. Не дышит. Она склоняется над отцом, заранее с ужасом ощущая мертвенный холод трупа, и, готовая каждую секунду с криком отдернуть руку, тем не менее протягивает ее к неподвижному лицу. И вдруг видит: глаза открыты и смотрят на нее, Лелде, пустым, застывшим взглядом,
— Лелде?..
Она сдавленно вскрикивает и бросается прочь и, слыша позади топот босых ног, все ближе и ближе, шепчет бессмысленные, бессвязные слова, точно в беспамятстве взывая о помощи, о жалости, о пощаде. Ее гонит, подхлестывает тихий ужас и жгучая жажда жизни.
Одна дверь, другая, третья… О третью она стукается — третья заперта. Но она привычно нащупывает в темноте задвижку, дергает — и ее объемлет белый вихрящийся хаос.
— Лелде!
Белесый полог метели скрыл все — постройки, людей, вещи, край света. А какой он, край света? Как обрывистый берег? Как круча, скала? Или как грань между светом и тьмой, обступающей вдруг тесно и плотно?..
…это не тьма, это черно-лаковая вода полыньи, из которой выныривает что-то блестящее, сверкающее, будто огнями горящее, будто мерцающее, искрящееся, и движется, подобно яркой звезде, и серебряной рыбе, и летящей комете, и, скользя мимо, играет и пламенеет, сияет и лучится, отливает зеленым и полыхает, все ярче и ярче, пока не зажигается блеском все, и весь мир уже — сплошной слепяще-белый, нескончаемый свет…
…Лелде?..
…Лелде-е!..
…Лел-де-е-е-е!!!..
В Мургале и трех дней не проживешь, чтобы не узнать Ритму — Ритму Перкон: ведь любой смертный, если даже он весь, без остатка пребывает в высокоинтеллектуальных сферах и душой и телом витает в заоблачных высотах, все равно не может существовать и здравствовать без манящих и хваленых, руганых и клятых еды и питья, которые заполняют полки магазина и стеклянную витрину, играя красками и дразня ароматами, предлагая и суля здоровые и грешные услады и душе и телу. А уж если ты зашел в магазин и там побывал, то никак нельзя не заметить и не запомнить Ритму, потому что она красотка и действительно роскошная женщина, и притом на ее прелести и стати мужики могут любоваться всласть, сколько влезет и задаром, а женский пол — на ее счет чесать языки в свое удовольствие, и тоже бесплатно, как бы в дополнение к покупкам, А проезжие, которые тормозят и задерживаются здесь лишь иногда, изредка — пропустить бутылку лимонада, жигулевского или еще какого-нибудь пойла и не знают даже ее имени, называют Ритму «большеглазой кралей», как прозовут и нарекут далеко не каждую. К тому же Ритма может и шепнуть, какие товары должны поступить, или, наоборот, сделать вид, что ничего не знает, не ведает, она может, отпуская, выбрать лучшие яблоки и помидоры или же брать подряд, какие попадутся под руку, она может принять пустые бутылки или же послать с ними в пункт приема посуды, который открыт всего три дня в неделю (а когда не подвезут ящиков, и того реже), — если учесть, что все это, и не только это, в ее власти и в ее руках и что яркой наружностью она так и бросается в глаза, так и влечет, прельщает и соблазняет, то вам станет ясно и понятно, почему Ритма Перкон чуть не самая известная личность в Мургале.
Вилис Перкон тоже считается мургальской знаменитостью, хотя по его виду никогда этого не скажешь. В его внешности нет и, наверно, никогда не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание. Весь он с головы до ног какой-то серый — волосы, глаза, цвет лица, одежда. Даже выходной костюм, ей-богу, кажется на нем линялым, выгоревшим и мятым, словно никогда утюга не видывал. И надо пристально, хорошенько вглядеться, чтобы увидеть, что здесь и правда какой-то обман зрения: ведь на самом деле костюм угольно-черный, с наглаженными стрелками, подложенными плечами, и манишка белоснежная, с пестрым шелковым галстуком, одним словом — все первосортное, первой свежести, и глаза за толстыми стеклами очков вовсе не блекло-водянистые, а голубые, и волосы скорее белокурые, чем седые. Но стоит только Вилису Перкону выйти из фокуса вашего зрения, как тут же вновь происходит мистическое превращение, и одежда на нем точно ветшает и блекнет, вытирается и мнется, и во всей фигуре и в лице тоже опять берут верх серые, линялые тона, как бывает, когда на человека упадет тень.
Да и работа у Вилиса не такая, где можно выдвинуться, сделать карьеру, не такая, чтоб пользовалась особым почетом и уважением в обществе. Он — колхозный бухгалтер, и тут, к сожалению, нет шансов установить громкий, внушительный рекорд, что-то превысить, кого-то превзойти, и обратить на себя общее внимание можно лишь в том случае, если ненароком сойдешься на узенькой дорожке с прокуратурой (но упаси бог — тьфу, тьфу! — от такого внимания).
И тем не менее Вилис Перкон, как говорилось выше, здесь лицо популярное. О нем рассказывают такие невероятные вещи, что вначале я принимала все это за плод безудержной фантазии какого-нибудь местного Мюнхгаузена, пока в один прекрасный день специально не съездила из любопытства в Ригу, в библиотеку, долго копалась и рылась в старых подшивках газет, чуть не потеряла терпение и надежду и все же в конце концов нашла заметку, которую привожу полностью:
«В прошлое воскресенье необычайный случай произошел на территории Раудавского лесничества. Главный бухгалтер Мургальского колхоза Вилис Перкон убил белого зайца, у которого оказалось два сердца, включенных в общую кровеносную систему. Второе — «вспомогательное» сердце было примерно в полтора раза меньше «основного». По единодушному мнению ученых, такое явление в животном мире следует считать уникальным».
Как ни поразительно это кажется и невероятно, именно так черным по белому было напечатано. И что же после этого удивляться, если редко какое торжество или дружеское застолье пройдет без того, чтобы еще и еще раз не воскресить в памяти, не обговорить этот случай, который, правда, произошел давненько, так что слава его со временем потускнела, ведь с годами мало-помалу ветшает и блекнет все; но когда-то диковинный трофей и заметулька в газете по этому случаю дали повод мургальцам гордиться уже хотя бы тем, что произошло это в их краях, со здешним охотником и здешним косым. Во всяком случае никто уж не мог подвергнуть сомнению само происшествие, на главную роль в котором сама судьба избрала Вилиса — именно Вилиса Перкона и никого другого из шестнадцати-семнадцати мужчин, которые также участвовали в травле зайца и с радостью взяли бы эту роль на себя, как знать, может быть втайне считая себя гораздо более достойными кандидатами и претендентами. Ан нет. Фортуне приглянулся именно Вилис — как всякая женщина, капризная и своенравная, богиня счастья избрала Вилиса Перкона, ничем, казалось, не примечательного.
Как-то раз, очутившись в автобусе рядом с Вилисом, я, наверное так же как и многие любопытные до меня, перевела разговор на то, каким все-таки образом был убит этот чудо-заяц. И он, конечно же не в первый и, надо думать, не в последний раз, коротко рассказал, как было дело, неоднократно подчеркивая, что происшествие это чистая случайность и не нужно было ни особой хватки, ни хитрости — только малость удачи, чтобы уложить самого обыкновенного с виду серого, ведь ружье — оба ствола — было заряжено дробью второго номера, и такса лесничего гнала косого туда, прямо туда, где стоял на номере он, Вилис, и впереди — ни кустов, ни еще чего, что бы заслоняло обзор, и заяц петлял и катил через поляну, как и положено зайцу, ничего перед собой не видя, а прямо впереди оказался он, Вилис, у которого тот, ей-богу, проскочил бы между ног, если бы Вилис не вздрогнул и, от неожиданности подскочив даже, почти машинально не нажал на спуск. Ну, само собой, грянул выстрел и уложил зайца наповал, ведь промазать из такого положения мог только паралитик или слепой, ну он и не промазал, а остальное — остальное, как он выразился, от него уже не зависело, очевидно, имея в виду, что слава и популярность столь же внезапно настигли его, как дробовой заряд — серого, независимо от его, Вилиса, воли и безо всяких с его стороны усилий. И рассказал он это тихим монотонным голосом, без жеманства и даже без улыбки, ни в коей мере не строя из себя героя и орла, бесстрашного храбреца, всезнайку и гроссмейстера.
Строго говоря, в его словах не было ничего такого, что явно и несомненно было бы взято с потолка, высосано из пальца, его рассказ был только чуть комичным — но это и все — и действительно мог быть чистой, святой правдой: разве не бывает, что именно чистая правда и кажется, и выглядит невероятнее складной лжи и басен, шитых белыми нитками? Разве мало мургальские старухи по углам и принародно сомневались в том, что такую диковинную тварь можно убить и порешить так просто и обыкновенно, без особой хитрости и ухватки, плутовства и уловок и даже, кто его знает, без ворожбы, заговора и колдовства, без чего такого ирода и чудище нипочем не спровадить на тот свет и не ухлопать? И даже мужчины, которые в целом, как и положено сильному полу, менее склонны искать объяснения и причины явлений в сфере чудесного, называли Вилиса за этот комический рассказ шутником и чудилой, наверно, тоже не очень-то веря ему насчет деталей, хотя и считали его без оговорок мужиком честным.
Если у тебя нет пыжей или намокнет порох, если выйдет вся дробь, крупная или мелкая, если ты останешься без курева или харча, если в дождь или трескучий мороз, хоть убейся, надо пропустить шкалик, а у всех пусто и все тоскливо переминаются, глядя по сторонам, шевелят мозгами и кумекают, где взять, достать и перехватить, то нередко случается, что именно у Вилиса Перкона кое-что еще есть в загашнике; и если у него еще что-то водится и брякает во внутренних карманах меховой куртки, он не скряга и не жмот и никому не откажет, будь то последняя сигарета в пачке «Примы» или последний глоток на донышке фляги. Даже собаки, знакомые и чужие шавки — чьих бы ни взяли на охоту, — как приклеенные, как привороженные, крутятся-вертятся вокруг Вилиса Перкона больше, чем вокруг своих владельцев и повелителей, кормильцев и законных хозяев, и так заделают шерстью, вывозят ему одежду, что смотреть страшно.
Разве такой нрав и такой дар не способны заменить собой мускулы Геркулеса и зоркий глаз Дерсу Узала?
Способны заменить и право же заменяли и восполняли. И, прикладываясь к покупной водке Вилиса, скрещенной с настоем аронии и цидонии, мужчины вспоминали не только про его былую меткость и толковали не только про чудо-зайца. Они вспоминали, что в молодости он был парень-хват, и зрение у него было как у ястреба, а слух как у филина, и недаром, служа в Даугавпилсе, он считался самым глазастым стрелком, и только один малый из Риги иногда, бывало, его причешет, хотя чаще Вилис того рижанина клал на обе лопатки и задавал ему перца, так что под конец ему даже предложили остаться на сверхсрочную, но стать капралом и гонять новобранцев — к этому у него душа не лежала, не было такой жилки. И другие, воевавшие вместе с ним в партизанах, подтверждали, что он никогда не был раззявой, мокрой курицей и оружие в его руках всегда работало как часы, будь то наш «Дегтярев» или трофейный костолом «шмайссер». А третьи говорили, что Вилиса Перкона надо снова выбрать в правление охотничьей братии, да поставить начальником и послать на конференцию общества, уломать, чтобы снова выступил в прениях, ведь его речь тогда была самой лучшей из всех, малость туманной, зато самой краткой, и, когда он, утирая пот, словно отмучившись наконец, и теребя бумажку в горсти, сияющий как новый гривенник, с красной гвоздикой в петлице, жених женихом, сошел с трибуны, это была и впрямь прекраснейшая минута за всю историю конференций.
А Вилис Перкон, махая обеими руками, вконец сконфуженный и счастливый, только бормотал: «Будет вам, будет, чего вы! Совсем сбесились, черти!» — и потом прибавил, что толкать речи и командовать людьми не его стихия, и остальные, глубокомысленно кивая, согласились, что стихия в самом деле штука умственная, тонкая, и если она в тебе есть, то сам черт тебе не брат, а если нет, то никакая святая вода не поможет. Одним словом, все нахваливали Перкона, и никому как-то даже не стукнуло, что почти за двенадцать лет после знаменитого зайца он не добыл на охоте ровно ничего.
И то, что в последние годы ему в этом деле не было везенья и удачи, я узнала не от кого иного, как от самого Вилиса, в тот же раз, когда мы ехали автобусом из Раудавы и он рассказывал мне про зайца. Я спросила, как его охотничьи успехи в последнее время, и его лицо омрачилось. Я поняла — спрашивать не следовало, но что сделаешь, ведь назад свои слова не возьмешь. И все же — надо отдать ему должное — он и теперь не уклонился от ответа, не стал пускать пыль в глаза и с легким смущеньем, тем не менее мужественно признался, что не убил даже вальдшнепа или утки, рябчика или хотя бы бекаса, не говоря уж про глухаря или тетерева, а кокнул только одну живую тварь, и то втихую, украдкой, бродячего серого кота, чистого дьявола: тот нахально обчищал гнезда и клетки, но, как потом оказалось, вовсе не был бездомным бродягой, шатуном и скитальцем, а жил у одной из наших соседок, но какой именно, он по понятным причинам лучше умолчит, так он сказал. Я знала, у кого пропал мурлыка, но тоже этого Вилису не сказала: у него и так был вид вконец сконфуженный, только что не испуганный, ведь откровенное признание, высказанное вслух, и для его ушей прозвучало, наверно, довольно жалко.
Какое-то время он молча только вертелся на сиденье и ерзал, но все же не утерпел и, возобновив разговор, посетовал на слабое зрение и назвал конкретно: левый глаз — столько-то диоптрий, правый — столько-то, считая, наверно, что я достаточно сведуща в этих вопросах, и полагая, что эти цифры дадут мне точное представление о его состоянии. И хотя они мне ничего не говорили, я догадалась, что близорукость у него сильная. Да, а раньше глаз у него был орлиный, добавил он скорее с грустью, чем хвастливо, и вот в один день, да что там в один день — в одночасье, в долю секунды все испарилось, как он выразился, куда и девалось, пошло прахом, и баста, и спасибо еще, что он не загремел к праотцам и руки-ноги остались целы, так что не пришлось ничего пришивать, только башку малость залатали.
Мне приходилось слышать краем уха, что Вилис Перкон партизанил в лесах, и я полюбопытствовала — не тогда ли это случилось. Он покачал головой. Нет, сказал он, это потом. В лесах он отвоевал больше года и не то что царапины, верьте не верьте, насморка не подцепил, сказал он, уж как они мокли и мерзли, а нос и тот не рассопливился. А в самом конце, уже весной тысяча девятьсот сорок пятого года, когда казалось и думалось, что ему посчастливилось из этой заварухи выйти целым и невредимым, тогда оно и случилось, в Курземском котле это было — его тяжело ранило фашистским осколком. Как оно на войне и бывает, все произошло внезапно, в мгновение ока: полыхнул огонь, столбом взвилась земля, и он только и успел, что удивленно вскрикнуть: «Ты гляди, и смерть пришла!» — только это и крикнул, прежде чем на него рухнула тьма.
Он будто бы долго не приходил в сознание, а когда опомнился, не мог понять, что же случилось, что стряслось. Навалилась какая-то тяжесть, и накрыло его словно чугунным котлом, под которым была кромешная тьма и звенящая тишина. Он сталкивал ее руками, спихивал с себя, хотел выбраться вон, на свет, на волю, но руки будто отделились от тела, ноги тоже не держались в пахах, а лежали сами по себе — с ним рядом. Он был как бы разъят, разобран на части, голова набита соломой и стеклом, которые беспрестанно звенели и шуршали, как в жестяном ведре, а брюшная полость казалась пустой, будто из нее вынули внутренности. Он с ужасом шарил вокруг, пытаясь собрать свои органы и части тела, едва шевелясь при этом — как под тяжелым гнетом, звал на помощь, но не слыхал своего голоса. Вокруг стоял свистящий, жужжащий содом, в котором лишь мало-помалу он стал различать стоны не стоны — кто-то лежал с ним рядом и стонал высоким жалобным голосом, похожим скорее на мычанье. Он хотел нащупать этого, как ему думалось, человека или зверя, он искал и шарил вокруг, однако не нашел никого. Так примерно оно было, добавил он с виноватой улыбкой, будто испытывая неловкость за столь длинный и подробный рассказ о своих переживаниях, который меня просто поразил необычайной точностью и образностью восприятия, чего я никак не ожидала от этого серого, неказистого человечка, этого очкарика и бумажного червя.
Слух со временем восстановился, продолжал он, хотя, конечно, с прежним его не сравнить, а зрение — зрение как было никудышное, так и осталось. Это и зрением не назовешь, скорее уж слепотой. Привезли его в рижский госпиталь, сделали операцию, но особого толку не добились. Тогда его отправили в глазную клинику самого Филатова, где оперировали целых два раза, пока наконец мало-мальски не привели в порядок. Орла из него и там, понятно, не сделали, но и на том спасибо, чудо-зайца вон подстрелил, прибавил он и засмеялся.
Ни до, ни после этого я не видела его больше таким разговорчивым, как тогда в автобусе, возможно, потому, что он ехал домой слегка подшофе, отчего и язык, как известно, развязывается, нашелся бы только слушатель, и таким слушателем была я; но возможно также, что этот день в Раудаве был для него в чем-то удачным, что поднимало его настроение, делая словоохотливым, и на моем месте мог оказаться любой другой.
Как бы то ни было, но прежде чем мы прибыли в Мургале, я узнала от Вилиса Перкона и о том, как он воевал в партизанах, и рассказано это было тем же особенным тоном, что и история с зайцем, так что не всегда и поймешь, что говорится всерьез, а что нет, чему верить и чему нет, но и тут чувствовалось одно — что он ни в малейшей степени не преувеличивал своих заслуг, и не выставлял свою персону, и не старался выглядеть лучше и умнее, чем был на самом деле, скорее уж наоборот. Он, например, не раз упомянул, что и партизаном стал по чистой случайности. В политике он тогда понимал как свинья в апельсинах, и вообще их семья всегда от политики держалась подальше и боялась ее как огня и чумы, считая, что политика дело господское, а мужику так и так покажут шиш и еще надают по горбу и по шее.
Когда формировался легион и стали приносить мобилизационные повестки — вступайте, мол, добровольно, ему на первых порах удалось счастливо отвертеться, отбояриться, хотя его возраст как раз подпадал под призыв. У его бывшего однокашника отец служил фельдшером и знал одного пройдоху врача, а тот, в свою очередь, другого доктора, короче говоря, в итоге довольно сложной и хитрой комбинации, в которой запутался и лишился жизни десятипудовый боров, Вилис Перкон получил справку со штемпелями, орлами и подписями, которая официально удостоверяла, что у него чахотка. И рентгеновский снимок в самом деле мог нагнать ужас на всякого сколько-нибудь сведущего в лекарском деле человека, ведь с таким затемнением больше двух-трех месяцев на этой грешной земле не протянешь, от силы полгода. Вопреки всему он, однако, прожил чуть ли не год и, казалось, намеревался жить еще и еще, отнюдь не собираясь лечь в сырую землю и даже, чертяка этакий, не теряя веса, — чудо медицины, да и только.
Но в один прекрасный день того доктора забрали, и он, Вилис Перкон, который досыта начитался в «Тевии» о преимуществах и целесообразности планомерного отступления, решил, что он тоже не прочь почерпнуть, позаимствовать кое-что из газетных откровений, и без проволочек планомерно отступил к картофельным ямам, где, к сожалению, был поганый климат. Дрянной он был, нездоровый, промозглая сырость стояла там, как в могиле, да и место было нехорошее — слишком близко к дому, к дороге и шуцманским постам. И он решил мотать, уйти куда-нибудь подальше от людей и, облюбовав сенной сарайчик на лесной поляне, подался туда, прихватив с собой кое-что из одежи, съестного и благословение отца. Но оказалось — разрази его гром! — что сараюшка занят. Вилис чуть не попал как кур в ощип и вгорячах, в сумятице мог схлопотать пулю, так как люди, его опередившие, приняли его за сыщика и шпиона, каковым он вовсе не был, он собирался только переждать здесь, пока не разрядится обстановка, и больше ничего, и ничьей крови — упаси бог — не жаждал.
Кто знает, как сложилась бы его судьба, не наткнись он в тот день на тех троих парней у ручья на лесной поляне. Может быть, он в конце концов попал бы в лапы, в силки к шуцманам и погиб где-нибудь в штрафном батальоне или, что вероятней, его бы шлепнули в укромном уголке как дезертира. Но случаю, подчеркнул он, который и потом сыграл с ним не одну шутку, тогда было угодно свести его лицом к лицу с людьми Ошкална, и это решило все. Он стал партизаном, то есть впутался в политику так серьезно и капитально, что мог не только получить по шее, но и сломать себе шею, и тем не менее, как он сказал, не нажил и царапины. И так до самой весны сорок пятого года, когда — уже в Советской Армии — его достал фашистский снаряд, но это я уже знаю…
Во всем, что рассказывал Вилис Перкон, были редкая, подкупающая прямота и добросердечие, простодушная откровенность и безыскусность, какие свойственны только детям и совсем старым людям, но он-то не принадлежал ни к тем, ни к другим. Было в нем какое-то неотразимое обаяние, которое раскрывалось и проявлялось только тогда, когда он говорил, хотя вообще-то чаще бывает как раз наоборот. После этой поездки я уже не принимала на веру все, что прежде и потом мне приходилось слышать насчет отношений Вилиса Перкона с Ритмой, ведь несоответствие их возраста и внешности, стоило этой паре появиться на людях, буквально бросалось в глаза и потому время от времени становилось темой для пересудов. И тут кое-кто припоминал кстати и прошлое, когда Вилис Перкон снюхался с молоденькой Ритмой, и как все это было: как Вилис, бесстыжие его глаза, бросил Лидию, которая, кроме добра, ничего ему не сделала, ходила за ним, обмывала, обстирывала как принца какого, холила и лелеяла как дитя малое и называла больным бедняжкой и своим котиком, пока в одно прекрасное утро «больной бедняжка», как и водится у мартовских котов, не очутился у другой кошки, и как Ритма вышла за него, ясное дело, по расчету, ведь и то сказать — чего ради такая ладная девчонка пойдет за мужика, который ее вдвое старше и к тому же из себя замухрышка — ни статью не вышел, ни рожей, одни стекла в окулярах блестят как фары, а позвенел он своими медалями, она и лапки кверху, ведь бабы, они, как сороки, на блестящие безделушки испокон веку падки.
А теперь уж, будьте уверены, Ритма наставляет ему рога, не без этого. Вы только послушайте в магазине: хи-хи-хи да ха-ха-ха с каждым мужиком, а глазами так и стреляет, так и мечет искры, как автоген, и видали ее не только в «Запорожце» Каспарсона и в драндулете Войцеховского, но и с молодым механизатором, и не где-нибудь — на тракторе, честное слово!
Так у нас, в Мургале, бывает, судачат о супружеской чете Перконов. Но какая женщина или девица не прошла в свое время сквозь эти шлюзы молвы и сплетен? А иная попала и не в такую круговерть злословия и клеветы, и надо только удивляться, как с нее не сорвали последнюю одежку, последнюю тряпку, — осталось чем прикрыть наготу. Можно и поговорить, можно и поболтать, но сколько можно чесать языки, если у Перконов ничего такого не происходит, время идет, а не случается ничего такого, что бы взволновало умы, будоражило кровь и разжигало страсти.
По субботам и воскресеньям с утра пораньше, вооруженный «зауэром» двенадцатого калибра, складным стулом, похожим с виду на дамский зонтик, запасными патронами и лишней парой шерстяных носков на всякий случай, да еще бутербродами с колбасой и, конечно, флягой, Вилис Перкон отправляется к месту сбора охотников и вечером, уже затемно, возвращается домой, когда своим ходом, когда в «рафике», но неизменно под хмельком, однако никогда не замечалось, чтобы у Перконов скандал вышел или Ритма корила бы мужа или кому жаловалась, плакалась. И, несмотря на то что Перконам в общем частенько перемывали кости, копались в их грязном белье, семейная жизнь их по сути была и осталась для мургальцев полной загадкой.
ЗАЯЦ С ДВУМЯ СЕРДЦАМИ,
ИЛИ РАССКАЗ О ВИЛИСЕ ПЕРКОНЕ,
НУ И О РИТМЕ ТОЖЕ
Вилис ел, а она смотрела, как он ест. Транзистор, маленькая «Селга», стоящий между ними на кухонном столе рядом с кофейником, передавал утренний концерт, и приятный мужской голос на чужом языке пел:
Немецкого она не знала, и ей было все равно, о чем поет мужчина волнующе-сладким голосом, ее ноги под столом двигались в ритме музыки, словно отбивая такт, словно приплясывая, — сами по себе ходили взад-вперед, вправо-влево, она не думала о том, что делают ее ноги, действуя под столом как независимые от нее существа, в то время как глаза серьезно и грустно смотрели на Вилиса — на лоб и нос, на подбородок и очки, за которыми не видно было глаз, так как в стеклах отражалась лампа, радио и Ритмин образ, и нельзя было угадать, видел ли вообще ее Вилис, когда поднимал от кружки голову, и хоть иногда глядел прямо на нее, или взгляд его скользил куда-то вкось, мимо и блуждал там же, где блуждали его мысли. А чужеземец, которому не было никакого дела до них обоих, до их мыслей и чувств, пел свое.
пел он, упоенный чем-то и вдохновленный, восхищенный и окрыленный, чем — Ритма не понимала, она не понимала ничего, ни слова и только смотрела на Вилиса, подперев подбородок ладонями и положив локти на стол, и ее отражение в его очках было крошечное и странное, отсвета в действительности было два — по одному в каждом стекле, и казалось, что тут сидели две Ритмы, обе на удивление одинаковые и до того молоденькие, что у нее сердце екнуло. И в то же время почти безошибочным женским чутьем она угадывала, что находится вне поля зрения мужа, и, сидя прямо против него, так близко, что ей виден был каждый волос, каждая пора на его лице, она была как бы отделена от него стеклянной стеной, была как бы одна.
Вилис откусил хлеба и, неожиданно резко выпрямившись, насторожился, повернул голову к окну, за которым впотьмах еще ничего не было видно, и рот его перестал двигаться, замер.
— Что, не подъехали? — пытаясь уловить сквозь звуки радио наружные шумы, спросил он, то ли обращаясь к ней, то ли думая вслух, и судорожно проглотил кусок.
— Нет, — коротко сказала Ритма, — нет, — проговорила она и, потянувшись рукой, на секунду привернула музыку, и теперь и Вилис мог убедиться, что нет, никто не подъехал, не тормозит у дома, хотя мог подъехать в любую минуту. Но пока не подъехали, Вилис вновь принялся за еду и неспешно жевал, только острые уши горели от волнения, ожидания и, казалось, стояли торчком.
Ритма снова прибавила громкость, уперлась подбородком в ладони и так же, как минуту назад, смотрела на Вилиса, а из «Селги» опять лились веселые ритмы — прелюдия к занимающемуся дню. Она ни о чем не спрашивала, она и так знала в точности, что и как произойдет, и, так же как Вилис, напрягала слух, ловила звуки, плывущие снаружи, но в отличие от Вилиса вслушивалась в эти шумы бессознательно, с противоречивыми чувствами, сама не зная, старается ли она отдалить тот миг, когда муж уедет, или, напротив, только и ждет, когда наконец за окном раздастся рокот мотора и Вилис, бросив недоеденный хлеб и не допив кофе, скрипя половицами и чавкая резиновыми сапогами, кинется к двери, хватая на ходу со спинки стула куртку и с вешалки шапку, а с пола рюкзак и прислоненное к стене ружье — одним словом, успевая делать все одновременно, как если бы у него было по крайней мере четыре руки.
День был воскресный, и Ритма, если б захотела, могла не вставать: магазин не работал, оба сына спали, как всегда, беспробудным сном, а скота Перконы не держали, из-за него пришлось бы вскакивать чуть свет, если не до свету, все равно в будний ли день или в праздник. Кофе Вилис сварил бы себе на газу сам и бутерброды сделал бы, но звонок будильника поднял и ее, и, когда Ритма поневоле проснулась и за окном в утреннем тьме увидела звезды, она подумала, что день будет ясный и надо провернуть большую стирку, собраться с духом, взяться и свалить наконец кучу простыней и наволочек, полотенец и рубашек, ведь белье, которое потреплет ветер да мороз поморозит, получается куда белее и совсем иначе пахнет, чем развешанное над плитою в кухне и в комнате у печи, где оно в тепле больше парится, чем сохнет и, пока висит, успевает снова запылиться и напитаться чадом и горьким дымом. И с такими мыслями — о белье и всем прочем, что с ним связано, Ритма уже не могла праздно валяться, ворочаясь с боку на бок, она встала и отправилась на кухню, поставила на огонь кофейник и взялась намазывать хлеб, хотя есть ей еще не хотелось — ей никогда не хотелось есть так рано, когда из головы еще не выветрился сон и в теле была истома и вялость. Она могла только сидеть и смотреть, как завтракает Вилис, у которого аппетит, что утром, что вечером, всегда был на славу, и надо было только удивляться, куда все это девалось, проваливалось как в бездонную бочку, потому что Вилис все равно был тощий как жердь — до того костлявый, что смотреть страшно.
Может быть, из-за этой худобы про него и ходили слухи, будто в молодости он болел чахоткой, что сам он отрицал; но жене-то он врать не стал бы — какой же резон врать жене, если эта самая хворь к тому же была и прошла бог знает когда.
А нарастить маленько мясо на костях ему и правда бы не мешало, только человек в этом не властен, и даже знатный аппетит, как показывал опыт, не мог ничего изменить и поправить дело. Просто Вилис был из той породы людей, которых в народе обыкновенно зовут прорвой, и все ему было не в коня корм, не в пример Ритме, которая, бывало, набегается с утра до вечера, ни дух перевести некогда, ни путем пообедать, и хоть бы что — была упитанная. И мальчишки то же самое: Айгар — ну вылитый отец, одна кожа да кости, тогда как Атис, младший, кажется, пошел в нее, кругленький такой и ласковый, как котенок. Так думала Ритма, проводя вместе с Вилисом последние минуты и по-прежнему не решив для себя, хочется ли ей задержать мужа, чтобы остался и не поехал, или совсем напротив — побыстрей выпроводить со двора, чтобы вздохнуть свободно и чтобы Вилис не путался под ногами, все равно ведь в хозяйстве ничего не смыслит. И ноги ее под столом продолжали двигаться и переступать в жизнерадостном ритме музыки взад и вперед, вправо и влево, точно сами собой пританцовывая, точно отбивая такт. И рот безотчетно сложился в рассеянную и неизвестно кому предназначенную улыбку, а глаза смотрели на Вилиса, только и прямо на Вилиса внимательным и серьезным, грустным и будто бы даже горьким взглядом.
Подъехали!
Они услыхали это явственно и оба сразу, ведь транзистор, маленькая «Селга», своим утренним концертом никак не мог перекрыть такой шум и фырчанье, с каким подкатил к дому и затормозил микроавтобус. И происходило все почти в точности так, как Ритма себе представляла: Вилис вскочил как ужаленный, одним махом вылил в рот остатки кофе, быстро, ловко и сноровисто, как фокусник или хомяк, запихал, затолкал за щеки кусок бутерброда и уже на бегу одной рукой подхватил куртку, другой — шапку, третьей — рюкзак и четвертой — ружье. Скрипнуло, чавкнуло, топнуло, грохнуло… На дворе опять зафырчал мотор. Так, был Вилис и нету — хоть бы слово ей, хоть бы один взгляд.
И, сидя по-прежнему в той же позе, Ритма какое-то время еще вслушивалась в стихающий шум мотора, пока не почувствовала, что отдавила себе локти, быстро выпрямилась и, прислонясь спиной к стене, обняла руками плечи, будто грея себя, или себя жалея, или с удовольствием ощущая в ладонях свое полное сбитое тело. Чужая радиостанция из дальней дали передавала известия, но Ритма не выключила транзистор, не стала искать и музыку. Звуки незнакомого языка ей не мешали, она вслушивалась в них, как в шум дождя и шорох листвы, слыша все и в то же время не слыша ничего. Сквозь монотонное журчанье голоса, как свет или как дым, снаружи в кухню сочилась тишина, и Ритма вздохнула, и это мог быть вздох огорчения, но, возможно, и облегчения, ведь теперь она была свободна до самого вечера — зачумленная делами, которых не переделать, и вольная как птица.
С ленивой грацией подплыл кот, мягко и плавно прыгнул Ритме на колени и с урчаньем принялся ласкаться, и льнуть, и тереться об ее грудь, руки, и ластился до тех пор, пока она не сняла руки с плеч и не наклонилась так, что ее черные волосы слились с черной шерстью кота, обняла его, не то всхлипнув, не то усмехнувшись, а кот мурлыкал громко и монотонно, жмурясь от блаженства, как на ярком солнце. И она, думая о чем-то другом, а вовсе не о том, что сейчас делала, и дыша коту в ухо, рассеянно шептала тихие певучие слова, а кот, упоенный мягкой, прямо кошачьей нежностью хозяйки, все чаще поигрывал когтями, то втягивая их в подушечки, то выпуская, пока Ритма не вскрикнула вполголоса от боли.
— У-у! Ты чего балуешь? — сразу охладев, сказала она, словно обманутая в своих ожиданиях, и смахнула кота на пол, где он в крайнем недоумении, оскорбленный в своих лучших чувствах и тоже обманутый, мелко тряс усами и хвостом, взъерошенный в ее объятиях и помятый, жалкий и несчастный и все же питающий надежду снова умоститься на теплые и мягкие колени,
— Нет уж, нет… и не думай! Все. Хватит. Повозились — и будет, — непреклонно сказала Ритма и встала. Она вдруг почувствовала такой соблазн снова нырнуть в постель, подоткнуть кругом одеяло и еще понежиться вдоволь, махнуть на все рукой и поваляться всласть, безо всяких забот — провались оно все пропадом, поставить в изголовье «Селгу» и с закрытыми глазами послушать плывущие сквозь простор далекие и загадочные звуки, смысл которых она чаще угадывала, чем понимала, и которые не мешали ей представлять себе то, что хотелось себе представить. И если нередко ее фантазия не отвечала действительности, с нею не совпадала, никому от этого ни малейшего вреда не было и никто от этого не страдал — ни она сама, ни тем более кто-то другой, ведь ее мечтания были как сны, они касались ее одной и с пробуждением рассеивались.
И стоя так в сомнении, уступить ли ей соблазну или жесткой необходимости, Ритма увидела в глянцево-черном окне с отдернутой шторкой свое отражение, в скудном, рассеянном свете лампы слегка расплывшееся, не такое четкое, как недавно два ее крошечных лика в стеклах мужниных очков. Но сладостный обман, вызванный тогда многократным уменьшением, теперь возник благодаря щадящему свету — он стер в ее облике следы возраста и вновь сделал его удивительно, потрясающе молодым, как будто время было над нею невластно. Она смотрела на свой образ давно ушедших дней, который кисть неведомого, таинственного художника запечатлела, как картину, вечным и неизменным, образ, который передавал черты человека, но был выше законов физиологии, не старился вместе с моделью и сохранял молодость на веки веков. И, не в силах отвести взгляд, Ритма как зачарованная смотрела на изображение, узнавая себя в нем и не узнавая. Ее вновь охватили ликование и щемящая боль, и она рекой плескалась между этих двух берегов.
— Ну, довольно. Хватит. Будет, — так же, как только что кошке, сказала себе Ритма, стараясь сойти с этих качелей, летящих между ликованием и уныньем, не без усилия и не без сожаления отвела взгляд от пленительного и обманчивого лика — отражения на блестящей, точно лакированной глади стекла и выкатила из-под лестницы стиральную машину, старую, видавшую виды и уже сколько раз чиненную «Ригу» без отжимного устройства — его заменяли два ручных расхлябанных валика, которые нещадно давили пуговицы. Ритме пришло в голову — не поднять ли Айгара, пускай хоть воды наносит, но ей стало жаль мальчишку, который постоянно не высыпался. Пускай поспит, ведь еще так рано, еще даже путем не рассвело, а воскресенье, оно бывает только раз в неделю. Так думала Ритма, уже покорно и привычно впрягаясь в воз домашних дел — растапливая плиту и сортируя грязное белье. Но когда она вышла с ведрами за водой — и на востоке горела малиновая полоса, и в глубокой и звонкой тишине весь небосвод переливался серебром и алым перламутром, и точно такой же, чуть розоватый, блестел и снег, — в ней опять что-то всколыхнулось, будто в предчувствии близкого счастья.
Точно такое же сияюще-розовое небо высилось и над заснеженными елями, просекой и над Вилисом, только он не догадался поднять кверху голову, а то бы и он это заметил, и — кто знает — какие мысли и чувства вызвало бы в нем девственно-чистое зарево зимнего утра, возможно, такие же, как у Ритмы, а может, и нет, скорее всего — нет, скорее — совсем другие, потому что они с Ритмой слишком разные.
Однако Вилис не поднял голову и не взглянул поверх деревьев, он ходко шагал, сутулясь, почти в самом хвосте цепи охотников, ступая — левой, левой! — в чужой след, в чем никакой нужды не было, ведь слой снега в лесу был еще тонкий, в ладонь толщиной он лежал на земле, не больше, и шагалось всем споро, что же говорить о таком поджаром, жилистом мужчине, как он, у которого ноги болтались как на шарнирах, — если дорога мало-мальски приличная, отмахать семь-восемь километров в час для него было раз плюнуть. И если он все же старался попасть точно в чужой след, то только потому, что резиновые сапоги скрипели и визжали на снегу как окаянные, в утренней тишине они вопили, взывали к сияющему небу, как два грешника, и этот звук сверлил уши и был слышен, казалось, не знаю где, а двигаться надо было по возможности без шума, так как охотники гуськом шли на облаву и где-то здесь, в квартале, под сенью тяжко свисавших елей должны были быть лоси.
В валенках шагать, само собой, намного тише, потому что войлок трется о снег больше со звоном, чем со скрипом, и к тому же в чесанках, когда стоишь на номере, ноги никогда не стынут так зверски, как они мерзнут в болотных сапогах, однако лес на иных участках пересекали еще слабо затянутые льдом канавы и два никогда почти не замерзающих болотца: когда идешь загонщиком, в резиновых сапогах еще кое-как можно перевалить через них, перетащиться, если поднять голенища и натянуть доверху, до паха. А в валенках туда лучше не соваться — будешь бегать туда-сюда, высунув язык, по берегу, искать, высматривать поуже брода и нащупывать почву потверже, упор под ногами, чтобы перебраться, и еще будешь благодарить всевышнего, если вообще сумеешь это сделать с более или менее сухими ногами и если не придется несолоно хлебавши повернуть назад.
Утро было безветренное, долбил невидимый дятел, осыпая с ветки снег, который неслышно сеялся в стылом воздухе искристо-розовой пылью, и монотонная дробь делала тишину в лесу глубокой и звонкой. Не было и признаков того, что вблизи есть хоть какая-то живая тварь, если не считать малого кузнеца где-то на вершине ели, и тем не менее покой этот был обманчив и белая тишина полна затаенного, скрытого напряжения, которое грозило вот-вот взорваться, найти выход — в крике ли, в беге, в треске выстрелов, — и Вилис ощущал его каждой клеточкой своих нервов. Но вдруг он почувствовал еще и другое: из чащи на него кто-то смотрит!
Замедляя шаг, он повернул голову в ту сторону, хотя втайне не очень-то верил, чтобы в сплошной бело-зеленой чаще, среди заснеженных лап елей он с таким слабым зрением мог что-то разглядеть, и глаза его действительно не встретились с глазами зверя. Не хрустнуло ничто, не треснуло — лишь со скрипом вминала снег сапожная резина. Неспешно и размеренно — теперь уже сзади — по-прежнему тукал дятел, и где-то очень далеко перелаивались шавки, скорей всего на опушке леса, ведь это был не резкий и пронзительный лай Морица. Единственное, что перемещалось в поле зрения Вилиса, были охотники, двигавшиеся по белой просеке между застывшими стволами елей, Впереди него колыхались спины с ружьями, ружья тоже покачивались в ритме шага, и клубы пара над головами идущих горели в утреннем свете розовыми ореолами. Изредка тут и там беззвучно сыпалась летучая пыль с грузных от снега веток, которых никто не тряс, не касался, время от времени они самостийно освобождались от нависи.
Опять!
Вилис вновь почувствовал взгляд. Сквозь плетение и путаницу хвои и ветвей кто-то пристально, испытующе смотрел на него, точно взвешивая его силы и стараясь проникнуть в его мысли и определить ему цену. Он второй раз поглядел туда, на чащу с левой стороны просеки, весь отчего-то подобравшись: невидимый глазу, а лишь угадываемый, чей-то взгляд внушал ему неуверенность и делал его осторожным. Но и на этот раз никого не было. Вилису чертовски хотелось закурить — табак всегда его успокаивал, но об этом сейчас не могло быть и речи, хотя рука сама собой тянулась и уже нашаривала сигареты, и он заметил это, когда в кармане вполголоса затарахтели спички. И в голову против воли и совершенно некстати полезли воспоминания о неудачных историях в недавнем и далеком прошлом, в которые он впутался и вляпался, и с никому не нужной сейчас точностью из забытья всплывали те случаи, когда он заблудился или осрамился, просчитался или что-то прохлопал. Он гнал от себя эти мысли, но воспоминания — тьфу ты пропасть! — буквально липли и цеплялись к нему как репей.
С таким настроением не годилось начинать охоту — тут нужны твердая рука и отвага, железная воля и горячая вера в свое счастье, без чего нельзя не только что убить лося, но и поймать мышь. И, стремясь во что бы то ни стало выйти за круг этих предательских чувств, он заставлял себя думать о том, что приносило ему успех, лавры, — восстановил в памяти происшествие с зайцем, стараясь заодно припомнить какие-то предчувствия или приметы, предвещавшие ему в тот раз удачу, но, к сожалению, вспомнить не удалось, и может быть поэтому ему сейчас казалось, что событие это его ошарашило, застало врасплох и поразило, как дробовой заряд второго номера — зайца, с той лишь разницей, что не уложило, а малость только оглушило, это да, так что сгоряча и на радостях ему, как и другим, казалось и мнилось, что он и в самом деле совершил нечто исключительное, из ряда вон выходящее. Но потом Вилис остыл и очухался, так как был близорук, но дураком не был, и вскоре опомнился и пришел в себя. И все же никогда потом он не чувствовал себя, как раньше. Его мучило что-то вроде похмелья — как будто бы он накурился до одури, или дернул ерша, или же выпил да не закусил — такое было у него состояние, которое не отпускало его и даже с годами не прошло, не улеглось…
Ну вот, опять за свое! Да на кой черт это надо? К дьяволу эти мысли! Выше голову, грудь колесом, вперед и только вперед, и не глазеть по сторонам: ле-вой, левой… Ты должен собрать себя в кулак, а не колебаться как студень! Ле-вой, ле-вой!..
Но вопреки всей своей решимости он еле-еле сдерживал себя, чтобы не взглянуть на заросли, где тот, кто невидимо следил за ним, как бы неслышно за ним и следовал, таясь и прячась за деревьями, стеной стоящими вдоль просеки. Однако Вилису так и не удалось заметить хотя бы признаки жизни, как не удалось и уловить хотя бы шум, свидетельствующий о передвижении.
Это нервы, говорил он себе, я слишком взволнован, шалят нервы. Старая контузия, чертовка, подумал он о ней как о живом существе.
Наконец они пришли и встали на номера. Вилис спустил с плеча ружейный ремень. От ходьбы в брезентовой куртке, подбитой мехом, он разогрелся, даже распарился, шапка съехала чуть не на очки, и, сдвигая ее на затылок, он заметил, что лоб у него потный. Ему хотелось расстегнуть воротник, но он этого не сделал, зная, что очень скоро остынет и начнет зябнуть. Неподвижно стоя в облаве, он всегда мерз, даже в оттепель: как и большинство сухопарых людей, он был чувствителен к холоду. К жаре нет. Жара, будь она хоть африканская, на него не действовала. Зато зимой он начинал дрожать довольно быстро, во всяком случае быстрее, чем многие другие и чем ему бы того хотелось. Поэтому в стужу он раньше старался брать и кое-когда правда прихватывал с собою пальто — накинуть на плечи поверх куртки, но один раз это несчастное пальто было виною тому, что он спугнул кабанов, которые откуда ни возьмись вывернулись перед ним, и первый был как раз на расстоянии выстрела. Опешив, Вилис сбросил пальто и вскинул ружье. Но кабаны, опешившие не меньше его, успели повернуть на сто восемьдесят градусов и дали тягу по своему же следу, и никто их в тот день больше в глаза не видел. Так что лучше было обходиться без лишних тряпок и примириться с участью мерзляка.
Он зарядил «зауэр» и рассчитал на глаз расстояние до заметных деревьев, увечных стволов и пней, чтобы в пылу охоты не выстрелить по слишком удаленной дичи, ведь бегущее животное в лесу всегда кажется ближе, чем есть на самом деле. Он убеждался в этом не однажды и втайне пуще всего боялся, что раненный им зверь может уйти. Один раз в жизни ему довелось видеть подстреленную мазилой, а может и браконьером, лосиху, и лицезреть такую картину опять он не желал, нет, нет — рана кишмя кишела червями, которые, видно, не первую неделю глодали ее тело.
Тогда Вилис и дал зарок: как бы там ни было, что бы там ни было, а стрелять только наверняка, со стопроцентной гарантией! Звучало это, конечно, весьма благородно, но, может быть, поэтому до сей поры ему так жутко не везло, ведь охота — риск, причем для обеих сторон. Существует ли она, возможна ли такая стопроцентная гарантия? Каждый случай — одна из тысячи, десятка тысяч комбинаций и вариантов, и оценить ее надо в секунду, какую-то долю секунды, ведь в следующий миг вступят в силу новая комбинация и новый вариант, которые требуют иного решения, другого шага.
Так думал Вилис, измеряя на глаз расстояние до ориентиров. Потом посмотрел налево, где виднелась фигура Хуго Думиня в темном, прямо арестантском каком-то ватнике, на фоне белого снега и высоких деревьев казавшаяся еще мельче обычного. Он взглянул и в другую сторону, вправо, где стоял Ингус, одетый скорее как лыжник, слишком легко для охоты в такую погоду, зато бледный свитер почти сливался с местностью, и это было то, что нужно, — грамотный охотник не должен бросаться в глаза, выпирать из пейзажа. Вилис помнил и знал, что слева должен быть Хуго Думинь, а справа Ингус, и смотрел он вовсе не затем, чтобы еще раз в этом убедиться, но чтобы и тут возможно точнее определить расстояние и угол, так как во всем любил порядок и брался за дело с чувством ответственности, а тем более за такое милое его сердцу дело, как охота, — самый мужественный из всех видов спорта, если вообще это можно назвать спортом, эту тягу, страсть, которая со времен Адама кипела и по сей день кипит в жилах сильного пола, растекаясь по нервам равно с другими инстинктами, а порой и сильнее иных врожденных склонностей и влечений, унаследованных нами от предков в звериных шкурах.
И вовсе не мясо, как могло показаться глупцу и болвану, влекло и манило Вилиса, о нет, хотя с коллективной охоты он в самом деле нередко являлся с увесистой частью добычи — плечом кабана или окороком лося. То чего он искал здесь, в лесу, чего жаждал, не могло быть ни измерено, ни восполнено и целыми грудами, штабелями мяса, — это стояло выше всего, что можно съесть или износить, нажить или спустить. Оно постоянно свербело и манило из дома и хотя порою — как и всякий идол — требовало жертв, приносить их было очень легко и поступаться чем-то было отрадно. И только бедняги, не изведавшие этой сладкой отравы, обиженные, обойденные судьбой, которые влачат жалкое существование, не зная этих приятных оков, не понимали ни шиша, и ничего нельзя было им втолковать, как невозможно втолковать слепому, что такое свет и цвет, — как ни печально, но невозможно. Ну хотя бы Ритме…
Так думал Вилис, все больше увлекаясь и загораясь, как будто он хотел все же кого-то убедить, уговорить, и вдруг, невольно вздрогнув даже, почувствовал: на него опять смотрят!
Но в тот же самый миг стало слышно, как тявкнул, стараясь взять след, Мориц, а едва уловимый пока хруст ветвей под ногами идущих возвестил, что сюда движутся и загонщики.
Вилис замер, сразу весь обратившись в зрение и слух, его взгляды как лазеры вонзались и ввинчивались в лесные дебри, все мысли в мгновение ока точно ветром сдуло, сердце гудело в груди, и клубы пара толчками рвались изо рта, как будто он бежал, а не стоял на месте. По нараставшему отрывистому лаю было слышно, что собака взяла след и кругами движется сюда, заметно опередив загонщиков: треск веток доносился совсем слабо.
Лес тут, славу богу, вроде бы намного реже той пущи, вдоль которой и сквозь которую пришлось сейчас проходить. Вплоть до заливной лужайки тянулась смешанная поросль, с березой и осиной по буграм и черной ольхой понизу, где между лиственных пород были вкраплены разномастные елки — и совсем коротышки, малявки, которые едва спрячут зайца, и голенастые молодки, за которыми спокойно мог укрыться и такой могучий зверь, как лось. И глаза Вилиса так и шарили по каждой из них, ведь за каждой мог внезапно проглянуть мощный корпус, темный до черноты на яркой белизне снега: приближаясь, Мориц лаял грубым голосом, басовито, а значит — учуял крупного зверя, так как мелкого, лису или зайца, пес гнал, тявкая визгливо, фальцетом.
Но тут Вилис заметил и нечто другое — впереди, где-то там, куда он смотрел, совсем как будто невдалеке, коротко хрустнул валежник, притом с глухим шумом, как ломаются сучья под большой тяжестью. Загонщики еще не подошли настолько, чтобы сушняк мог ломаться под их ногами, так что незримо передвигался там наверняка зверь и, надо полагать, изрядный — лось или кабан. Ветка треснула — и вновь настала тишина, в которой почти беспрестанно лаял Мориц и долетал издалека невнятный гул, с которым приближались загонщики, время от времени стукавшие палками по деревьям. Вилис все глаза проглядел, но не шелохнулась ни одна елка, ни с одной лапы не осыпался снег, между серых стволов не мелькнуло и тени. Лишь минуту спустя опять раздался хруст, на этот раз дальше — справа от Вилиса, теперь, наверное, против Ингуса, который, видимо, тоже не мог разглядеть, кто там бродит с тихим шумом под прикрытием елок, так как молчало и ружье соседа, а еще немного погодя сухой треск ломающегося хвороста донесся с еще большего расстояния.
Насколько можно было судить по этим звукам, животное крадучись уходило, все больше и больше забирая вправо, лавируя между стрелками и загонщиками, и, видимо, пыталось незамеченным выйти из оклада. Это был умный, матерый зверь, переживший на своем веку, должно быть, не один охотничий сезон. Но все равно — чтобы совсем выскользнуть из ножниц, которые смыкались все плотнее, в какой-то миг и в каком-то месте он должен будет пересечь другую просеку, и волей-неволей оказаться в поле зрения стоящего на фланге охотника, и сделать несколько роковых шагов по открытому месту — и тогда уж не подкачай…
С минуты на минуту Вилис ждал выстрела, но время шло, загонщики были уже недалеко, настолько близко, что казалось, между елками порою мелькали серые подвижные фигуры, а произойти еще ничего не произошло.
И тут впереди раздалось что-то вроде гиканья и воя, и чей-то голос, а за ним и хор голосов заорал непонятные слова, то ли с бранью, то ли со смехом. Вилис не мог разобрать, что вопили загонщики, гомоня между собой, а может быть, и кричали что-то им, стрелкам. Он только догадался, что зверь вышел из оклада, скорей всего между загонщиками, раз ему вслед не прогремел ни один выстрел. Так думал Вилис, и он не ошибался. Чуть не в самый последний момент лось действительно проскользнул между загонщиками, словно зная наверное, что те не вооружены.
Распорядитель охоты протрубил сбор, и все — уже не цепочкой, а вразброд — двинулись по направлению к дороге, споря, был ли это бык, или корова, так как никто, видно, не успел лося даже разглядеть. Одни говорили, что корова, только крупная, надо думать, старая и без теленка, стало быть яловая. Другие возражали — бык, только уже сбросивший рога. Но теперь это не имело никакого значения — лось или лосиха, он или она.
Вилиса догнал Хуго Думинь.
— У тебя закурить не найдется?
У Вилиса, конечно, нашлось, а как же. Он достал пачку и вытряхнул две сигареты — самому посмолить тоже невредно. Потом зажег спичку, и друзья-приятели закурили от одной. Как и у всех остальных, у них тоже не шел из головы лось.
— Проскользнул между елок, как угорь, и был таков, — после первой затяжки сказал Хуго. — И так близко — я даже чувствовал, как он на меня смотрит.
Пораженный Вилис подумал, что у него было точно такое же чувство, но теперь, когда Думинь сказал про взгляд лося, Вилису не хотелось признаться, что он заметил то же самое, ведь это могло показаться просто поддакиванием. Но полностью скрыть свое смущение ему не удалось, и Думинь, приняв его удивление за недоверие, подтвердил:
— Можешь не верить, твое дело, а я, слово даю, чувствовал, как он меня глазами щупал.
— Ладно тебе, — поморщившись сказал Вилис, с острым неудовольствием вспомнив, каким нервным и неуверенным сделал его пристальный, сверлящий взгляд лося — будто они поменялись ролями, ей-богу. — Пошли!
И, попыхивая на ходу сигаретами, они двинулись рядом вдогонку товарищам.
— Айгар! Атис!
Никакого ответа, не шевельнутся даже.
— Айгар, ну что ж это, в конце концов?
— Мм?..
— Да вставай, сколько же можно спать!
— Ага…
— Ай-гар!
Он же, как будто не ему было сказано, лениво перевернулся под одеялом и принялся не то храпеть, не то сопеть, что, Ритма знала, было признаком крайней досады.
— Ты слышишь или нет? — терпение ее подходило к концу.
— Чего-а?
Наконец он все же продрал глаза, хотя бы приоткрыл узкие щелки и сквозь светлые ресницы взирал на мать не очень осмысленным взглядом.
— Айгар, ну!
— А сколько?
— Что сколько?
— Времени.
— Де-сять! — раздельно произнесла она.
Но тот, вконец разобиженный, заныл и заскулил:
— Только… В воскресенье и то не дадут поспать. Инквизиция, честное слово!..
— Смотри не заплачь, — отрезала она, чувствуя, что уже испарилось дочиста, улетучилось ее почти неиссякаемое терпение. Если не растолкать, будет валяться, отлеживать бока, пожалуй, до вечера. Надо было сразу поднять, как она собиралась, в половине восьмого — пускай потрудится, уже не маленький, шестнадцатый год пошел, мог бы и подсобить кое в чем, приложить руки. Все только того и ждут, что обслужи их да обиходь, убери и подай — сильный пол, мужское сословие. У всех праздник, у всех, только не у нее, только не для нее.
Она бросила Айгара и вернулась на кухню, с шумом хлопнув дверью: пускай дрыхнет сколько влезет, она и слова не скажет, пусть спит напропалую не евши! И как раз в тот момент, когда она вошла на кухню, вскипел полный бак и пошел через край, и вода, пенясь и бурля, шипела на плите, и в воздухе стлался и слоился пар, ничего не видать стало — как в преисподней.
Воскресенье, снова подумала она, и вскоре, уже загружая стиральную машину, опять про себя повторила: воскресенье — будто не в силах отделаться от этого слова. Оно почему-то застряло и не шло у нее из ума, точно она старалась его запомнить или боялась забыть.
Потом она включила машину. И тогда уж в ее рокоте неслышно, как тень, появился наконец Айгар, еще совсем заспанный и не успевший очнуться после долгого сна, еще ленивый и вялый, невпопад застегнувшийся, — явился, быть может, не желая ссориться с матерью, а может, и потому, что в шуме не удалось заснуть, послушный голосу сердца, а может, и голосу желудка, недаром же он весь пошел в отца и мог, едва только продрав очи, ополовинить каравай хлеба. И, несмотря на то что могло быть всяко, и так и этак, злость и досада у Ритмы тут же выдохлась и развеялась. И хотя она снова, как бы по привычке, подумала о том же, третий раз повторив про себя слово «воскресенье», при виде Айгара, по правде говоря, ее уже разбирал смех.
— Посмотри, как ты застегнул пуговицы! — сказала она, перекрикивая машину.
Айгар перевел взгляд на себя, потом на мать, и снова на себя, и опять на Ритму, и на его лице тоже постепенно расцвела улыбка, и они оба засмеялись.
— Я растолкал и Атиса, — сообщил он, будто напрашиваясь на похвалу. — Сколько же можно припухать.
— Ну молодец, — одобрила она, хоть и не без насмешки. — Правда, благородно с твоей стороны, А теперь ты мог бы накинуть фрак и натаскать мне воды.
— Рад стараться! — отозвался он, в действительности безо всякой охоты, и снял с крючка старый Вилисов ватник. — Где отец?
— Ты же знаешь, — коротко отвечала она, вновь посерьезнев, как будто упоминание Вилиса было сейчас неуместно.
— А давно?
— Что давно? — рассеянно переспросила она.
— Давно уехал?
— Как всегда, — резковато бросила она, чувствуя, что ей в самом деле не хочется говорить о муже.
Да и вообще какой это разговор, когда надо драть горло: ворча и фыркая, точно готовый сию минуту взлететь на воздух, трясся раздрызганный корпус «Риги». Айгар влез в телогрейку, которая была ему велика, и стал обстоятельно закатывать рукава. Ритма чувствовала, что мыслями сын сейчас с Вилисом, только в отличие от нее думает о нем с удовольствием, наверно стараясь себе представить его на охоте.
Наконец машина утихла.
— Отец обещал меня взять загонщиком, — проговорил Айгар в глубокой, почти звенящей тишине, сразу наступившей в кухне.
Ритма не сказала ни слова, не спросила, когда обещал и когда собирался взять — сегодня или в другой раз, она только подумала, что сделает все от нее зависящее, чтобы Вилис не отравил, не заразил и Айгара этой болезнью и хворью. Но вслух ничего не сказала: к чему такие заявления, которые будут восприняты как угрозы, ведь то, что Айгар так и рвется с отцом в лес, на охоту, она знала слишком хорошо, лучше, чем ей бы того хотелось.
Ритма вздохнула.
Подрастая, мальчики мало-помалу от нее отдалялись. Началось это почти незаметно, а с годами ощущалось все острее и больнее. Хоть бы тот же Айгар. Разве он принадлежит ей? Помешанный на технике, в которой ничего не смыслит ни один из них — ни Вилис, ни тем более Ритма, он мог часами, точно в воду канул, пропадать в механических мастерских или у Ингуса и до тех пор ковыряться и копаться в моторе, пока не вымажется и не вывозится как трубочист, как чушка и заявится домой такой грязный — одни белки на лице видно да блестят зубы. И даже эта мелочь пузатая, от горшка два вершка, этот Атис уже норовит при первом удобном случае куда-нибудь смыться, чаще всего к Войцеховскому, и хлебом его не корми — будет торчать там у ветеринара и отираться вокруг этих животных, как будто живой твари сроду не видел. Дома переспать, поесть — это да, все трое тут как тут, а потом опять кто куда, с огнем не сыскать, мужчины, сильный пол, непоседы… Хоть бы одному когда-нибудь пришло в голову — а что думает и чувствует она, чего хочет и о чем мечтает! Как будто она машина, как эта старая «Рига» — с мотором и без души. Если бы она всякий раз так поднимала паруса, когда хочется куда-то завиться, дом в два счета бы развалился и все ходили бы, затянув пояса, и в протертых штанах, а в доме должен быть порядок, и это настолько само собой, что все должно блестеть и сверкать, что над этим и размышлять не стоит.
Айгар взял два ведра и, раскачивая их на дужках, будто нарочно, со скрежетом, пошел к двери.
— Шапку надень!
— Да не холодно.
— Опять заболит ухо.
В ответ он только скривился, пряча, поди знай, то ли усмешку, то ли недовольство, и, толкнув дверь локтем, а снаружи затворив ногой, вышел в сени и затем во двор, делая все как-то вызывающе, нарочито шумно, во всяком случае шумнее, чем требовало дело: с лязгом и скрежетом, с гулом и грохотом. А потом во дворе заскулил колодезный ворот и скрипел так визгливо и резко, что невольно поморщилась и Ритма. Не колодец, а горе! И что ему сделать, чтобы не скрипел, — смазать, что ли?
Однако ни голоса или шаги, ни адский шум стиральной машины или звериные стоны ворота, как и старания Айгара, ничто, решительно ничто на свете, никакие звуки были не в силах нарушить крепкий сон Атиса.
— Атис! — с порога окликнула она и, так как ответа не последовало, подошла к кровати.
Глаза он не открыл, у него только дрожали ресницы, а когда она подошла, на круглом лице малыша тенью мелькнула улыбка. Она смотрела, как дрожат у него ресницы, будто и в ней трогая какую-то струну, но мальчик спал сладко и беззаботно и до того был похож на нее, что это казалось чудом.
— Атис! — опять позвала она, еще тише и очень нежно, без голоса; это было не произнесенное слово, а лишь дуновение воздуха на губах, которое не мог уловить человеческий слух. Его можно было только почувствовать или понять, угадать каким-то шестым или седьмым чувством, но Атис внезапно открыл глаза — большие и ясные, которые смотрели на Ритму. И она, растроганная, подумала: как они близки друг другу и как это неважно, несущественно, что Атис тоже всякую минуту норовит улизнуть из дома. Она сама себе удивлялась, что еще совсем недавно чуть ли не ревновала его к Войцеховскому, боже ты мой, к Феликсу Войцеховскому, в то время как Атис еще принадлежал ей. Ее охватило желание обнять сына и целовать, и она, прижав его к груди, гладила и тормошила, как давеча кошку.
А он — то ли от удовольствия, то ли слабо защищаясь — тихонько хихикал, потом выскользнул из ее объятий и, захлебываясь смехом, спросил:
— Мам, ты варишь завтрак?
— Я? Нет, я стираю, — отвечала она, постепенно остывая, но все еще не в силах отвести глаз от нежного лица ребенка, разрумянившегося от сна и от смеха.
Он покосился на другую кровать, ища взглядом брата.
— А где Айгар?
— Айгар уже носит воду! — сказала она со значением.
Смешно просто: где там он носит! Исчез как прошлогодний снег — пошел и пропал вместе с ведрами. Или забрался в уборную, или же курит, озорник этакий, что, впрочем, одно и то же. А что будешь делать? Сколько разговоров было, сколько ругани, за ремень даже брались — все без толку. Хоть ему кол на голове теши. Только отвернешься — опять за свое, опять дымит. Хорошо хоть, что у нее есть Атис…
— Ты хочешь кушать, детка?
— А что у тебя есть? — лениво осведомился он.
— Сварю яйца.
— А пироги… пироги печь не будешь? — подумав, спросил Атис, и его круглые ясные глаза стали еще круглее и яснее.
Слава тебе господи, хоть этого пока больше интересуют пироги, чем куренье. А впрочем, кто знает — не баловался ли он уже втихую где-нибудь за углом? Нет, мал еще, зелен, куда там… Еще родителей не вызывают в школу на беседу, не отчитывают, еще он не является домой с вырванным рукавом и с синяком под глазом, еще не надо раскошеливаться — платить за выбитые окна и сломанный инвентарь, все это еще впереди…
— Ну, пирогов у тебя нету? — повторил он.
— Друг ты мой, когда же я могла испечь? Подумай сам. К тому же нет дрожжей.
— Что, для пирогов нужны… дрожжи?
— А как же!
— Для пирогов нужно сало! — заявил он и, сморщив нос, засмеялся.
Так, наконец-то, наконец идет и Айгар, волынщик, лодырь этакий, балбес и копуша, тарахтя идет и расплескивая воду, и, отворяя дверь, наверно, не соизволит хоть одно ведро поставить, чтобы не кое-как, не локтем и не ногой, а по-людски, рукой открыть и закрыть за собой дверь и не залить, не затоптать вымытый вчера пол.
— Мама! Ты слышишь? — позвал он из кухни. — Ты слушаешь?
— Ну, что тебе? — она вышла навстречу.
Так и есть, у порога, конечно, уже лужа.
— Слышь, мама! Мне пришла в голову колоссальная идея.
— Айгар, сколько раз я тебе говорила, не носи ты такие…
— Мам, послушай!
Его очень часто осеняли идеи, большей частью, правда, никуда не годные. И она, уже приглядываясь, где половая тряпка, спросила без восторга, больше из миролюбия:
— Ну-ну?
— Нам нужно знаешь что? — Он сделал глубокомысленную паузу и выдал, как выкинул козырного туза: — Нам нужен электронасос!
Одному пироги, другому насос… третьему птичьего молока…
— Что ты на это скажешь, муттер?
— Таких идей я за один день могу выдумать дюжину, — с грустью ответила Ритма. — Поверь мне.
— Какой тут может быть смех! — задетый за живое, вспылил он, хотя Ритма смеяться и не думала. — Ты говоришь так, будто я… будто я т-требую вертолет! — громко сказал он, все больше повышая голос, и одним махом, одним рывком вздернул и грохнул на лавку оба ведра сразу, так что вода угрожающе колыхнулась и плеснула через край.
— Наивный ты человек, ни денег у нас лишних, ни мастера — установить насос и наладить, — примирительно сказала она, терпеливо подтирая пол. — Только лишние расходы и хлопоты, все равно в сарае ржаветь будет.
— Какие там особые расходы? Всего сорок рублей. Ну, муттерхен… Сорок… или сорок с хвостиком. И не будет он в сарае ржаветь, вот увидишь. Мы с Ингусом в два счета…
— Вы с Ингусом… — сказала она и невесело засмеялась.
Ее смешок резал Айгару слух, и кадык на его длинной и тонкой шее ходил вверх и вниз нервно и нетерпеливо.
— Ма-ам… — опять взмолился он.
— Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
— Н-никогда нич-чего мы не можем! — вдруг выкрикнул он снова чуть не со слезами. — П-поч-чему мы такие бедные? П-почему?
Ритма не отвечала, только, выпрямившись, смотрела на сына с тихой грустью.
— М-мы что, хуже других? Почему у нас не так, как у д-других… х-хотя бы как в Лиготне?
И после короткого молчания:
— В каком смысле? — наконец глухо спросила она, хотя и прекрасно понимала в каком.
— Т-там чего только нет, не то что какой-то вшивый насос, у Велдзе даже…
— …экспортная «Волга», — договорила за него она и не без иронии про себя добавила: «и молодой муж», но вслух этого не сказала, и не столько из симпатии к Велдзе, сколько к Ингусу.
— Да, «Волга», — строптиво повторил Айгар. — Разве плохо, если б…
— …и у нас была тоже, ты хочешь сказать? Наверное. Не пришлось бы толкаться в автобусах и мерзнуть на остановках. Да вот беда…
— Ну?
— Заработать на машину я не могу.
Он усмехнулся горько, только что не презрительно.
— А много ли зарабатывает Велдзе? — возразил он.
— Тебе хорошо известно, откуда у них что, — бесцветным голосом сказала Ритма, не желая вдаваться в детали. — А нам наследства ждать неоткуда. На зарплату машины не купишь. Как ни крути. Ни на отцову, ни на мою. Так что ездить придется на автобусе. И воду таскать ведрами.
Он что-то буркнул, но больше не кричал, и теперь, когда вспышка прошла, как будто даже немного стыдился того, что вообще орал и притом чуть не плакал; может быть, ему втайне хотелось загладить впечатление от размолвки, но он не знал как и только вздохнул.
— Что ты вздыхаешь, — сказала Ритма, хотя и сейчас прекрасно понимала что.
— Так просто… — коротко отозвался он и не прибавил ни слова, он точно потух.
И так же как только что Атиса, ей захотелось обнять и старшего, но она не решилась. Лучше не надо: надуется как сыч, встопорщит перья… Айгар не Атис. Айгар большой. Сколько лет она с нетерпением ждала, когда наконец он вырастет, торопила, подгоняла время, летела навстречу будущему, и вот теперь, когда ее мечта сбылась, ей вдруг стало жаль — жаль Айгара, а может, и себя или минувших лет и дней, как будто вместе с детством сына неуловимо, безвозвратно кануло в прошлое и что-то прекрасное в ее жизни. И ее захлестнуло желание приласкать, словно возвращая тем самым былое, и обрадовать сына, хотя бы встряхнуть, хотя бы ободрить. Только она не могла сообразить, что сделать, что сказать и какие дать выполнимые и невыполнимые обещания…
И тут нежданно-негаданно она вспомнила о премии. Господи, да у нее же есть целых тридцать рублей — как с неба упали, о них не знал даже Вилис: эти деньги она спрятала и берегла на платье. На три десятки не купишь не то что «Волгу», даже велосипеда, но если чуть-чуть поужаться, добавить к тем трем еще десятку-другую, у них будет, по крайней мере, насос. А Ингус все сделает лучше не надо. Уж он никогда не откажет, о боже, и понятное дело — Ингус не взял бы с нее ни копейки, никогда, отродясь не спросил бы с нее плату, разве она его не знает! Мало того, Ингус сам привез бы мотор из Раудавы, а нет в Раудаве, доставил бы на Велдзином авто хоть из Риги… И, вспомнив, каково таскать ведра и как они обрывают руки — мука-мученическая, ей-ей, каторжная работа, особенно зимой, — она очень живо и ярко представила себе, как это выглядит, когда вода течет в кухню, и, мысленно вызвав эту идиллическую картину, как будто она уже стала явью и вода в самом деле капала, и текла, и с шумом хлестала из крана, Ритма вдохновлялась и загоралась все больше, она воспаряла и окрылялась, как Айгар и даже еще сильнее. И Айгар, который все это видел и понимал, чувствовал и угадывал, ведь он был не слепой и не дурак, тоже приободрился и расцвел, воспрял духом и под конец заулыбался, сияя как полная луна. И они счастливо смотрели друг на друга, И счастье стоило так дешево, до смешного дешево стоило их счастье — всего сорок рублей, и притом на двоих.
Но Вилис об этом, конечно, знать не знал и меньше всего сейчас думал о доме, о сыновьях и о Ритме. Все его мысли вращались и вертелись вокруг лося. Он шел по лесу, натыкаясь местами на след зверя, и след глубоко вдавливался в снег, что говорило о тяжести животного, и кое-где с нижних веток был стряхнут нападавший за ночь снег; зверь проходил тут наверняка сегодня, а может быть, и совсем недавно — полчаса назад, а то и минут двадцать, так как следы еще хранили запах лося, который определенно чуял Мориц, но, к сожалению, не чувствовал Вилис. Он только видел, какие следы огромные и какие глубокие ямки оставили копыта, и сообразил, что здесь бродил-шатался настоящий великан, самец во цвете сил, а не самка, стреляный воробей, ученый.
За спиной у Вилиса вальком колотился незаряженный старый «зауэр». Как обычно при ходьбе, ему вскоре стало жарко и шапка, подлая, опять съехала на лоб чуть не до бровей. Он не старался идти тихо, наоборот, не обходя валежника, шагал напрямик, и под ногами у него хрустело и трещало. Он то и дело стучал по стволам толстым суком, нередко обсыпая и себя, так как снег от сотрясения облетал и сеялся белой мукой, падал горстями, а то и плюхал вниз целыми лепешками, все больше убеляя охотника. Но Вилис не останавливался, чтобы отряхнуться, хоть немного почиститься, а только морщился, когда холодная сырость забиралась за ворот, за шарф и по теплому телу ползла вниз.
По хрусту веток и по стуку палок Вилис слышал справа и слева от себя других загонщиков и старался от них не отрываться. А что еще от него сейчас требуется — продвигаться вперед, в направлении к цепи стрелков, производя умеренный шум, не отстать от товарищей и не заблудиться, так что большого ума здесь не надо — было бы немного сметки и опыта, способность ориентироваться и безотказные ноги, а на них Вилису грешно жаловаться.
Тем временем настал короткий зимний день. Над белыми прогалинами и полянами низкое солнце лило хрустально-чистый свет, и он пронизывал лес мерцанием, игрою вспышек и тени, причудливым узором на снегу. Весной тут сотрясали воздух целые хоры птиц попеременно с лягушками на болотце, теперь же одни клесты на елях баритоном бубнили монотонное «гипп, гипп, гипп» и певуче заливался снегирь. Эти звуки были где-то высоко и далеко, слишком бледные и маловажные, чтобы достичь ушей Вилиса, да клесты и снегирь вовсе не хотели и не старались ничего достичь, они просто выражали во всеуслышание свое птичье настроение, что было естественно, как радость или жажда.
Вилис слышал только звук ломающихся под ногами веток — вблизи и подальше и еще звонкий лай Морица, раздававшийся где-то впереди, то приближаясь, то снова отдаляясь. И когда лай откатился по лесу в том направлении, где стояли на номерах стрелки, Вилис напрягся весь в ожидании, и дыхание его участилось, сбилось с ритма, и ноги путались и заплетались, и все пять чувств слились у него в одно, в предельно обостренный слух.
Но ничего не произошло.
Ни грохота не раздалось, ни треска, выстрел не расколол лесной тишины, в которой клест-еловик, как бы вне времени и пространства, без устали выкрикивал свое «гипп, гипп, гипп», взирая сверху на все и вся.
И напряжение у Вилиса опять спало, ослабло, выдохлось. Он спохватился, что отстал от других, и прибавил шагу, опять прислушиваясь к хрусту сучьев и лаю Морица, то далекому, то близкому.
Лай смолк.
В чем дело? След потерял, что ли, голова садовая?
Он снова убавил шагу: ну где же собака?
И вдруг сиплое пыхтенье собаки раздалось почти рядом. Вилис круто повернулся, однако первым он увидел не пса, не Морица, а нечто совсем другое: на него вихрем катилось что-то светлое, ослепительно белое, так что почти сливалось с мерцающим снегом. Длинными прыжками оно мчалось стремглав, очертя голову, ничего не видя перед собой, а перед ним соляным столбом стоял Вилис.
Это был заяц-беляк, и Мориц гнал его прямо на Вилиса, и ни елка, ни кустик, решительно ничто не заслоняло ему косого. Заяц был как на ладони!
«Свят-свят, где я это видел?» — мысленно воскликнул он, даже подскочив от волнения и чуть ли не испуга, и сгоряча ему показалось, что все это он уже видел во сне, ведь не могло же наяву через двенадцать лет все повториться с такой точностью. А заяц, преследуемый собакой, мчал прямо на него как экспресс. Казалось — еще секунда, и он стрелой проскочит у Вилиса между ног. Рука сама собой судорожно ловила, хватала ружье — глупая рука, ведь в стволе не было дробового заряда, в стволе не было ничего. Он зачем-то хотел вскрикнуть, но с губ слетел лишь короткий задушенный звук. И заяц, в самый последний момент взяв чуть в сторону, будто нырнул в белое сверкание снега и растворился в нем как призрак. Мимо пронесся Мориц, вывалив красный язык в горячем облаке пара, и тоже скрылся, и все это произошло мгновенно — он даже не успел отозвать собаку.
Так, все.
От волнения у него тряслись руки. Под ребрами что-то двухголосо тукало и гудело, стучало и гремело, как бы перекликаясь, — казалось, что у него в груди два сердца, которые бешено бились в неодинаковом ритме, одно чуть опережая другое. Тишина в лесу стояла глубокая, мертвая — как на дне колодца. И лишь постепенно из нее, как очертания предметов на рассвете, стали вновь выплывать звуки, и Вилис, будто у него открылись уши, услыхал и чистую, музыкальную трель снегиря.
Действительно ли что-то произошло… или ему просто пригрезилось? Заячий след… след собаки. Наяву это… или только мираж?.. Он все не мог прийти в себя. Совсем как тогда, точь-в-точь как двенадцать лет тому назад, о боже! Только сегодня он не выстрелил. Его не покидало странное ощущение, будто мимо, очень близко, пробежало счастье. Третий раз это уж не повторится, по три раза все бывает только в сказках. Третьего случая не будет…
А дальше? Дальше что?
Так и остаться на веки веков потухшей звездой, от которой кое-когда по привычке струится и льется былой свет? Смириться с тем, что высшая точка, пик жизни уже позади, в прошлом, и только маячит где-то в сгустке воспоминаний?
Логика зрелого человека подсказывала ему, что разумней смириться, что жестокое время, увы, работает не на него и что с годами не в арифметической, а уже в геометрической прогрессии убывают, падают его шансы свершить, осуществить то, к чему он стремился всей душой. Но что-то в нем было сильнее рассудка — чем больше таяли его надежды, тем жарче разгорались его желания. Еще он не достиг того порога, за которым убыль сил и умеренность желаний, согласуясь, уравновешивают друг друга, смягчая трагизм старости. Еще он не прошел сквозь шлюзы лет в эти безбурные смиренные воды. Еще его терзал разлад между юношескими порывами и стареющим телом. Еще он мучился и страдал от несоответствия силы чувств тем необратимым процессам, которые он в себе ощущал и которые медленно, но верно съедали его как гниль, притупляя восприятие и эмоции, ослабляя память и мужскую силу. Еще он не дошел до того, чтобы винить в этом других, среду, окружение, общество, весь свет, который теперь не такой, как был, как прежде, во времена его молодости. Вину он искал еще в себе, но от этого ему было не легче, наоборот, — вполне сознавая свое положение и в то же время не в силах что-либо изменить или поправить, сломать или устранить, он мог только скрывать это от всех, даже от Ритмы, хотя скрыть от нее было всего труднее. Что она во всем этом понимала и могла понять?
Вилис встряхнулся, как конь, отгоняющий мух, и сказал себе:
— Давай помаленьку трогай, старик!
Привычным движением он сдвинул повыше ружейный ремень на плече, поправил на голове шапку и уже потянулся к очкам — снять их и протереть: стекла затуманились, запотели от пара или запорошились снежком. Но так и не донес руку.
Выстрел! Еще выстрел!
Дуплет, что ли?
…три… четыре… пять…
Вилис машинально считал. Пять! Похоже на автомат. Он живо в уме перебрал, у скольких из них, у кого не двустволка, а автомат. У троих.
Он навострил уши, не подадут ли сигнал — тогда, значит, зверя свалили. От такой шалой канонады, правда, редко бывает толк, но случается всяко.
Гипп… гипп… гиппп… — отрывисто доносилось откуда-то сверху, где никому не было дела до кипевших внизу страстей. Клестов не спугнула, не смутила даже стрельба. Глупые птицы. Или в этом была своя, недоступная ходящим по земле мудрость?
Как Вилис ни вслушивался, сигнала не дождался. Стало быть, лось не убит. Ранен? Или опять как ни в чем не бывало выбрался из оклада?
— Перкон! — кричали его.
— Ну?
— Где ты там? Выходи…
— Вылазь, козел, из капусты, — вторил ему другой голос.
Как видно, остальные загонщики уже вышли на стрелков, один он тянется.
— Э-гей, Пе-еркон!
Но вот и он, перепрыгнув через канаву, шагнул из леса на дорогу.
— Взяли?
— Держи карман шире!
— Кто ж это поднял такой тарарам?
— Краузе вон упражнялся в стрельбе по летающим тарелкам. Мазила классный!
— Вот черт, я уж думал — тут уложили целую стаю.
А Краузе с несчастной миной оправдывался:
— Да это дьявол, а не сохатый, честное слово! Я шарахнул точно — по крайней мере, два первых… А он чудно так подпрыгнул и в один миг…
— …растаял в воздухе, как святой дух! Даже дерьма, гад такой, тебе на память не оставил!
На снегу ясно просматривалось, куда лось шел и как прыгнул, так что отпечатки копыт подтверждали слова охотника, но это и все. Краузе прошел по следу еще немного и через несколько минут вернулся: крови не было.
И люди, помаленьку приходя в себя и остывая, рассуждали о том, что лучше уж так — лучше чистый промах, чем подранок, по крайней мере бумаги в порядке и душа на месте. И те, у кого были в куртках, в нагрудных карманах фляги, свинтили колпачки или вынули пробки и нацедили и себе, и товарищам — успокоить сердце и нервы.
— А где же собака? — вспомнил один, так как Морица все еще не было. — Мориц! Мо-ориц!!
— Да что Мориц, переметнулся на зайцев, — сообщил Вилис, вспомнив нежданную встречу, когда косой мчался прямо на него, а он стоял столбом, замерев в страхе не страхе, как бывает в бреду, когда не поймешь, чему верить и чему нет, хочешь бежать, а шагу сделать не можешь. Но об этом казусе он не обмолвился и словом. Ему не то что рассказывать, а даже вспоминать об этом не хотелось и подавно уж — слышать, как другие смеются. Он не мог бы сказать почему, но не хотелось.
— Мориц…
Явился! Весь в мыле, язык до земли, ах ты язва сибирская, шалопай, бродяга! Раз нету доброй собаки — не надо, а с этой шельмой что остается делать — стереть в порошок, и все тут, ведь даже хорошая порка такому балбесу много чести, ей-богу.
А шельма и язва сибирская, малость, правда, сконфуженный, однако не сознавая размеров грозящей опасности, вилял хвостом и ко всем ластился, предусмотрительно обходя Краузе, который злился и негодовал на собаку больше других, хотя Морица, вообще говоря, нельзя было винить в том, что Краузе промахнулся. Тем не менее пес, слабо понимая странную логику человека, больше полагался на чутье, и оно его не подвело.
— Все перемелется, — мирно сказал Вилис и налил сперва Краузе, а потом себе. Глоток водки проскочил, обжигая грудь как раскаленный свинец.
Эх-ма!
Сразу прибавилось бодрости и захотелось есть. Оно и правда, все перемелется — мука будет. Еще по единой? Можно. Мы стрелять не разучились, мы еще свое возьмем… Так Вилис и сказал Краузе, наливая по второму шкалику на брата и нимало не подозревая, как близок в действительности этот час. А знал бы — не стоял бы, наверное, так спокойно, не наливал бы так бестрепетно, твердой рукой, которая ничуть не дрожала, не стал бы гладить скользкую шерсть Морица…
А что бы он делал?
Что делал бы Вилис, знай он заранее, что произойдет еще прежде, чем над этим ослепительно ярким зимним днем сомкнется ночь? Старался бы помешать, что-то изменить или, напротив, отдался бы на волю волн — будь что будет? А пока он поднес наперсток к губам, и второй глоток тоже проскочил, как: и первый, — обжигающе горячий, как расплавленный металл.
…«Как-то Вилис?» — подумалось в эту минуту Ритме, хотя она вовсе не собиралась и не желала в этот момент вспоминать о муже, не то навалятся всякие не очень отрадные мысли, а что толку забивать себе голову, да еще в воскресенье. Так можно все перебрать, все передумать и мозги вывихнуть, и все равно ничего не придумаешь, и под конец так и так придется признать, что какая-то властная сила вытеснила ее из Вилисова сердца. И хотя приятного тут мало, лестного тоже, все было бы, по крайней мере, понятно, будь это женщина: с женщиной можно тягаться, над ней можно взять верх, женщину можно победить. Но это была не женщина. А как победить, одолеть то, что даже именем назвать трудно? Как тягаться с тем, что вовсе не живое существо?
Ее не обманули, не бросили, ее просто оттеснили, отодвинули с первого, главного, на второе место; ей следовало, наверно, смириться, и все было бы в полном порядке. Кто же, однако, виноват — она? Вилис? То, что в нем что-то противится и бунтует, бурлит и бродит, не находя выхода? С годами Вилис отдалялся от нее все больше, и она уже не знала, как его вернуть, а в последнее время стала сомневаться, хочет ли она вообще его вернуть.
Понимает ли это он хотя бы отчасти? Хотел ли он втайне что-то поправить, или же все, что казалось ему когда-то столь важным, было теперь безразлично? Желал ли он хоть в какой-то мере понять и Ритму, упорно идя своею дорогой и отдаляясь от жены все больше?
Многое изменилось с течением лет, и еще как изменилось!
Ведь когда-то она Вилисом восхищалась — этим тогда уже не молодым и отнюдь не бравым мужчиной. Он был такой умный, что рядом с ним она чувствовала себя круглой дурой, мошкой и козявкой чувствовала она себя перед ним. Рядом с жизненным опытом Вилиса ее молодость казалась скорее недостатком, чем плюсом. Ее взбалмошный, неровный характер, как хмель, искал подпорки, вокруг которой можно обвиться, за которую уцепиться, а Вилис — он казался ей утесом, был именно тем, к чему она тянулась и стремилась, — мудрый и добрый человек, какой был ей нужен, он мог в одном лице совмещать и мужа и отца, которого ей недоставало и которого она припоминала так смутно, что он даже как бы обретал Вилисовы черты. Ученость Вилиса всегда повергала ее в прах, заставляя сознавать свое ничтожество, зато внимание Вилиса ее возвышало. И тогда как люди удивлялись, не понимая, что она нашла в этом близоруком хвоще, в этом очкарике, да к тому еще женатом, когда хватало молодых и видных парней, — она просто постичь не могла, как это Вилис с его умом, который мог заткнуть за пояс дюжину сопляков, выбрал такую овцу и гусыню, как она, ее, именно ее, единственную среди всех, выбрал навсегда, на веки веков, неодетую-необутую, необразованную девчонку, какую-то младшую продавщицу, которой в магазине и накладную-то подписать не доверяли, которая могла смеяться и дурить сколько угодно, но уж никак, казалось, не могла задурить голову такому разумному, положительному человеку, к тому же с орденами и геройской биографией…
Когда, в какой момент она осталась как бы за створами запертых ворот, даже не желая больше в них войти!..
Домой вернется опять только вечером, на ночь глядя, усталый до смерти и радостный, больше или меньше навеселе, с тощим или полным рюкзаком, такой улыбчивый, довольный прошедшим днем, такой восторженный и… такой чужой, что сердце у нее сразу оденется точно ледком и не повернется язык напомнить о себе и сказать хоть слово, которое так и так ничего не изменит. А поевши, ляжет спать и захрапит… Все-все можно предсказать наперед, до самых мелочей, все так до тошноты знакомо и повторялось без конца столько раз, что…
Не надо, не надо думать, не надо портить себе настроение, себя растравлять. Все равно ничего не изменишь — так будет всю жизнь.
Ритма обтерла фартуком мокрую руку и опять включила «Селгу». Музыки не было. Но едва она поймала другую станцию, в кухне Перконов, полной пара, полился, как бы успокаивая, тихий и безмятежный, бархатный баритон:
Она перевела взгляд на маленький темный корпус приемничка, и сердце ей стиснуло смутным леденящим ужасом.
Не надо! Она невольно сделала рукой отстраняющий жест, будто ставя преграду кому-то или чему-то, что неотвратимо надвигалось.
Это выдумки все, только мои выдумки. Я устала. Вымоталась я, сказала она мысленно, точно жалея себя и оправдываясь перед собой и остро сознавая, что ей не с кем поделиться. Одно и то же, одно и то же, воскресенье — будни, будни — воскресенье. Как мне хочется куда-нибудь вырваться и ни о чем не думать. Бросить все — хоть на один денек! Делать не то, что надо, а что хочется. Одеться бы шикарно и потанцевать с красивым мужчиной, думала она. Что же в этом плохого — потанцевать только, и больше ничего. Или выбежать к вечернему автобусу кого-то встретить — в сумерках, по росе и босой. Это же не преступление, правда? И еще мне хотелось бы, чтобы сердце дрогнуло, когда в дверь постучат, — от одного того, что постучат, еще не отворив, не ступив за порог, перед тем как войти. Чтобы от звука близких шагов сладко замерло в груди. Что же тут плохого, правда?..
В дверь постучали — и она действительно вздрогнула: вот оно! Так она думала, не то с радостью, не то с испугом, еще не постигая, не представляя себе, что там за дверью — то ли самое, неопределенное, чего она жаждала, или нечто еще более туманное, что вселило в нее смутный страх, предчувствие беды?
Но это не было ни то, ни другое — вошла Велдзе, как всегда элегантная, только по пути слегка замерзшая, так как шубки из искусственного меха модные и красивые, но не ахти какие теплые.
— Боже мой, Ритма, да у тебя как в бане! — воскликнула она с порога и остановилась на грани между холодом и теплом, где воздух дымился белыми клубами, словно не решаясь нырнуть в это жаркое облако пара, — пришелица из другого мира, улыбчивая и довольная, нарядно одетая и причесанная, просто королева против Ритмы, так что Ритма каждой порой своего женственного тела, каждой клеточкой мозга тут же остро ощутила свои стоптанные тапки и старую фланелевую блузку, свой мокрый фартук и юбку с сорванной молнией не просто как одежду, а как уродливые части своего тела, вдруг представшие перед чужим и насмешливым взглядом.
— В воскресенье белье стирать! — удивилась Велдзе.
— А когда же стираешь ты? — коротко ответила Ритма, так как не имела никакой охоты обсуждать эту тему, чтобы не выдать себя, не подосадовать, — этого она боялась пуще всего, хотя Велдзе, стоя посреди неубранной, полной мокрого белья кухни в нейлоновой шубке и итальянских сапожках, может, и не возражала бы немного послушать, как плачется Ритма.
— Мелочь стирает мама, — объяснила Велдзе. — А большое белье отвожу в прачечную в Раудаву. Ничуть не хуже, чем дома. Даже крахмалят.
Может быть, может, и не хуже. Да поди-ка потаскайся туда-сюда с такой ношей. В Раудаву с одним узлом, обратно с другим. И не каждый раз готово в срок. Одна поездка — почти рубль. И не всегда удается сесть в автобусе — стой тогда, держа узлы, пока руки не отвалятся… Однако вслух она этого не сказала. Велдзе — другое дело.
Велдзе и мыслит иначе, мыслит как человек, сидящий в машине, а не идущий пешком. И в ее присутствии было как-то даже неловко упоминать про рубль — стоимость дороги в Раудаву и обратно.
«Другие обороты», — невольно подумалось Ритме колкими словами Вилиса, хотя вспоминать сейчас Вилиса ей вовсе не хотелось, и в памяти всплыло, каким притягательным и манящим казался этот чужой мир Айгару.
— Настроение плохое? — спросила Велдзе, почувствовав Ритмино состояние, хотя, наверно, и не угадывая причины. — Ничего, сейчас ты улыбнешься, дорогая!
— Ну, ну? — довольно холодно сказала Ритма. — Да ты проходи в комнату.
— Вилис дома?
— С каких это пор ты стала бояться Вилиса?
— А я его всегда побаивалась! — живо отозвалась Велдзе и засмеялась. — Я до сих пор удивляюсь, как ты с ним справляешься.
И Ритма опять без видимой причины с грустью подумала, что с Вилисом она как раз и не справляется, что она махнула на все рукой и сдалась, но это уж тем более совсем не то, что можно сказать такой счастливой и сияющей Велдзе. И она только бледно улыбнулась.
— Твой Вилис прямо рентген. Такое чувство, будто он видит тебя насквозь!
— Ты скажешь, — отозвалась Ритма с той же бесцветной улыбкой; ведь если кто и видел насквозь, то уж только не Вилис. — Может быть, снимешь шубу?
— Не сниму, дорогая. Надо бежать. У меня Эльфа дома одна.
— А где ж остальные?
— Ингус там, где и твой, махнул на охоту. А маму, воскресенье ведь, я отпустила немного поболтать… Здесь действительно так прохладно или кажется только после такой парильни?
— Я еще не топила сегодня, — сказала Ритма, словно извиняясь, и опять почувствовала неловкость оттого, что в доме было нетоплено и вдобавок еще не убрано. Во время сборов Вилис, как всегда, побросал свои вещи как попало, а она связалась с завтраком и с бельем и прибрать не успела. Старые шлепанцы — чуть не на середине комнаты, со спинки стула свисает джемпер с заплатой на локте, стол завален какими-то мятыми картонными коробками, с подошв резиновых сапог насыпалось сухой земли — все было на виду, беззастенчиво обнаженное и жалкое в своей наготе. Мальчишки-то могли хоть немного убрать. Да, дожидайся!
— Я тебе, дорогая, что-то принесла, — сказала Велдзе и взялась за сверток. — Ты обмолвилась как-то… Дай ножницы или бритву — разрежу, а то узлом затянулось…
Но пока Ритма искала чем разрезать, Велдзе уже развязала шпагат крепкими зубами и развернула бумагу, в которой мелькнуло что-то красное, такое сочное и яркое, что Ритме на секунду показалось — кровяной кусок мяса! Но из пакета выскользнул, вишневым сиропом растекаясь по столу, чуть мерцающий красивый материал.
— Ну?
Ткань была превосходная. И хотя Ритма на кухне уже вытерла мокрые руки, она еще раз потерла их прямо так, о юбку, прежде чем решилась прикоснуться.
— Смело пробуй, не бойся! Она немнущаяся, — похвалила свой товар Велдзе. — Это не наш «люкс», в нем и до Раудавы не успеешь доехать, как на заду в такую гармошку соберется, будто платье год, если не два, утюга не видело.
— Сколько же она стоит? — робко осведомилась Ритма, так как ткань выглядела дорогой.
— Всего двадцать пять рублей метр, — бодро отозвалась Велдзе. — Не ткань, а мечта, правда? Как увидала — все, я погибла. Схватила, даже не подумав. А приехала домой, встала перед зеркалом — боже правый, это же не мой цвет! Слишком яркий, резкий. Я в нем зеленая, как утопленница. И тут я сразу вспомнила о тебе. К темным волосам — что может быть лучше?
— А сколько здесь? — после некоторой паузы спросила Ритма, машинально и нежно, точно лаская, проводя кончиками пальцев по ткани.
— Метр семьдесят. Зато очень широкая. И платье выйдет, ручаюсь.
Как и положено профессиональной продавщице, Ритма быстро и точно сосчитала: метр семьдесят по двадцать пять рублей — сорок два пятьдесят. Подсчитать не составляло труда, и она не ошиблась ни на копейку. Только отвела руку и больше ткань не гладила, а смотрела издали, как бы уже прощально, примиряясь с тем, что в который раз надо отказаться от того, чего она жаждет, и так сильно, что просто замирает сердце, но чего она не может себе позволить.
— Не нравится? — удивилась Велдзе, даже слегка задетая. — Как знаешь. В комиссионке у меня с руками оторвут.
Теперь уж провела рукой по ткани Велдзе, любуясь ее ярким блеском, потом опять сложила и стала заворачивать в бумагу, но тут к ней снова потянулась рука Ритмы.
— Обожди!
Она бережно разобрала кусок, приложила к себе, подошла к зеркалу, и в единый миг все — грусть, безнадежность, сомнения, все-все спало с нее, осыпалось, облупилось, как сухая кожура, и сердце наполнилось восторгом до краев, так что не осталось места ни для каких других чувств. Ритма неотрывно смотрела на свое отражение, которое напоминало ей что-то стершееся из памяти и забытое, но чем-то отрадное и возвышающее. И увидав рядом в зеркале лицо Велдзе, ее узкий и желтоватый лик рядом со своим цветущим овалом, она вдруг рассмеялась — просто, естественно и гордо. И она знала, что купит эту ткань, купит назло, во что бы то ни стало, и в мире нет силы, которая могла бы отнять у нее этот легко скользящий и нежный, как ласка, материал.
И Ритма сказала, как выдохнула:
— Я покупаю!
Она сказала это с сознанием, что все мосты сожжены, и это было особенное чувство, когда все мосты сожжены, и под ложечкой была сосущая пустота, словно она летела вниз на качелях, и кружилась голова.
— Но учти, что там всего метр семьдесят, а ты… ну, ты не худенькая, — сказала теперь Велдзе, и Ритма опять рассмеялась: это звучало так забавно, боже, как будто Велдзе раздумала и не хочет продать ткань, как будто ей стало жаль продавать. И когда Ритма смеялась, сияющая красота лучилась из нее как свет, в котором лицо Велдзе становилось все прозрачнее и бледней, как редеет и тускнеет месяц, когда над горизонтом всходит румяное солнце. Это было как чудо. И с ним не могли спорить ни нейлоновая шуба, ни импортные сапоги, ни дорогие духи, с ним не могло спорить ничто из того, что можно износить или подарить, бережно хранить в шкафу или бездумно выбросить, — с ним не могло спорить ничто, и это безошибочным женским чутьем поняли они обе разом, взглянув друг на друга в зеркале: одна с тайной завистью, другая с тайным торжеством.
— Но если деньги придется ждать долго… — начала было Велдзе.
— Нет, — сказала Ритма, — тебе не придется долго ждать. Три, ну, может быть, пять минут придется тебе обождать, а это не так долго.
Так она сказала и в третий раз засмеялась. Нашла деньги в шкафу, в выдвижном ящике, куда сунула между старых бумаг три десятки, спрятав таким образом премию от Вилиса, который на нее вовсе не покушался. Остальное же наскребла по сумкам, кошелькам и карманам, и это было безумие, то, что она делала, ведь зарплата будет только послезавтра. Ну и пусть! Пусть! Довольно она была разумной, она годами была разумной, она устала быть разумной, потому что устать можно ото всего — от сумасбродств можно устать и от обыденности. И она отсчитала Велдзе деньги на столе, как отсчитывала на прилавке покупателям, приговаривая вслух. Раз, два, три, четыре — сорок. Один рубль, два рубля. Двадцать копеек, пятнадцать…
— Не будем мелочны, — сказала Велдзе. Сложила пополам купюры и отвернулась от серебра.
Но Ритма решительно пододвинула к ней мелочь.
— Так не годится, возьми. В этих делах все должно быть чисто. А то на моей работе, знаешь…
Ритма сложила крест-накрест четыре пальца и вновь засмеялась, а Велдзе, пожав плечами, нехотя сгребла монеты в кучку.
— Да, Велдзе…
— Что?
— Ты не можешь дать мне адрес своей портнихи? Ну, Цилды, которая живет в Раудаве у спортивной площадки…
— Цилды? Цилда, милочка моя, очень дорогая.
— Материал тоже дорогой.
— Как знаешь. — И назвала номер дома и квартиры, добавив, однако: — Но у нее долго ждать.
— А я собираюсь долго жить! — воскликнула Ритма, и действительно вся она как бы в подтверждение этих слов дышала жизнерадостностью и здоровьем.
— Как знаешь, — повторила Велдзе, думая о своем.
Ритма проводила ее до двери, но дальше не пошла, ее снедало нетерпение, и пульс был как после крепкого-крепкого кофе.
— Айгар! Атис!
Молчание.
— Ай-гар!
Молчание.
Она вышла во двор. В сараюшке скрипели и лязгали железяки.
— Айгар!
— Ну?
— Это ты там?
—. Ну?
В конце концов звон все же прекратился, и Айгар показался в двери сарая.
— Идите сюда с Атисом — поможете мне развесить белье, потому что я…
— Атис удрал.
— Куда это?
Айгар пожал плечами.
— А что он, докладывает? Наверно, рванул к Войцеховскому.
— Без спроса?!
— А я-то при чем, мам? Думаешь, мне больно охота торчать дома? А влетает, как всегда, неви…
— Ну да, нашелся невиновный, который за других страдает! Постыдился бы говорить! Сбегай поищи и приведи его домой. Поедим, и после обеда я съезжу в Раудаву.
— Ни с того ни с сего?
— Почему ни с того ни с сего? Мне нужно. Только смотри не застрянь, пожалуйста, сам.
— С Велдзе?
— Что с Велдзе?
— С Велдзе поедешь?
— Ну слушай, какое тебе дело? — вспылила Ритма: она сердилась оттого, что нельзя было сказать ни про материю, ни про портниху, чтобы не открылось, что она истратила деньги и насос отпадает, истратила все что было и даже больше. Но зачем это знать Айгару? Что мог он — этот подросток, помешанный на моторах и железяках, — понять в волшебных чарах, исходивших от яркой, тихо шуршащей ткани, которая заключала твое тело и душу как бы в сияющий ореол? — Что значат в сравнении с этим полные и тяжелые ведра? И вообще, разве одним насосом отделаешься? Там нужны еще и трубы, и раковины, и краны — расходам и покупкам конца-краю не видать. Они тогда оба загорелись. И она тоже — как ребенок…
Но поди-ка втолкуй Айгару — у него свои понятия, в глазах сына она просто предала, променяла несравненный насос на какую-то красную тряпку.
Мальчик ни о чем не спрашивал и ничего больше не сказал и прямо так, без пальто, как работал в сарае, тягучим, ленивым шагом поплелся обочиной дороги по направлению к дому Войцеховского, сунув руки в карманы, вздернув плечи, — ни дать ни взять Вилис. И чем больше Айгар удалялся, тем больше ей казалось, что это действительно Вилис, хотя этого никак не могло быть. И Ритма глядела ему вслед с невольной жалостью — то ли ей было жаль сына, которого она обидела, то ли жаль Вилиса, которому она ничего не сделала. Отчего же Вилиса?
Она заставила себя отвернуться, вынесла прищепки, нанизанные на шпагат, таз с выжатым бельем и стала развешивать. День был такой же искристо-ясный, как утро, но поднимался ветер, и простыни, которые она вешала, при дуновениях трепались вокруг нее, а при порывах над нею взлетали. Она ходила вдоль них и между ними с тазом и прищепками, постепенно забывая про Айгара и про Вилиса, успокаиваясь и даже воодушевляясь, ведь это было так красиво, когда над нею белыми крыльями парили чистые простыни, свеже пахнущие не то снегом, не то аиром, и ей снова пришло в голову — как мало, как удивительно мало нужно человеку для счастья.
И в час заката он его увидел — в красном зареве садящегося солнца, между розовыми снегами и сизыми стволами, в хаосе кричаще-ярких, теплых и холодных красок, в котором еще тлел зимний день, горел безумными огнями, пылая с торжеством и отчаянием, перед тем как погаснуть. С самого утра Вилис чувствовал его близость, он ощущал даже его взгляд, ждал этой встречи с напряжением и дрожью, желал ее и домогался, жаждал и алкал.
И вот все это мгновенно свершилось — он его увидел!
Но судьбе опять было угодно над Вилисом подшутить. Судьба уже не раз и не два сыграла с ним шутку и решила теперь отколоть еще один номер, а именно — Вилис увидал его, однако не узнал, он видел его и смотрел прямо на него, однако не смекнул, кто это, и только, часто мигая близорукими глазами, пялился оторопело, как на призрак, как на виденье, и все еще не вскидывал ружье, а сжимал приклад в замерзших руках и перебирал пальцами, будто играя на инструменте что-то легкое, игривое, так что весь его вид и поведение со стороны могли показаться полной беспечностью и сплошной безответственностью — чистым мальчишеством и прямо-таки преступным легкомыслием это выглядело, ей-богу, ведь только ему одному было слышно, как тревожно и гулко, словно в пустой бочке, колотится его сердце, отдаваясь в висках так, словно их дергал гнойный нарыв.
Но по мере того как тот медленно и странно, как бы не в рост шел, а ползком на животе продвигался в его сторону, Вилис постепенно различил уши лося, которые сторожко и нервно ходили, как локаторы, улавливая собачий лай и приближение загонщиков, потом спину с крутым загривком и под конец лосиную морду с особым, характерным вырезом ноздрей, какого нет ни у одного другого зверя. У него были лосиные уши, морда и спина, но, боже правый, это был не лось! У него были слишком низкие ноги, чтобы это мог быть лось, а вернее сказать, ног вовсе не было. Прямо жуть, у него не было всех четырех ног, и тем не менее он двигался!
Все это Перкон видел с ужасающей ясностью, и у него под шапкой зашевелились волосы.
Его никак нельзя было назвать человеком, склонным к суеверию и мистике, к вере в сверхъестественное и колдовство; он понимал, что лося без ног быть не может и еще менее возможно, чтобы такой лось двигался. Но надо попять и его. Он знал ведь, что у зайцев одно сердце, что у них не бывает двух сердец, тем не менее, вопреки этому, он самолично уложил такого зайца из старого «зауэра». И хотя сейчас у него от ужаса волосы на голове шевелились; он все же стал поднимать ружье, целясь в чудище, но пока не нажимал спуск, еще медлил, выжидал, ведь стреляя на авось, без стопроцентной гарантии, можно было снести и шлепнуть черт знает кого.
Так прошла, может, минута, может, две, может, и больше двух, потому что время тянулось ненатурально медленно, текло, как густой пролитый кисель, а чудище между тем постепенно приближалось, и дуло Вилисова ружья, чертя в воздухе чуть волнистую линию, следовало за призраком на его пути.
И вдруг Вилису стукнуло в голову: ах он балда и лопух, медный лоб и тупарь, ах он болван и осел, идиот и чурбан! Это же лось, настоящий лось, какой только может быть настоящий! Призрак и чудище, леший и виденье… Сам он призрак и леший! Матерь божья, индюк он и слепая курица, если это не форменный, истинный лось, — просто он крался по дну канавы, норовя выбраться из оклада и опять показать всем им дулю и оставить с носом,
Вилис прицепился в холку. Мушка, как ненормальная прыгала перед глазами, лишний воздух распирал грудь, очки запотели, сердце подкатывало ко рту, нижняя губа дергалась, в ушах звенело.
«Контузия, старая шлюха!» — мысленно выругался он, возмущаясь своим недугом как живой тварью, которая, угнездившись в нем, спала и видела, только о том и мечтала, как бы его надуть и одурачить, провести и предать.
Он трясся всем телом и старался взять себя в руки, но никак не мог унять дрожь. Курок обжигал ему палец, и это было чудно и странно, невероятно это было, просто невозможно, чтобы от прикосновения двух холодных тел мог возникнуть такой дикий жар, и тем не менее курок, раскаленный чуть не добела, жег ему кожу. И так прошло, может быть, пять секунд, может быть, десять, потому что время целиком и полностью остановилось, застыло оно, как пролитый металл.
«Спокойно, старик, — бессвязно бормотал он, то ли вразумляя лося, который все приближался, то ли уговаривая себя. — С оглядкой, старик… с умом… без паники… главное — с умом и без риска… без риска, старина… только без риска…»
Лось, однако, судил иначе — лось решил рискнуть. И он прыгнул, вытянувшись во весь свой исполинский рост, и выкатил красивую грудь, будто развернув перед ослепленным взором стрелка веер мощных мускулов. И, подскочив от неожиданности, не думая ни о чем, тупо, будто во сне, Вилис нажал на спуск. И ружье выстрелило. Но он, как глухой, не услышал выстрела и только верхней частью корпуса шатнулся назад от сильной отдачи в плечо, но боли от удара тоже не почувствовал.
С тяжелым гулом, с треском падающего дерева лось прошумел мимо Вилиса, чуть не смяв его на бегу. Вилис выстрелил из другого ствола. Промелькнув в поднятых задними ногами вихрях, лось нырнул в ослепительный блеск гаснущих красок и растворился как виденье, и лишь вокруг того места, откуда он прыгнул, снег пестрел бело-красный, точно усыпанный крупной клюквой. И поняв, что в первый раз он пальнул прежде времени — спереди, а второй раз бахнул с опозданием — сзади, что зверь ушел, ушел раненый, и случилось то, чего он всегда пуще всего боялся, Вилис вскрикнул, но не услышал своего голоса и только немо, как рыба, разевал рот, выдыхая что-то путаное и бессмысленное, невнятные слова, между собой не связанные, и господь бог с архангелами так и слетали с его губ вперемешку с проклятиями и матюками трех- и пятиэтажными и притом на двух языках.
Он хотел перезарядить ружье и бегом бежать по кровавому следу, но руки и ноги не слушались его и безвольно болтались, как у тряпичного клоуна.
«Так я и знал… я же предчувствовал…» — сбивчиво думал он, хотя ничего-то он не предчувствовал и еще меньше того знал, что должно произойти.
Все слилось у него перед глазами, он хотел повернуться, но ватные ноги не держали его тела, и с тяжеловесной грацией старой балерины он сел на снег, зажав между колен, как большую свечу, ружье. Его сознания слабо касались окрестные звуки: кто-то звал его, как будто бы Ритма, но этого не могло быть.
Ритме казалось, что кто-то ее зовет, но она не обернулась, так как автобус уже подъехал к крытой остановке. Она заметила его еще издали: едва только выйдя за калитку, она увидела, что он стоит и вот-вот тронется, но не было никакой возможности его задержать — махнуть рукой с такого расстояния было бессмысленно, и она сделала то единственное, что может сделать человек в ее положении, — она бросилась бежать.
Сзади коротко просигналила машина. Но и тогда Ритма не оглянулась. Она была так поглощена одной-единственной мыслью, так сильно боялась опоздать, что и заслышав сзади гудок, продолжала бежать, только взяла чуть правее.
— Ритма!
Только теперь до нее наконец дошло, что гудят-то ей и зовут ее — ее зовут, кого же еще, и, обернувшись, она увидела в окошке «Запорожца» смеющееся лицо Аскольда Каспарсона. И, сразу сконфузившись, Ритма подумала: вот где, наверно, была потеха и умора — как она мчалась впереди машины, петляя по дороге не хуже зайца, и не очень-то, пожалуй, выглядела ловкой, мчась сломя голову, да еще в зимнем пальто, в сапогах, проваливаясь каблуками в снег и хлопая на бегу сеткой по икрам.
Потянувшись к ручке, Аскольд толкнул дверцу и весело крикнул ей:
— На автобус или так просто… бегом от инфаркта?.. Я уж стал сомневаться, удастся ли мне тебя догнать.
— Насмешник! — отозвалась она, уже на грани между робкой скованностью и озорной приподнятостью, так как Аскольд лучился открытой, неподдельной радостью оттого, что увидел и встретил ее, именно ее. Она заметила это — не могла не заметить этого чувства, по которому истосковалось все ее женское естество и без которого жизнь казалась темницей.
— Садись, Ритма, — пригласил он.
— Неизвестно еще, по дороге ли нам, — сказала она, однако села и откинулась на мягком сиденье с ним рядом, все еще не справляясь с дыханием. Ну сколько она пробежала — просто смешно… А сердце, надо же, бьется как бешеное. Они смотрели друг на друга, в то время как Ритма, приходя в себя, тяжело и неровно дышала.
— Чего ты не едешь, Каспарсон?
— Жду приказания — куда?
— Ясно, что в Раудаву, — проговорила она, хотя ей хотелось сказать нечто совсем другое. «Все равно куда. Поезжай прямо…» — хотелось ей сказать, и она втихомолку прыснула, может быть, потому, что слова эти были беспечные и бездумные, а может, и просто потому, что смотреть так друг на друга было радостно.
— Что ты, Ритма, смеешься?
— Этого я тебе не скажу.
— А если я попробую угадать?
— Лучше не надо! — воскликнула она и снова засмеялась, представив себе, что подумает о ней Каспарсон, если угадает. Ну дура ненормальная, ну пустельга и вертихвостка, а не замужняя женщина с двумя сыновьями, и притом уже не первой молодости, почти сорокалетняя и вдобавок полнотелая резвушка — так подумал бы Каспарсон, если б угадал, а может, так оно и выглядит со стороны, если ее поведение и поступки, ее слова и чувства мерить куцым аршином привычных представлений и подозрений.
— Ну, что же мы стоим?
Каспарсон выжал сцепление. Его жесты были решительны, даже резки, в них сквозила энергия и жестковатая властность, которая пугала и притягивала. И, обняв на коленях сетку, как живое существо — как она утром обнимала кошку, Ритма уголком глаза наблюдала за ним, невольно любуясь красивым профилем, сильными руками и широкими, в облегающим свитере, плечами.
Они догнали автобус и пронеслись мимо.
«Как хорошо!» — думала про себя Ритма, не стараясь себе уяснить, что именно хорошо: что она упустила автобус? или что они его обогнали? или что она рядом с интересным мужчиной, который рад ее присутствию и ничуть не скрывает своей радости? Каждой порой своего тела она ощущала скорость, с которой маленькая машина мчалась по заснеженной, но укатанной дороге, и остро чувствовала токи, струившиеся между ними и тогда, когда не говорилось ни слова. И ей представилась точно такая же поездка с Каспарсоном прошлой зимой — тоже по зимней дороге: снегу навалило тогда пропасть, снег сверкал чистый и синий, неестественной красоты был снег. Она не помнила, о чем они тогда говорили, помнила только снег и еще то, что Аскольд взял ее руку и она ее отняла, а он не пытался взять снова, хотя она втайне этого ждала, и догадка, что он хочет опять завладеть ее пальцами, и сознание, что ее близости желают и жаждут, наполняли ее ликованием, и весь вечер потом она шутила и смеялась, словно заряженная пьяным весельем, и все думали, что она захмелела от вина, оно и верно — она захмелела, но только не от вина…
Ритме хотелось, чтобы все повторилось — чтобы Аскольд чуть подался к ней и взял ее руку, и она бы опять ее отняла, она высвободила бы свои пальцы из его руки, и тем не менее ей мечталось, чтобы все произошло еще раз, в этом нет ничего плохого, правда ведь, что же тут грешного в этой прихоти, что зазорного в таком хотении и желании, раз она заранее твердо решила отнять руку, если бы Каспарсон ее взял в свою, как же иначе, конечно, она поступила бы так и только так…
Каспарсон протянул руку и включил радио, и сквозь дали в машину пробилась и полилась настолько знакомая музыка, что Ритма даже вздрогнула.
«Ja, wir passen gut zusammen, — пел на незнакомом языке тот же приятный тенор. — Ich und du, und du und ich…»
И, все еще поглядывая искоса на Аскольда Каспарсона, она заметила, как в уголке его рта родилась легкая усмешка, постепенно проявляясь все явственней и расцветая в улыбку, в то время как тот, другой — очень далеко и очень близко — для всего света и только для них двоих пел:
Она не поняла ничего, вот проклятье! Она не понимала ни слова, изо всех сил старалась понять, но все ее старания и усилия ни к чему не привели, она все равно не поняла ничегошеньки и могла только думать и гадать, о чем поет немец страстно и томно, тогда как Каспарсон широко улыбался — такой непривычный, такой будоражащий… такой мужчина, каких она не видала даже в кино. И казалось невероятным, что она ему нравилась, дуреха, которая ничего не смыслила — только тыкалась, как слепая, полагаясь лишь на чутье, и была для собственного мужа все равно что мебель, вещь, которую можно, когда вздумается, бросить, зная, что, когда бы ты ни вернулся, она так и так никуда от тебя не денется.
Каспарсон повернул голову и все с той же ослепительной улыбкой взглянул на Ритму, забавляясь смыслом песни, которого она не понимала, и очевидно даже не догадываясь, что она не понимает.
«Сейчас это случится!» — с замиранием сердца думала она, уже без прежней уверенности, что отнимет руку и что вообще захочет высвободить ее из широкой и твердой горсти Каспарсона.
А Каспарсон сказал!
— Куда ты едешь, если не секрет, воскресным вечером?
— Я? — переспросила Ритма, вновь испытывая легкое смущение, как всегда, когда думала о Каспарсоне, почему-то опасаясь, что он видит ее мысли насквозь. — Вряд ли тебя это может интересовать, — после короткой паузы сказала она.
— А, в таком случае я догадываюсь! — воскликнул он.
— Ну, ну?
— Наверное, к портнихе…
— Как в воду глядел! — весело и шутливо произнесла Ритма, внутренне удивленная и растерянная, так как впечатление, будто Аскольд читает в ней как в открытой книге, еще усилилось. И она лихорадочно пыталась восстановить в памяти, что она такого думала в пути о Каспарсоне и что о них двоих себе воображала, но в деталях вспомнить уже не могла, только смутно чувствовала, что это было чистое безумие, всякая чушь и околесица лезли ей по дороге в голову и притом совершенно независимо от ее воли, как бывает во сне, когда можно такие номера отколоть, что проснешься — и волосы встанут дыбом.
— Воображаю, какая ты будешь красивая в новом платье, — тем же беспечным тоном проговорил Каспарсон. — А если оно еще коричневое… или, может быть, красное… нет, оно будет красное!..
Теперь она взглянула на Каспарсона чуть не со страхом — ей даже стало не по себе.
— Да, оно будет красное, — беззвучно сказала Ритма. — Ты часом не ясновидец, Каспарсон?
— К сожалению, милая Ритма, нет, — со смехом отозвался он. — Хотя, если быть откровенным, я бы не возражал. По вечерам после школы я за умеренную плату принимал бы клиентов… А что материя красная, видно даже сквозь бумагу, ведь…
— Ну, знаешь ли, Каспарсон!
— Конечно, видно. Бумага-то лопнула…
Теперь засмеялась и она, так как обертка действительно лопнула.
Темнело, и снег в свете фар мерцал и блестел, мигая голубыми искрами.
«Так же, как и тогда», — опять вспомнила Ритма как о чем-то далеком и прекрасном.
Каспарсон тихо подпевал песне, лившейся из приемника. И Ритма снова явственно ощутила, что Аскольду с ней хорошо. Это сознание вновь наполнило ее хмельным и сладким трепетом, чуть ли не счастьем, и в третий раз за сегодняшний день ей подумалось — как мало, как удивительно, неправдоподобно мало нужно человеку для счастья.
— А куда едешь ты… Каспарсон? Тоже воскресным вечером?
— Проза жизни, милая Ритма. Мне обещали кое-какие запчасти. Не я первый, не я последний, кого машина доведет до седых волос.
Ритма бросила взгляд на его волосы, которые в густом сумраке светлели одинаково серые, улыбнулась задумчиво и мягко и не сказала ничего.
Они подъезжали к Раудаве. Еще несколько минут — и все кончится. Но когда машина поравнялась с рестораном, стеклянный фасад которого уже сверкал огнями и за драпировкой которого плавно двигались в танце фигуры, Каспарсон сбавил скорость и, пока «Запорожец» скользил мимо, смотрел туда, будто желая и собираясь затормозить, но не остановился. Если б остановился, может быть нежданно-негаданно, вдруг и нечаянно исполнилось бы одно из ее сегодняшних желаний — Ритма потанцевала бы с красивым мужчиной. Но Каспарсон не остановился. Ну да… Разве там будут в воскресенье свободные места? Вряд ли. И не одеты они как полагается, прилично случаю: он — в свитере, она — в сапогах. А если бы они зашли потанцевать, назавтра, может, по всему району шел бы разговор, что директор Мургальской школы с продавщицей — и так далее. Лучше не надо. «Не надо. Не надо — и ничего тут не сделаешь», — молча думала она, словно покоряясь обстоятельствам, изменить которые было не в ее силах, и заметила, что помрачнел внезапно и Аскольд, что он больше не напевает, а сидит за рулем сгорбленный и сразу постаревший. Возможно, его волновали всего лишь злополучные запчасти, только они и больше ничего, возможно, он вовсе не хотел остановить машину, зайти в ресторан и немного потанцевать с Ритмой Перкон и вовсе не думал, что не надо и ничего тут не сделаешь, и может быть, ему вовсе не было так грустно, как Ритме казалось, тем не менее горб Каспарсона ее охладил и в то же время наполнил нежностью — ей захотелось самой протянуть руку и коснуться ладони на руле или волос. Но Ритма этого не сделала. Волна пьянящей радости откатилась, настал отлив, вспененная река порывов и желаний опять вошла в берега. Осталась только печаль не печаль, легкие сожаленья…
О чем печаль? О чем сожаленья?
Разве они знали это — тот и другой? Было ли им жаль того, что уже в прошлом, или того, что могло произойти, но не произошло? Они летели навстречу друг другу как мотыльки — и где-то разминулись. А может быть, и нет, не разминулись? Может, это только иллюзия, минутное, мимолетное заблуждение? Может, надо было просто повернуть назад, подъехать к ресторану, подняться наверх и потанцевать — у всех на глазах, и вовсе не из дерзости или упрямства, а потому, что так хочется, и потому, что в этом нет ничего дурного. Или махнуть рукой на портниху и на запчасти и ехать куда глаза глядят, сквозь белизну снега и голубые искры — потому что так хочется.
Но они этого не сделали — они не сделали ни того ни другого, а медленно и покорно приближались к слабо освещенному стадиону, где им предстояло расстаться. Им было грустно, им хотелось коснуться друг друга руками, и ничего не было проще, чем исполнить это скромное, это невинное, детское желание, однако они не сделали и этого.
Они делали все до того правильно, что одно сознание того, как правильно они поступают, должно было давать им удовлетворение. И все же им почему-то было грустно.
А Вилис поначалу даже не понял, что произошло.
— Перкон… — сказали ему. — Перкон! — позвали его, а он был точно без памяти.
— Пе-ерко-он, ты слышишь?.. Налей ему шкалик! Не иначе как обалдел от счастья.
К его лицу придвинулась рука с зажатой стопкой. Он перенял ее дрожащими пальцами и опрокинул разом, но голова — разрази ее гром! — не перестала кружиться.
— Ему каюк! Ты слышь, Перкон?
— Кому?
— Ба! Да он с луны свалился… Лосю, кому же еще? Важный был выстрел, ничего не скажешь — оба с катушек долой!
«Ему каюк, — машинально повторил про себя Вилис. — Ну ладно, — тупо думал он, скорее примиряясь с известием, чем радуясь. — Дело сделано», — сказал он себе и, с трудом взгромоздившись на ноги, вместе с Ингусом и Думинем прошел по следу до того места, где лось, пробежав еще метров двести, рухнул.
Вилис подошел вплотную — так близко, что лось лежал в снегу у самых его ног, растянувшись на боку и очень сильно запрокинув голову, и может быть, потому, а может быть, и нет, нижняя челюсть его так отвисла, что обнажились желтые зубы. Мориц лизал еще теплую кровь.
Вот оно и свершилось — и не во сне, и не в мечтах, а в самой что ни на есть доподлинной жизни! Не верится просто — как гром среди ясного неба! И словно в подтверждение того, что он не грезит, шапка Вилиса — согласно традиции — была украшена еловой веточкой, которая, правда, не больно держалась на треухе и чуть оттопыривалась. Знать бы наперед, заранее, тогда да, он поехал бы на охоту в шляпе: воткнешь веточку за рипсовую ленту, она торчит лихо и форсисто, как яркое перо, а не висит, потешно сбившись набок, зеленым хвостиком. Да что там вид — не в нем сила, по одежде ведь только встречают, кому же это не ясно! И никто не смеялся над веточкой, которая не торчала браво и гордо, как пристало бы ей по такому случаю, а смешно клонилась набок, потому что любой и каждый хотел бы быть на Вилисовом месте, с ним поменяться, все они мечтали побыть именинником и героем хотя бы один денек, ну хоть часок-другой, сколько там оставалось до темноты, и всем не терпелось разузнать, как он щелкнул и уложил лося.
И под перекрестным допросом, понемногу приходя в чувство, Вилис рассказал, как сперва лось чудил и придуривался в канаве и похож был на все что угодно, но не на сохатого, так что у Вилиса под ушанкой волосы встали дыбом, истинный бог, если б не шапка на голове, его пейсы встали бы торчком; как тот прыгнул аккурат в ту секунду, когда грянул выстрел, и как из-за этого он попал не в позвонки, куда целил, чтобы уложить зверя на месте, а всадил пулю в литые, как железные, и упругие, как резина, мышцы груди; как тот пронесся мимо и чуть было его не смял, ну до того близко, едрена вошь, что шум был — будто на тебя валится дерево; как он шарахнул еще раз, уже зная, что это коту под хвост, в молоко, а все же удержаться не смог; как от волнения, наверно, впопыхах не прижал как следует ружье к плечу и получил такой толчок, что отлетел кубарем и сел наземь как старый дед, поминая всех святых и ругаясь распоследними словами, какие только знал и мог с ходу вспомнить, в то время как в голове вертелась и крутилась одна-единственная, страшная мысль. «Ранил и упустил, — думал он, — господи, кровавый пудель!» — пыхтя причитал он. И тут подошел Хуго и сказал… А дальше они и сами знают.
Историю с лосем Вилис рассказал, само собой, точь-в-точь как и было дело, ничуточки не привирая и ни в коей мере не стараясь выставить себя перед всеми смельчаком и хватом больше, чем был на самом деле, но товарищи, так же как и некогда в происшествии со знаменитым зайцем, просто не знали, чему верить и чему нет, и только хлопали, шлепали и стукали Вилиса по плечу, по спине и даже пояснице, называя его шутником и чудилой, и поскольку пуля прошла через грудные мышцы зверя прямо в сердце, друзья, имея в виду и давнего зайца и нынешнего лося, балагурили о том, что Вилису везет на сердца, да и только, дока он и мастак в этом деле, тут он любому сто очков вперед даст.
— Жаль только, что успел рога сбросить, — с коротким смешком проговорил Краузе. — Тебе, Перкон, рога пришлись бы кстати.
Вилис поднял глаза от лося, на которого смотрел все время неотрывно, и поверх очков взглянул на Краузе,
— Что ты хочешь этим сказать?
Тот усмехался — в глубине души его больше других заедало, что знатный трофей достался не ему, а Перкону, близорукому хвощу и вечному неудачнику, бумажному червю и раззяве, все равно как слепой курице зерно, ей-богу.
— Только то, что сказал. Настоящие лосиные рога. А не обыкновенные.
— Как понимать, Краузе, «обыкновенные»?
Тот засмеялся.
— У тебя что, бумаги не в порядке, что ты сразу в бутылку лезешь?
И правда, что это со мной? Дурость какая. Не хватает еще сцепиться из-за старой глупой шутки! А рога у такого великана действительно должны быть мощные, и жаль, честное слово жаль, что он их сбросил. Краузе прав. Святая правда. Мясо это одно, а рога… ну да, рога… были бы очень кстати…
Так думал Вилис, все еще втайне удивляясь, что это давеча на него нашло, и в душе сомневаясь, может ли быть отдача такой силы, чтобы он отлетел, как тряпичная кукла, и сел в снег. Он вслушался в себя, в происходящее в его организме, но голова больше не кружилась, только во рту сильно сохло, но было бы неверно утверждать, что помочь тут ничем нельзя. Можно.
Он выпил еще глоток и опьянел так сильно и мгновенно, что вряд ли в этом виноват был алкоголь — в голову ему ударил хмель победы, который возвышал его и вдохновлял, развязывал его фантазию и вызывал в воображении красочные, светлые картины. Из него, как с раскаленной поверхности, улетучивалось, испарялось чувство неполноценности и собственной ничтожности и сменялось приливом мужской удали, ведь он сражался и одолел этого исполина и красавца, который мог его смять и растоптать крепкими и острыми копытами, а он его поборол в честном бою, один на один, безо всяких помощников и подручных. Он живо представил себе, как возвратится домой к Ритме с головою лося, и он заторопился, охваченный нетерпением, жаждой домашнего триумфа, которого он ждал так долго, терпеливо он его ждал и нетерпеливо, с надеждой и с отчаянием. И пока они свежевали лося и рубили, пока они терзали его и кромсали, на уме у Вилиса почему-то была только Ритма… Ритма… Ритма…
Она вращалась вокруг него, как луна вокруг солнца, обратив к нему свой прекрасный лик и безмерно гордясь им, — как раньше, как прежде, во времена его жениховства, когда перед молоденькой наивной девушкой он чувствовал себя умным и знающим, когда его возраст был не недостатком, а плюсом, ведь ее цветущая юность уравновешивалась его жизненным опытом, восполняя разницу с лихвой, что явственно читалось в ее глазах и в ее покорном, восхищенном и обожающем взгляде, каким глядит на хозяина верная собака, по своей воле и даже с немым восторгом признавая его превосходство, признавая венцом творенья, и эти воспоминания, как дым ладана, обняли Вилиса и как по волшебству возродили его былые чувства — самые лучшие, на какие только он был способен и на какие вообще способен мужчина.
Это эйфория, догадался он, это эйфория, думал он, поскольку об этом читал, но никогда ее по-настоящему не испытывал, во всяком случае осознанно.
Так вот какое это состояние! Его бил легкий озноб, его тело было невесомо, как и его мысли; он парил в безвоздушном пространстве как космонавт, он был преисполнен уверенности в себе и гордости, и в то же время ему хотелось быть великодушным и благородным, он был как слепец, который вдруг прозрел, как выпущенный на волю арестант, у которого грудь распирало от свободы, оттого что все четыре стороны света распахнулись перед ним как ворота, звали его и манили, и нигде, ни в чем не было преград и препон, он летел, как пущенная из лука стрела — только вперед, к одной цели, к одной во всем мире. Ритма!
Вилис не заметил и тяжести сумки, когда ее нагрузили мясом и помимо того прикрепили сверху громадную голову лося. Он поднял ношу с легкостью и вскользь отметил, что с ней можно идти и идти. Из хаоса разбуженных воспоминаний опять очень живо всплыла Ритма, прежняя, юная Ритма, с лучезарным лицом, на котором еще не было печати равнодушия и горечи. И набитый рюкзак воскресил в его памяти ту ночь, когда он ушел от Лидии к Ритме — бросил все и ушел к ней в маленький сырой закуток при складе магазина, где она ютилась, ушел с двумя чемоданами, кое-как покидав в них ношеную одежду и белье, бритвенный прибор и охотничьи принадлежности и всякие мелочи, ушел с таким же вот рюкзаком или чуть больше, битком набитым книгами, и с тем же старым, верным самопалом двенадцатого калибра, ушел пешком, не нанимая машину, сам все унес в своих руках и на своих плечах, и притом за один раз. Стояла темень, какая бывает поздней осенью, дождь лил как из ведра, и он переселился от Лидии к Ритме тишком и молчком — ни одна собака не гавкнула, ни одна душа его не видела, и не мучила его совесть, и он ни разу не оглянулся, да и незачем это было, ведь никто не смотрел ему вслед и все скрывала ночная тьма и дождевые струи. Он шагал, меся сапогами грязь, и нет-нет ступал сослепу в лужи, ведь очки затуманились, запотели, а тьма была хоть глаз выколи. Ни в одном доме уже не светились окна, и только слезливая лампа над дверью магазина сеяла бледный и мутный свет, и он ориентировался по ней, как перелетная птица по Полярной звезде, думая о своих книгах, которые он нес и веса которых не чувствовал, почему-то о них и только о них, боясь, как бы они не намокли, но придумать ничего не мог, как ни ломал себе голову, и все шел, шел и шел сквозь ночь, пока не прибыл. Ритма взялась помочь ему снять сумку с плеч, но не смогла удержать, и та грохнулась на пол, как мешок с картошкой или камнями. Ритма не сумела и с места ее стронуть, но удивительнее всего — не сумел ее стронуть и Вилис, хотя протащил как во сне три с половиной километра сквозь темень и дождь и ни разу не отдыхал. Трудно поверить, но факт…
Может быть, и тогда его окрыляла и вдохновляла эйфория? Или то был какой-то особый душевный подъем? Ощущение сбывшейся мечты, вершины жизни?
И теперь ему вдруг казалось, что в промежутке между этими событиями ничего не было, не произошло и он только перепорхнул, как птица, с гребня одной волны на другую…
Вилиса подвезли к калитке, помогли взвалить на спину рюкзак, и по хрусткой тропинке он двинулся дальше один, с какой-то нежностью обнимая взглядом весь дом, где светлые окна излучали тепло, а темные — блекло отражали зарево близких и дальних огней. Дверь была не заперта, чтобы ему не пришлось стучать, бухать, дверь заботливо оставили открытой. Прихожая обдала его мягким теплом и знакомым духом, присущим только этому дому — только этому и никакому другому месту на земле. И от этих привычных запахов в Вилисе что-то всколыхнулось. Он зажег свет и собирался уже спустить лямки с плеч — по обыкновению оставить сумку здесь, где было прохладней, чем на кухне. Но передумал. Ему захотелось явиться таким, каким он прибыл, в своем теперешнем виде, нагруженным как дед-мороз редкостной ношей. Ему хотелось слышать возгласы удивления и шумное дыхание, хотелось видеть изумленные глаза и разинутые от восторга рты — он так долго ждал этого дня торжества, он устал, истомился ожиданием и теперь желал испить его до последней капли, опорожнить до дна, чтобы утолить жажду — может быть, на долгие годы.
И, напрягшись в предчувствии сладкого мига, возбужденный и радостный, взволнованный и ликующий, он толкнул дверь в кухню. Там царила темнота, никого не было, и Вилис потянулся к выключателю. Но, прежде чем успел его нажать и зажечь свет, он вдруг увидел на противоположной стене черное изображение. То была его тень. На спине горбом дыбился силуэт сумки, над которым проступал контур головы, и по обе его стороны ясно и четко — так ясно и четко, что у него сжалось сердце, — торчали странные наросты.
У него были рога, у его тени действительно были рога!
А в это самое время в репродукторе Раудавского автовокзала раздался булькающий хрип и сквозь него ненатуральный голос диспетчера объявил:
— Граждане пассажиры! Автобусный рейс Раудава — Аури через Мургале по техническим причинам отменяется. Билеты возвратите в кассу.
Ритма, которая встала, когда в репродукторе назвали ее автобус, так и стояла в растерянности. Что же это? Последний автобус — и вдруг отменяется! А как ей добираться? Господи боже! Постояв, она подошла к окошку диспетчера, где уже теснились и топтались еще шесть-семь таких же горемык.
— …я же сказала — по техническим причинам.
Окошко захлопнулось.
Ритма постучала в стекло. Раз, потом еще раз — ни ответа ни привета. Она стукнула громче. Окошко нервно распахнулось.
— Что вы барабаните?! Ничем не могу помочь, ничем, ясно? Деньги…
— Мне не нужно денег.
— Что же вам нужно?
— Мне нужно домой, — просто сказала Ритма.
— Я же сказала и повторяю: по техническим…
— Да, по техническим причинам, я слышала. А что случилось на самом деле? Авария?
Диспетчер немного помедлила.
— Автобус сломался… и шофер заболел, — наконец изрекла она.
— Какое ужасное совпадение!
Можно было, конечно, засмеяться, отчего же нет, только сомнительно, чтобы в данном случае ирония помогла делу: окошко угрожающе качнулось, готовое вновь захлопнуться.
— Обождите!
— Ну что еще?.. Между прочим, гражданочка, во всем мире теперь шофера — это проблема. Надо читать газеты.
— Боюсь, что сейчас мне это вряд ли поможет, — вздохнула Ритма. — Понимаете, мне надо домой.
Теперь вздохнула диспетчер.
— Заладили одно и то же… как заигранная пластинка.
— Но я должна попасть домой!
Диспетчер помолчала.
— А куда вам?
— В Мургале.
— Вот мировая проблема! Выйдете на шоссе, проголосуете — и будете дома еще быстрей, чем на автобусе. Такая молодая, видная женщина — любой шофер вас подберет, любая попутка…
Ритма усмехнулась, подумав, что последнюю фразу диспетчер, пожалуй, всегда держит про запас, особенно для критических случаев. Но что же ей оставалось делать, как не двинуться к шоссе в надежде перехватить какой-нибудь грузовик, хотя воскресный вечер не очень удачное для этого время, отнюдь — по воскресеньям из города и в город больше катят легковые машины, а легковушки часто не останавливаются, не берут, разве что случится знакомый. Ей вспомнился Каспарсон, но их поездка теперь казалась ей далекой-далекой, как будто это было не сегодня, не каких-то два часа тому назад.
Интересно, вернулся Аскольд или еще нет?
Она вновь испустила невольный вздох, постояла еще, сама не зная, чего ждет и ждет ли вообще, и двинулась по направлению к шоссе.
Она шла мимо ярко и тускло освещенных зданий и домов. Озаренные люминесцентными фонарями улицы, казалось, были залиты бледным светом луны, в воздухе струилась невнятная музыка. Совсем неплохо было так не спеша пройтись по городу зимним вечером, если бы… Может быть, Айгар догадается сбегать на остановку — встретить. Тогда сразу бы выяснилось, что автобуса не было… Она поравнялась с кинотеатром, сиявшим яркими огнями, и ей пришло в голову, что она уже долго не видела ни одного фильма, но сколько времени, вспомнить не могла. И уже совсем неподалеку от шоссе впереди выросло здание ресторана, и все было так же, как на пути сюда: за драпированной шторой, которая мерцала матовым светом, как бы сама его излучая, покачивались в танце темные тени в движениях реальных и нереальных, живые фигуры и в то же время словно видения. Ей хотелось взглянуть хотя бы снизу, из уличной полутьмы на это манящее и таинственное сияние, водопадом льющееся из окна во всю стену. Но у входа шлялись подгулявшие детины, и Ритма не остановилась, прибавила шагу и лишь потом еще оглянулась. Танцующих больше не было видно, только светящийся фасад.
А вот наконец и шоссе. Здесь уже окраина. По ту сторону дороги, напоминая освещенный пассажирский поезд, цепочкой тянулись однотипные частные домики; их пологие крыши и голые яблони в садах не могли существенно, как большие дома в центре, задержать ветер, и он гулял на воле и делал пробежки куда ему вздумается. Ритме стало холодно. Она вообразила себе, что сейчас, сидя в теплом автобусе, была бы уже чуть не на полпути к дому, и, замерзая все сильнее, промерзая до костей, нахохлилась как птица. Лучше было об этом не думать — такие мысли ничем не могли помочь, только нагоняли дрожь и тоску.
Людей почти не было. Те, кто собирался куда-то ехать или идти, давно уехали и ушли, а те, кто не был в пути, сидели в натопленных комнатах. Она одна шаталась как неприкаянная. Ей очень, очень хотелось домой, но ее желания не имели никакой власти над событиями в этот вечер, она была как бы зрителем, воля и чувства которого ни в малейшей мере не влияли на ход спектакля: он шел своим чередом и развивался по своим законам.
Шоссе точно вымерло.
«Мне нужно уехать», — снова подумала Ритма с немой горячей мольбой, хотя и бессильной, и она это знала.
Но вот на повороте сверкнули фары, превращая асфальт в белое половодье. Ради одного человека, стоящего у дороги, водитель, конечно, не переключил дальнего света на ближний, и фары, приближаясь, впивались в Ритму, как лазер, слепя глаза до слез, — ведь она смотрела прямо на машину, как раз навстречу, моля, заклиная остановиться, хотя шофер не мог видеть ее взгляда, и она это знала.
Автомобиль мягко прошуршал мимо, пахнув на Ритму густым жаром. Тьма, в которой клубилась и вилась бензиновая гарь и снежная пыль, погребла машину в своих вихрях, а секунду спустя тьму продырявили блики пастельных тонов в окнах низеньких домиков.
Ритма предчувствовала, что добраться попутной машиной будет не так просто, но уж никак не предполагала, что на шоссе их будет раз-два и обчелся. Из окна автобуса ей всегда казалось, что мимо так и мелькают встречные фары. Когда же голосуешь на дороге, это выглядит иначе; так было всегда — сидеть в тепле вовсе не то же самое, что стоять на улице.
Несколько «Москвичей» и «Жигулей» проскочили мимо, не снижая скорости. Один самосвал, извиняясь, помигал ей сигналом поворота — наверное, в знак того, что скоро ему сворачивать с шоссе.
«Но мне нужно домой!» — опять подумала Ритма чуть не со слезами и, подождав еще немного, потихоньку, сама того почти не замечая и не сознавая, двинулась по обочине вперед. Дойти так до Мургале она все равно не могла, но когда движешься, хоть не гнетёт бессилие и отчаяние, да и не так зябнешь, как стоя.
Цепь частных домиков кончилась, и по обе стороны дороги открылись серо-белые поля с редкими, на отшибе, постройками — их контуры стерла темнота, и только близкие и дальние огни выдавали их существование. Еще дальше клубились как бы грозовые тучи, и были это леса у Даугавы. А Мургале могло быть где-то там — наискосок за всем этим, за пашнями, за Даугавой и лесами. Блеклое небо стлалось унылое, без луны и без звезд, как перед снегопадом. Ветер со свистом хлестал голые ветки, но мягко, устало шумел в кронах сосен — все предвещало снег.
Сзади постепенно нарастал грохот. В тяжелое пыхтение мотора барабанным боем то и дело врывался глухой стук, с каким прыгает в кузове незакрепленный груз или трясется позади прицеп. Ритма обернулась, но ничего не разглядела — ни груза, ни прицепа, ни самой машины и, ослепленная мощными снопами света, только подняла руку. Грохот прокатился рядом, обдав ее жаркой волной смрада в такой близости, что у нее перехватило горло.
«Гадина, — задыхаясь, выдавила из себя Ритма, — вот дрянь!»
Но впереди вспыхнул стоп-сигнал, и махина, еще раз бабахнув и громыхнув прицепом, скрипнув и лязгнув тормозами, остановилась с краю в поднятом ею вихре снега.
Ритма подбежала.
— Далеко идешь пешочком, девушка? — по-русски окликнул ее с высоты кабины бас.
— В Мургале, миленький, — тоже по-русски смиренно ответила она снизу, хотя только что обругала бас гадиной и дрянью.
— В каком конце света твоя Мургале, красавица, а?
И она, глядя снизу вверх, засмеялась: ей почему-то казалось странным, что этот человек, о господи, не знает Мургале.
— Километров двадцать пять до поворота, — стала объяснять она, — потом еще шесть по…
— Ну что ж, залезай! До поворота подброшу.
Она взобралась в кабину. Там было тепло и душно, остро пахло бензином и маслом, так сильно пахло, угарно, что не продохнуть. Зато теперь она двигалась к цели — наконец, наконец! И по такой пустынной дороге двигалась очень быстро — тяжелый, неуклюжий и тупорылый грузовик, встряхивая кладь и кидая из стороны в сторону прицеп, пожирал как прорва дорожные столбы и деревья, которые то высвечивались в лучах фар, то гасли, то вставали впереди, то стремительно исчезали сзади, ухнув во тьму как в пропасть.
Шофер за дальнюю дорогу истомился одиночеством, и возможно также, что его клонило в сон. И, не дожидаясь вопросов, просто от скуки, он стал словоохотливо и откровенно рассказывать, что работает в Спецстрое — возит строительные блоки, что у него жена и трое детей, две девчонки и парень, что мальчик весь пошел в него, такой же баловень, озорник и сорвиголова, как отец, так что приходилось и за ремень браться — парню, как и ему в свое время, туго дается школьная наука, на уме одни моторы и машины, тоже шоферить, наверно, будет… Потом полюбопытствовал, есть ли у нее дети и муж, и Ритма сказала — да, есть, два сына и, конечно, есть муж, и, упомянув Айгара, Атиса и Вилиса, она снова забеспокоилась: так поздно — что могут подумать о ней домашние? И, не зная что делать, куда деваться от тревоги и опасений, она отвела душу и рассказала шоферу про автобус, который должен был пойти, но не пошел — не пошел и баста, что ты ему сделаешь. И водитель, сдабривая свою речь крепким словцом, сказал, что в автобусном парке все они как на подбор лодыри и бездельники, байбаки и лентяи, лоботрясы и шалопуты, им бы только бить баклуши и тянуть резину, что он бы на ее месте разнес в щепы будку диспетчерши, раз нет порядка — и не надо, что самому начальнику парка он показал бы где раки зимуют — авось не первый фон-барон, которому он мозги вправляет. И горячась, и от собственного красноречия входя в раж, водитель жал на педаль газа так, что громадная машина неслась как бешеная, тряслась и прыгала, и ветер вокруг кабины выл со свистом.
Это было волнующе и жутковато — так мчаться сквозь ночь, и Ритма ехала, снедаемая тоской по дому и нетерпением. Все утро, да и потом она стремилась, рвалась из дома, чуть не как из тюрьмы, но стоило случиться запинке с автобусом и стоило ей с полчаса поторчать на дороге, как дом потянул к себе с неодолимой силой — ей хотелось домой, и только домой. И, предаваясь своим мыслям, Ритма старалась представить себе, чем занимаются сейчас ее мужчины: Атис, наверно, рисует или, возможно, лег спать, Айгар, надо думать, сел наконец за уроки, Вилис возвратился, а поесть толком нечего, — найдут ли они без нее в кладовой отварную картошку и сообразят ли, хоть один, поджарить на ужин с салом?
Так думала Ритма, в то время как машина, громыхая прицепом, мчала и неслась по шоссе, вспарывая тьму клыками фар и раскапывая вечернюю тишину, как дикий кабан.
Когда они приблизились к повороту, пошел снег. Сперва он падал редкими хлопьями, а соскочив с машины, она очутилась в хороводе светлых мотыльков. Все вокруг мелькало и мельтешило, колыхалось и трепетало.
— Снег… — проговорила она, точно удивляясь, хотя недавно сама подумала — должен пойти снег.
— Что? — не расслышав за фырчаньем мотора, переспросил со своей верхотуры шофер.
— Снег! — по-русски повторила она.
— Ну его к черту! — в ответ крикнул он и сплюнул: дорога-то сейчас укатанная, ровная и гладкая как стол, а снег ее только испортит, изгадит. Пыхти тогда, хлебай колесами кашу — пока не рассветет, грейдеры на шоссе носа не покажут, и думать, и ждать нечего.
Так говорил он с сердцем, и был, пожалуй, прав. Снег — только помеха. И для Ритмы, и для нее тоже. Разве не быстрей, не сподручней идти, когда на тебя сверху не сыплет? Однако, свернув на проселок у столбика с дорожным указателем «Мургале — 6 км», она, еще не запорошенная снегом, огляделась и со странным волнением подумала: «И все-таки красиво…» — а хлопья бесшумно садились на ее плечи и на волосы.
То, что происходило сейчас дома, Ритма угадала почти в точности. Атис, сидя над листом бумаги и еле разлепляя глаза, мазюкал его акварельными красками, всеми силами отгоняя подбиравшийся к нему сон. Айгар же, который вовсе не возражал бы лечь на боковую, сел наконец за книжки, надеясь хотя бы редким гребнем прочесать кое-что из завтрашних заданий. Не угадала она только про Вилиса — только па его счет она ошиблась.
А он стоял сам не свой и глядел на свою тень. Он не был мистиком, отнюдь нет, он понимал, что странный образ на стене — дьявольская игра света и тени, что стоит ему повернуться, изменить положение, и все исчезнет, сгинет, но именно этого он и не мог — не было сил ни повернуться, ни изменить положение, так как все внутренности в нем сжались в кулак, сплелись в клубок и натянулись канатами, сдавливая его и грозя лопнуть.
За дверью послышались шаги. «Ритма!» — с бессильной надеждой подумал Вилис, как будто бы ей одной было дано вырвать его из пут и тенет колдовства, и свет, брызнувший из комнаты, сразу же стер изображение со стены.
— Это ты, пап? А я думал — мама. Что ты тут делаешь в темноте?
Айгар зажег свет.
— Елки зеленые! Ч-ч-то это у тебя такое? Эт-то же лосиные уши, провалиться мне на этом месте! Настоящие лосиные уши, честное слово!
— Были когда-то лосиные уши… — произнес наконец Вилис, точно просыпаясь. Ему хотелось посмеяться над своим заблуждением, но все органы в груди и брюшной полости были, казалось, по-прежнему сжаты в тугой комок, и он избегал смеха, так же как громкого слова и резкого жеста, инстинктивно боясь, как бы внутри что-то не лопнуло.
— Ат-тис, чертяка! Атис, жми сюда! Ф-фатер принес лося!
В двери показался и младший и, часто моргая, оторопело и с опаской, как бы не дыша даже, глядел на зверя, тогда как Айгар восторженно прыгал вокруг Вилиса в каком-то дикарском военном танце, в такт которому с древних времен сердца мужчин гнали по жилам кровь.
Ну вот оно — изумление и восторг, то, о чем Вилис мечтал, чего жаждал. Но почему же вокруг его головы не засиял нимб? Может быть, он просто одурел от счастья? Или же счастье, раз оно добыто, перестает быть счастьем?..
— Помоги мне снять, — устало сказал сыну Вилис, имея в виду рюкзак, лямки которого врезались в толстые рукава меховой куртки.
Айгар взялся за сумку и принялся стаскивать.
— Тяжелый как черт… Сам убил?
Вилис кивнул.
— Ага… — Рассказывать ему ничего не хотелось, он чувствовал себя выжатым, усталым, сумка тянула плечи, как мешок картошки. — Сперва отстегни пряжку. Так… Обе лямки сразу не надо… А где мама?
— Мамы еще нету дома.
Рюкзак тяжело съехал на пол,
— Так. Теперь давай миски. Надо выложить и поставить на холод… Куда же она ушла?
— Мама? — развязывая шнур, переспросил Айгар. — Махнула в Раудаву.
— В воскресенье? — удивился Вилис. — А зачем?
— Думаешь, она мне говорит? — с легкой обидой отозвался Айгар — резкость матери, видно, все еще его уязвляла.
— А давно?
— Что давно?
— Да ты глухой, что ли? Каким автобусом она уехала?
— Мама поехала не автобусом. А на машине Каспарсона.
Он помолчал.
— Вон что… — глухо проговорил наконец Вилис и сухо покашлял.
Он уже повесил куртку, но опять потянулся к вешалке.
— Пап, ты еще куда-нибудь двинешь?
— Скоро вернусь, — ответил Вилис, не зная, стоит ли сказать, что он хочет пройти до остановки, и все же не сказал.
Небо висело над крышами хмурое, готовое просыпаться снегом. По наезженной дороге катил, разбежавшись, ветер. Вилис медленно добрел до калитки. Его жидковатые волосы раздувало, так как он не взял шапки, но возвращаться не хотелось. Он только поднял воротник и сунул руки в карманы — мерзнуть они не мерзли. И широким шагом двинулся к остановке. Вечернюю тьму разгонял свет в окнах и серо-синий отлив снега. У ветеринарного участка качался на ветру фонарь, отбрасывая дрожащий блик. Вилису пришло в голову взглянуть на часы, и он остановился под фонарем, колеблющийся свет которого то обнимал его трепетным сиянием как ореол, то ускользал вбок, оставляя его в густом сумраке. Как и в жизни, подумал он.
Постояв немного, точно пытаясь вспомнить, зачем он здесь и что собирался делать, в конце концов он все-таки взглянул на часы и увидал, что последний автобус должен был прийти больше часа тому назад.
Ах, какой же я дурак и осел, произнес он, какой олух и балбес, сказал он, шут гороховый и чурбан…
Слова сами слетали с его губ — в них не было ни злости, ни сожалений, все заволокло безразличие, как под легким наркозом.
Вилис постоял еще, сам не зная, чего ждет и ждет ли вообще. Потом повернул назад.
Сходить к Ингусу, что ли? Может быть, у Велдзе есть выпить?
Но он не мог бы сказать, хотелось ему пить или не хотелось, — ему, пожалуй, не хотелось ничего.
Упада первая снежинка и села ему на рукав. Вилис смотрел не мигая — растает или не растает? — но она не таяла. Слетела вторая. Он огляделся: воздух зыбился от белых мотыльков. Все было так, как и положено, — шел снег.
Тихим шагом он вернулся домой. Айгар все сделал как следует — выставил на холод мясо и голову тоже. Живой блеск лосиных глаз уже стал меркнуть, а нижняя челюсть, по-прежнему отвисшая, оголила желтые зубы.
— Ну видишь, старик… ну видишь, — говорил Вилис, обращаясь не то к лосю, не то к самому себе, — …ничего, старик… все обойдется…
Вилис потянулся к дверной ручке, и его слуха достиг гул падения. Он не вполне сознавал, что это шум, с каким его собственное тело рухнуло на пол.
«Контузия, старая сво…» — успел только подумать он как о живом существе, но и эта мысль оборвалась.
А Ритма между тем шла и шла, все больше покрываясь снегом.
В то время, когда я поселилась в Мургале, я не успела еще обзавестись собакой, а очередной — третий по счету — кот, как и два его предшественника, незадолго до этого отбыл в богатые мышиные угодья, так что в ту пору я не держала у себя ни животного или зверька, ни птицы или скотины, ни пчел или рыб, словом, ничего такого, что периодически нуждалось бы в услугах ветеринара и тем самым заставляло бы входить в контакт с людьми этой профессии. И тем не менее Феликс Войцеховский был одним из первых, с кем я здесь познакомилась, и поводом к тому послужил весьма забавный, хотя и не очень оригинальный казус, какой жизнь не раз подстраивала и до того; но я никак не ожидала, что со мной такое может случиться, тем более здесь — где-где, но не в этой глуши и дыре по имени Мургале.
Так вот, однажды теплым летним вечером я проходила мимо открытого окна Войцеховского, и где-то совсем рядом раздался хрипловатый и скрипучий, однако весьма игривый тенорок:
— Салют! Чао, бамбино!
Занавеска в окне дрожала и колыхалась — и это при полном безветрии. И было нетрудно догадаться, что за ней кто-то есть и, невидимый, сквозь тюль смотрит на улицу, двигаясь там, крича и хихикая.
На миг воцарилась тишина, и лишь качание тюля выдавало присутствие невидимки, потом глухой, простуженный голосок евнуха вновь произнес ласково:
— Здравствуй, красотка! Bon giorno! Moin, wie geht’s?
По ту сторону занавески кто-то прыснул, опять немного поржал и, понизив голос до воркующего, интимного шепота, вдруг запел неаполитанскую песню, в тексте которой — из-за скверной ли дикции исполнителя или моих слабых познаний в итальянском — я поняла, к сожалению, всего одно слово, которое загадочный певец выводил протяжно и с наслаждением, будто им упиваясь, с большим чувством, жаром и, смею утверждать, даже сладострастием, а именно — общеизвестное «amore».
Но не успела я сделать и нескольких шагов, как песня вновь оборвалась, причем на неожиданном месте — на полуслове, на полутакте. И тот же голос изрек:
— Погоди, не уходи, милашка!
Занавеска плеснулась, раздался хриплый смех, но показаться так никто и не показался. Некто за окном безусловно кого-то дурачил, тут не могло быть двух мнений, и этим «кто-то», нравилось мне это или нет, вероятно, была я, неведомо почему став предметом издевок какого-то шутника.
Самое умное, что можно было сделать в таком глупом положении, притвориться, что не слышишь фамильярного кривлянья, и уйти, а не впутываться в историю. Но меня как подталкивало что. Мне загорелось, приспичило увидеть таинственного полиглота, который дерзко дразнился и почему-то робко прятался за тюлем. Я должна была встретиться с ним лицом к лицу хоть умри, во что бы то ни стало: любопытство взяло верх над возмущением и боязнью выглядеть смешно, над рассудком и надо мной самой, ведь я типичная дочь Евы, а панический страх перед тем, как бы не показаться глупцом, — амплуа сильного пола. И, остановившись против окна, чуть дрожащим от волнения и нетерпения голосом я спросила:
— Простите, вы, кажется, что-то сказали?
Ну вот, сейчас откроется занавеска и в проеме окна появится он. Но ничего подобного не произошло. Я смотрела во все глаза, но тщетно. Я знала определенно, что за мной наблюдают, об этом говорило и беспокойное, нервное колебание занавески, что выдавало и нараставшее возбуждение обладателя тенорка. Но вопреки всему события не развивались. Он должен был показаться, но не показывался, нечистый!..
И выждав, может быть, минуту, а может, и две, я подала голос:
— Простите, вы… — начала я и на сей раз очень вежливо и тактично, однако тенорок — бог ты мой! — что вдруг сталось с моим тенорком?! Ни с того ни с сего он рассвирепел. Благодушное покрякиванье безо всякого перехода сменилось другой тональностью: он сперва испустил пронзительный вопль, похожий на визг свиньи, когда ее режут. А потом — потом он стал на меня кричать.
— Ах ты проститутка! — истерически вопил он. — Ты… ты сука! — поносил меня он. — …porc-ca!.. — разорялся он, захлебываясь и давясь бешеной злобой. — …шлюха т-такая… alte Huhre…crea-atu-ura …кхре… пхре… хре-е-е…
Каркающее лопотанье чем дальше, тем больше теряло сходство с человеческой речью, становясь визгливей, пронзительней, и угрожающе набирало силу, превращаясь в вой пикирующего самолета и пыхтенье пневматического молота, хрип испорченного репродуктора и свист пущенной на полный ход бормашины, готовый вот-вот перейти в ультразвук.
Нет, это не могло исходить из глотки живого существа — никогда в жизни. В этом механическом шуме было что-то пугающее, жуткое и неестественное, от чего лопались барабанные перепонки и шевелились волосы, по спине бегали мурашки и деревенели члены. И уже не любопытство, боже мой, нет, — паралич ног не давал мне сдвинуться с этого проклятого места.
И тут занавеска наконец открылась.
Я приготовилась увидеть безобразное мурло… нечто уродливое… тупое… мерзкое… выпученное… у меня замерло сердце, сдавило горло, у меня…
Но в окне показался немолодой мужчина вполне нормального вида. И если в его внешности и было что-то необычное, то разве что наголо бритая голова, причем плешь не портила, как часто бывает, ее формы, а скорее подчеркивала изящную линию небольшого овального черепа.
— Покорнейше прошу прощения… извините, пожалуйста, — сказал он мне и с досадой прибавил: — Это Тьер, черт бы его побрал!
— Тьер? — переспросила я писклявым задушенным голоском, который сама не узнала.
За колеблющейся занавеской опять любезным и невинным тенорком, будто ничего ужасного не случилось, хихикнул уже знакомый говорун.
— Да, Тьер, вражий дух, чтоб ему пусто было! — повторил мужчина и, отодвинув тюль еще больше, показал мне сидящего на подоконнике изрядного попугая с изысканным — серое с ярко-красным — оперением, экзотическое заморское диво, которое мне приходилось видеть только в зоопарке и еще, кажется, по телевидению.
Теперь был мой черед сказать что-то примирительное, но от растерянности ничего не приходило в голову.
— А я думала… — наобум проговорила я, что, разумеется, было просто уловкой, ведь если говорить начистоту, я не думала ничего, я стояла как соляной столб, как пришибленная, под градом разноязыких ругательств Тьера.
— Ну-ну, что именно? — живо поинтересовался мужчина приятным, мягким, располагающим голосом.
— …что в этом доме живет одна из многочисленных жертв моей рецензентской деятельности, — выдавила из себя я.
— Вот как? — засмеялся мужчина. — Нет, здесь испокон веку логово ветеринаров, — после короткой паузы сказал он, тем самым косвенно мне представляясь, и под конец назвался.
Войцеховский, Феликс Войцеховский.
А Тьер, покрякивая и поскрипывая, вертелся тем временем и чистился, пока за окно не слетело перышко и, вращаясь в безветрии вокруг своей оси, не спланировало наземь. Я не утерпела и за ним нагнулась.
То ли Тьер в моем движении усмотрел угрозу себе или Войцеховскому, то ли ему это просто не понравилось, но он взвинтился моментально, он пришел в неистовство.
— Psia krew! Куда лезешь, старая карга! — каркнул на меня он и, само собой, этим не ограничился — его глотка с нарастающим визгом снова извергла целый фонтан крепких слов и сильных выражений.
А перышко меж тем было у меня в руке.
— Она терпеть не может женщин, — сказал Войцеховский в оправдание Тьеру или мне в утешение.
— Разве Тьер — она?
— Во всяком случае, мне так кажется. Она просто ненавидит женщин.
— Но, может быть, женщина его когда-то обидела?
— Кого из нас не обидела женщина? — с легкой иронией отвечал Войцеховский и бледными тонкими пальцами гладил Тьера, унимая, успокаивая возбужденную птицу.
А я разглядывала перо. Оно было гладкое, как лакированное, и ярко-красное, такого сочного цвета и такое блестящее, что огнем горело у меня в руке и казалось мне, северянке, чуть ли не искусственным, ведь такие ослепительные краски свойственны природе только в тропиках.
Войцеховский сказал:
— Это попугай яко с побережья Западной Африки. Говорят, туземцы считают его перья целебными.
— От каких болезней, если не секрет?
Он усмехнулся.
— От глупости и болтливости.
Ну, раз так, перышко могло мне очень пригодиться, ведь другие хвори успешно лечит медицина.
Пока мы с Войцеховским беседовали, Тьер беспрестанно покрякивал, кося на меня круглым глазом, и, когда я стала удаляться, крикнул вдогонку:
— Przepraszam… bardzo przepraszam… Do widzenia, panie.[4]
Это было очень мило со стороны Тьера, только последние его слова заставили меня усомниться, распознал ли во мне попугай, вопреки утверждению Войцеховского, женщину. Но как знать! Во всяком случае мы расстались почти дружески.
Я так никогда и не узнала, каким образом врачуют перьями попугая яко с побережья Западной Африки, и действовала по своему разумению — всегда вкладывала перышко Тьера, как талисман, в папку с рукописью. Помогало ли оно мне от глупости и суесловия — сказать не берусь, но, глядя на него, я всегда ощущала волнение и восхищение этим шедевром природы, так что перышко по-своему делало благое дело, пробуждая во мне тягу к совершенству.
РАССТАТЬСЯ — ЭТО НЕМНОЖКО УМЕРЕТЬ,
ИЛИ РАССКАЗ О ФЕЛИКСЕ ВОЙЦЕХОВСКОМ
И ЕЩЕ О ДЖЕММЕ И МЕЛАНИИ
Рассеянно вскрыл он телеграмму и неожиданно взволновался.
«БУДУ ПЕРВОГО ВЕЧЕРОМ. ЕВА».
«Но ведь Ева умерла», — с удивлением подумал Войцеховский, как будто истинное положение вещей доходило до его сознания медленно-медленно, как бывает по утрам, на грани бодрствования и сна, когда он, уже понимая, что происходящее — только сон, с удовольствием пребывает еще в обманчивом плену видений, совсем не спеша выбраться из мира мнимого в мир реальный, так как вопреки возрасту и профессии был по натуре сентиментален и сам вполне это сознавал, хотя на людях отрицал и посмеивался над чувствительностью, которая мужчине не к лицу и якобы вовсе не свойственна, что не отвечало истине, и он отлично это знал по себе. Он был уже достаточно стар, чтобы знать о себе все, но еще не настолько стар, чтобы возводить свои недостатки в добродетели. Его внешность — череп мыслителя, классическую форму которого перенесенный в войну сыпной тиф выставил на всеобщее обозрение, известная сухость черт лица и даже рисунка губ, характерная, скорее, для человека рассудочного, чем эмоционального, чуть надменная, ироничная недоступность создавали о нем ложное представление: Войцеховский и сам знал, что он восторженный, страстный и ревнивый как пес.
Он прочел телеграмму еще раз.
«ЗАВЕДУЮЩЕМУ МУРГАЛЬСКИМ ВЕТЕРИНАРНЫМ УЧАСТКОМ. БУДУ ПЕРВОГО ВЕЧЕРОМ. ЕВА».
Он не знал ни одной Евы, кроме той, которой давно не было на свете. И сейчас, держа в руке телеграмму и прекрасно понимая, что это мистика и всего лишь случайное совпадение, он еще какой-то миг охотно поддавался волшебству самообмана, в котором не признался бы никому и который другим, скорее всего, показался бы сплошным вздором.
— Феликс! Феликс! — лукавым женским голоском заворковал у него над ухом Тьер. — Феликс!..
Наугад потянулся он к птице, нащупал мягкую грудку и почесал, между тем как глаза отыскали на сером телеграфном бланке время и место отправления, которое ему тоже ничего не говорило.
— Феликс! Феликс! Mon cher!
— Да уймись ты, старая кокетка, — с улыбкой сказал он и снова отстранил попугая, но больше ласково, чем резко.
Короткий текст дышал тревожной, интимной таинственностью, скорее воображаемой, придуманной, и он отлично понимал и это.
«Буду первого вечером…» — машинально перечел он в третий раз.
Значит, сегодня. И что же он должен предпринять по этому случаю? Наконец он немного остыл. Та, что послала телеграмму, рассуждая логично, имела в виду, что какие-то обязанности по отношению к ней у него есть… Неужто и в самом деле у него была еще какая-то Ева? Он знал множество женщин и, понятно, бывали и осложнения, которых, никак нельзя избежать в столь разветвленном и беспокойном хозяйстве, как его жизнь. Но вопреки пословице — старая любовь не ржавеет, он пуще всего на свете боялся попыток воскресить былую связь и естественно умершие отношения: они напоминали ему разогретый суп. Он был достаточно стар, чтобы знать — ничего в жизни не повторяется в точности, но он не чувствовал себя настолько старым, чтобы пробавляться сладкими воспоминаниями, жвачкой, как особь класса Ruminantia[5] или как пес, откапывающий зарытую впрок кость. Он был из тех мужчин, которые, сто раз убедившись, что все женщины одинаковы, могут тем не менее затратить массу энергии и энтузиазма на покорение сто первой. В этом была его сила и его слабость, частица его существа, без чего он не был бы тем, кем был, то есть Феликсом Войцеховским — бритоголовым и прихрамывающим, и все же обаятельным и неотразимым Войцеховским.
— Sic transit Gloria mundi![6] — совершенно не вовремя и не к месту, без видимой связи и с ликованием в голосе крикнул весьма склонный к перемене настроения Тьер. Но какой же с него спрос.
— А ну тебя, болтун! — сказал Войцеховский и засмеялся, сразу стряхивая с себя и чувствительность, и опасения; с непринужденным изяществом и змеиной грацией, что давалось упражнениями с эспандером и уверенностью в себе, подошел к письменному столу и по привычке сунул телеграмму под календарь с тяжелой металлической подставкой, ибо Тьера по временам неодолимо тянуло навести порядок в его бумагах.
На листке календаря было первое апреля. Уже апрель, опять вспомнил он и непроизвольно поднял взгляд к окну, обрамлявшему не столько пробуждение весны, сколько унылый вид зимней оттепели, в сплошной грязной серости которого не на чем было отдохнуть глазу.
«Хоть бы вызовов не было, по крайней мере», — думал он, глядя на нехотя тающие снега, и затянутое тучей небо, и скворцов, которые сидели на голых ветках березы, встопорщенные ветром, нахохлившись так, что при взгляде на них, даже из комнаты, пробирал озноб. Температура держалась чуть выше нуля. «Хоть бы не надо было никуда трогать!» — мысленно повторил он, не слишком полагаясь на везенье, потому что весна, будь то ранняя, как в прошлом году, или поздняя, как нынче, самое трудное для ветеринара время. Вдобавок, с тех пор как Велта в декрете, они с Меланией остались вдвоем. Весной родятся телята, родятся и дети, весною трудно, но так было испокон веку, и ничего тут не попишешь, пан Войцеховский.
На календаре под датой его, докторским, почерком было нацарапано одному ему понятное: «Могут звонить из «Копудрувы»» — и подчеркнуто красным карандашом. А под этой записью виднелись каракули, извещавшие, что должен явиться практикант, и ничем не подчеркнутые. Ну, явится так явится, а не явится, тоже не беда, ведь от этих зеленых ребят из техникума все равно особого толку нету, скорей уж наоборот, для него это только лишние хлопоты, но сделать тут ничего не сделаешь, ведь куда-то эти желторотые должны ехать, и естественно — почему же таким козлом отпущения среди прочих не может быть и Феликс Войцеховский? Как руководитель практики он был на хорошем счету, и только сам он на собственной шкуре не раз испытал, как трудно быть хорошим руководителем практики, если у тебя нет педагогического дара. Хоть бы только не прислали опять девушку! Да уж его, известного поклонника дамского пола, непременно осчастливят какой-нибудь девицей, которая уже прошла огонь и воду, а шприц в руках держит, увы, как дохлую мышь. Против женщины как таковой у него не было никаких возражений, но только не на работе, не в качестве коллеги. Однако и в ветеринарном участке кругом были одни бабы — Велта, Мелания… И каждую весну и осень техникум подбрасывал еще по одной особе дамского пола, а то и парочку, награждая его, как хорошая овца сразу двумя ягнятами…
И до него вдруг дошло, что телеграмму прислала практикантка. Мало вероятно? А собственно, почему? Только потому, что в массе своей они такого обыкновения не имели и, как правило, оставляли его в счастливом неведении насчет своего прибытия, являясь нередко лишь на другой, а то и на третий день после официального срока?..
Во всяком случае, такая телеграмма могла дать кое-что для предварительных суждений о личности практиканта. Во-первых, как он и опасался, это особа женского пола. Во-вторых, девушка с более или менее развитым чувством долга, раз приезжает сегодня, и, в-третьих, с туманным представлением об этикете, так как фамильярно подписала телеграмму одним именем. Будем надеяться, этот факт не указывает на то, что у нее вообще мозги бараньи. Будем надеяться, как всегда, на лучшее. Ах да, в-четвертых, Ева… Ладно, пусть будет Ева. Для Мелании это находка. Мелания сразу ее заграбастает и возьмет под свою опеку. По натуре Мелания наседка: все-то ищет цыпленка — было бы над кем поквохтать, а на худой конец готова взять шефство даже над таким петухом, как сам Войцеховский, хотя у него слишком велика голова и велик гребень для такой роли.
Сообщил ли он Мелании, что ждет практиканта? Кажется, да. И постельное белье, должно быть, приготовлено, Не мешало бы, кстати, протопить печь, такой апрель, как нынче, — весна только на бумаге — так сказать, pro forma, хоть и считается месяцем движения соков. Дрова, кажется, еще есть, и поддерживать тепло в помещении — дело санитарки. Хоть бы только Мелания в очередной раз не засиделась где-нибудь до поздней ночи.
Вот теперь и думай-гадай, пан Войцеховский! Сделает тебе судьба такой подарок, как одно тихое-спокойное воскресенье?
Может быть, сообразить для начала небольшой коллективный ужин? — пришло ему в голову. Скажем, он, Мелания и практикантка — по случаю знакомства. Месяц ведь придется вместе работать… Ну нет, это лишнее!
Многолетний опыт подсказывал ему, как важно с первого же дня установить четкую, жесткую дистанцию между собой и подчиненными — и особенно с прекрасным полом! — сразу же указав каждому его место: так трудно исправлять потом плоды мягкотелости и либерализма. Ха, а он помышлял об ужине — может быть, еще с бутылкой вина, а, пан Войцеховский! Очаровательная непоследовательность!..
в тиши комнаты запел он вполголоса и сам усмехнулся.
Хм, а с другой стороны, если предоставить ее самой себе, чем сможет вечером подкрепиться эта залетная птица здесь, в Мургале, когда закрыты и магазин и киоск? Надо думать, у нее не будет с собой термоса с горячим супом, ну, скажем, с фрикадельками. Слава богу, что все это со спокойной душой можно возложить на Меланию и нет надобности вмешиваться самому, что было бы и не совсем правильно. А может, все-таки?.. Ведь в жизни — Войцеховский прекрасно это знал — не всегда можно сказать, что правильно и что нет, кажущиеся аксиомы так и норовят перейти в свою противоположность… В конце концов, его высокий престиж не пострадает от того, что он прогуляется до ветеринарного участка.
II он взялся за пальто. Тут же зашевелился и Нерон — встал, потянулся и глядел снизу вверх слабыми глазами на хозяина.
— Брать или не брать? — размышлял вслух Войцеховский, сверху глядя на собаку. — Ладно уж, пойдем, пойдем!
И они вышли в ненастье и мокрядь.
…Неожиданно снег повалил так, что автобус нырнул с пригорка в метель, точно в реку, полную белой шуги, где вода неслась под уклон, скручиваясь воронками в омутах и унося с собой едва уловимые контуры усадеб и деревьев. В единый миг все вокруг сдвинулось и смешалось, и не было больше ни дороги, ни обочины, ни верха, ни низа. Все дрожало и кипело, вихрилось и плескалось, вертелось и кружилось в какой-то безумной пляске, и сумерки пали такие густые, что лица людей утратили выражение, одежда — краски, предметы — измерения и линии — четкость. Все сделалось серым и плоским, призрачным, нереальным, как в погруженной на дно морское и населенной химерами подводной лодке, которая всплыть уже не в силах и, противясь неизбежному, лишь судорожно вздрагивает, как живое существо. Джемму охватило острое, давящее чувство одиночества. Ей стало жаль себя и чего-то еще — как будто потерянного, и может, безвозвратно. Казалось, навсегда покинув всех и все, что составляло ее жизнь, она без цели бродит в этой зыбкой бездне, где планктон порою складывался в миражи — купола и башни, своды и арки — и вновь рассасывался, таял, исчезал, лишь обостряя в ней туманную боль утраты. Утраты чего? Но ведь не дома, из которого Джемма сама хотела уйти. А может быть, с увеличением расстояния — так же, как высоты в полете, — дом начал терять зримые очертания и становился понятием, просто символом, обобщенным предметом ее тоски? Возможно, ей было жаль чего-то, на самом деле не существующего?..
Автобус вслепую буравил метель, трясясь на разъеденной слякотью дороге, и беспрерывно лязгал, как большая куча лома, то и дело брякая плохо затворенной дверью, — в нее сквозь щель стал набиваться снег. Окна дрожали в лад с двигателем, матовые под серо-белою броней, которая все уплотнялась, и сквозь нее возникали и пропадали, появлялись и исчезали серые смутные тени.
Кругом был снег, один снег…
— Кто спрашивал Мургале? — окликнул из кабины шофер.
Выведенная из задумчивости, она отозвалась и, подхватив вещи, торопливо направилась по проходу вперед, балансируя между сиденьями: автобус кидало из стороны в сторону, а у нее руки были заняты чемоданом и портфелем.
— Вам нужно магазин или сельсовет? — спросил шофер.
— Мне нужен ветеринарный участок.
— Значит, у лавки.
Разгребая нечто вроде мокрой овечьей шерсти, «дворники» с большим трудом расчищали на ветровом стекле более или менее прозрачный полукруг, в котором сеялись и струились хлопья и по временам мелькали темные силуэты, похожие то на округлые стога сена, то на готические башни. Который же из них магазин?
— Скажите…
— Ну?
— Вы остановитесь у магазина?
— А то нет… — грубовато буркнул он, потому что дорога была мерзкопакостная и видимости, считай, никакой, отчего настроение было ни к черту.
— Держитесь меня, — раздался позади мужской голос, потом короткий сдавленный смешок. — Со мной не пропадете.
Джемма обернулась. Ей предлагали, видимо, показать дорогу, однако ей не понравился тон, каким это было сказано, и еще того больше смех, и она промолчала, только взглянула и решила, что больше всего ей не понравился сам этот человек с бородкой. Выпивши, что ли?
Проехав еще с километр, автобус остановился.
— Мне тут?..
— Туточки.
Джемма вышла и сразу попала в круговерть снежинок — снег валом валил с неба. В предвечернем сумраке сквозь буран маячили и мелькали, стлались и торчали, сгущались и таяли призрачные силуэты так же, как за окном автобуса с той минуты, когда заварился белый хаос. И среди этих теней одно только ближнее здание прямо у остановки виделось как реальное, с соответствующей вывеской, извещавшей, что здесь находится такой-то магазин такого-то потребсоюза. К нему вела широкая, но, как и все сейчас, заметенная снегом тропинка.
— Не в ту сторону! — раздалось позади Джеммы. — Я же сказал, вам лучше держаться меня.
Она не жаждала общества бородача, но кругом не было ни души, и ей не оставалось ничего иного, как следовать за мужчиной, что она и делала, стараясь приотставать: она знала, что наверняка, как бывает в таких случаях, начнутся расспросы, а распространяться о себе она не имела охоты.
— Вы к Мелании?
Так, начинается.
— Может быть, практикантка? — поинтересовался мужчина.
— Ммм, — неопределенно промычала Джемма, предоставляя ему думать по этому поводу все, что угодно.
— Не весна, а черт знает что! Еще снегом сорить вздумала… Вы издалека?
— Да.
— А откуда?
— Разве это важно?
— Ясненько! Как в отделе кадров… — весело отозвался мужчина. — Чемодан тяжелый?
— Нет.
Он усмехнулся.
— Тогда мне, видно, не стоит и спрашивать ваше имя.
— Конечно, — согласилась Джемма.
— Вы, наверно, видели от людей не только хорошее.
Она пожала плечами.
— Вы такая…
— Далеко еще?
— Ветучасток? Нет. Видите?
Джемма глянула в том направлении, куда указывал незнакомец, но увидела лишь две низкие клубящиеся тучи, которые могли быть всем чем угодно, только не постройкой. С приближением, однако, две тучи превратились в большие деревья — липы или, может быть, клены — с низким зданием под ними.
— Вот и он, ваш замок.
Это был старый дом с пологой крышей, который стоял здесь, понемногу врастая в землю, видимо, с прошлого века. Неподалеку высился столб с фонарем, и тут же была коновязь, к которой вряд ли еще привязывали лошадь или корову, скорее всего о ней просто забыли и некому было ее разобрать.
— Ну спасибо, — сказала Джемма. — И прощайте.
— До свидания, — беспечно отозвался он. — Как знать, может случится опять встретиться и вы опять спросите у меня дорогу.
— Не думаю, — ответила Джемма удаляясь.
— Не скажите, наш поселок маленький, — крикнул он вслед и прибавил что-то, чего она не расслышала и расслышать не старалась.
Горбатые, в снежных валиках ступени, по которым не ступала в метель ни одна нога, почти занесенная и тоже девственная дорожка и заметенные небольшие окна придавали строению нежилой вид. Почему-то думалось, что и дверь должна быть на замке. И когда Джемма взошла на крыльцо, протаптывая в снегу первые следы, которые тут же стала жадно затягивать вьюга, дверь оказалась действительно запертой, вписываясь тем самым в общий вид заброшенности и запустения. Джемма постучала, но никто не открыл, даже не отозвался. Дом точно вымер. От всей картины веяло грустью.
«Так вот оно какое, Мургале», — думала Джемма, осматриваясь и вслушиваясь, а снег слепил ей глаза и жужжал. И нигде не видно было и не слышно ни живой души. Она побарабанила еще раз, не рассчитывая больше на успех, и ее стуку действительно никто не внял. Даже пес и тот не залаял. И ее сердце опять сжалось от печали и одиночества.
Она постояла немного, все больше покрываясь снегом. Волосы ее намокли и варежки тоже. А снег шел и шел беспрестанно, будто норовя погрести под собой и сровнять все. Джемма снова взяла чемодан и отправилась искать хоть одно живое существо в этом заколдованном царстве спящей красавицы. Она решила дойти до ближнего хутора, но, завернув за угол, увидела с другой стороны дома светлое окно и еще один вход. Дверь была приоткрыта, и оттуда шел ароматный дым. Что-то жарилось.
Небольшая кухонька была полка сизого дыма, и пожилая женщина у плиты пекла блины.
— Здравствуйте!
Женщина обернулась.
— Меня прислали к вам…
— Из какого колхоза? — спросила женщина, орудуя большим ножом и спеша перевернуть блины, так как огонь в топке, видимо, был слишком сильным. — Если вам самого, он на квартире.
— Из техникума. Я на практику.
— Ах ты господи ты мой! — вскричала женщина то ли от радости, то ли в ужасе, бросила сковороду и прямо с ножом в руке двинулась навстречу, рослая и плечистая, под стать мужчине, широкая и крепкая в кости, поджарая, как старый конь, и, когда она подошла близко, под свет лампы, Джемма заметила у нее на верхней губе усы. — Миленькие вы мои, мокрая как мышь, вся прямо в снегу, и на порог! — вновь воскликнула женщина тем же непонятным тоном, который мог означать возмущение, но в то же время и восторг, и, обтерев руки о фартук, молодецкой хваткой взяла Джемму за плечи. И та, чувствуя у себя за спиной ручку ножа, с опаской подумала: а вдруг этот усатый рот ее сейчас поцелует? — Я — Мелания! — объяснила женщина так громко и радостно, будто сообщала Джемме особенно приятную новость, которую той следовало достойно оценить, собиралась еще что-то прибавить, но от блинов на жарком огне валил синий чад, и знакомство получилось довольно скомканное. — Джемма не успела даже, как полагалось бы, себя назвать.
Нерон сразу услыхал то, чего не улавливал Войцеховский, — к двери приближались шаги. Дверь квартиры Войцеховского — вопреки здешним обычаям — почти всегда была заперта, что с годами дало повод для всяких толков на его счет: говорили, что он трясется над своим барахлом, что слишком уж дерет нос, что у него всегда толкутся посторонние женщины и тому подобное, и если это было справедливо, то лишь отчасти. Главное — Войцеховский не хотел, чтобы его застали за бритьем, за едой или одеваньем, за одним из тех естественных, неизбежных занятий бытового или физиологического свойства, которые со стороны выглядят комично. Однако он не считал нужным давать объяснения на этот счет и на вопросы такого рода с улыбкой отвечал, что печатает втихую фальшивые деньги…
Снаружи постучали.
— Кт-то т-там? — проскрипел Тьер и пустился к двери, за которой рокотал знакомый баритон. — Меллания пррришла! Меллания!
Но Мелания пришла не одна. С ней была незнакомая девушка, в которой Войцеховский безошибочно признал практикантку. «Явилась для аккредитации», — подумал он, успев одновременно заключить, что девица совсем юная и очень свежая, но узковата в плечах и вообще хрупкого сложения, И хотя важны не бицепсы и трицепсы, а хватка, голова на плечах, девочке придется туго, случись ей принимать сложные роды или брать массово кровь на лейкоз.
— Добрый вечер, вот мои документы, — сказала она и в свою очередь взглянула на Войцеховского, смотрела пристально и долго, и Войцеховский с легкой иронией подумал: интересно, как выглядит в глазах девушки он, возможно, практикантка судит о нем так же — узковат в плечах, хрупкого сложения и не очень внушительных габаритов, во всяком случае не такой импозантный, каким она, вероятно, себе представляла своего «духовного отца».
— Проходите, пожалуйста.
У девушки дрогнули ресницы, она как бы с трудом оторвала взгляд от Войцеховского и перевела на Нерона.
— Он не тронет, идите смело. Вы боитесь собак?
Она кивнула.
— Как же мы будем делать прививки против бешенства?
— Я привыкну, — пообещала она.
— Прекрасно, — сказал Войцеховский и взял у нее из рук командировочное и прочие удостоверения в самодельных корках.
— Пришла Меллания! — продолжал гомонить Тьер. — Чучело гороховое!
— Ах ты моя балаболка! — нежно проговорила Мелания и, собрав губы в дудочку, цацкалась с птицей, как с ребенком, в то время как Войцеховский, раскрыв бумаги, прочитал вслух:
— «Джемма Ева, третий курс». Так.
Поднял глаза.
— Простите, которое из них ваше имя?
— Само собой, что Джемма, — произнесла она нервно и чуть нетерпеливо и даже покраснела, как видно сталкиваясь с таким вопросом не впервые.
Войцеховский подумал, что не так уж это само собой разумеется и что ей идет эта «Ева» — все равно, будь то фамилия или имя. Натуральная блондинка? Или же искусно крашенная? В принципе безразлично.
— Значит, это вы прислали мне телеграмму?
— Я не знала, нужно ли это, но…
«В ней действительно никакой нужды не было», — рассудил про себя он, а вслух сказал:
— Я в конце концов догадался. Но, признаться, не без труда… Да, а меня зовут Войцеховский. Так что можно считать — мы познакомились.
Он полистал слегка и другие документы: студенческий билет, удостоверение техника по искусственному осеменению…
— Там есть и «права», — сказала она.
— Права — на что? — поинтересовался он.
— Водительские!
Войцеховский нашел и раскрыл «права». Они были новенькие и еще пахли клеем. На моментальном снимке провинциального фотографа Джемма выглядела весьма воинственной и задирала нос кверху.
«Интересно, влияет ли на автоинспекторов выражение лица жертвы?» — пришло ему в голову. Он сложил документы и вернул ей, и девушка взяла их с легким разочарованием — видно, ожидала, что свеженькие «права» произведут на Войцеховского большее впечатление,
— Ну так. Завтра в пять. Едем на ферму школы механизации брать кровь на бруцеллез. Вопросы есть?
Вопросов не было.
— Тогда все.
— Ничего не все! — вступила в разговор Мелания. — Мы пришли пригласить начальство на коллективные блины.
— Вот как?
Ну, пан Войцеховский, не дал ли ты маху со своей хваленой педагогикой? Разве не тебе все же, а Мелании, с ее жалкой шестидесятирублевой зарплатой, полагалось бы организовать эти «коллективные блины», или как их там ни назови? Пойти? Особого желания нету. Не пойти? Вроде неловко. Хм. Ну, в конце концов, стоит ли поднимать такой пустяк на принципиальную высоту. Можно и пойти. В служебном помещении это, пожалуй, даже удобнее, чем у себя в квартире, — никаких обязанностей, и статус гостя позволяет действовать по настроению, по обстоятельствам, в то время как на хозяина дома традиция и этикет взваливают целый воз всяких обязанностей, и вашу любезность при желании могут истолковать всяко…
— Будь по-вашему! — согласился он, готовый принести жертву, но чтобы оставить себе лазейку и в случае чего с этих «блинов» смыться, добавил, что долго отсутствовать дома не сможет, так как ему, вероятно, будут звонить из «Копудрувы». Такая отговорка не выдерживала никакой критики, ведь на участке его разыскали бы по телефону с таким же успехом, как дома. Однако ни Мелания, ни Джемма ничего на это не сказали — тем лучше.
Войцеховский прошел в другую комнату, чтобы взять кое-что из запасов, предназначенных именно для таких — решительно непредсказуемых — случаев, и внести свой пай в общую копилку. Ему было слышно, как Мелания с Джеммой тем временем беседуют, и про себя он отметил, что девушка ведет себя естественней, чем в его присутствии, свободней, что и понятно, ведь он как-никак считается ее начальником, наставником и к тому же совсем чужой человек, который, кстати, фамильярных отношений не жаждет и этого не скрывает, с тем чтобы заблаговременно предупредить общий для женского пола недуг — стремление сесть на шею или хотя бы попытки такого рода. Голос у Джеммы был тихий, как бы севший, — от природы ли, или тоже от почтения к нему, Войцеховскому, зато велегласный рокот Мелании выдавал характер беседы. Джемма, видно, спросила про Тьера, так как Мелания ответила:
— А как же, из Африки… Сам? Нет, не бывал… в Германии только… в войну… Здесь и достал… у одной женщины, звать Алисой…
Войцеховский невольно весь подобрался, ожидая, что сейчас будет назван и Петер, и хотя это имя упомянуто не было, он знал, что при первой возможности Мелания выложит новенькой все о нем и о его жизни, подробно, всю подноготную, подавая картинно, как классный повар, события прошлого с гарниром буйной фантазии, да еще под мелодраматическим соусом. Как всякого замкнутого человека, Войцеховского отчаянно злили и раздражали попытки людей посторонних разобрать его жизнь по косточкам и копаться в его душе, но он был достаточно умудрен опытом, чтобы понять: всякое противодействие этому — донкихотство и может только сделать его смешным. И, никогда не опускаясь до объяснений и ничего не оспаривая, он только улыбался и посмеивался, когда его слуха достигала одна из тех фантастических версий, творцом которой, как он не без оснований полагал, была санитарка Мелания, его правая рука и опора, его тень и его несчастье — старая перечница Мелания, которую он, наверно, уже раз десять хотел, намеревался, уволить, но так и не уволил, ибо понимал, что, уволив, опять примет и в итоге будет наверняка еще гораздо хуже…
Войцеховский достал из шкафа коробку шоколадных конфет и уже потянулся за бутылкой «Муската», однако передумал. Начинать со спиртного негоже, спиртным надо кончать. И какой резон совращать Меланию — самому же придется стерилизовать инструменты и, может быть, даже мести контору. Он возвратился и надел пальто.
— Феликс! Фе-еликс! — хрипло заскулил Тьер, видя, что Войцеховский собирается уйти.
Подошел и Нерон и, как и прежде, смотрел снизу вверх, хотя лицо хозяина видел вряд ли. Войцеховский искоса взглянул на Джемму: все еще боится собаки? Боится. К сожалению. Коротким жестом он коснулся головы Нерона. «Ах ты мое чучело гороховое», — с нежностью подумал он, не сознавая, что мыслит словами Мелании.
Между тем ветер улегся, снег перестал и начал оседать, делаясь ноздреватым и все больше превращаясь в серую водянистую кашу, которую никто в Мургале не сгребал, не сгонял, полагая, что это труд напрасный, все равно к утру она сама растает и сойдет. Пусть и запоздалая, непутевая и капризная, а все же на дворе весна, и ничто на свете, никакие каверзы природы и фокусы погоды не могли, в сущности, ничего изменить и повернуть вспять.
— Иной год в эту пору на берегу речки цветет ветреница, — сказала Мелания со вздохом. Но в мечтательном настроении она пребывала недолго. Очень скоро Мелания вновь оживилась и стала рассказывать о хозяевах домов, мимо которых они проходили, называя фамилию, профессию и объясняя, кто кому и кем доводится: она листала Мургале как семейный альбом для приезжего гостя, для Джеммы то есть, не для Войцеховского же. И слыша, как та отзывается иногда рассеянно и односложно, Войцеховский чувствовал, что девушка думает о чем-то своем, не имеющем связи с тем, что вещает Мелания, и незнакомые имена и фамилии проскакивают мимо ее ушей, не ассоциируясь с желтыми, синими, красными и вовсе неосвещенными окнами, которые должны были стать для нее, но не стали зрительным знаком безвестных имен и фамилий. Про себя Войцеховский отметил, что Мелания даром, совершенно впустую тратит порох, занимаясь бескорыстной и благородной просветительской деятельностью, но вслух этого не сказал, Меланьина трескотня избавляла его от необходимости болтать, чего он недолюбливал. И о чем бы они могли втроем говорить? Сетовать, к примеру, на позднюю весну? Или он мог бы расспрашивать Джемму про папу и маму? Пытаться определить, будет ли из нее толк, или это, как в прошлом году, еще одна Аэлита? Все постепенно само собой прояснится, когда придет время. Выводы a priori, основанные на одних расспросах, — он это знал — часто бывали скорее ошибочными, чем верными, ведь все зависело в общем от того, хорошо ли подвешен язык у «подследственного», а язык в их профессии играл роль второстепенную.
В жилых апартаментах ветеринарного участка — как называл Войцеховский ту часть дома, где обреталась Мелания и где помимо ее комнаты и кухни был еще закуток, прозванный конурой практикантов, — пахло блинами и стоял чад от разбрызганного по плите сала. Стол был накрыт на три персоны, и между тарелками, к неудовольствию Войцеховского, тянула вверх горлышко четвертинка с Меланьиным «бальзамом» — настоянной на травах водкой, желтоватой жидкостью с плавающими в ней загадочными листиками. Если верить Мелании — целебной: летом она освежает, а зимой согревает, весной помогает от авитаминоза, а осенью от насморка. И поскольку секрета бальзама Мелания не выдавала, Войцеховский называл его универсальной микстурой на базе коровьей мочи с растительными добавками для улучшения вкуса и пил весьма неохотно — практически лишь тогда, когда иного выхода не было. Бальзам, он же микстура, имел привкус прополиса, мяты, тополиных почек и еще чего-то, все это составляло интересный и очень пикантный букет, однако Войцеховский, доктор есть доктор, проявлял осторожность в отношении всего, что принимал per os. И при виде сего приложения к блинам он откровенно поморщился, так как по опыту знал, что Мелания, которая в общем терпимо относилась даже к его определению напитка, обижалась донельзя, когда бальзамом пренебрегали. Она, конечно, хотела только хорошего, но имела на этот счет свои представления.
И это пьяное пойло придется вкушать и девчушке? Тогда Войцеховскому завтра наверняка ехать на ферму в блестящем одиночестве. Ах ты старая карга! А случись что-нибудь, как с небезызвестной Аэлитой, с кого тогда спросят? Козла отпущения найдут живо. С кого же еще, как не с него: начальство, как Иисус Христос из Назарета, должно искупать чужие грехи — расхлебывай тогда, пан Войцеховский, psia krew!..
— Милости просим сюда… и сюда… ну, доктор… — по праву хозяйки рассаживала их Мелания. — Блинцы еще теплые. С клубничным вареньем. Последняя банка. Давно я к ней подбираюсь. Да нет, думаю, пусть ее постоит, поберегу для особого случая… Всего четыре банки и вышло. А так хорошо удобрила прошлый год, не только из нужника выгребла — овечьим пометом тоже, как его зовет доктор. Иной год смотришь — ягода осыпная да ядреная. А прошлым летом только зацвела — пали заморозки…
Джемма вспомнила, что у нее с собой есть хлеб, принесла и раскрыла сверточек с приготовленными, видно, в дорогу и чуть примятыми бутербродами, которые были намазаны аккуратно, с любовью и выглядели трогательно рядом с низменной бутылкой водки. Кто их мазал с таким тщанием? Мать? Бабушка? Войцеховский подумал, что он ведь ровно ничего о ней не знает. Джемма Ева, третий курс. Ну, а еще? Документы, «права»…
— Откуда вы сами?
Она назвала населенный пункт, который значился в утренней телеграмме (почтовое отделение отправителя), но Войцеховскому это ничего не говорило. В то же время он заметил, как внутренне напряглась Джемма, и про себя решил, что девушка, видимо, боится расспросов или стесняется. Ну и ладно… В конце концов, он не прокурор.
Мелания выложила блины из миски на тарелку, поставила на стол и присела рядом с практиканткой. Войцеховский взирал на них с легкой улыбкой. Они были так разительно несхожи, как только могут быть противоположны две женщины. Одна — как перезрелый гриб, другая — как стройная березка, у одной все уже позади, а у другой все еще впереди, одна не ждала от жизни больше ничего, другой же любая мечта еще казалась реальной. Это, наверно, и составляло главное волшебство юности — безоглядная вера в сбыточностъ всех надежд, та самая позолота на контурах будущего, которую с годами сотрут разочарования и утраты, усталость и болезни. Он вспомнил, как неожиданно был взволнован, прочтя в телеграмме имя Евы, и, глядя на Джемму, пришел к выводу, что на Еву она не похожа ни капли и тем не менее до сих пор в подсознании как-то связывается с внезапным смятением… А Джемма смотрела на него серьезно и выжидающе, все еще опасаясь его вопросов и про себя гадая, какие именно мог он задать. Войцеховский, однако, не жаждал выведать ничего такого, чем ей не хотелось бы поделиться. Джемма могла быть уверена — он не желал знать чужие тайны и лезть сапогами в чужую душу. И если ей тут и следовало кого бояться, то отнюдь не его, Войцеховский усмехнулся, а старого Мюнхгаузена в юбке, Меланию.
Не дождавшись подобающих действий от единственного мужчины, Мелания взболтала содержимое бутылки и разлила в рюмки. Вообще-то лишь одна из них была настоящей водочной стопкой, две другие — просто мензурки, как, впрочем, и полагается для питья микстуры.
— Ну, за знакомство?
Войцеховскому было любопытно, будет ли пить Джемма и как именно, ведь всякий жест по-своему красноречивее словесных заявлений.
Она подняла мензурку, разглядывая жидкость на свет, надо думать — листики, плавающие в ней мелкими мушками, а потом питье понюхала.
— Крепкая?
«Чисто дамский вопрос при виде spiritus vini», — отметил он мысленно.
Она пригубила и засмеялась.
— У нее знаете какой вкус? Вкус…
— …бальзама, — подсказала Мелания.
Джемма покачала головой.
— Желудочных капель!
— Вот и пихай коту сало! — воскликнула Мелания не то весело, не то с сердцем.
За стеной в конторе зазвонил телефон. Войцеховский поставил рюмку и пошел к аппарату. Звонили из «Копудрувы», Так, все же он накаркал на свою голову. И ехать надо немедля, именно сейчас; когда, по правде сказать, до чертиков неохота никуда трогаться. И он готов был пожалеть, что не успел выпить рюмку: тогда бы он не имел права сесть за руль и мог законно прохлаждаться, пока из колхоза не пришлют транспорт. Только назад везти они, мазурики, не торопятся, особенно по воскресеньям. Лучше, конечно, на своих колесах — сам себе указчик и сам себе шофер.
— А блинцы?
— В другой раз, Мелания.
Поднялась и Джемма.
— Мне ехать сейчас… с вами?
— Сидите, сидите. Нет никакой надобности… Значит, завтра в пять. Прошу не опаздывать, Я тоже стараюсь быть точным.
Она кивнула.
— У меня есть будильник.
«Даже будильник! Интересно. Чего только у нее с собой нету», — весело удивился Войцеховский, а вслух сказал:
— До свидания. Счастливо оставаться.
Он хотел намекнуть Мелании, чтобы не разводила тары-бары, не затягивала ужин допоздна, завтра ведь не воскресенье, и собирался это сделать, когда она выйдет проводить его до двери, но Мелания не поднялась с места — он же тут свой человек, авось в темноте не заблудится.
— Ушел, — когда смолкли шаги, отметила и без того очевидный факт Мелания. — Жалко. Посидели бы втроем, поговорили про жизнь. А теперь мы остались с тобой как вдовы. Бери блинцы и намазывай.
Джемма поддела на вилку парочку. Блины успели остыть и сделались от стоянья в духовке жестковаты. Но варенье пахло ароматно и сладко.
— Эх-ма, втроем или вдвоем — все едино. Раз налито, надо опорожнить посуду, — нашлась Мелания и пригласила: — Ну!
Джемма не посмела признаться, что водки не любит, а это Меланьино зелье кажется ей чистой отравой. Она поднесла мензурку к губам и отпила глоточек — брр! Зато Мелания свою опрокинула разом и по-мужски крякнула.
— Теперь закусить надо,
Она свернула блин в трубочку и смачно откусила с одного конца, а с другого капало варенье.
— Ешь, ешь и ты, не тушуйся. Чтобы нам одолеть эту горку… Отец с матерью у тебя есть?
— Да.
— А братья, сестры?
— Да, — подтвердила Джемма, хоть на сей раз немного помешкав.
— Смотри ты, большая семья, — одобрительно сказала Мелания. — А кем работают?
— Мать — агроном, отец… он работает в лесу.
— Мама в колхозе?
— Да.
— Чего ж ты на практику там не осталась?
— Так просто, — тихо проговорила Джемма.
Мелания вновь потянулась к бутылке.
— Белый свет поглядеть захотелось?.. Да ты и не выпила ничего, подружка. Первый раз в Мургале?
— Да.
— Вот постой, — с чувством провозгласила Мелания, — пусть только весна сгонит этот проклятый снег, ты увидишь, какая здесь красота. Река, черемуха, соловьи…
Джемма подумала, что к тому времени она давно будет отсюда за тридевять земель, но она и сама не могла бы сказать, огорчает ее это или, напротив, радует.
— И начальник у нас с тобой тоже неплохой, — продолжала Мелания. Усмехнулась. — Гонять он меня гоняет как сидорову козу, но я… все равно его люблю. Ну, будем здоровы!
— За что гоняет?
— За что гоняет? На то он и начальник, чтобы гонять. А тут у него… — Мелания трахнула кулаком по своей могучей груди примерно в том месте, где должно быть сердце, — тут у него золото! С таким хозяином не пропадешь… Чего ты не ешь?
Своим буравящим взглядом и усмешкой нескрываемого превосходства Войцеховский Джемме не понравился, но открыто признаться в своей неприязни у нее не хватало духа, да и нужды особой не было, а поддакивать казалось лицемерием и к тому же этого с нее никто не требовал, так что разумнее всего было есть блины, а не излагать свои взгляды. В конце концов, здесь жить не вечность, всего один месяц — уж как-нибудь…
А где было, где будет лучше? Где ее ждут с распростертыми объятиями? Здесь ее встретила теплыми блинами и кошмарной водкой хотя бы эта Мелания…
— Все обойдется, — проговорила Мелания, то ли угадывая Джеммино настроение, то ли обдумывая свои отношения с начальством. Помолчала. — Ты сама сюда напросилась или тебя силком послали?
— Сама, — тихо ответила Джемма, и так оно действительно и было — она выбрала наугад, понятия не имея, что такое Мургале. Выбрала — и только потом взглянула на карту: маленький кружок довольно близко от Даугавы. Ей было все равно, где это — на Даугаве, или на Гайзине, или еще где-нибудь, лишь бы уехать.
Мелания приложилась опять и раскраснелась.
— Сам-то страсть как не хотел девку, — изрекла она, смазывая блины вареньем и свертывая трубочкой. — Пришел давеча ко мне и говорит: «Опять, Мелания, нас покарал господь!»
— В каком смысле?
— Когда пришла твоя телеграмма.
Джемма так густо залилась краской, что на глаза набежали слезы.
— Чего ты! — испуганно вскрикнула Мелания. — Не про тебя он это, а вообще. Ни в какую не хотел девчонку. Прошлый год, после Аэлиты, он так и сказал: «Точка, — говорит, — шабаш. Если мне еще раз пришлют этот, как его… слабый пол, пусть не обижаются — я его первым же автобусом налажу обратно». Мне тоже намылил холку, не без этого. Недосмотрела, стало быть. Лист бумаги положил: пиши заявление об уходе! Потом сам же и разорвал. Больно он ко мне привык — к своей Мелании, старой лошади… И сегодня, когда пришла твоя телеграмма…
— Я могу и уехать, — холодно заявила Джемма, — первым же автобусом.
— Ничего тебе рассказывать не стану! — вскричала Мелания. — Ни словечка от меня больше не услышишь, если об себе так много понимаешь. Молчать буду как рыба. «Мо-гу у-ехать!» Ну и езжай, езжай — бегом беги задравши хвост, вприпрыжку. Подумать надо: «Могу и уехать!» Чего же ты сидишь тут, ну? Езжай!
В словах Мелании была святая правда — уехать Джемма не могла, и не только сегодня, так как больше не ходили автобусы, а вообще, в принципе. Ведь что такого случилось-то? Ничего не случилось. Реви она хоть в голос — формально ничего не случилось, да и некуда было ей ехать, и оставалось одно — примириться: с плешивым вредным стариканом, с воинственной Меланией и ее водкой, с тем, что жизнь дала трещину, с родителями, со всем, что она выбрала сама и чего не выбирала.
Какое-то время они сидели молча, только вилка звякала о тарелку, поскольку легкая стычка вовсе не испортила Мелании аппетита, скорее напротив.
— Что же стряслось в прошлом году? — уже без прежней запальчивости молвила наконец Джемма.
— В прошлом году? Ну, сам был ужас как недоволен практиканткой. А мы с Аэлитой жили — грех жаловаться, не вздорили ни-ни. Научила я ее раскладывать пасьянс. Засидимся бывало вот так, как сейчас, до поздней ночи. А начальник… Поляк он поляк и есть: если на кого взъестся, ему хоть кол на голове теши, хоть разбейся — все равно не отмолишься. А та, ну девчонка она, то проспит утром, то где-нибудь загуляется. Поехала домой к матери, а там у соседей крестины. Вернулась только на третий день. А тут в аккурат у нашей фельдшерицы Велты свадьба. Потом искала в стоге сена свои импортные бусы, да так и не нашла. Смеялись все — животики надорвали, ну сам и взбеленился. Не шлюха она, зачем зря говорить, а так просто, не деревянная же — тому-другому и дала. А стоит только нашей сестре прослыть сучкой, как на нее, сама знаешь, всех собак вешать будут. И все оно, может статься, помаленьку бы утряслось, не случись опять некрасивая штука — на дверь нашего участка ночью повесили красный фонарь. Тут поднялся такой тарарам — сам грозился немедля, в тот же час отправить Аэлиту назад, а передо мной положил лист: «Пиши заявление об уходе». Обревелись мы обе. Надо мной он сжалился, я тебе говорила, а ей — как она потом ни юлила, ни лебезила, как ни старалась, ни просила — характеристику дал плохую, а про дневник практиканта сказал, что в нем завелись клопы и тараканы.
— А сам он монах, что ли? — проговорила Джемма с досадой на Аэлиту, подмоченная репутация которой омрачила ей первые шаги и может омрачить весь месяц в Мургале, и с еще большей, все растущей неприязнью к Войцеховскому, который, не зная о ней ничегошеньки, без раздумий, с ухмылочкой, записал и ее в ту же компанию. И эту враждебность подогревал тайный страх, что Войцеховский каким-то неведомым путем все же мог о ней кое-что разузнать. Каким образом? От кого? Такая возможность почти исключалась. И все же… Как бы тогда предстало со стороны все, что с ней произошло? И не вздумается ли какому-то шутнику снова повесить красный фонарь на дверь участка?..
— Монах?! — переспросила Мелания и пустила громкий смешок. — Юбочник он и кобель, вот кто он, и притом высшей марки! Бабы липнут к нему, точно он медом мазанный, хотя ничего в нем такого нет — ни красоты особой, ни стати, правда? А как раз на этот крючок женский пол и клюет. Ничего вроде бы и нет, а забудешь осторожность, и готово дело — попалась! И сама не знает, как оно случилось, получилось.
Мелания отпила еще немного и опять про себя засмеялась.
«Юбочник и кобель…»
Наголо бритая голова, тросточка и полсотни лет, если не больше (ну старик, ну песок сыплется!), — все это складывалось в какую-то непристойную картину, и Джемма подумала, что усмешка у Войцеховского не надменная, а скорее сальная, похотливая и такие дядечки, как он, любят поглазеть на ножки молодых девчат. Аэлита, видно, дала ему от ворот поворот, потому он и разъярился! Ну, если так, и ее наверняка ждет та же участь…
— У него есть незаконный сын. Петером звать, — уже хмелея, с удовольствием выкладывала Мелания, листая жизнь Войцеховского, как любитель искусства — альбом репродукций. — Во время войны, говорят, у него была краля в Германии, баронесса какая-то, что ли. А жена его Марта через него утопилась в ванне.
— В ванне? Какой ужас! — выдохнула Джемма.
— Да… На магнитофоне даже — и там у него записаны женские шаги.
— Правда?
— Ага. Как-то раз не закрыл он дверь. В сенях слышу вдруг: ходят! Тук-тук-тук-тук… Шаги, И на высоких каблуках. Зашла. Магнитофон крутится. А он сидит рядом слушает — и такой грустный… Увидал меня, быстро встал и ощетинился весь, как будто я тишком… нарочно… Нерон, собака-то, и то ему дороже, чем я… А я все равно его люблю — старого, хромого козла со всеми его причудами и выкрутасами. — Мелания обвела нежным, размякшим взглядом серые стены кухоньки. — У меня нет другого дома, только этот — ветучасток. Войцеховский мне все равно как родной брат. Даже писем никто мне не шлет. Разве что когда на праздник пустит открытку Аэлита. Поздравит, вспомнит, как мы вместе вечеряли, как пили бальзам, раскладывали пасьянс и вдвоем играли в шестьдесят шесть, как читали стихи…
— Вы и стихи читали?
— Удивляется! У меня их целая тетрадь.
— Свои или списанные?
— Всякие.
Джемма впервые видела живого человека, который писал стихи, и этим человеком была усатая Мелания с Мургальского ветеринарного участка!
— Почитайте и мне что-нибудь.
— Можно, — согласилась Мелания и, хотя вряд ли была настроена читать в эту минуту, все же принесла из комнаты общую тетрадь в пестрой обложке. Раскрыла и полистала, не зная, на чем остановить свой выбор, откашлялась и уже было открыла рот, однако передумала и принялась листать дальше, пока, видимо, не нашла что-то подходящее.
— Ну ладно, слушай. Раз напросилась, пеняй на себя!
И продекламировала:
Мелания читала слегка торжественным, не очень натуральным голосом, каким, должно быть, по ее мнению, надо декламировать стихи; от водки и печного жара на лбу ее блестели капли пота, а губы лоснились от жирных блинов.
И подняла глаза на Джемму.
— Все?
— Все. Не обессудь.
— Да это вовсе и не так плохо, — сказала Джемма. — В журналах печатают…
— …и того хуже, да? — закончила за нее Мелания и усмехнулась. — Мои небось тоже печатали. И не один раз. Певчей Птицей подписывалась. И такая петрушка получилась — меня даже в Ригу пригласили, во как! Молодых писателей туда нагнали — так чтоб и я, значит, участвовала. Судили-рядили так и сяк, все ж под конец отставили. Стара я, говорят, была бы моложе… «Была б я моложе, — это я им, — я бы парней охмуряла, а не сидела — стишки кропала». Смеются. Бедовая, мол, я старуха, а все же их чтоб не забывала. Да разве забудешь. Такую потеху буду помнить до самой смерти. Ну, по единой! — весело провозгласила Мелания и вновь пропустила рюмочку без задержки.
— Почитайте еще что-нибудь!
Но Мелании читать расхотелось.
— А ну их. — Она захлопнула тетрадь и предложила: — Хочешь, научу тебя раскладывать пасьянс?
А Джемме не хотелось заводиться с пасьянсом.
— В другой раз, тетя Мелания.
— Как знаешь, но ничего хитрого тут нет, вот увидишь.
— Может быть, — согласилась Джемма и зевнула.
— Ну, закрываем лавочку? — нехотя проговорила Мелания, втайне мечтая еще посидеть, однако девчонка — что сделаешь — валится с ног. — Иди на боковую. Утром разбужу.
Но Джемма достала из чемодана будильник, завела обе пружины — ход и звонок, положила в изголовье, и тиканье заполнило тишину. Комнатушка была маленькая, но довольно чистая, на столе стояла ваза с еловыми ветками, на стене висела картина под стеклом — сладенький пейзаж с закатным облаком, похожим на омлет. Все было прибрано, чисто и опрятно, и Джемма чуть ли не устыдилась флакончика «Примы» — аэрозоля от клопов, который захватила на всякий случай. И все же, прежде чем лечь в постель, она сдвинула картину в сторону, чтобы проверить, нет ли под ней подозрительных крапин. Но репродукция скрывала лишь расплывшийся потек на стене, какие часто бывают в старых каменных домах.
Она погасила свет и легла. От перемены обстановки, от впечатлений и беспокойства — как у нее все сложится и, может быть, от выпитой водки ее слегка била нервная дрожь. Но часы в изголовье тикали успокоительно и привычно: тук-тук-тук…
…у него записаны женские шаги…
Джемма посмотрела в окно — все еще идет снег? Сквозь марлевую занавеску не разглядеть — вроде бы да, а может и нет.
…у него есть незаконный сын… жена из-за него утопилась в ванне…
«Желанье первое, — сказала бы я, — ты… Второе — тоже ты… И третье — тоже…» — вдруг вспомнила Джемма почему-то с грустью, а перед глазами у нее беззвучно мефистофельски смеялся Феликс Войцеховский.
Прежде чем сесть в газик, она немного помедлила, будто раздумывая, лезть ли ей на заднее сиденье и там устроиться, или сесть рядом с Войцеховским, где освободилось место, поскольку Мелания час назад уехала в Мургале на казенной машине. Коротким жестом он указал на место рядом с собой.
— Прошу.
И Джемма села.
Был довольно поздний час заката, небо высилось малиновое, и тени ложились фиолетовые. Пейзаж был акварельно-чистый, с плавным переходом тонов и красок, как бывает лишь ранней весной. Вчерашняя метелица и впрямь не задержала, не нарушила череды времен года. Одного солнечного дня оказалось достаточно, чтобы все встало на свое место.
«Хороший день», — подумал Войцеховский в тихом согласии с самим собой.
Он вел газик не спеша, притормаживая у луж и объезжая, где только можно, хляби, и с удовольствием ощущал в руках маленький послушный драндулет. Дым в стеклянно-чистое небо уходил стоймя, как от свечей, возвещая ясную погоду, — люди готовили ужин и парили свиньям картошку. После сумбурного и яркого, до рези в глазах слепящего дня вечер дышал безмятежно и сонно…
Он вспомнил о присутствии Джеммы и скосил глаза в ее сторону — зевает. Ну, в первый-то раз любое дело легко не дается. А брать кровь на анализ… на практике эта процедура, надо полагать, выглядела несколько иначе, чем на уроках в техникуме и на таблицах, — так же, как в жизни, от теории будет отличаться, девочка, и многое другое. Опыта у нее, естественно, пока никакого, а вообще-то… Ну, время покажет, не будем торопиться с выводами. Пусть ее позевает. В каком-то смысле это предпочтительней болтовни. Да и о чем бы они стали говорить? Глубокомысленно обсуждать — какие проблемы? Развлекать друг друга констатацией status quo или разговорами о погоде? Трепаться об общих знакомых или рассуждать на вечные темы — вести, так сказать, светский разговор?..
Встречная легковушка коротким гудком приветствовала Войцеховского, и он, узнав «Запорожец» Каспарсона, ответил на приветствие, помигав фарами, хотя до того ехал, не включая света, как всегда до последнего оттягивая этот момент, чтобы дольше побыть в синем сумраке вечера.
Возвращаясь домой и сидя за рулем газика, Войцеховский всегда пребывал на зыбкой грани между стрессом и спокойствием, напряжением и расслабленностью — как бегун, разорвавший финишную ленту, когда все уже кончено, а инерция все несет его тело вперед…
На дорогу, чуть не перед носом машины, вымахал заяц, и Войцеховский автоматически нажал тормозную педаль, надавив одновременно пальцем кнопку сигнала. Газик вздрогнул, подпрыгнул и, взметнув два огромных водяных веера, с шумом врезался в большую лужу. От резкого торможения Джемму толкнуло вперед так внезапно и сильно, что она чуть не стукнулась лбом в ветровое стекло. Задремала, что ли? Или вообще с замедленной реакцией? Интересно, как она водит машину? Сами по себе «права» еще ничего не значат.
Он опять искоса взглянул на нее. Нет, спать она вроде не спала, но и не так уж далеко было до этого — наверно, просидели они с Меланией до полуночи: настоянная водка и блины, пасьянс и душещипательные истории, верная любовь и подлецы мужского пола. Чтобы представить себе, как прошел вчерашний вечер, поистине не надо много фантазии. Все это он может вообразить довольно точно. Его это, к счастью, не касается, ему до этого нет дела. Пока не начнутся сплетни и толки, не пойдут намеки и жалобы — o, szczeście![8] — он волен не знать, не ведать, что происходит под крышей ветеринарного участка, в так называемых жилых апартаментах. В противном случае — do diabla![9] — он будет вынужден заниматься тем, чего терпеть не может, то есть «принимать меры»…
Опять зевает!
Ей-богу, она могла бы это делать не так откровенно — чуть ли не демонстративно. И хотя Войцеховский решил без особой нужды не вступать в разговоры, он все же не удержался и, откашлявшись, сказал:
— Вчерашний банкет у Мелании, наверно, затянулся…
— До половины первого… А что?
О, какая воинственность! Как будто бы он нападает, а она вынуждена и готова занять оборону. На ее скверной фотографии на «правах» фотографу, видно, все же удалось схватить какую-то характерную черточку.
Заметив взгляд Войцеховского, Джемма резковато бросила:
— Не понимаю, что тут смешного. Ну, посидели.
— Могу поспорить, что Мелания потчевала вас не только своими фирменными блюдами и напитками, но и духовной пищей. Я угадал?
— А что тут плохого, что Мелания пишет стихи?
— Ничего плохого, упаси бог! Это даже модно. Про любовь и ее, увы, непостоянство, про жизнь и ее, увы, неизменно летальный исход. Да, и, конечно, об охране природы, как сейчас принято. — И, неожиданно вспомнив неизвестно откуда взявшийся стишок, он весело отчеканил:
— Вы смеетесь над всеми и надо всем! — горячо воскликнула Джемма. — Издеваетесь… даже над поэзией!
— В каком-то смысле вы правы, — примирительно сказал он, — поэзию я в самом деле не люблю.
Ну, с любопытством ожидал он, что за этим последует? Намек на его, так сказать, духовную неполноценность, ведь он осмелился — ах, какое преступление! — публично отрицать поэзию. Нет, обошлось. Не хватило духу ответить или же до этого не додумалась? Сидит опять молча — тем лучше. И кто его тянул за язык, зачем вообще было начинать? Но сперва откровенная зевота, а потом столь же неприкрытая воинственность — его так и подмывало подразнить, поехидничать. Третьесортные вирши старой рифмачки Мелании нашли, как видно, благосклонный прием и пылкую защиту. Будем надеяться, хоть бальзам вызвал меньше восторгов — человек должен быть оптимистом и всегда верить в лучшее… Ну, так ничего и не скажет? Примирилась? Надула губы? Ни звука. Только заметно: тайком изучает его профиль. Извольте, не возбраняется — если выражение его лица может служить источником информации, что весьма сомнительно…
— Доктор!
Ага, подает признаки жизни.
— Слушаю вас.
— Я знаю, что вы… вы смеетесь и надо мной и меня вы очень не хотели, но…
— Но?
Молчание.
Она ждет, что он станет отрицать? Или невинно удивляться — как можно! И с чего-де она взяла, откуда… он же с дорогой душой… с распростертыми объятиями… Но какая ему нужда разыгрывать из себя дурачка или дамского угодника, да и что тут отрицать или скрывать — да, не хотел.
И, откашлявшись по привычке, он сухо сказал:
— Если вы в течение суток успели собрать столь обширную информацию, то не сомневаюсь — вам известны также причины моих взглядов. И вообще… — Он помолчал, с неудовольствием воображая, чего только и в каких выражениях не наплела Джемме эта сорока Мелания. — Да, и вообще мне хотелось бы, чтобы впредь мы получали сведения друг о друге не окольным, а прямым путем. Если есть неясности, пожалуйста, спрашивайте. А я буду спрашивать у вас, если понадобится. А в тех случаях, когда нам покажется это неудобным, мы, даже при минимальном чувстве такта, я думаю, без особого труда поймем, что суем нос не в свое дело. По-моему, это избавит нас от возможных недоразумений в нашей совместной работе и будет приемлемо для обеих сторон. Ваше мнение?
Итак, предлагалось джентльменское соглашение и мирное сосуществование — именно так воспринял бы это всякий нормальный мужчина, однако поди узнай, какое толкование может измыслить взбалмошный женский ум.
Но она только сказала:
— Я ни о чем не расспрашивала.
— Благодарю. Постараюсь отвечать тем же.
Войцеховский подрулил к крыльцу ветучастка, чтобы высадить ее у самой двери. Она вышла, но помешкала дольше, чем необходимо, чтобы захлопнуть дверцу. Стояла, глядя на Войцеховского. Хотела что-то добавить в свое оправдание? Или ждала указаний?
— Завтра в пять, — коротко сказал он, но Джемма не ответила — стояла и смотрела.
Ну, что еще, что она хочет добавить? Они же выяснили отношения.
Он подождал — ни слова.
При чем тут добавить? При чем выяснение отношений? Наверно, ее просто не держат ноги. Вся ее тонкая девичья фигурка в мутном отсвете газика сгорбилась от непомерной, до отупения тяжкой усталости. И с Войцеховским произошло то, чего он, зная свой характер, пуще всего боялся: в нем шевельнулась жалость и нежность. Он подумал, что надо бы сказать напоследок что-то хорошее, но не находил что. Для похвал пока не было оснований. Делать прогнозы казалось ему несколько преждевременным. Главное сейчас — как следует выспаться, но это она сделает и так, без напоминания и указания сверху.
— Всего хорошего, — сказал он, и она тихонько отозвалась из полутьмы:
— До свидания.
Так, наконец он один. Он тоже, по правде сказать, устал как собака. Теперь домой, домой…
Не успел он, однако, проехать и пятидесяти метров, как заметил Алису. Она шла по обочине с сумками, наверное с автобуса, и в свете фар он увидел, что одета она не по погоде — то ли в зимнем, то ли в осеннем пальто, слишком темном, слишком тяжелом и длинном, и пальто делает ее фигуру грузной и неуклюжей. Виною, возможно, было не пальто, а скользкая дорога или увесистая ноша, или же просто время. И когда он притормозил и поравнялся с Алисой, он понял, что причиной тому действительно время и Алиса понемногу стареет. И ему пришло в голову, что она, очень возможно, думает то же о нем, ведь годы не пощадили их, ни того, ни другого, и только Петер был как бы вне времени…
Войцеховский остановил газик, сам не зная зачем и что собирается сказать Алисе. Но когда она с надеждой взглянула на него, он догадался, что она ждет от него вестей о Петере, и еще до него дошло, что и сам он остановил машину затем, чтобы узнать что-нибудь от Алисы. Но они и без слов оба поняли, что новостей никаких нет и ничего тут не поделаешь. И Алиса с душевным тактом избавила его от того, чтобы высказать это вслух, а Войцеховский со своей стороны — Алису, они как бы старались щадить друг друга, эти столь разные люди, которых связывало только одно — они оба любили Петера. И Алиса сказала, что на ферме ей дали выходной и она ездила в Ригу, а он сообщил, что возвращается из школы механизации, ведь при встрече — так уж водится — надо о чем-то говорить. Они не жаловались ни на что, не сетовали. Но, как и всегда при встрече с Алисой, он испытывал грусть. И очень возможно — Алиса тоже. И еще он предчувствовал, что весь вечер ему будет грустно, и тут никакая святая вода не поможет, и столь желанное одиночество будет душить его, и тут ничего не попишешь…
Они коротко попрощались. Войцеховский поставил машину и медленно и устало, прихрамывая больше обыкновенного, направился к дому.
На крыльце кто-то сидел.
— Ты, Атис? — узнав, окликнул он.
— Я.
— Что ты тут впотьмах делаешь?
— Принес Нерону кости.
— А он тебя, что ж, не пускает?
Мальчик засмеялся.
— Ну, мы сейчас это дело поправим, — сказал Войцеховский и полез в карман за ключами.
Достал, отпер дверь.
— Прошу.
И пропустил Атиса вперед. Нерон с визгом кинулся навстречу, и мальчик обнял собаку и, сияющий, стал гладить и ерошить ей серую шерсть. А Войцеховский смотрел на детский затылок, и из его разворошенных воспоминаний снова всплыли мысли о Петере, которому он был безразличней чужого человека.
А мальчик? Что искал в нем Атис? Может быть, Атису нужен был вовсе не он, а нежная привязанность его собаки? Или его диковинная заморская птица? Животные, словом, а не он — Феликс Войцеховский?
Ладно, пусть будет так…
Но суждено ли этим влечениям и склонностям Атиса сжаться как пальцам в кулак, в призвание то есть, составить смысл жизни? Или же они станут мечтою вообще, страстью вообще — лунными арками и пустоцветом, миражем в пустыне, вспышками зарниц — вечной и мучительной неутолимой жаждой?..
Войцеховский поймал себя на том, что снова думает не об Атисе, а о Петере. Может быть, он меряет Петера на своей аршин — и в этом его роковая ошибка? Может быть, то, что ему представлялось страданием и бессмыслицей, оно и есть для Петера настоящее счастье, которого он, Войцеховский, просто не в силах понять, как невнятен для домоседа инстинкт странствий в генах перелетной птицы? Ведь что мы, по сути, знаем о других людях, даже о собственных сыновьях?..
Войцеховский откашлялся, стараясь стряхнуть с себя эти мысли. Какой от них толк? Разве они могут изменить что-то, поправить, эти бесплодные мысли?
— Ты ужинал, Атис?
— Ага.
— Но со мной ведь ты закусишь?
— Можно, — согласился мальчик.
— Прогуляй пока Нерона, а я тем временем согрею чай.
Он поставил на газ чайник и пошел в ванную.
Теплой воды, само собой, не было, да и кто бы нагрел бойлер. Он отвернул холодный кран, разделся, однако помешкал, прежде чем рискнуть стать под душ. В такие моменты яснее, наглядней всего видно — брр, холодная как сто чертей! — до чего неистребим в человеке инстинкт беречь свою шкуру. В прямом и в переносном смысле… О, под обжигающе ледяными струями ты еще способен философствовать, пан Войцеховский! Вот это энтузиазм! О-ох, того и гляди, отлетит душа грешная, Ну-ну, не распускаться, больше жизни, выше голову! И что-нибудь вдохновляющее, идейное! Mens sana in corpore sano[10], скажем, или…
— Дядь!
— Ты уже вернулся?
— Там чайник бежит!
— Уверни газ. Я сейчас. Слышишь?
— Ага.
Ледяные струи бодрили, вместе с потом смывая усталость, зато напомнил о себе старый добрый ревматизм — не без этого. Не нравится такой душ, не по нраву… Ванну ему подавай! Грелочку. Тигровую мазь. Однако тепло после трудного дня он переносил еще хуже — сразу сморщивался как перезрелый гриб и выдыхался, как лимонад в открытой бутылке. Ослаб мозговой и мышечный тонус — старик!..
— Дядя!
— Иду, сейчас иду. Уже все.
— Покормить Тьера?
— Уже вытираюсь!
Рука сама потянулась за мохнатой простыней. Так. Теперь поскоблиться. Это займет минуты две-три. Он брился по вечерам. Долголетняя привычка женатого человека. Но не только. Утром частенько надо бежать сломя голову… Так. А теперь халат. Самочувствие? Вполне сносное, если не считать боли в коленных суставах, но это не в счет…
Он заварил чай и нарезал сыру.
— На вот неси сахар. А тут печенье. Как ты думаешь, варенье нам взять?
— А какое у тебя?
— Вишневое.
— С косточками?
— Да.
— Мама говорит, от косточек может пристать слепая кишка, — сообщил Атис, но банку все-таки взял, — подумаешь, ну и пристанет, одной кишкой больше, одной меньше…
Они сели оба, точнее говоря — все; Войцеховский по эту сторону стола и напротив Атис, Тьер на спинке стула и рядом на полу Нерон. Идиллия. «Двойной портрет с животными», — подумал Войцеховский, словно лаком сглаживая привычной иронией налет сентиментальности.
— Позволь я тебе налью.
Атис протянул свою чашку.
В дверь постучали.
— Войдите!
О господи, неужто сегодня еще куда-то придется ехать?!
Но это был Айгар.
— З-з-здравствуйте. Вот он где! — с порога выпалил Айгар, и сильное заикание выдавало степень его возбуждения. — Н-ну з-знаешь!
— Садись с нами, Айгар.
— Н-не могу. Мама и так злая к-как фурия. Все М-мургале, говорит, обегаешь, пока с-сыщешь этого балбеса. Ну, ты дома получишь!.. Я с-сразу сказ-зал, не у вас ли, а… Ну, Атис, живо.
Атис медленно сполз со стула.
— Ну, тебе сказано? Из-за тебя мне вечно приходится рыскать по следу, как ищейке… Как раз ф-футбол передают, а я… г-говорить неохота… Давай шевелись! Ну вот, до свидания.
Зато Атис не попрощался и в двери даже не оглянулся, и его лица Войцеховский не видел.
— Do widzenia, panie… do widzenia, — восторженно крикнул Тьер.
— Да уймешься ли ты, трещотка! — устало сказал Войцеховский.
Хлопнула дверь, шаги удалились. Невыпитая чашка, надкушенный бутерброд с сыром… Какая сильная усталость… Ну ешь, пан Войцеховский, подкрепись, чего ж ты нос повесил? А еще говорил про энтузиазм. Ты просто стареешь, дорогой, милый доктор!..
Хоть бы позвонил кто. Но — тьфу, тьфу! — не накликать бы беды. Звонок — это вызов, почти со стопроцентной гарантией. Разве что Цилда позвонит из Раудавы. Но вряд ли. Да и что отрадного могут сказать друг другу люди, для которых стадия телячьих восторгов, усмехнулся про себя он, благополучно осталась позади?
Хоть бы пришел кто пригласить на блины — жестковатые от стоянья в духовке блинцы с прошлогодним клубничным вареньем…
Войцеховский сидел, подперев ладонью подбородок. Чай в чашке дымился горячо и ароматно, понемногу остывая.
Какое острое чувство утраты — несоразмерное случаю! Что же такое произошло? Ничего не произошло, ушел Атис, только и всего…
— Какой ты рыхлый, Феликс Войцеховский, — сказал он себе. — Как плохо смотанный клубок. Пустое недоразумение, легкая неувязка, мелкая заминка — и всё, и поехало; сползет нить — и ты уже разваливаешься, разматываешься, раскручиваешься до сердцевины. Не надо копаться, ворошить былое, это никогда не вело к заживлению и рубцеванию. А изводить себя — этим грехов не искупишь, ты не Иисус Христос, пан Войцеховский.
Но он мог быть только таким, какой он есть, — достаточно старым, чтобы сознавать свои плюсы и минусы, и слишком старым, чтобы что-то изменить.
Он мог скрыть лысину, но не мог отрастить волосы, он мог не носить трость, но не мог не хромать, он мог не говорить о том, что у него болит, но не в состоянии был не думать — он не мог, как и всякий из нас, переступить через свою тень. И он нес свое прошлое, отмеченное гибелью близких и собственными страданиями, как улитка несет свой дом, только это ни от чего его не спасало: случайное прикосновение — и сразу обнажались живые ткани. Прошлое обнимало его со всех сторон, как покров обнимает куколку, только он не мог из него выпростаться и улететь. И самым тягостным в его жизни была…
Смерть матери, которую он совсем не помнил? Или смерть отца, которая, быть может, несла избавление измученному телу? Смерть Евы, горечь которой смягчили расстояние и время? Или смерть Марты, легкая и мгновенная, как у многих сердечников, безболезненная, какой он желал бы и себе?
Смерть Зенона! Ствол автомата, наставленный на упавшего, вконец обессиленного живого человека, которому было отказано в последнем утешении — возможности умереть стоя. И отречение Петера, что было равносильно смерти, хуже смерти — все равно как предательство… Ужас на лице сына при их первой встрече…
Рассудком — да. Рассудком он мог понять и осознать, что слово «папа» у четырехлетнего мальчонки связывалось только с Мартином Купеном, а не с бог знает откуда взявшимся бритоголовым живым скелетом — а кем же иным он и был тогда, сразу по возвращении? Но он не мог ничего с собою поделать — природная нетерпеливость, болезненная взвинченность в ожидании встречи взяли верх над голосом разума, и вопреки его воле в нем что-то сломалось. Он стоял, сняв шапку, как проситель, голова у него мерзла, и в нем что-то разбилось. В нем многое разбилось за четыре года — сначала в Раудавской тюрьме, потом в Саласпилсе, затем в Штутгофе и впоследствии тоже, когда требовали доказательств, как и почему ты остался жив. Казалось, он пережил все, что только в силах выдержать и вынести человек, и его ничто больше не может согнуть, ничто не может потрясти. Но оказалось, что может… Он смотрел на Купенов — на Мартина и Марианну — с жаркой, жгучей, переходящей во вражду ревностью, ведь им принадлежал его сын, его Петер, а те смотрели на него с опасением и страхом, что он явился отнять у них Петера, полные решимости мальчика не отдавать, готовые отстаивать свои законные права на приемного сына любой ценой, хотя бы даже силой. А Петер кричал: не хочу… не хочу… не хочу… и, в страхе убегая от него, прятался за Марианну. Это было как удар, больше чем удар — это было предательство.
Он стоял, глубоко униженный, несмотря на то что за четыре года был столько раз оплеван, втоптан в грязь, избит и еще недавно думал, что ранить его уже не может никто и ничто. Но оказалось, что он ошибался и формы страданий бесконечны. И в то время как Петер, отрекаясь от него, кричал «не хочу», он давал себе клятву, что завоюет, добьется любви сына любой ценой, хотя бы даже силой. Это было как помрачение.
Но что можно взять принуждением, силой, присвоить, несмотря ни на что? Вещь, удовольствие… А как и чем купить любовь? Ему казалось, что ради ребенка он готов пожертвовать всем, но на это способна только женщина — он этого не мог. А с другой стороны, можно ли было требовать, чтобы он отказался от Петера, он, у которого только и осталось что изможденное, насквозь больное тело? Мог ли он примириться с тем, что чужая женщина, какая-то Марианна Купен, нужнее Петеру, чем он, отец?
Некому было очертить кавказский меловой круг. Но, может, и это не помогло бы, ведь полное бескорыстие ведомо только матери… И оба они, Марианна и Войцеховский, каждый со своими правами и своей правотой, со своей любовью и своей убежденностью, каждый со своим эгоизмом и своим кретинизмом тащили и рвали Петера в разные стороны, не задумываясь — или не желая задумываться, что так ведь можно и разорвать, не догадываясь — или не желая догадываться, что больно не только им. Что он понимает, ребенок? Что может болеть у ребенка? Разве что живот… Не кричит — значит, не болит.
А Петер?
Подсчитал ли кто-нибудь усилие, с каким цыпленок продалбливает скорлупу или с каким лопается почка? Или же энергию, с которой плод грибницы, шампиньон вспарывает асфальт? И не могут ли сравниться родовые муки женщины с муками увидевшего свет ребенка?
Так бывает только в шлягерах да в туманных, смутных представлениях людей, давным-давно ушедших от него и почти забывших детство — как у них с Марианной… При ней хоть осталась наивная, святая вера, что она делала Петеру только добро. А он, Войцеховский, терзается своею виной и, точно кошка, потерявшая котят, пытается завлечь в свое пустое логово и привадить хотя бы щенка.
Войцеховский встал, подошел к буфету и сделал то, что делал в очень редких случаях: налил в рюмку грамм пятьдесят коньяку и выпил одним духом, не почувствовав ни крепости, ни вкуса. Nihil humani a me alienum puto[11]. Зашагал по комнате взад-вперед, взад-вперед, наткнулся на магнитофон. Захотелось послушать что-нибудь под настроение — Генделя или Баха. Включил. Но лента оказалась не та, и вместо героической музыки органа в квартиру вторглись юные, звонкие, ликующие голоса, они славили старый добрый happy end, счастливый конец, и уверяли, что все на свете хорошо, а будет еще лучше, отлично, превосходно, несравненно.
«Да-та». Так. Черта. «Имя жи-вот-но-го, воз-раст». Черта, Ну и линейка! «Фа-ми-лия вла-дельца, адрес…» Могла бы захватить и свою. Черта. Да разве это черта — как зубами изгрызена. Дальше — анамнез. «А-нам-нез». Опять черта…
— Джемма!
— А?
— Чего ты там карябаешь?
— Дневник разграфить надо.
Дальше.
«Status prae-sens»[12]. Черта, Ей-богу, как курица лапой.
— Тетя Мелания!
— Ну-у?
— У вас нет другой линейки?
— В конторе, может — на столе у самого. За ней идти надо.
Но Мелания была не из ленивых — сходила, разыскала, принесла. И встала у Джеммы за спиной. Черта.
— Совсем другое дело. Хотя бы линии прямые.
«Диаг-ноз». Опять черта…
— А ты прилежная.
— Вы скажете! Мне следовало это сделать давно.
Мелания еще понаблюдала.
— А я думала, ты письмо домой сочиняешь.
Что дальше? А, «ле-че-ние». Потом — примечания. «При-ме-ча-ния». Так. Все. Места для примечаний, правда, как назло, осталось маловато, всего четыре клеточки. Разметить бы сперва карандашом, а уж потом ручкой…
— Ты чего не отвечаешь?
— А?
— Домой, говорю, писать так и не будешь? Я завтра иду на почту, опустила бы и твое письмо,
— Мама и так знает, где я.
— Милые вы мои, да разве это по-людски? «Знает, где я…» Что она там знает? Напиши — хоть увидит, что ты жива.
Джемма, не поднимая головы, усмехнулась.
— А умру, так вы с Войцеховским…
— Тьфу, тьфу, дуреха!
— …вы с Войцеховским отправите письмо; так, мол, и так, с глубокой скорбью и тому подобное — как полагается в таких случаях.
— Да замолчишь ты или нет?
— А пока я жива, не потеряюсь, не иголка.
— Ну знаешь… — вспылила Мелания. — Была бы ты моя дочка…
— И что бы было? — примирительно спросила Джемма и принялась заполнять графы.
«6 апреля». Так. «Хутор Качели…» «Ка-че-ли». Точка. «В. Васар». Точка.
— Я бы не потерпела, чтобы ты играла на моих нервах, душу из меня вынимала!
«Ко-ро-ва Санта. 5 лет».
— Тетя Мелания, точки ставить?
— Вот взяла бы хворостину и такими точками тебе задницу расписала…
— Уже пробовали, тетя Мелания, и отказались… Ну, так надо ставить точки или нет? Хм. Вроде не надо. Значит, не будем. Дальше…
— Чудной ты человек, Джемма, честное слово.
«По словам хозяйки, корова после родов не встает и отказывается от пищи… от пи-щи…»
— Уж какая есть.
«…до родов кормили в основном сеном и комбикормом…»
— Странное слово комбикорм, правда? Комби-корм… У нас в техникуме один преподаватель прямо слюной брызжет, как его услышит… «Что это за комбикорм?! Комбинированный корм». А как его втиснуть в пять клеточек?
— Что втиснуть? — спросила Мелания, думая о своем.
— Ну, комбинированный корм.
Мелания помолчала.
— Ты что-то путаешь, детка.
— Ничего не путаю.
— Бросай это, иди лучше поешь. Я отварила картошки. И простокваша есть.
«…у основания конечностей и рогов сильно понижена температура. Пульс — 40 ударов в минуту…»
Надо собраться и купить наконец собственные часы. А то как нищенка — вечно одалживаешь. Не брать же с собою в колхоз большой будильник!..
— Оставь это! Картошка стынет.
— И за вашу картошку, тетя Мелания, спасибо, но я есть не буду.
— Помилуй, это почему?
— Потому что считается — я тут на своих харчах. И не могу…
«Диагноз: молочная лихорадка». Так. Теперь «лечение».
— …и не могу без конца питаться за ваш счет. Точка.
— Какое это питание? Если б еще жаркое, а то картоха, которая все равно…
— В принципе разницы нету — картошка или жаркое. Сегодня я купила хлеба и салаки. Чем плохо — хлеб с салакой? И к тому же вчера осталось масло. Сейчас кончу, и мы можем вместе покушать.
— Как же это вместе, если ты свое, а я свое?
— Обыкновенно.
— Как будто повздорили, да? Как будто сцепились и поцапались? Да у меня в погребе стоит и прорастает целых два мешка. Кто их умнет, если уже весна и скоро будет молодая картошка? Куда ее девать? Свинью я не держу. Куплю аппарат и начну гнать самогон? А на одной сухомятке ты…
— Тетя Мелания!
— И слушать не хочу. На одной сухомятке желудок у тебя ссохнется, с наперсток станет и прирастет к хребту, вот увидишь. Я работала в больнице и знаю, отчего бывают все желудочные хвори.
— Ой, тетя, не обижайтесь — вы мне ужасно мешаете. Я, кажется, в рецепте напутала. Сейчас кончу.
Мелания нехотя замолчала, однако не ушла, а Джемма еще раз строчку за строчкой перечитала:
«R. Sol. calcii chlorati 10 % — 200,0
Sol. glucosae 40 % — 150,0
M. F. Solutio.
D. S. Intravenosi».
— Надеюсь, я не наврала… А то опять влетит от Войцеховского… Все? Теперь все. Ах нет, еще подпись.
Так, наконец все.
— Когда же это он тебе хотя одно словцо плохое сказал? Или выругал? Накричал?
— Хуже того. Он разговаривает со мной как с глупым ребенком! Да еще так спокойно и вежливо — дескать, стоит ли из-за нее портить себе нервы.
— А кто же ты, если не ребенок? В восемнадцать-девятнадцать-то годков?
— Мне скоро будет двадцать один.
— Велика разница!
— Еще какая.
Джемма закрыла дневник и спрятала в ящик.
— Ты что же, в техникум пошла после средней школы?
— Не совсем. Промучилась девятый класс. И чуть не две четверти десятого. Но захотелось быть самостоятельной, независимой. Пошла работать. Потом передумала и поступила в веты.
— Самостоятельной… Ходить на танцульки и покупать импортные тряпки…
— Не только.
— Джемма!
— Ну?
— Ты что-то от меня скрываешь, золотко.
— Скрываю? Что именно?
— Вот не знаю. Но ты о себе ничего не рассказываешь. Каждое слово хоть клещами вытягивай.
— А вы? Вы что, открываете душу первому встречному?
— Как это понимать — первому встречному?
— Ах, тетя, ну чего мы спорим! Хотите, я вам лучше что-нибудь спою?
— Споешь?
— Ну да. Знаете, недалеко от нас, где я живу, строили мост. Среди рабочих были и украинцы, белорусы. По вечерам они пели. И мне нравилась одна песня. Я уже не помню всю — отдельные строчки.
— Ну-ну?
— Не знаю только, поймете ли вы, — усомнилась Джемма. И запела:
И Мелания, которая была мастером чуть не на все руки, а в языках была слаба — слаба, и все тут, — действительно не поняла ни слова и только слушала Джеммин голос, а голос был высокий и девичьи чистый.
— Красивая песня, ей-богу. А дальше?
— Дальше не помню.
— Про что же там поется?
— Ну, приблизительно так: у кого было горе да печаль, выходил на улицу и кричал о том на весь свет.
Мелания обиженно покашляла.
— Значит, по-твоему, Джеммик, рассказать мне о своем горе — это кричать на весь свет?
— Да, может, мне и рассказывать нечего? Ведь может так быть? Здоровая. Молодая. Живая. Чего мне еще? Ой, посмотрите, какое небо!
Небо было затянуто розовым шелком и красоты необычайной, однако Мелания в окно не смотрела, только на Джемму.
— Ладно, пусть будет по-твоему. Не хочешь рассказывать, не рассказывай, пес с тобой. Стану я себе этим голову забивать! Пойдем на кухню. Картошка — ай-яй-яй! — небось совсем остыла, придется нам есть холодную.
— Я же сказала вам…
— …что не будешь есть, да? — вскипела Мелания. — Тогда я тоже не буду, язви тя в душу! Пускай засыхает. Пойдем на боковую с пустым брюхом и положим зубы на полку. Нет — так не надо. Сами себя накажем, и пропади оно все пропадом!
— Ну, тетя…
— И слушать не хочу! Знаешь, я человек мирный, но, честное слово, будь я на месте твоей мамы…
— Вы мне уже говорили, что…
— …я бы эту дурь из тебя выбила, не мытьем, так катаньем. Вот тебе крест. А потом пускай мне хоть сутки дают. «Не хочу» да «не стану есть»… «совершеннолетняя» да «независимая»… и хвост крючком, и гребень торчком… От чего же ты независима? Не бывает так и вовек не будет — намотай это себе на ус. Никогда ты не будешь независима, никогда! До тех пор пока будешь жить среди людей. Если не от матери с отцом, то от Войцеховского с Меланией, не взыщи. А не будет Войцеховского да не будет Мелании, так, не бойся, найдется какой-нибудь Панцеховский и какая-нибудь Евлалия. Потому что люди всегда зависят друг от друга. И вся жизнь — одна сплошная связь и зависимость и — ответственность, ведь люди сталкиваются друг с другом и оставляют друг в друге след, люди строят друг друга и разрушают друг друга, люди…
Мелания все больше загоралась и увлекалась, Мелания зажигалась и вдохновлялась, она уже чуяла в воздухе запах нового стихотворения — она слышала его, как собака слышит мясо, а Джемма… Джемма испортила все, неожиданно вскрикнув:
— Тетя — ой! — вы опрокинете вазу.
— Горе мне с тобой, — сказала Мелания, замечая, как испаряется вдохновение — так быстро и безнадежно, так бесследно и безвозвратно, что прямо хоть плачь.
— Доктор!
— Слушаю вас, Мелания, слушаю.
— Хочу поговорить с вами с глазу на глаз.
— О, это звучит несколько угрожающе! Но пожалуйста. Так что же у вас на душе?
— Я насчет практикантки.
— Начинается… — буркнул Войцеховский и покривился.
— Что «начинается»? Ничего не начинается. Это не начинается, а — как бы тут выразиться — продолжается…
— Продолжается? Что именно?
— Я даже не могу вам путем рассказать.
Он вздохнул.
O bože, судьба, видно, отвернулась от тебя, пан Войцеховский, если этого не может рассказать даже Мелания!
— Видите, доктор, у меня такое подозрение…
— Уточним: факт или подозрение? Чтобы не было недоразумений.
Теперь пришла очередь испустить вздох Мелании.
— С одной стороны, вроде только подозрение, а с другой…
— Более или менее ясно. Дальше! Выкладывайте все, я готов к самому худшему.
— У меня, доктор, подозрение, что она… сбежала из дома.
Он засмеялся с облегчением. O sancta simplicitas![13]
— Только и всего? Я не любопытствовал, какого она года рождения, но мне, не без оснований, кажется, что она совершеннолетняя… подождите, Мелания… и не сбежала она сюда, а прислана официально: по командировке — с печатями и подписями. Что же касается работы и поведения, у меня никаких замечаний нет. А у вас? Над чем же мы ломаем свои старые головы, дорогая Мелания? Не вижу ни малейшего повода для паники и отчаяния. Я…
— Буквоед вы, доктор, и бюрократ! Печати. Законы. Подписи. А что у человека вот здесь творится, — она трахнула кулаком по груди в области сердца, — на это вам наплевать.
— Дорогая Мелания, спокойно! Ну хорошо, давайте начнем по порядку. Итак, она жаловалась, что…
— Дожидайся, будет она жаловаться! Ничего она не жаловалась. И так видно. По глазам. А наговорила она мне с три короба… даже песню спела.
— Ни с того ни с сего? Нелогично как-то.
— Ну, началось с пустяка — я спросила, почему она домой не пишет, а она…
— И она тут же принялась петь?.. Мелания, вы принимаете меня за дурака.
— Ничуть. Почти так оно и было, как я говорю, только сперва мы малость повздорили. Вывела она меня из терпения. Под конец я пригрозила — вот возьму и кокну. И хотела, едят ее мухи, кокнуть!
— Однажды, Мелания, вы уже кокнули, — сухо сказал Войцеховский, — добрую славу нашего ветучастка. Благодаря своему чудовищному либерализму. Боюсь, что вы собираетесь это проделать еще раз. И на сей раз из-за своей столь же чудовищной склонности лезть в чужую душу.
— Я — лезть? Я, доктор, хочу только добра!
— Возможно, очень возможно. Но возможно также, вы слыхали такое выражение — благими намерениями вымощен путь в ад?
— Человек хоть сдохни — вам все равно!
— Что ж, может быть. Только в отличие от вас я не стараюсь это ускорить.
— Ну, знаете! Мне…
— Боюсь, Мелания, что, продолжая в том же духе, мы начнем повторяться. Поэтому давайте займемся каждый своим делом. Я, стало быть, еду, а вы…
— Я вас любила и уважала, доктор, а теперь…
— Теперь вы во мне разочаровались, понимаю. Мне очень жаль, Мелания, что я периодически, регулярно даю вам повод для разочарования, однако меня радует, что вы всякий раз откровенно мне об этом сообщаете.
Мелания вышла, хлопнув дверью громче обыкновенного, и забренчала инструментами — тоже громче обычного.
Хм. Чего, собственно, хотела Мелания? Чтобы он вызвал практикантку на допрос? По какому поводу? В конце концов, тут же не прокуратура. Его слова и тон, конечно, могли показаться со стороны холодными и, может быть, даже циничными. А что он должен был делать? Ассистируя Мелании, отпрепарировать по мышечному волокну, по нерву чужое сердце, обсосать и обслюнявить чужие страдания, обшарить, как вор карманы, чужую жизнь и, как ищейка, бежать по чужому следу? Статус руководителя практики не давал ему полномочий ни следователя, ни исповедника.
И что там вообще между ними вчера произошло? Войцеховский был высокого мнения о своей интуиции и воображении, но на это его фантазии не хватало. Тихая замкнутая Джемма и сердобольная душа Мелания сцепились, и притом будучи трезвые? Мистика.
«Сбежала из дома…» Уж это явная глупость и никак не выдерживает критики. «Не пишет…» Это больше похоже на правду. Может быть, ей и писать некому? Ах, да. Отец работает в лесу, мать — агрономом. По данным местного справочного бюро.
Конфликтная ситуация? Охлаждение?
— «Не пишет…»
А как назвать то, что разделяет его с Петером? Конфликтная ситуация? Охлаждение? По сути они друг другу всегда были чужие…
За дверью раздался звон бьющегося стекла. Наверное, один из больших шприцев, как жаль, ах Мелания, Мелания! Так, сейчас придет с повинной и начнет бичевать себя как святая великомученица. О небо, действительно идет! И сия чаша его не минует.
— Ладно, Мелания, ладно, я слышал и понял… все ясно… конечно, бывает… чего только на свете не бывает… сталкиваются автомобили и разбиваются сердца… люди стреляются, вешаются… и что в сравнении с этим один десятикубиковый шприц? — говорил он, уже одеваясь, чтобы скорее, быстрее избавиться от Мелании, потом сунул под мышку папку с отчетами и вышел на улицу, где у конторы уже стоял газик. Солнце было вверху, в небе, солнце было внизу, на земле, солнца было так много, что он остановился на крыльце, сразу ослепший как сова.
— Доброе утро!
— А, это вы, Джемма, здравствуйте!
Войцеховский взглянул на нее: что за этим последует — может быть, жалобы на Меланию?
Не последовало.
— Я еду в Раудаву и оставляю все на ваши плечи.
Последние слова он присовокупил шутки ради, но она ответила с такой детской серьезностью, что он невольно улыбнулся.
— Хорошо, доктор.
Так, что еще?
— Если я задержусь, возможно, я оттуда позвоню.
— Хорошо, доктор.
Кажется, все. В ногах с самого утра была какая-то ноющая тяжесть — опять к перемене погоды? — в животе был кофе, а в голове торичеллиева пустота. Надо ехать, нечего терять время.
Мелания лежала, повалившись на кровать, и плакала. Она плакала навзрыд, как плачут дети, дергаясь всем телом и пряча лицо в подушку, откуда доносились не то всхлипывания, не то задушенное мычание. Она плакала с глубоким отчаянием, как плачет перезрелая женщина, зная, что в будущем ее не ждет ничего — не будет ни детей, ни внуков, ни мужа, ни дома с крыльцом и бархатцами в саду и подсолнухами, зная, что сейчас она упустила последний шанс — если не обзавестись всем этим, то хотя бы построить карточный домик или замок из песка, что само по себе, конечно, не много, но все же больше, чем ничего; зная, что винить ей некого, так как виноваты многие и многое, стало быть — судьба, а винить судьбу все равно что собаке ловить собственный хвост, — и что в будущем ее ждет одно из двух: либо как старой карге клясть и поносить все, о чем она втайне мечтала, либо глушить горе спиртным зельем, что она, кстати сказать, и попробовала, но, увы, безуспешно, — зелье, напротив, ее предало, оно, подлое, ее взвинтило и прорвало в ней все шлюзы, обмануло, бросив ее в постель, заставляя лить слезы в три ручья и вырывая сердце из груди, как будто бы она бензином пыталась потушить огонь.
Что же такое случилось?
Мелания встретила Хуго Думиня. С тех пор как они разошлись, они с Хуго видались не раз, и в случайной встрече самой по себе не было бы ничего особенного. И может, все прошло бы, как всегда, чин чином, если бы не это яркое, буйное весеннее солнце, которое нещадно обнажило все, что милосердно скрывала зима. И Мелания увидала, какой Хуго зеленовато-бледный и какие синие у него круги под глазами, И еще она увидала, что сквозь брезент его рюкзака кругло выпирают одни белые булки и ни единого ребра черного кирпичика. И, заметив это, она поняла, что здоровье Хуго опять никудышное, что он опять мучается язвой желудка, что ему нужна овсянка и паровые котлеты, а не хлеб всухомятку, которым он себя окончательно гробит, и еще она знала, что при таком питании Хуго может отдать богу душу, и на сияющем фоне весны это было видно особенно ясно, потому что Хуго выглядел хуже чем когда бы то ни было.
— Здравствуй, Мелания, — сказал он, как обычно, и Мелания, ответив ему, хотела пройти мимо — тоже как обычно, но Хуго остановился и, справившись, как-то ей живется-можется, вдруг без околичностей задал вопрос, не надумала ли она все-таки, и она переспросила, что не надумала, в каком смысле, хотя сразу догадалась, куда он гнет и клонит, так ясно поняла, что в груди сердце екнуло. И тогда Хуго добавил: ну разве ей никогда не приходит в голову или хоть когда-нибудь не мелькнет мысль вернуться в Лаувы? Так сказал Хуго, прямо глядя на нее глазами цвета незабудки. И Мелания, которая все ухватила до тонкости и с такой ясностью, что сердце колотилось как бешеное, осведомилась, как надо понимать его слова — вернуться насовсем? И он сказал, что насовсем и навсегда, на всю жизнь, на веки вечные, и улыбнулся бледными губами. Все в Меланин кричало: да, да, да! — и рот открылся, чтобы подтвердить это вслух, но в самое последнее мгновение, еще не успев произнести эти слова, она пристально взглянула ему в лицо и поняла, что ничего, к сожалению, не выйдет и жить в Лаувах она все равно не сможет, потому что каждый божий день будет вспоминать то, что хочется забыть, и это будет не жизнь, а мука мученическая.
— Нет, Хуго, — не видя иного выхода, сказала она тогда, — мне и у себя, в ветучастке, живется неплохо.
Так она ответила, и до того спокойно, самой на удивление, как будто не приговаривала себя этим к одиночеству на долгие годы.
— Ну, ты небось метишь на самого Войцеховского, — сказал Хуго без тени ревности, тоже хладнокровно, и это лишний раз показывало, что он очень болен и ему нужна не жена, а сиделка, как в свое время была нужна сиделка его матери.
— Да, я со дня на день жду, что он ко мне посватается, — сказала Мелания первое, что попалось под руку.
— Тогда ясно, — мирно согласился Хуго, понимая, что кому-кому, а завзятому ухажеру Войцеховскому натянуть нос не удастся.
И они расстались, как расстаются люди на рынке, где один хотел продать какой-то пустяк, а другой не пожелал купить — обидно, и все же стоит ли из-за этого злобиться друг на друга и точить зубы. Так думал, во всяком случае, Хуго, но только одна Мелания знала, сколь дорогой ценой оплачен ее отказ, который со стороны мог показаться таким гордым и кичливым, как будто она была первой красавицей, если и не во всем Раудавском районе, то по крайней мере в Мургале. «Сам Войцеховский…» Это курам на смех, нужна она Войцеховскому, такая лошадь! Смешно, а ее душили слезы. И, вернувшись домой, она дала волю слезам. Хлебнула водочки, чтобы успокоиться, а результат получился обратный, и Мелания заревела в голос и никак не могла перестать и уняться, кончить и поставить точку.
— Тетя Мелания! Мелания, что случилось?
А Мелания горько плакала. Джемма обхватила ее за плечи, посадила и сразу унюхала — выпивши. Сидя, Мелания раскачивалась корпусом взад-вперед, как маятник. Лицо у нее было все красное, опухшее от слез, и мокро блестели не только усики, но и волосы на висках — от рыданий и водки она совершенно раскисла.
— Что случилось? Несчастье? Я принесу вам сердечных капель.
Мелания покачала головой и кивнула на стоящую в изголовье бутылку с настойкой на донце.
— Вон мои сердечные капли… Да не помогают, Джеммик, не помогают…
— Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?
Мелания опять помотала головой и отозвалась безнадежно, надломленным баритоном:
— Никто мне не может помочь, Джемма. Сегодня я на всем поставила крест.
— На чем, тетя?
— На всем.
Джемма принесла в мензурке валерьяновых капель, и Мелания, хоть и отказывалась, все же их выпила. Потом, нашарив под подушкой носовой платок, осушила лицо и громко выбила нос.
— Кто-нибудь умер?
— Все умерло, — с судорожным вздохом сказала Мелания и затем повторила эти слова уже как строчку стихотворения: — «Все умерло…»
Она помолчала немного, потом порывисто обняла Джемму и прижалась к ней.
— Я встретила его.
Джемма не поняла, кого именно, и спросила наугад:
— Вам сообщили плохую новость, да?
— Нет, Джемма, совсем наоборот — он звал меня к себе. Но я сказала: нет, Хуго!
— И теперь… плачете?
Мелания кивнула и опять всхлипнула.
— «А я? Если бы я встретила Северина и он… Но этого не может быть. И вообще — все умерло», — мысленно сказала Джемма, не замечая, что повторяет слова Мелании. «Все — будто сквозь лед, будто под пеплом, будто под снегом… И никаких чувств… после больницы — даже ненависти…»
— Это длинная история, — проговорила Мелания.
— Что? — встрепенулась Джемма, блуждавшая в своих воспоминаниях.
— Про меня и про Хуго Думиня. Как мы познакомились и как расстались.
Мелания тяжело поднялась и достала из ящика фотографию, наверно давнишний снимок, потому что Хуго был на нем так молод, что годился Мелании разве что в сыновья. Она показала его Джемме, потом с грустью взглянула на карточку сама, опять испустила вздох и сказала:
— Я ведь не местная, Джемма. — Мелания бережно спрятала фотографию в ящик и ящик задвинула. — В Мургале меня привез этот самый Хуго. Мы познакомились в больнице. Не знаю, говорила ли я тебе, но восемь лет я работала санитаркой при людях. Хуго лежал в нашем отделении месяца полтора. С язвой. Желудочники, они вообще задохлики, а Думинь первое время был совсем никуда — как прошлогодний огурец. За день пять слов, не больше! Газетки читает, книжечку листает, в окно смотрит. Другие поговорят хоть, анекдоты расскажут, в карты сыграют. Ни разу никто его не навестил, и мы решили — старый холостяк и со странностями. Прямо зло иногда на него брало: как телок, ей-богу, который потерял коровью сиську! И знаешь, Джемма, я про него написала свой первый стишок…
— Тот самый — «Когда б мне три желания Судьба…»?
— Да что ты! Так просто, шутейный. Все санитарки и сестры смеялись, один он ничего не знал.
И подумай, прямо в точку попала! Ему и правда никто не готовил. Дома — одна старая мать, и та параличом разбитая, уже год не вставала с постели. Но тогда я этого не знала… По прошествии времени — тут уж многие меня остерегали: если мужик до сорока семи лет не оженился, что-то такое там не того. Сам он соседям в палате вроде обмолвился, что живет без женщины из-за мамы. А что за фрукт эта мама, я увидела и испытала на своей шкуре, но это уже следующее действие в нашей опере.
Разговор Меланию успокоил. Рука сама собой скользнула с кровати, нашаривая бутылку, которая стояла на полу. Но Джемма отодвинула ее ногой подальше.
— Не надо, тетя. Опять заплачете. Лучше рассказывайте.
— На чем я остановилась?
— На больнице. И на маме…
— Да, да, помню. Ну, кис он и чах, этот язвенник из четвертой палаты Думинь, куксился и хандрил, супился и молчал, пока в конце концов малость не подлечился и не воспрял духом. Выйдет на солнышко, погуляет и даже — чудеса в решете! — улыбается. Так потихоньку мы с ним и снюхались. Когда у него нет процедур, а у меня выдастся свободная минутка между раздачей пищи и клизмами, мы выходим и гуляем вместе. Как раз цвели деревья. А пахли! И кругом одни веселые лица, потому что выходить в сад разрешали только тем больным, которые, как говорится, одной ногой уже дома. Собралась я с духом и написала той весной не только шуточный стишок, но и первое настоящее стихотворение «В больничном парке». Его напечатали в «Здоровье». Тебе не попадалось?
Джемма не помнила, но Мелания не обиделась, нет так нет, разве может человек все упомнить.
— В любой день Хуго могли выписать. Было ясно, что не вечно же мы будем ходить под деревьями, взявшись за руки, и женихаться. Надо было решать, что делать. Он мне рассказал свою жизнь. Земли у Думиней никогда не было столько, чтобы с нее кормиться, и в скольких-то уже поколениях мужики в семье плотничали. И Хуго тоже — как в свое время дед и отец. Мать еще смолоду овдовела и так вдовой прожила до старости, и единственный сын, этот самый Хуго, всегда был — один свет в очах — балованным чадушком. И еще оказалось, что Хуго вовсе не старый холостяк, а женатый человек, два раза женатый, но оба брака расклеились. Не могла я понять почему, но допытываться не стала, а подумала только, что попались, наверно, горячие такие бабенки, а желудочные больные, известное дело, любовники неважные. Другое дело туберкулезники! И только потом, уже здесь, в Мургале, у меня открылись глаза, кто в Лаувах толкет черта в ступе. Мамаша! Знаешь, какими словами она меня встретила, когда я приехала — уже без пяти минут жена Хуго и ее невестка? Я наклонилась над кроватью — поцеловать маму, а она говорит: «Рожа как ночной горшок!»
— Правда?
— Вот те крест. Меня как ушатом холодной воды окатили. Так-то встретили меня Лаувы, Джеммик! Но я еще думала: старый, больной человек, что нам делить, авось выдержу, в больнице-то я к чему только не привыкла. И терпения у меня было если не вагон, то уж тележка наверняка. Неужто не вытерплю, неужто не уживемся? И сколько там она протянет, такая немощная, что доктора наказали, чтобы, сохрани бог, не вздумала не то что вставать и ходить, а даже на постели садиться, сразу может быть новое кровоизлияние — и конец. И она не подымалась, она хотела жить, Джемма. хоть бы и лежа, хоть на карачках. Она боялась не только встать на ноги, но даже руку протянуть к тумбочке и взять кружку с питьем. Сразу: «Ме-ла-ния!» И я должна бросать все и бежать сломя голову, не то обложит последними словами. Шлюха да паразитка, лодырь и нескладеха… Редко какой хозяин так загонял свою лошадь, как она меня. Скотина ведь денег стоит, а что стоила я? Иной раз полю грядки — слезы лью и вспоминаю больничный парк: как мы гуляли с Хуго рука в руке, как говорили о будущем, как собирались взять из приюта маленького ребятенка, ведь своих уж, наверно, у нас не будет… И тут я поймала себя на том, что удивляюсь: неужели это действительно было, а не приснилось мне во сне?..
«И мне тоже так казалось, — подумала Джема. — Как все-таки люди похожи друг на друга! А я считала — у меня одной так… у другого так просто не может быть…»
— Ты еще слушаешь?
— Да, тетя Мелания.
— Высосала она меня дочиста, как паук высасывает муху. Чувствую, что и я становлюсь вредной, сварливой и желчной. Заразила она меня своей злобой, как болезнью, как чумой. Мне бы взять да уйти, да жаль было Хуго. И все же надо было все бросить и тогда еще уйти со двора, не висела бы тогда на моей совести жизнь человека… — Мелания посмотрела на Джемму: в глазах зажглись лиловые огоньки страха, как у собаки. — …ведь я убила свою свекровь! Ты слышишь?
«Я тоже убила, — думала Джемма, — только не больную и вредную старуху, которая зажилась на земле, а своего, ни в чем не повинного ребенка».
— Ты поняла? Я…
— Поняла.
— И ничего не говоришь?
— А что мне сказать, тетя Мелания? Что могут изменить мои слова?
Мелания немного помолчала.
— Страшный ты человек, Джемма. Такая черствая. Каменная. Тебе когда-нибудь было кого-то жалко?.. Иногда я тебя просто боюсь.
— Правда? — горько усмехнулась Джемма.
— Из каждой сотни женщин самое малое девяносто девять уже бы давно засыпали меня вопросами, как это вышло и как могло случиться, что я сижу сейчас тут, на своей постели, а не где-то на казенных харчах.
«И я тоже сижу здесь, а не в тюрьме», — думала Джемма.
— А ты — даже не спросишь, — удивилась Мелания.
— В первый вечер, когда мы с Войцеховским возвращались с анализов, знаете, что он мне сказал? Он сказал: «В тех случаях, когда спрашивать покажется неудобным, мы с вами приблизительно так, без особого труда поймем, что суем нос куда не следует».
— Ну, вы с Войцеховским два сапога пара… Уму непостижимо, ей-богу, как это вы не спелись…
— Мы с ним, наверное, два левых сапога, Мелания. Поэтому.
Джемма подошла к окну, открыла и стала смотреть в окно. Действительно ли ей не хочется узнать тайну Мелании? Или она боится быть непорядочной, ведь искренность предполагает ответную искренность: откровенность за откровенность, прямоту за прямоту, признание за признание, однако листать свою жизнь перед другими, как Мелания, — это было выше ее сил.
И после простодушно-тоскливых слов Мелании о «ребеночке из приюта» как она может рассказать, с какой легкостью она истребила собственное дитя? Ну ладно, не с легкостью. Пусть с мукой. И все же… Миллионы женщин так поступали миллионы раз, не видя в том ничего плохого, и миллионы будут поступать так впредь. Почему же у нее, глупой, такое острое ощущение пустоты, более того — свершившегося убийства? Из больницы она вышла, словно потеряв не только ребенка, но и еще что-то, она не знала, каким назвать это словом, она просто не была больше тем, чем была до сих пор. Усталая от жизни, испытавшая и повидавшая все — пугливая и жалкая, как старуха, постоянно ждущая удара, как побитая собака…
Могла ли она после рассказа Мелании, как Хуго Думинь звал ее обратно — старую усатую Меланию, которая, оказалось, кому-то все же нужна, — могла ли она открыться, что не нужна Северину, который ее бросил, как грибники бросают в лесу обувь. Идешь лесом — и вдруг у просеки пара туфель. Не худые, не очень изношенные. Может, забытые? Вряд ли. Скорее, владельцу вдруг показалось; они не стоят того, чтобы носить их с собой и возить, когда корзина полна крепких боровиков, когда транзистор играет веселую музыку, когда погода такая чудная, а в машине — нарядные запасные туфли. И каждую осень в лесу остается брошенная обувь, а каждая такая пара, наверно, имела свою судьбу, ведь у вещей тоже, как и у людей, есть своя судьба.
Разве Мелания, одиноко жившая в здании ветучастка и жаждавшая семьи и своего дома, могла понять, чего не хватало Джемме, у которой были не только отец и мать, но еще мачеха и отчим, и стайка сводных братьев и сестер, и вдобавок не один, а два дома?
Разве Мелания…
Джемма услышала тихий храп. Растянувшись на кровати, Мелания спала. Сон сгладил горести, и она выглядела только очень усталой, как человек, своротивший гору и там же свалившийся с ног. Джемма ее разула, накинула на нее пальто, так как Мелания лежала на одеяле, потом притворила окно, чтобы не выстудить комнату, и в кухне поужинала — впервые за все время практики в одиночестве. Без деятельной и шумной Мелании дом казался вымершим, и в тишине что-то скреблось в стенах — точильщики, что ли? Возможно, и точильщики, такой старый дом…
За стеной раздалось приглушенное треньканье. Телефон. Она поспешила в контору, сняла трубку.
— Ветучасток.
— У вас там нет Войцеховского? — спросил на другом конце провода женский голос.
— Войцеховского? Тут? Он здесь не ночует.
— Что?
— Зачем бы он ночью был здесь? Звоните в квартиру.
— Звонила. Квартира не отвечает.
— Тогда его, наверно, нет дома.
— Один в декрете, другого нет дома… А мне надо ветеринара. И сейчас, немедленно. — Пауза. — А у вас там совсем никого нету?
— Есть Мелания и еще — я.
— Новая фельдшерица?
— Практикантка.
— У меня овца того и гляди околеет. Раздулась и хрипит. Наверно, чего-то съела. — Пауза. — Вы слушаете?
— Конечно.
— Мне показалось, что положили трубку. Ну, вы можете прийти? Только быстро.
— Далеко это?
— Нет. В Купенах. — Пауза. — Вы меня слушаете? Хутор называется Купены.
— А где он находится?
— У механических мастерских. Серый рубленый дом, под шифером. Механические мастерские знаете?
— Как будто бы.
— Это у старой мызы. Мызу-то вы хоть знаете?
— Большие такие деревья на взгорье?..
— Ну, ну! За мостом через Выдрицу. Я звоню с фермы, но у меня здесь мопед. Я приеду раньше. Поторопитесь…
— По эту сторону мастерских или по ту?
— …так мы вас ждем.
— Послушайте, а вы не можете… Алло!
Положили трубку.
Ну, как-нибудь. Она дойдет до Выдрицы, а там увидит…
Окрестность тонула в белесой тьме и в дымке весенней ночи. Строения — и ближние, и дальние — плыли в ней таинственными парусниками и диковинными баржами, все одинаково дымчатые и серые. Редко в каком окне блестел огонь. Сколько может быть времени? Джемма не посмотрела. Одиннадцать? Двенадцать? В воздухе струились мягкие звуки — лениво передаивались собаки, отворялись и затворялись двери. Тянуло горьким влажным духом земли и легким сладким ароматом цветения — все запахи были гораздо острее, чем днем. Не видно было ни прохожих, ни проезжих; курилась земля, в вышине мерцало несколько сонных звезд, и в воздухе дрожал нежный шум — листьев, дождя ли, — который становился тем громче, чем ближе подходила Джемма к еще полноводной Выдрице.
Перейдя через мост, под которым журчала река, она огляделась. Сквозь дымку было видно несколько дворов. Серый, рубленый дом под шифером… Любой из них мог быть рубленым и под шифером. Ночь делала похожими и рубленые постройки и тесовые, и белый кирпич и газобетон, и шифер и жесть. Купены — впереди они или она их уже прошла? Догадались бы хоть выйти навстречу! Но человеку местному это, наверно, казалось так просто: мост, мастерские, парк — где тут заблудиться?.. Вон впереди — парк это или опушка леса? И где тут могут быть мастерские? Днем светлые крыши мастерских блестели на взгорье, видные даже с ветеринарного участка, а сейчас все растаяло в ночной мгле, сквозь которую, белея во тьме, дорога вела к какому-то мутному отсвету.
Она двинулась в ту сторону и набрела на два длинных, как опрокинутые плоскодонки, здания, освещенные одинокой лампочкой. Так, мастерские. Нигде ни души. Она постояла, прислушалась, впрочем не представляя себе, какие звуки могли бы указать ей верное направление. Сквозь тишину доносился лишь еле уловимый плеск воды и очень-очень далекий шум, похожий на глухой тяжелый звон, с каким сюда докатывался преображенный расстоянием гул шоссе, а может быть, и железной дороги. Мигая бортовыми огнями, из-за деревьев вынырнул самолет, ревом мотора вытеснил на миг все прочие шумы, скрылся за вершинами, и опять стали слышны тихие звуки речки.
Джемма прошла еще немного, но кругом были только деревья. Сколько хватало глаз — одни стволы и кроны и переплетенные между собой ветки, протыкающие дымку, еще голые, но уже полные набухших почек. Она, видимо, заблудилась и хотела уже повернуть назад, как заметила серый угол здания.
Это, однако, было не здание, и, подойдя ближе, она увидела, что перед ней ворота кладбища с выгнившими деревянными частями, на месте которых в центре каменного свода тускло светлела большая дыра, как мутный невидящий глаз. Сквозь высокие частые деревья сюда не долетало ни звука, тут царил нерушимый глубокий покой. Но ветреной ночью, подумалось Джемме, здесь, наверно, стоит шум и треск, вой и свист. И она поежилась, как от холода, хоть и сама не понимала причин своего страха — так же как его ощущали, но тоже не могли объяснить и гораздо более мудрые люди. Может быть, в ней заговорил инстинкт самосохранения? Или на нее пахнуло близостью небытия? Или же в этом страхе напомнили о себе вековые предрассудки и суеверья? Каким образом, чем могли обитатели этого немого царства угрожать живым? Разве каждый, кто входил в эти ворота, не возвращался оттуда всегда целым и невредимым? И разве кто-нибудь, кого туда вносили, не смирялся и хоть раз выходил из-за ограды?
Она это знала, как знали это все, однако невольно вздрогнула, почувствовав, что тяжелая застывшая тишина накрывает ее словно крышкой. Хотелось быстрее отсюда выбраться. Хруст гравия и скрип чемоданчика с инструментами эхом отдавались по сторонам дороги, напоминая шаркающие, шлепающие, чиркающие шаги, она не раз оглядывалась, и, хотя ворота издали вновь походили всего лишь на угол серого здания и возле механических мастерских по-прежнему не было ни души, она, достигнув мастерских, вздохнула с облегчением и решила не плутать больше наугад, куда кривая выведет, а зайти на ближайший хутор, где еще горит свет, и спросить дорогу.
Она так и сделала — в беловатой мгле недалеко от речки наметила себе светящийся прямоугольник окна, к которому вел обсаженный деревьями прогон, и направилась туда. С приближением стал различим бледный свет еще в одном окне, как бывает, когда дверь в соседнюю комнату осталась открытой. И это второе, белесое окно казалось очень уютным и теплым, сонным и домашним, оно излучало полную, тихую гармонию с плодоносной тишиною весенней ночи, в которой струились привычные грубые запахи сельских дворов, говоря о близости людей и животных: пахло сеном и хлевом, вспаханной землей и дымом. От построек веяло дыханием жизни, и теперь, после блужданий в царстве смерти, Джемму охватило надежное и спокойное чувство общности всего живого.
Но тишину вдруг разорвал пронзительный лай. Прогоном навстречу ей со всех ног неслась собака. Джемма остановилась. Скрипнула дверь, раздался злой женский голос. Отзывал он собаку? Или науськивал? Не понять. Пес в слепой ярости гавкал на Джемму захлебываясь, а женщина орала без перестану. На собаку? Или на Джемму? Она постояла, не решаясь приблизиться к дому и надеясь, что, может быть, женщина выйдет навстречу. Она даже ее окликнула. Но это не возымело действия: женщина знай вопила, а пес надрывался. Неужто придется в самом деле уйти? Выждав еще немного, Джемма нехотя повернула назад, вдруг почувствовав себя очень усталой и ко всему безразличной. Вышла на дорогу. Так. А дальше?
Но она не успела ничего придумать — на повороте большака полыхнули фары и на мосту через речку загремел мотоцикл. Она выбежала навстречу и подняла руку.
— Вы не можете мне показать, где тут Купены?
В ответ раздался хмельной смешок.
— Ну, что я говорил? Не сказал ли я вам, что мы еще встретимся и вы будете спрашивать у меня дорогу?
— Так вы тот самый…
— Тот самый тип и шалопай Ингус, точно! Садитесь сзади — домчу с ветерком. Со мной вы не пропадете.
— Я с вами не поеду.
— А почему?
— Все потому же — вы опять пьяны.
— Вот это дает, сильна! А только никто еще не видел, чтобы Ингус не стоял на ногах. Я…
— Некогда мне болтать с вами, понятно? Меня ждут.
— Ну-ну, кто же это вас ждет?
Во дворе снова поднялся крик:
— Куси, Джек, куси! Возьми ее! Хватай!
Джемма с опаской туда посмотрела.
— Какая-то бешеная старуха! Я хотела спросить дорогу, а она…
— Это вы в точку — и правда бешеная. Но это бы еще полбеды. Самое паршивое то, что она — моя персональная теща!
— Да ну!
— Точно!
Пес надвигался, не переставая лаять, пока мужчина не прикрикнул:
— Джека, совести у тебя нет!
И собака, будто устыдившись, смолкла, однако женщина не унималась.
— Ингус, сейчас же домой! — вопила она так, что вместо Джека загавкали соседские псы, но мужчина не обращал на крик никакого внимания.
— Так кто же это, девушка, вас ждет с медовым пряником?.. А, догадываюсь. Только почему в Купенах, вот вопрос.
— Так уж и догадываетесь — у меня вызов.
— Наконец дошло. Но чтобы хорошенькая девица в такую чудную весеннюю ночь моталась впотьмах ради какой-то буренки? Если б ради залетки! — и он снова засмеялся.
А женщина, направляясь к ним, кричала:
— Суки эти девки! Я сразу углядела — так и крутится у дороги, так и топчется, ждет-поджидает, так и зыркает по сторонам… Ну, думаю, не иначе как сговорились. Так и есть — катит! И сразу шу-шу-шу… Что ты на нем виснешь, паскуда? Что вы бегаете за ним задравши хвост? Вот огрею поганой метлой — клочья полетят…
— Не слушайте ее. Драться она не дерется, а берет глоткой, — примирительно сказал Ингус, вынул пачку сигарет и протянул Джемме.
— Не курю, — отказалась она. — И вообще…
— Небось читаете «Здоровье»?
— Читаю.
— А я не читаю, — мирно отозвался Ингус и закурил.
— Ах ты шлюха! — блажила тем временем женщина. — Являются всякие потаскухи и уводят мужей у законных жен!
— Что она на меня взъелась? — спросила Джемма уже со слезами. — У меня срочный вызов, а я…
— Чего же вы сразу не сказали, что срочный?
— Как это не сказала?.. Вы… вы отвратительный человек! — сорвалась на крик и Джемма, по-женски выливая обиду и горечь, свое невезенье на голову первого встречного, на голову Ингуса. — Все вы отвратительные!
Ингус молчал, в темноте лишь мерцал огонек его сигареты.
— Что за люди? — продолжала Джемма. — Один вопит так, будто я пришла его обокрасть. Другой…
— А другой?
— Неужели вам трудно показать дорогу?
— Да я предлагал вам даже отвезти. Вы не захотели.
— Едем!
Джемма взобралась на заднее сиденье и думала придержаться за ручку, но мотоцикл так рванул с места, что она, опасно качнувшись, быстрым движением обхватила мужчину за талию. Брань мигом растаяла где-то позади, в треске мотора, только пес еще метров пятьдесят бежал следом, пока в конце концов не отстал.
В свете фар газика Джемма мелькнула на столь краткое мгновение, что Войцеховский не мог бы сказать, как, по каким признакам он узнал ее в темноте, и, будь у него секунда на размышление, он вряд ли остановил бы машину в этом месте, где Джемме незачем было находиться и где она вроде и не могла находиться между двенадцатью и часом ночи, однако времени на раздумье у Войцеховского не было, и руки помимо его воли крутанули руль вправо, а нога сама собой нажала тормозную педаль, и газик подкатил к обочине в десятке метров впереди Джеммы.
— Это действительно вы! — воскликнул Войцеховский, — Я уж думал — померещилось. Домой?
— Домой.
Садясь в машину, Джемма слегка споткнулась. Войцеховский подался ей навстречу, но она не взяла протянутую руку, и он только поднял маленький чемоданчик, в котором что-то звякнуло так знакомо для его привычного уха, что он сразу догадался:
— Инструменты?
— Да.
Она тяжело опустилась рядом и взяла чемоданчик на колени.
— Спасибо,
— Вызов?
— Да.
Он взглянул на нее сбоку и откашлялся.
— Вид у вас не очень бравый. Или, может быть, я ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь, — бесцветно отвечала она, потом нервно заговорила, постепенно распаляясь: — Позвонили, а чтобы толком объяснить, где это… У механических мастерских. Ну, я и плутала там впотьмах вокруг мастерских, до парка прошла и даже до кладбища.
— До кладбища? — удивился Войцеховский и выжал сцепление.
— Да.
— Но там, насколько мне известно, до поворота на Ауруциемс нет ни одной усадьбы.
— Вам-то известно. А мне?
— Конечно, — согласился Войцеховский, перебирая в уме все ближние хутора. — Куда же вам все-таки надо было?
— В Купены,
— Ясно. И вам же вдобавок сделали выговор за опоздание? Так бывает.
— Если бы только это! — отозвалась Джемма, — Навстречу мне вышли с кровавым ножом. Какая-то ужасная женщина…
— Молодая или старая?
— Ну, в летах, уже за тридцать.
«Наверное, Алиса», — догадался Войцеховский, хотя «ужасная женщина» и «в летах» никак не вязались в его представлении с обликом Алисы.
— Разве не могла она хотя бы выйти навстречу? Так нет, взяла и зарезала не дождавшись… Только за смертью, говорит, меня посылать. Как будто я желала чьей-то смерти! Я шла с инструментами, у меня зонд, я бы спасла… ну хоть попыталась бы спасти… А она — она, знаете, сует мне в руку этот кровавый косарь и толкает меня к загородке, где у нее двое ягнят. «Иди, решай, говорит, их тоже!» Как будто не она заколола овцу, а я!
И вдруг произошло то, чего он от Джеммы меньше всего ожидал, — она заплакала. Войцеховский поморщился. Он не выносил слез. Это было его слабое место, что он и сознавал, как и многие другие свои недостатки, за которые ему не раз приходилось платиться. Будоража его эмоциональную натуру, слезы выбивали его из душевного равновесия. Трогали его и злили, делали агрессивным и в то же время беспомощным. И если бы женщины знали, как много можно добиться от Войцеховского слезами, они бы наверняка чаще пользовались этим прекрасным средством, к которому прибегали скорее интуитивно, чем сознательно. Войцеховскому же инстинкт самосохранения, как правило, сигнализировал о приближении сего опасного момента, так что застать его врасплох было довольно трудно.
— Если вы надеялись… — заговорил он, за холодной деловитостью пряча волнение, — если вам казалось, что вам уготованы одни лавры и подвиги, а неудачи и поражения вас минуют, вам не следовало идти в ветеринары.
Она не ответила, только шарила по карманам в поисках носового платка.
— О чем вы думали, когда шли на ветеринарное отделение?
— Ни о чем я не думала, — неожиданно крикнула Джемма. — Я с детства любила мучить животных, вот и пошла.
Ну, пан Войцеховский? А какого ответа ты ожидал на свой провокационный — ну, скажем мягче, — стереотипный вопрос? Что она станет восторженно лепетать что-то в духе газетной статьи? Или пожмет плечами? И понравилось бы тебе, если б она, еще не понюхав настоящей работы, была бы уже равнодушна к плодам своего труда? Затем ли она тащилась, гремя чемоданчиком, в Купены, чтобы увидеть окровавленный нож?
— Простите, пожалуйста, — проговорил он вполголоса, — если мои слова вас обидели. Но боюсь, в нашем деле вам придется не однажды пережить нечто подобное. И не раз кто-то выйдет вам навстречу с кровавым ножом, сведя на нет все ваши усилия, поверьте мне, коллега. И да хранит вас, как говорится, судьба от таких весьма малоприятных ситуаций, когда вы будете принуждены взяться за нож сами.
Джемма нашла носовой платок и громко высморкалась.
— А вы, доктор? Вы все это уж до тонкости знали, когда пошли в веты? Что думали вы?
Он отрывисто засмеялся.
— Я? Я, пожалуй, мог бы ответить вашими же словами — по-моему, ничего я не думал. Только жизнь моя сложилась так, что мне слишком много пришлось видеть, как живые существа причиняют друг другу зло, мучают друг друга и заставляют страдать. И мне оставалось одно из двух: стать либо идеалистом, либо циником. Я выбрал первое. Был я молод — во всяком случае, гораздо моложе, чем сейчас, — и горел желанием делать добро. Смешно, не правда ли? — добавил он, чтобы речь его не показалась слишком патетичной.
Но Джемма оставила эту оговорку без внимания и только спросила:
— И оно исполнилось?
— Что именно? — не понял Войцеховский.
— Желание делать добро.
— Я очень надеюсь, что хотя бы отчасти, — искренне сказал он. — На все сто процентов наши желания исполняются редко. Но я был бы большим лицемером, если бы стал утверждать, что никогда не испытывал удовлетворения от своей работы. Испытывал. Порой, возможно, иллюзорное, когда практический — можно сказать, общественный — эффект моей деятельности не вполне отвечал степени удовлетворенности, что тоже бывало. Вас в техникуме, наверно, учили, что одна планомерная массовая прививка, скажем, от туберкулеза приносит обществу безусловно больше пользы, чем спасение жизни отдельного животного. Конечно, если отвлечься от особых, исключительных случаев, когда речь идет о выдающихся экземплярах или крупных материальных ценностях. А какую ценность имеет, например, беспородная собака или кошка? Каждую весну в Выдрице их топят дюжинами. Никакой ценности — только цена жизни. А какова она, цена жизни? Продажно-покупная цена? Я бы не стал этого утверждать, тогда мне пришлось бы слишком многое перечеркнуть. Хотя бы те минуты просветления, какое я чувствовал, соприкасаясь с жизнью во всей ее наготе, не защищенной никакими рациональными соображениями. И если бы это не отдавало религиозностью, я бы сказал, что жизнь это святыня и мы — жрецы этой святыни. Куда как возвышенно звучит, правда? Но в обыденной жизни мы, слава богу, не говорим громких слов и не рассуждаем умно о своей миссии, а совершаем ряд практических и неблагодарных, однообразных и утомительных манипуляций — ходим как заведенные часы. И лишь иногда сквозь все пробивается глубинный смысл этих прозаических действий. И приводит нас в смущение — это бывает как вспышка, как извержение лавы. А трезво обдумаешь, иной раз и усомнишься, мог ли тут сыграть решающую роль сам объект. Какая-то случайность, совпадение — какая-то вибрация определенной частоты, но это вдруг отдается эхом в структуре именно нашей души, которая все время скрытно, как адская машина, работала в нас подобно заведенным часам…
Войцеховский опомнился. O bože, чего он звонит как колокол и заливается соловьем, забывшись, поддавшись желанию выговориться! Неужто и правда он так постарел, что думает вслух, сам того не замечая? Может быть, на следующей стадии увядания он начнет разговаривать сам с собой в пустой квартире?.. Какой внезапный прилив красноречия, ай-яй-яй! Будем надеяться, что она, по крайней мере, спала, пока ты исходил трелями, пан Войцеховский…
К сожалению, нет. Отнюдь не спала. Посмотрев на Джемму сбоку, он встретился с ее взглядом. «..усомнишься, мог ли сыграть решающую роль сам объект…» Если это так, значит Войцеховского глубже, чем кажется, задели события истекшего дня. Если же это не так и «объект» или по меньшей мере слезы «объекта» — о черт!.. Он был крайне недоволен собой и ощущал свое недержание чуть ли не как позор. А что думала о потоке его красноречия Джемма? Смеяться она не смеялась, сидела молча, и на том спасибо.
Подрулив к зданию участка, Войцеховский попрощался с ней жестче, чем было бы логично после собственной откровенности и Джемминых слез, ведь ни того, ни другого — нравится это им или нет — сбросить со счетов уже нельзя. Тут не поможет никакое брюзжанье. Тем не менее по дороге домой он продолжал досадовать, невольно возвращаясь и чуть не в сладком самоистязании задерживаясь мыслями на том, что именно ему за долгий день не удалось и какие были осечки, ведь в Раудаве он зондировал почву насчет временной замены фельдшеру Велте, однако получил отказ — сколь ни любезный и по-своему даже лестный, а все же отказ. Ему пришлось выслушать жалобы на нехватку ветеринарных кадров вообще, что он и без того не только прекрасно знал, но и постоянно чувствовал на своей шкуре, и намеки, что участку, в отличие от колхозных ветеринаров, и делать-то нечего, и отвечать не за что, и похвалы своим трудам. Все это слабо одно с другим вязалось, было шито белыми нитками и практически означало только одно, а именно — что Феликс Войцеховский по меньшей мере еще два месяца должен работать как вол. Зато у района будет свой пай-мальчик, свой маяк, которого в любое время дня и ночи можно поставить другим в пример: «А как же Войцеховский может? Как Войцеховский все успевает и справляется один?» Вот если бы он умер, тогда да, человек нашелся бы сразу, самое позднее на третий день он был бы на месте как штык…
И, настроившись на брюзгливую волну, Войцеховский припомнил уж заодно и сегодняшнее свое посещение Цилды, завернуть к которой он не собирался и тем не менее завернул, хотя, как он твердо знал, делать этого не следовало. «Уметь вовремя поставить точку — это великое искусство, — уже запирая дверь, рассуждал он. — Одно из величайших искусств в мире, — подумал он. — Но кто же не грешит против него? Разве не грешит даже физика — хотя бы учением об инерции?»
Чего он ждал от этой встречи? Решительно ничего, и это было самое худшее. Повторение пройденного на энной ступени. Подогретое чувственностью, уже кислящее варево позавчерашних страстей, от которого не подцепишь даже триппера, разве что понос. Какого же рожна он лез, отлично зная по опыту, что не может он питаться одной физиологией — без грана поэзии и хоть крупицы иллюзий; по предположениям, которые стали общепринятыми взглядами, все это считается привилегией молодости, а для него, старого козла, наверно, будет его счастьем и несчастьем до конца дней. К тому же Цилда как типичный представитель дамского пола в точности угадала его чувства и настроение, так что он успел скрыться буквально, он полагал, за пять минут до вселенского плача… и по пути подобрал другую плачущую женщину.
«Do diabla!» — переступая порог, чертыхнулся Войцеховский, и навстречу ему бросился Нерон — стал на задние лапы и, соскучившись, лизал ему подбородок и щеки.
— Ну будет тебе! — отворачивая лицо, сказал он, однако сразу внутренне оттаивая, отмякая, и почему-то, без особой связи со всем предыдущим, подумал: зачем это люди воздвигли такой барьер высокомерия между собой и животными? Не будь Нерона, как знать, не завыл бы он сам когда-нибудь по-волчьи?
После рыданий и настойки Мелания почувствовала, что надо малость полечиться, и в этот поздний час пила заваренный сухой малиной чай, приняв до этого, чтобы пропотеть, кружок аспирина, ведь он помогал — она это знала по личному опыту — не только от простуды, но и от всякой хвори.
Она проснулась вскоре после полуночи, обнаружив, что лежит одетая, поднялась и хотела раздеться, но сна тем временем и след простыл. Побаливала голова, и жутко хотелось пить, так что не оставалось ничего иного, как отправиться на кухню, что она и сделала. Вскипятила чай и, прихлебывая из кружки с сахаром вприкуску, понемногу опять вспомнила свою встречу с Хуго, однако уже без прежней горечи, как будто с тех пор миновало не несколько часов, а гораздо больше времени и успело сгладить остроту переживаний.
Да и какие молочные реки ждали ее там, в Лаувах? Такой запущенный дом, заросший дальше некуда сад, больной муж. Разве могла бы она вот так поваляться? Где уж! Разве ей не пришлось бы отчитываться за каждую минуту безделья, за каждые сто грамм шоколадных конфет: человек Хуго хороший, слов нет, но терпеть не может праздношатанья и с деньгами ой как прижимист, этого тоже не отнять. И примирился бы он с тем, что жена потягивает настойку и кропает стишки? Не покажется ли ему, что первое — смертный грех и мотовство, а второе — пустая трата времени и блажь? И если бы она еще в хорошую минуту или сдуру, не дай бог, выболтала Хуго то, что давеча едва не растрепала Джемме, разве Хуго верил бы ей хоть на грош, даже пойди она за него в огонь и в воду? Будешь тогда биться головой об стену, а заводить скандал — от этого проку мало. Про пенсию надо ей помаленьку думать, а не про замужество. Да и где еще у нее будет такая волюшка, как здесь, в ветеринарном участке? Разве начальник хоть раз на нее крикнул, как бы они ни схватились? «Пожалуйста, Мелания, не можете ли вы сделать то-то и то-то?» Разве таких слов ей дождаться от своей половины? Можно, конечно, иногда посидеть помечтать, можно и поднять паруса, а все же, если по чистой совести: разве не будет она в Лаувах только прислугой? Ну ладно, пусть сейчас не для двух человек, а для одного, если Хуго опять не взбредет на ум держать корову: тогда ты будешь привязана к коровьему хвосту и будешь ходить еще и за скотиной. У всякой медали есть оборотная сторона, и важно лишь то, с какой стороны мы подходим. Одиночество несет с собой свободу, а семья — кучу забот и мелочную зависимость от мужа. Но ей теперь нечего ломать голову. Она сделала выбор, и сейчас, попивая малиновый чай с сахаром в теплой кухоньке ветучастка, которая ничуть не хуже закопченной кухни в Лаувах с помойными ведрами в углу, а даже, наоборот, гораздо уютней, Мелания чувствовала себя почти довольной своей жизнью, в которой есть, конечно, теневые стороны, но у кого в жизни их нет?
Возможно, она пребывала бы не в столь безмятежном состоянии духа, знай Мелания, что Джеммы нет дома, что ее нет в соседней каморке и не спит она крепким сном, как положено в этот час, а болтается среди ночи бог знает где. Она бы, пожалуй, тогда не сидела, не благодушествовала за кружкой горячего душистого чая, а нет-нет и вышла бы в нетерпении на крыльцо — посмотреть да прислушаться, не идет ли Джемма, ждала бы и тревожилась, ведь по природе своей Мелания, как справедливо сказал Войцеховский, была наседкой. По призванию она была матерью, а осталась бездетной. И кого винить в этом? Войну ли, которая выбила мужскую половину Меланьиного поколения? Природу ли, что, раздавая направо и налево свои дары, наделила Меланию сердцем, открытым всем человеческим страстям, но забыла приложить свою искусную руку к Меланьиной внешности? Из нее вышел бы бравый и дюжий парень, веселый гуляка, не шибко умный, зато верный как пес. Беда в том, что она принадлежала к слабому полу и жаждала того, чего жаждет всякая нормальная женщина: она желала быть любимой, хотела быть женой и матерью, но годилась в лучшем случае на то, чтобы переспать с ней ночь и чуть свет смотать удочки, а в худшем случае годилась в даровые прислуги.
Мелания налила уже третью кружку, когда у крыльца затормозил газик ветеринарного участка. Неужели доктор только сейчас вернулся? Машина постояла минутку и фырча покатила дальше. Не иначе как гостил у своей сударушки в Раудаве, что же, он допоздна торчал у «главного» или бегал по комитетам? Если только не появилась новая краля. Взял бы и женился, вместо того чтобы шляться. Не те уж годы, еще инфаркт заработает. Но мужик, он мужик и есть — пока ноги носят, все новенького ему подавай и новенького, как будто все бабы не одним миром мазаны. Да не ее это, как говорится, собачье дело, и не в ее силах божий свет переделать и Войцеховского, упрямого как осел, если собственная жена когда еще ничего не могла с ним сделать. Какая жизнь была у этой Марты! Одни бессонные ночи да слезы, и под конец ужасная смерть в ванне… Опять же, с другой стороны, чем лучше подозрительный ревнивец, когда жена без него и шагу ступить не смеет? Разве легче жить с вечным брюзгою, который только и знает киснет, хулит и поносит все? И разве приятнее жмот, который за копейку удавится, не говоря уж про отпетых синюшников, у тех на уме одна сивуха — ни побриться путем некогда, ни брюки выгладить, а ходят вахлаками — рубаха на заду выбилась? Какой мужик без заскоков и дури. И Войцеховский — всегда подтянутый, наутюженный, выбритый, вежливый и умный, недоступный — в конце концов был вовсе не худшим среди ветреной и погрязшей в грехах мужской братии… За окном раздались легкие шаги, кто-то впотьмах подергал дверь, вошла Джемма и тут же зажмурилась от яркого света.
— Тебя не было дома? — удивилась Мелания.
— А вы что, не заметили?
— Ну, да!
— Вы действительно спали как убитая и даже — не обижайтесь, тетя, — храпели.
— Да где же ты была? Не спуталась ли с кем, упаси бог!
— А если и так? Мне уже не четырнадцать лет, я…
— Совершеннолетняя, как же, знаю, уже слышала! А мне начальник в первый же день строго наказал: «Вы, Мелания, мне за нее отвечаете». Так что…
— Войцеховский? Правда? Не заметила что-то, чтобы он так уже пекся о моей нравственности.
Мелания взглянула на нее подозрительно.
— Ты была с ним, что ли?
— Не совсем. Он подобрал меня по дороге и довез от речки.
— А что ты там делала?
— Позвонили по телефону с одного хутора, вызвали, но все оказалось зря. И вообще, неохота мне говорить об этом.
— Раздевайся. Горячий чай вон. Но ты набегалась, небось и поесть охота?
— Аппетит прямо волчий! — раздеваясь, отозвалась Джемма. — А сколько сейчас? Бог ты мой, без четверти два! Иванова ночь да и только… Стыдно так поздно за еду браться.
— Какой же там стыд: раз хочется, подкрепляйся. И в плите полный бак теплой воды. Можешь умыться.
— Батюшки, как я теперь спать буду! Наверно, без просыпу, — зевая, сказала Джемма и налила в таз воды, в то время как Мелания собирала на стол.
— А сам-то сейчас из Раудавы или еще где был?
— Войцеховский? Насколько я поняла, из Раудавы.
Мелания вздохнула и, ставя на стол плошку с маслом и полбуханки хлеба, посетовала:
— Доведут его эти женщины до ручки, помяни мое слово.
— Какие женщины? — намыливаясь, отозвалась Джемма.
— Какие? Ну, ты уж не ребенок. Есть у него в Раудаве одна такая пышная разводка. Мильда или Хильда. Хорошая, дорогая портниха. У нее шьют наши первые модницы. Вот он к ней и катается… Если только не завел другую! Он из тех мужиков, которые нашу сестру быстро окрутят, но быстро и бросят.
Мелания помолчала, не говорила ничего, молчала вытираясь, и Джемма.
— Про фельдшера он не поминал? — возобновила разговор Мелания.
— Нет.
— Значит, опять не вышло… И о чем же вы разговаривали?
— Да так.
Джемме не хотелось признаваться, что она плакала, а если не сказать ни слова о слезах и о том, из-за чего все вышло, то теряло всякий смысл передавать их разговор в дороге, и она повторила только:
— Да так, тетя. О работе, о животных.
— Вот уж кого он любит, — отвечала Мелания. — И насколько он с бабами крученый-верченый, настолько верный он с тварями. Если к какой привяжется, то крепко уж, навсегда. О себе он рассказывать не любит, разве что нечаянно с языка сорвется. Но один раз — уж не помню, по какому случаю — он, посмеиваясь, обронил: мол, животные дают ему почувствовать себя человеком, что не всегда можно сказать насчет прекрасного пола. Подумать надо!
— Представляется! — решила Джемма, отрезая тупым ножом кривой ломоть хлеба.
Мелания задумалась.
— Поди знай, представляется или не представляется. Иной раз, Джемма, ей-богу, кажется — сволочь он и дрянь распоследняя! Свою жену загнал в гроб… А потом случится что-нибудь такое, и перевернет все вверх дном, и ты стоишь разинув рот, — не человек, а золото! Про него наперед ничего не угадаешь. В его шкуре два, а то и три Войцеховских. И я не удивлюсь, если под коней жизни он отколет какой-нибудь номер, так что все только ахнут.
Джемма с удивлением подумала: как точно это подметила наблюдательная Мелания! В Войцеховском действительно живет как бы два или даже три человека. Недоступный, спесивый, постоянно заряженный ехидной усмешкой и вооруженный тростью лысый щеголь, который делает вид, будто он выше всех земных страстей, а сам украдкой бросает похотливые взгляды на женщин, — разве позволял ли хотя бы заподозрить в нем то таинственное, задумчивое и как бы просветленное существо, которое нежданно открылось ей сегодня вечером; и как все это, в свою очередь, вяжется с «пышной разводкой» и другими пошлыми связями, от которых дурно пахнет и в которых он, если верить Мелании, ощущал себя скорее животным, чем человеком?
Но, в отличие от Мелании с ее почти безграничной терпимостью к слабостям, Джемме была свойственна категоричность молодости — она признавала только да или нет, только белое или только черное, и противоречия в рамках одного характера были, по ее понятиям, лишь притворством, ложью, против чего восставало все ее существо, когда Джемма думала о Войцеховском. Но загадочной личности Войцеховского было присуще и обаяние, которое она замечала, сама теряясь от несовместимости своих чувств, не сходившихся с ее представлениями о добре и зле.
— Так-то, — сказала Мелания, думая тоже о Войцеховском. — Один раз он на моих глазах зарезал корову, когда больше некому было, а дать скотине околеть сердце не позволяло. И думаешь, он хоть изменился в лице? Ничуть! Но я видела, как он часами возился с запущенным абсцессом, когда можно было прикончить свинью, и никто бы слова не сказал. В первую зиму, когда я сюда поступила, кто-то привязал к дверной ручке участка больного щенка, а был лютый мороз, и оставил тут не иначе как помирать. Наверно, проезжие люди, потому что здесь ни у кого такого волчонка не было. Пес был при последнем издыхании — пневмония и вдобавок еще конъюнктивит в тяжелой форме. Глаза гноятся, шерсть взлохмаченная, бока ходуном ходят, сам дрожит и трясется всем телом. Не жилец, в общем. Неученая я, а и мне было ясно, что же говорить о Войцеховском — доктор. Считанные дни остались, если не часы. Не знаю что — может, бездушие, жестокость людская? — но что-то взорвало Войцеховского. Он так разволновался, таким я его не видела. Кутенок, я говорила тебе, был безнадежен, а он с ним возился-нянькался, как будто от этого зависела собственная жизнь! «Тут, Мелания, вопрос принципа», — сказал он, когда я обмолвилась, что все это зря. Не знаю, что он хотел доказать и кому. А только он и правда сотворил почти чудо. Пес встал на ноги, да еще вымахал великаном, Только зрение сохранить не удалось. Ты заметила его глаза?
— Так это… Нерон?
— Да, и почти слепой. А ты не знала, Джеммик? Да главное для собаки ведь не зрение, а нюх и сердце… Ну, а мало ли бед натворил-учинил этот пустобрех Тьер, господи Иисусе, он не только ругается как матрос, он один раз загадил ему отчет в министерство, а другой раз содрал с паспорта фотоснимок, и пришлось ехать в милицию объясняться. А уж безобразил — в окно обзывал прохожих, раз ночью поднял всех на ноги. «Пожар!» — кричит, а то сделал короткое замыкание, так электрик битых три часа ковырялся, пока нашел причину. Да разве Войцеховский, который во всем любит чистоту и порядок, стал бы терпеть это от человека? Ни в жизнь, головой ручаюсь! А от этого чучела, нате вам, терпит. Что сделаешь — кого мы любим, от того готовы терпеть все… Этот говорун и трещотка ему вроде бы подарок от сына, вот попка и дурит, озорует, как балованное дитятко. Он-то потешный, слов нет. Животики надорвешь. Но чтобы такого держать дома… В три дня от него поседеешь. И попробуй он, едрена вошь, сыграть со мной такие штуки, как с Войцеховским, я бы, наверно, как запустила в него чем ни попадя, и тогда нежной дружбе конец, шабаш, потому что зло этот болтун помнит, не забывает, как и его хозяин. Вылитый Войцеховский, кровная родня.
— Странная птица, — сказала Джемма, имея в виду Тьера.
— Да, странная птица, — согласилась Мелания, имея, однако, в виду Войцеховского. — Я так и не раскусила его, хотя за девять-то лет мы с ним, как говорится, пуд соли съели.
— Наверно, — сказала Джемма, не вникая в Меланьины слова, а только рассеянно ей вторя. Очнулась: девять лет ведь и в самом деле срок огромный, за эти годы в ее жизни произошло столько перемен! Девять лет назад она еще не была даже подростком, и мама жила еще вместе с отцом, к тому же они считались дружной парой, и втроем они жили еще в Лигатне, где у них была белая корова, какой ни у кого в округе не было — все держали латвийскую бурую, — белая корова по кличке Снежинка, и как раз над их домом проходила воздушная трасса, самолеты летали над головой, мигая бортовыми огнями, и она, начитавшись в журнале про стюардесс, надумала стать стюардессой, но потом влюбилась в одноклассника Гирта, тот решил пойти в моряки, и она передумала — захотела плавать, но, узнав, что в мореходку девушек не берут, проплакала весь вечер. Ей казалось сейчас, будто все это было в доисторические времена…
А Войцеховский? А Мелания? За эти годы они пуд соли съели… А что еще с ними произошло? Изменилось ли что-нибудь в их жизни, или они просто жили и жили, понемногу старея, что, должно быть, ужасно?
«Просветление, — вдруг вспомнила она безо всякой связи с предыдущим, — вспышка…»
Что такое просветление? Всего лишь красивое слово? Душевное состояние? Или чувство?
Джемма старалась найти в своей памяти что-нибудь такое, что бы заслуживало этого названия, но искала тщетно, будто оно было достоянием только Войцеховского и тот лишь на короткий миг великодушно приоткрыл занавес в неведомый ей мир, из которого шел искристый свет и о существовании которого она не подозревала.
Этот сон он видел много раз, столько раз, что теперь даже во сне угадывал мнимость происходящего. Но вопреки тому, что он это сознавал, впечатления всегда поражали его так глубоко и непосредственно, с такой остротой, что он просыпался в холодном поту, с глухо стучащим сердцем и долго потом лежал с открытыми глазами, вслушивался в мягкие шумы ночи, льющиеся из погруженной во тьму и покой округи. Он приходил в себя долго и мучительно, больше всего боясь опять заснуть, чтобы вновь не попасть в силки кошмара.
Во сне его убивали.
Его убивал Витольд Стенгревиц, как и Зенона, и он, так же как брат, лежал среди двора, не в силах больше идти, и, упираясь руками в землю, пытался хоть приподняться, но не мог и только барахтался в выжженной солнцем траве, чувствуя себя смешным и жалким, извивался, как раздавленный червь, как раз в тот момент, когда больше всего не хотелось быть смешным и жалким. Он всячески старался встать на ноги и в отчаянии клял свою слабость и немощь, беспомощность и бессилие, что было низким предательством по отношению к нему собственного тела в этот решающий час. Он сумел лишь поднять голову, чтобы заглянуть в круглый темный глаз ствола, и еще он мог медленно ползти, не больше того. И все же он делал, по крайней мере, то, что мог; дрожа от напряжения и выкрикивая проклятья палачам и смерти, которую презирал и которой, как всякое живое существо, боялся, он с упорной, неистовой яростью и с леденящим ужасом лез прямо на ствол, глаз которого перед ним ширился и разрастался, превращаясь в черный, тяжко гудящий тоннель…
Сквозь сонные звуки одетой ночной мглой местности в открытое окно докатились далекие глухие раскаты. Оконный проем призрачно высветило бледным сияньем, раздался ослабленный далью рокот — сюда шла гроза. Войцеховский лежал с открытыми глазами, наблюдая, как она приближалась: как нарастал грохот и нервным трепетным светом все чаще проявляли квадрат окна вспышки, как взвилась занавеска и снаружи влился глоток тяжелого влажного воздуха.
Так бывало всегда — проснувшись, он анализировал свои ощущения, и ему почти каждый раз удавалось понять, какие внешние раздражения заставили его вновь пережить всю жуть такого знакомого сна. Но что меняла его способность понять и объяснить? Могла ли она предотвратить хотя бы повторение сна? По опыту он знал, что нет и что рассудок не властен над токами подсознания. И только ли в его сон ворвался первый весенний гром эхом далекой войны? Тоже вряд ли. Об этом просто не принято говорить вслух. В эту грозовую ночь, напоенную ароматом цветения, влагой и теплом, картины прошлого наверняка являются в снах и другим людям такой же или схожей судьбы, которых с каждой весной становится меньше и меньше, ведь люди с такой биографией долго не живут.
И Феликс Войцеховский с момента своего возвращения отчетливо знал, что срок ему отпущен, скорее всего, недолгий, и нынешний рубеж уже превосходил его ожидания и надежды: он не рассчитывал переступить порог своего пятидесятилетия. И разве сознание краткосрочности жизни — наряду с обстоятельствами и средой — не лепило его характер и образ действий? Не побуждало ли оно постоянно развивать до предела свои способности и таланты, ничего не откладывая на завтра, которого может и не быть? И, ощущая себя обобранным и ограбленным, не стремился ли он в свою очередь отнять, оттягать у судьбы все, что только можно еще успеть, и к тому же любою ценой, хотя бы сжигая свечу жизни с обоих концов, ведь тот, кому не суждено жить долго, живет жадно. Carpe diem![14] Он не желал чахнуть и тлеть, холить себя и беречь, лишь бы несколько отдалить конец. И всегда — как тридцать лет назад, так и нынешней ночью, — когда назревала гроза и сюда плыли, катились раскаты грома, больше всего он боялся, как и во сне, предательства собственного тела. С неослабным бдительным подозрением следил он за своим троянским конем — застарелым своим ревматизмом, который изредка выбрасывал его из седла: в один прекрасный день тот мог уложить его окончательно и бесповоротно, сковав члены и сделав беспомощным тело, погасив желания и притупив инстинкты. Его страшила та минута, когда жажду жизни перестанет подкреплять жизнеспособность, сам он мог ведь этого и не заметить, как не замечает этого перехода большинство людей. И кто же ему скажет, если он вовремя не скажет себе сам: хватит, Войцеховский, довольно, искусство умереть одно из величайших искусств в мире, искусство умереть — второе после искусства жить! Его мало заботило все, что будет с ним post mortem[15], и он желал только одного — чтобы в решающее мгновенье у него достало смелости поднять голову и взглянуть в черный и круглый глаз ствола…
Его ладони коснулся мокрый, прохладный нос Нерона. По каким-то ему одному ведомым признакам пес безошибочно узнавал, что хозяин проснулся, тонким слухом улавливая перемену в ритме дыхания. И, спустив руку за край дивана, Войцеховский стал гладить голову собаки своими чуткими пальцами, столь привычными к соприкосновению с живой тварью, что из них струился властный и успокаивающий магнетизм. Нерон подполз на брюхе еще ближе и застыл в сладостной и блаженной преданности, с какой из всех прирученных существ к человеку относится, пожалуй, только собака.
И, рассеянно лаская пса и чувствуя на своем лице его мягкое тихое дыхание, Войцеховский думал, что во сне он всегда переживает не только собственную смерть, но вновь и вновь — смерть Зенона. Может быть, в его подсознании, складывающем во сне причудливые мозаики из когда-то случившегося, осколков возможного и нереального, гибель брата осела как самая тяжкая утрата? Или неизбывную остроту всему придала новизна, ведь до этого — до весны сорок первого года, когда в их дворе полицаи застрелили тяжело раненного Зенона, которого отец прятал в бане, — до этого дня он никогда не видел, как бьют лежачего и как убивают человека.
То была война и не война, в этом можно и нельзя было винить войну, хотя война и втянула их всех против воли в свои страшные жернова. Не они решали — начать эту заваруху и резню или не начать, и не они были за все это в ответе. Но кто же может отвечать за все? У каждого своя сфера ответственности, свое «от и до». И были только сферы и огненные, кровавые скрещения этих сфер, в которых сталкивались… идеи? Убеждения? Классовые противоречия? Взгляды?
Какие же убеждения связали с «новым порядком» Стенгревица, который, наверно, даже не представлял себе его сути? Какие идеи могли объединить извечных врагов — отпрыска немецких баронов с правнуком бывших крепостных? Право убивать? Возможность грабить? И был ли Зенон Войцеховский для Стенгревица в первую очередь коммунист, представитель той власти, которая отрезала у хутора Лиготне пять гектаров земли, или прежде всего — красивый, заносчивый и видный собою поляк, этот вшивец и нищий, которому в школьные годы Витольд втайне бессильно завидовал и над которым обрел наконец превосходство, хотя этого превосходства не давали ему ни ум, ни сила, а только оружие в руках? Оружие многим давало возможность себя утверждать и чувствовать свою власть над другим человеком.
«Такой способ самоутверждения ценою жизни и крови ближнего — самый губительный недуг, который вытравляет все, чем отличается homo sapiens от хорька, — думал Феликс Войцеховский, — а роль всесильного ангела смерти окружает ореолом пигмея в брюках с зажатым оружием в руках…»
Дождь уже лил вовсю. Шторка ходила под ветром, то опадая, то надуваясь, как парус. Дождь хлестал не только в стекло, но и на подоконник и каплями стекал на пол. Так что разумнее было окно закрыть, чем держать открытым, — нальет воды, занавеской смахнет со стола газеты, ветром перевернет вазу. Но вставать не хотелось, свежий воздух принес в комнату сладкие ароматы — лопались почки, и листвой одевались деревья, и тянулась-лезла из земли первая травка. Поспешно и нетерпеливо раскрывалось и распускалось все, что запоздало, — в одну ночь ему предстояло наверстать упущенное. Черная туча шла прямо над Мургале, молнии попыхивали и сверкали почти разом с ударами грома. И после каждого раската в соседней комнате нервно лопотал Тьер. Может быть, в нем говорили древние инстинкты предков, память о тропических ливнях. А по телу собаки не пробегало и легкой дрожи, как будто все происходящее за окном не касалось ни ее, ни хозяина.
Ночь дышала первозданной, и, вопреки хаосу шумов и вспышкам, успокоительной и освежающей красотой — и Войцеховский, все еще рассеянно гладя Нерона и понемногу приходя в себя от пережитого кошмара, смотрел, как молнии в проеме окна то и дело кромсали темное небо.
Он наблюдал за происходящим с ярким ощущением неповторимости мгновенья, как смотрит человек на знакомое и близкое его сердцу, не будучи уверен, что видит все это не в последний раз. И это тоже, видно, было отзвуком сознания, что жизнь коротка, и всегда побуждало его ловить момент, им наслаждаться. И он не жалел, что живет именно так, хотя с годами этот его тезис все больше терял под собой реальную почву и превращался в прихоть, и свидетельством тому были пять десятков прожитых лет, и притом он не чувствовал себя ни слабее, ни больнее, ни тупее, чем тридцать лет назад, — он чувствовал себя лишь немного усталым от весны и чрезмерной нагрузки… А может быть, это все же старческая немощь, только он не хочет этого признать, как не хочет признавать никто, — ведь соотношение жизнеспособности с волей к жизни постепенно ускользает из-под самоконтроля и желаемое принимается за действительное?..
Удар грома с пламенем — и Тьер жалобно закричал:
— Фе-еликс! — присовокупив, как всегда в возбуждении, ругательства по-испански и итальянски. — Фе-е-еликс!
И Войцеховский, которому вставать вовсе не хотелось, все же поднялся, нашарил ногами тапки и пошел к Тьеру — успокоить нервного южанина, то хвастливого, то пугливого, вопли которого, когда тот разволнуется, становились просто невыносимы даже для привычного уха.
— Тьер!
Он протянул руку к выключателю, но свет не зажегся, только за окном опять расколола тьму молния.
— Ну, дружок, в чем дело? — заговорил Войцеховский. — Душа ушла в пятки?
— Ах ты, нечистая сила, — поглядев в окно, выругался Тьер, потом тяжело слетел со шкафа на плечо хозяину и, приветливо урча, вцепился в него как репей, что, бесспорно, со стороны Тьера было очень мило, однако причиняло некоторую боль, потому что острые крепкие когти впивались сквозь рубашку Войцеховскому в тело.
Он вспомнил, что именно так — нечистым — назвала Тьера Алиса.
«В эту тварь вселился сам нечистый!» — сказала она, когда принесла птицу в ветеринарный участок — как петуха, со связанными ногами и крыльями, и подарила Войцеховскому.
— Ну, ты и есть нечистая сила? — вполголоса спросил он, и Тьер ответил ему таким нежным воркованьем, на какое только способна такая луженая глотка.
Как видно, в Купенах Тьер наворотил кучу дел, если уж Алиса не только обозвала его нечистым, но и по своей охоте рассталась с подарком от самого Петера…
В ту осень Петер вернулся из дальнего рейса на рыболовном судне — загорелый дочерна, с головы до ног одетый в пеструю мешанину из заграничной синтетики и поделок кустарей жарких стран, диковинный и экзотический, как этот самый Тьер, денежный и восхищенный тем, что он узнал и повидал, готовый напоить всех и каждого, кто согласится слушать его захватывающие приключения, в которых суровая действительность была сдобрена буйной фантазией. Без малого три месяца прожил Петер в Купенах и один раз даже зашел к Войцеховскому, однако не домой, а в ветеринарный участок, только о том и говорил, что о близкой весне и о новом рейсе, но вскоре после Нового года прочел какое-то объявление, мигом загорелся, в который раз бросил Алису, уехал в Сибирь… а полгода спустя прислал письмо из Туркмении.
Характер Петера до того отличался от характера Войцеховского, был так ему противоположен и несуразен, что в минуты душевного смятения Войцеховский порой начинал сомневаться, может ли быть вообще, что Петер его сын. Больше того, бывали даже минуты, когда ему страстно хотелось не быть отцом этого вертопраха и шута. Но отрицать Петера значило отрицать Еву — Еву, какой она была в его жизни и осталась в его памяти: самый близкий человек и самое светлое воспоминание. Не признать Петера означало не признавать, что в этом мире возможно и что-то чистое, — или уж нельзя верить даже Еве. И доставляло ли это ему радость или страдание, удовольствие или разочарование, — Петер, который не носил ни его фамилии, ни фамилии Евы, а звался Купеном, был его сын.
К добру это или не к добру, пан Войцеховский, что в последнее время ты постоянно копаешься в своем прошлом, чего совсем еще недавно за тобой не водилось? Может быть, не в том суть, к добру это или не к добру, а просто налицо старость, которую ты не признаешь и от которой открещиваешься, а, пан Войцеховский? И не станешь ли ты на следующей стадии кое-что приукрашивать в своей прошлой жизни? Замазывать какую-то неприглядную трещину, кое-что покрывать политурой, лаком? После такого косметического ремонта твоя жизнь, безусловно, покажется куда симпатичней. Ее можно даже причесать и подмазать, как старую даму!
— Ну, do diabla! — сердито одернул себя он, сознавая тщетность такого самоанализа и терзаний, но круговые заходы воспоминаний в минуту одиночества снова и снова затягивали его, точно в водоворот.
Самое умное сейчас было бы снова лечь и заснуть, если бы сон не развеялся безвозвратно. Чем прикажете заняться человеку среди ночи в темном доме? Было бы хоть электричество, черт возьми!
Он нашел впотьмах спички, потом свечу, зажег и, озаряемый то и дело призрачным светом молнии, ощупью добрался до кухни, включил газ и поставил на конфорку чайник. Читать при мигающем язычке пламени было невозможно, магнитофон молчал и радио тоже — как же еще скоротать время в пустом и темном доме, доставив себе к тому же маленькое удовольствие, если не сварить чашечку кофе, который уже не мог разогнать то, что все равно улетучилось, — разогнать сон?
Пока вода грелась, грозовые разряды постепенно ослабли, только дождь хлестал и стучал по-прежнему и свет не загорался. Если молния ударила в столб или трансформатор, вряд ли до утра придут исправлять, так что надо смириться с темнотой, которую бессилен развеять горящий фитиль. О чем думать человеку в грозовую ночь при мерцании трепетной свечи? Только не надо опять за старое, пан Войцеховский! Давай думать о…
А вот и чайник вскипел! Войцеховский достал кофе в зернах и кофемолку. О, czarna kawa, rum… Но как же смолоть? Psia krew, неужели придется довольствоваться чаем? А что ж остается, если тебе так трудно держать хоть малюсенький запас молотого кофе на такой — в буквальном смысле слова — черный день? Трудно, не трудно, а никогда запаса нет: забота о завтрашнем дне и о последствиях, пожалуй, никогда не была его сильной стороной и, видимо, никогда уж не будет. Не надо потакать своим капризам и быть рабом своих страстей — будем пить чай! Горящая свеча, чашка мейсенского фарфора, призрачный свет за окном, белые кальсоны и попугай на плече… Сюда бы еще колоду карт, истрепанную и засаленную, как у Мелании, и он вполне сойдет за профессионального гадальщика, пропащего, отпетого грешника и плута или же за рядового призрака с мургальского кладбища — старого картежника и пьяницу, что, улизнув за развалившиеся ворота, в законный полуночный час предается добрым старым привычками и усладам…
Войцеховский невольно прислушался. Ага, дождь утих и перестал. И гром сквозь тишину рокотал глухо и невнятно. Значит, гроза ушла. Воздух лился в окно пряный, напоенный запахом весны. Дивная ночь. Такую и проспать жалко — как Иванову ночь. И в конце концов хорошо, что гроза подняла его своей канонадой, а то проспал бы он все на свете как сурок.
Сна как не бывало, но он не чувствовал себя разбитым и усталым, как обычно, когда мучился бессонницей, — и воспоминания прошлого и теперешние ощущения были очень четкими, как будто и его освежил грозовой дождь и ночная прохлада. И он не полез в постель, а, напротив, оделся, накинул плащ, сунул в карман фонарик и в сопровождении Нерона вышел из дома.
Потонувшее в темноте Мургале казалось низким и сплюснутым под громадой бескрайнего небосвода, который вдруг осветила вспышка зарницы, тускло отразившись в сплошных лужах. Немое зарево дрогнуло и погасло, и снова надо всем сомкнулась до одури пьяная весенняя ночь.
Войцеховский шагал без определенной цели, не думая, куда идет и зачем, и Нерон тяжело трусил рядом, шлепая по лужам, ведь собака до глубокой старости все равно что ребенок. Когда они поровнялись с отделением связи, Войцеховский вспомнил и нащупал в кармане ключ от почтового ящика, который всегда носил с собой, на металлическом кольце, вместе с ключами от квартиры, вошел в переднюю, где дверь была открыта круглые сутки, а вся стена занята почтовыми ящиками абонентов. Он посветил на свой и открыл его, вынул газеты и посмотрел, нет ли между ними письма, но писем не было. Чтобы увериться, он сунул руку в ящик, но царапнул когтями деревянное дно — нет, письма не было. Он запер ящик, сунул газеты во внутренний карман пальто, а фонарик и ключи в наружный и пошел, и собака семенила рядом, не отставая, но и не опережая и с удовольствием бредя по лужам.
Ни единым огоньком не оживленное и лишь изредка озаряемое дальним призрачным светом, Мургале казалось покинутым — ведь лаять собакам было уже поздно, а петь петухам еще рано — и вымершим. Ветер улегся, и в темной влажной тишине иногда лишь стучали капли, падавшие с мокрых деревьев и водостоков. В окнах ветеринарного участка, как и везде, света не было, царила мертвая тишина, и в стеклах по временам трепетно дрожали неживые блики зарницы… И все же одно окошко было раскрыто настежь, и в нем виднелось что-то белое. Человек? Или сдвинутая занавеска? При вспышке он различил женскую фигуру. И хотя черты лица разглядеть не удалось и даже очертаний тела, он понял, что это может быть только Джемма, которая смотрит, как удаляется первая гроза и полной грудью вздыхает разбуженная земля.
Аромат свежей смолки от клейких молодых листьев, горьковатый дух влажной почвы, свет молнии и стройная фигура в открытом окне… В нем всколыхнулось что-то так внезапно и сильно, что сжалось сердце. Чаяния и тоска, не ослабленные еще равнодушием; восхищение вселенской красотой мирозданья — все, что излучал этот реальный и в то же время нереальный образ в проеме окна, вошло в его душу и вновь от нее отразилось. Ему хотелось подойти, и все же он не подошел, не уверенный в том, не разрушат ли произнесенные слова красоту, которой лучше любоваться издали, как картиной, ведь именно в дистанции скрыто волшебство, вблизи же явственно проступают мазки. Он был достаточно стар, чтобы это знать, и все же, видно, недостаточно стар, если все последнее время неосознанно ждал этой минуты и если она, как бывает всегда, застала его врасплох. Он удивлялся своим чувствам, не по возрасту ярким, но их не стыдился, как не стыдился никогда, только часто скрывал, а это не одно и то же. И радостное возбуждение, его охватившее, которое — он знал это наперед — принесет с собой и страдания, было лишним свидетельством, что ничто не кончилось, не завершилось, что все продолжается и будет продолжаться еще и еще. После кошмара, в котором его убивали, он до головокружения остро и ярко ощущал в себе токи жизни.
То, что Мелания называла прощальным вечером, на деле было совсем скромным ужином на три персоны в квартире у Войцеховского, за накрытым по-холостяцки столом, для которого все, за исключением кофе и бутербродов, хозяин добыл в Раудаве, в гастрономе и кулинарии.
Так же, как некогда Меланьины рюмки, внешне компания выглядела весьма разношерстной. На Феликсе Войцеховском, как всегда ослепительно свежем и наутюженном, костюм был скорее домашний, чем парадный. Джемма, у которой и вообще-то особых нарядов не было, а с собою в Мургале тем более, пришла в спортивном джемпере и брюках и не совсем ловко себя чувствовала рядом с Меланией в черном люксовом платье с белым жабо из кружев, торжественном, как дирижерский фрак, и годном для всех официальных случаев, включая и похороны. И вообще гвоздем вечера, казалось, была вовсе не Джемма, в честь которой устраивалось это маленькое торжество, а Мелания: лаковые туфли, красивые, универсальные и вездеходные, как танки, будто созданные для мургальской глинистой почвы, горьковатые духи «Янтарь», что сейчас были в моде, особенно у пожилых женщин, собственноручная прическа, которая говорила о художественных данных Мелании, хотя и не очень шла ей, так как делала удлиненное лицо еще длиннее, и даже пластмассовые клипсы. Ничего не скажешь — дама! Со всем прочим не гармонировали только руки — большие, грубые, изъеденные моющей пастой и дезинфекционными средствами, с коротко остриженными и обломанными на садовых работах ногтями.
Между изящной фарфоровой посудой хозяина удобно разместилась глиняная миска с фирменным блюдом Мелании — блинцами. Ее фирменный напиток, увы, не удостоился такой чести, Войцеховский его куда-то засунул и выставил гостям лишь бутылку вина.
В то время как Войцеховский молол в кухне зерна — сварить кофе, Джемма рассматривала комнату, где была только второй раз, к тому же в первый раз она чувствовала себя здесь связанной, скованной — боялась собаку, и Войцеховского тоже, так что ничего толком не разглядела. Книги больше в старинных переплетах, и притом иностранные, ведь Войцеховский, как однажды сказала Мелания, читает и говорит на шести языках. Розовый торшер, уместный, скорее, в комнате женщины, чем мужчины. Всюду странные и, наверное, дорогие, редкие безделушки, статуэтки, фигурки чертей и божков. На стене картина с изображением то ли белых хризантем, то ли бледных тающих облаков. На письменном столе магнитофон, уже открытый — возможно, по этому случаю, а может, и вообще часто включается. Не только после каморки для практикантов в здании ветеринарного участка, но и после дома ее матери с новой, модерной и безличной мебелью все здесь было неброско, подобрано со вкусом и в розовом свете торшера, шедшем как бы от горящих углей в невидимой топке, представлялось глазам Джеммы таинственным и романтичным. Это жилье сильно отличалось от всех, где ей приходилось бывать. Она трижды возвращалась взглядом к картине, висевшей прямо напротив, но так и не могла для себя решить, что написано на холсте — облака, или цветы, или, быть может, болотная пушица. Она впервые видела такую картину, которая давала простор воображению, и в этом, как и почти во всем остальном здесь, было какое-то очарование, до сей поры ей незнакомое.
— Завтра в это время ты уж, наверно, будешь дома, — сказала Мелания, думая о своем.
— Если поеду дневным автобусом, — согласилась Джемма, не отводя глаз от полотна. — А если вечерним, то буду еще в пути.
Мелания помолчала. В кухне гудела кофемолка.
— С одной стороны, — когда смолк треск, возобновила разговор Мелания, — сегодняшним днем твоя практика здесь кончается. Дневник в порядке. Командировка подписана. Характеристика есть. А с другой стороны, куда тебе торопиться, правда?
Джемма рассеянно засмеялась,
— Чего ты смеешься?
— Так просто.
— По дому-то не соскучилась?
— Есть чего скучать! Сразу же запрягут полы мыть. Или заставят нянчить братишку.
— Сколько же ему?
— Год… Братишка сводный. И потом, скоро праздник. Мама с отчимом захотят где-нибудь погостить, а с мальчишкой ты как пришитая. И хорошо, что есть Джемма, Так ведь?
Она вновь невесело усмехнулась, вспомнив, что это мамина любимая присказка. «Рожь золотиться стала, теперь ты как пришитая», «Вот корова отелится — будешь как пришитая», «С ребенком ты будешь как пришитая. Ни учиться, ни поехать куда. И не думай, что я за ним ходить стану. У меня самой еще могут быть дети». Что ж, верно. И в самом деле есть…
— Ты детей не любишь? — спросила Мелания.
— Нет.
Мелания испустила тяжелый вздох, а Джемма встала, подошла к магнитофону и занялась им, чтобы не продолжать этот разговор, который был ей в тягость. И зачем вообще было начинать? Кто тянул за язык?
— Можно включить? — крикнула Джемма Войцеховскому, но или тот не услыхал вопроса, или она не расслышала ответа, хотя дверь была полуоткрыта.
Джемма все же включила. Грянул завершающий аккорд, так что схватить характер музыки уже не удалось, потом настала тишина. Джемма покрутила регулятор громкости, и сквозь тишину пробились странные монотонные и очень ритмичные звуки; дум-дум-дум…
— Оно самое! — выдохнула Мелания.
— Что, тетя?
— Шаги. Я тебе говорила. Помнишь?
Ах, да, шаги, которые в одиночестве слушает Войцеховский! И правда необычные, загадочные звуки, но никак это не женская поступь, и уж не на высоких каблуках. Шаги не приближались и не удалялись, а скользили куда-то мимо, мимо, какие-то бесстрастные, бесстрастные до жути и ритмичные — трудно себе представить живое существо, которое так ходит. Может, стосковавшийся по воле тигр в клетке, может быть, человек — в больничном коридоре или в тюрьме. Ходить так может только тот, кому некуда идти, кто не надеется никуда дойти. За апатией скрывалось как бы тайное, подспудное отчаяние.
— Что вы тут слушаете, коллеги? — входя с кофейником, полюбопытствовал Войцеховский.
— Что это… такое? — с удивлением, даже невольным страхом осведомилась Джемма.
Войцеховский коротко засмеялся.
— Судя по вашей бледности, милая Джемма, можно подумать — вы угадали, что это.
Она покачала головой.
— Нет.
— Это время, — сказал Войцеховский буднично и даже слегка небрежно, поставил на стол кофейник и принялся откупоривать бутылку, тот самый «Мускат», который стоял с Джемминого приезда.
— Время?
— Другими словами — часы. Самые обыкновенные часы. И никакой мистики.
— И вы их… слушаете?
— Признаюсь, да, изредка. Это весьма поучительно, — с привычной иронией присовокупил он, разливая в рюмки вино, и поднял на Джемму внимательный и насмешливый взгляд. — Вы хотите мне возразить?
Джемма замялась и не нашлась что сказать под этим ехидным пристальным взглядом, который всегда внушал ей робость и неуверенность в себе.
— Не знаю.
Он вновь отрывисто засмеялся.
— В вашем возрасте еще позволительно кое-чего не знать. А нам с Меланией роль незнаек уже не к лицу… Секундочку, Мелания, это намек не на ваши годы — на вашу эрудицию. Не сомневаюсь, что пятидесятилетнего рубежа вы никогда не достигнете.
Однако Мелания, не вникая в тонкости этого завуалированного комплимента, выпрямилась на стуле и, слегка покраснев, спросила напрямик:
— Вы, доктор, думаете, что я скоро умру?
— Сохрани бог, дорогая Мелания! Мне только…
— Но если бы я, доктор, как вы, слушала… — она кивком указала на магнитофон, где в этот момент смолк таинственный стук метронома и молодые звонкие голоса запели что-то очень веселое и жизнерадостное, — я бы, ей-богу, скоро умерла… не сойти мне с этого места. Я не находила бы покоя, нигде, ни на минуту. Ни спать бы не могла, ни есть. А все бы думала, думала и думала об одном — что время уходит и ничего мы тут не можем изменить, ничего не можем сделать, ни я, ни вы и никто другой. Ни задержать, ни повернуть вспять. А если б я не умерла, свихнулась бы, как старая Стенгревициха. Помешалась бы, не сойти мне с этого места, И вы тоже сойдете с ума, доктор, если будете слушать, как идет время.
Войцеховский прокашлялся.
— Мы с вами разные люди, Мелания. Вы мыслите как художник, а я — как ветеринар… Напишите об этом стихотворение!
Мелания обиделась.
— Мои стихи сроду были для вас бельмом на глазу и всегда будут камнем на тропке, об который спотыкаешься. Но я к этому уж привыкла и…
— И в который раз великодушно меня прощаете. Вот и прекрасно! Спасибо, Мелания. По возможности я тоже всегда буду стараться оправдать ваше доверие.
Войцеховский поднял рюмку. То же самое сделали Мелания с Джеммой. Вино горело и, казалось, даже искрилось в шлифованном стекле, и Джемме подумалось, что это, возможно, хрусталь, ведь она никогда не видела хрусталя и только по книгам знала, что он сверкающий и очень красивый. Звон от чоканья рюмок был высокий, певучий. Молодые и радостные голоса в магнитофоне пели про happy end, про счастливый конец, который венчает все. И все действительно, как они втроем дружно решили и признали, кончилось счастливо: за этот месяц они ни разу всерьез не поссорились, не сцепились, не опозорились, не получили по шапке, так что Джеммина практика, можно сказать, и в самом деле имела happy end, о котором молодежный ансамбль пел так азартно и увлеченно, что в конце вечера они перемотали ленту, чтобы послушать этот сверхоптимистический шлягер еще раз. И Мелания с чуть распавшейся прической, раскрасневшаяся от тепла и малость также от вина, мурлыкала под магнитофон мелодию, совсем немного, на каких-нибудь полтакта отставая от песни, но это было так неважно, что Войцеховский и Джемма этого даже не заметили. Всем было весело и грустно.
«Segui il tuo corso, — вспомнил Войцеховский, — e lascia dir le genti!»[16]
Он всегда жил по этому принципу и никогда об этом не жалел. Что же его удерживало сейчас? Не возможное же порицание людей, не боязнь же идти наперекор правам и обычаям, которые он столько раз без умысла и с умыслом нарушал, живя и действуя во многих отношениях не так, как жили и действовали другие. Осуждение его не трогало, как оставляло равнодушным и восхищение, он вовсе не стремился к таинственности, как не терпел и вмешательства в свою личную жизнь и отнюдь не испытывал потребности в душевных излияниях. Его можно было вызвать по телефону в любое время дня и ночи, но его нельзя было расспросить и заставить откровенничать, — многих это раздражало, как черная курица раздражает белых. А как белые куры поступают с черной, всякий знает. После смерти жены какое-то время ходила версия не только самоубийства, но и убийства. Мнимо таинственная смерть просто требовала объяснения: человек должен умереть в постели, а не в ванне, умереть в ванне как-то даже неприлично, во всяком случае такая смерть подозрительна.
Его похождения передавались из уст в уста, постепенно обрастая пошлостью. Матери берегли от него дочерей, стараясь тем временем уловить его в свои сети. За глаза его обзывали кобелем и развратником, но его желали, им прельщались. И хотя шел слух, что он бросил уже сотню женщин, сто первая с железной логикой прекрасного пола воображала, что она будет исключением. О нем говорили, будто он ищет совершенства, хотя он был достаточно стар, чтобы знать, что совершенство существует только в нашей фантазии. Он не искал идеала — при его характере и темпераменте он быстро загорался, а потом безнадежно остывал, и никакие внешние силы не могли тут ничего поделать. Он не мог стать другим, он мог только притворяться или быть таким, какой он есть, а ему не хотелось притворяться и было противно выдавать себя за кого-то другого…
Сильное и противоречивое чувство влекло его к Джемме, и Войцеховский на этот счет не заблуждался. Он смотрел через стол в светлое лицо, едва тронутое весенним загаром и очерченное очень нежными линиями. O bože, какой она еще ребенок! И следа нет лукавства. Расширенные от удивления и словно бы немого страха глаза, в которых тотчас вспыхнули интерес, любопытство, когда они обратились к картине или остановились на рюмке. Узкие, еще угловатые плечи подростка, совсем небольшая, тоже как у подростка, грудь, сквозь джемперок проступают ключицы, тонкая шея… Сейчас, когда она сбросила деланную строптивость, во всем существе Джеммы угадывалась слабость и беззащитность, а это сразу пробуждает в мужчине глубоко скрытые, унаследованные еще от предков в звериных шкурах инстинкты защитника и опоры. Но он помнил ясно грозовую ночь, когда Джемма стояла в проеме окна белым виденьем, незнакомая и почти нереальная в безмолвном, бледном свете зарницы, и остро чувствовал свое тогдашнее волнение. В ту ночь, казалось, это была другая Джемма, безмерно поэтичная, властно излучающая женственность — как яркая звезда, сияние которой он впивал, опьяненный, каждой клеточкой своих нервов… И вот сейчас перед ним — чуть ли не подросток, с тонкой шеей и острыми ключицами под грубоватым свитером, которые почему-то Войцеховского трогали, обезоруживали, примешивая к его влечению прежде незнакомые, чем-то схожие с отцовскими чувства. До этого дня он полагал, что знает о женщине все, и он имел основания так думать. Но в женщине он знал только жену и любовницу. Он не помнил своей матери, и никогда у него не было ни сестры, ни дочери, а без этого, очевидно, знать о женщине все невозможно…
Они пили по последней рюмке. Мелания с птичьим хохолком на голове, который торчал кверху и нет-нет съезжал на лоб, подпевала магнитофону без слов, так как текста не понимала. Все трое слегка захмелели, и сейчас им предстояло расстаться.
«S’en aller, c’est un peu mourrir…»[17] — подумал он.
Да, в его годы расстаться — это немножко умереть. Чем становишься старше, тем труднее сближаться и трудней расставаться. Как просто это у детей — раз-два и сдружились! С первой же встречи. «Как тебя зовут? Давай играть вместе!» Как быстро влюбляется молодежь! С первого взгляда, в первый же вечер.
А ты, пан Войцеховский? Сколько понадобилось тебе? Месяц? Или полторы минуты — между двумя вспышками зарницы? Не так уж и много, Войцеховский, не правда ли?
Он усмехнулся.
В его возрасте самое мудрое — никого к себе не подпускать слишком близко. Рано или поздно придется отрывать от сердца, а это больно. Однако человек склонен поступать нелепо: всеми правдами и неправдами спасаясь от физических страданий, он с былым упрямством и ослиным упорством стремится навстречу душевной боли, и ошибки ничему его не учат… Так, вино допили, кофе тоже.
— Завтра перед отъездом я еще забегу попрощаться, — сказала Джемма.
— Завтра меня не будет дома, — холодно сообщил Войцеховский, к собственному удивлению.
— А-а… Тогда конечно…
— Могли бы прийти, доктор, и проводить до автобуса! — высказалась Мелания: после месяца совместной работы и особенно такого приятного дружеского вечера расставание, по ее понятиям, грозило выйти слишком куцым, деловым и прохладным.
Войцеховский рассмеялся.
— Вы знаете, Мелания, что такое прощанье?
— Ну, это…
— …бельевая резинка. Чем больше тянешь, тем больнее бьет по пальцам.
Все молчали, думая об одном и том же, и в тишине снова хохотнул Войцеховский.
— Спасибо за все, — смущенно проговорила Джемма. — Я просто не знаю, что я должна сейчас сказать.
Задребезжал телефон. Войцеховский поднял трубку и тут же положил — неправильно соединили. Но этот мелкий инцидент спугнул торжественное и чуть-чуть грустное настроение минуты. Тем лучше, а то они пошли бы сыпать друг другу комплименты или, чего доброго, связали бы себя обещаниями, выполнять которые потом нудно и обременительно, ведь то, что сегодня еще представлялось Джемме таким важным, завтра уж заметно потускнеет, а через месяц покажется далеким и туманным прошлым, какой-то там месяц обязательной практики, который, хочешь не хочешь, пришлось отработать в Мургале у одного занятного такого дядечки, по фамилии… Стоп, как же его звали? У него еще попугай был по кличке Тьер и Нерон, слепая или почти слепая овчарка. И еще у него была санитарка Мелания, она пекла замечательные блины, сочиняла не ахти какие стихи и настаивала водку на листьях — ну и отрава… Но как же звали его-то? Польская такая фамилия… А, Войцеховский! Феликс Войцеховский, или что-то в этом роде.
Мелания обвела взглядом остановку и ближнюю округу, высматривая, не пришел ли все же к автобусу Войцеховский, но его не было, и теперь вообще казалось сомнительным, придет ли. Зато она увидела другое — заметила худое желтое лицо Хуго Думиня. Он сидел сгорбившись на лавочке, зажав между колен бурый картонный чемоданчик, который Мелания сразу узнала — много ли там им пользовались, таскали его — и который выглядел почти так же, как тогда в Лаувах. И куда ему, Хуго, особенно ездить и какие возить вещи — разве что продукты из магазина, какой-нибудь инструмент или материалы, а это возят не в чемодане.
И Мелании вдруг как по наитию открылось, куда собрался и куда держит путь Хуго. Она смекнула это и угадала с такой несомненностью, что сердце ее забилось в горле. И хотя рассудок подсказывал ей, что лучше не подходить, а поздороваться издали — говорить-то ведь толком все равно не о чем, — она все же подошла к Хуго, потому что Мелания могла быть только такой, какая она есть. Глядеть, как он сидит там, поникший и бледный, выгнув костлявую спину горбом и зажав между старчески острых колен бурый чемоданчик, видеть все это своими глазами и только кивнуть небрежно издали — нет, этого от Мелании требовать было нельзя, это для нее слишком.
И, оставив Джемму на минутку одну, она сделала несколько шагов, которые отделяли ее от Хуго. Только тогда он поднял взгляд и ее заметил.
— Ты, Мелания? — сказал он, но без радости, без интереса, больше по обязанности, и подвинулся на край лавочки. — Ну, садись.
Однако Мелания не села, она стояла и смотрела в лицо Хуго, с щемящей болью отмечая перемены, происшедшие с ним за каких-нибудь две недели со времени их последней встречи. Уголки его землистых губ апатично свисали вниз, нос заострился, изменив тем самым выражение лица, и прежде-то сухие щеки казались впалыми, а глаза были пустые, без блеска и жизни. Мелания вздрогнула — такой точно взгляд, какой был у старой Думинихи…
— Куда же это ты наладился? — полюбопытствовала она, хотя догадывалась куда.
— Придется поваляться с месяц на больничной койке.
— Весна, весной часто бывают обострения, — сказала она, чтобы только не молчать. — Витаминов мало, и вообще… Вот придет тепло, солнышко, тогда…
Хуго кивнул, и по исхудалому лицу на единый миг пробежала тень надежды — ему, наверное, хотелось жить.
— Да, весной страсть как неохота идти в этот скорбный дом, — бесцветно проговорил Хуго.
Теперь кивнула Мелания.
— Само собой. Но раз надо, Хуго, значит надо. Там диета, лекарства. В два счета станешь на ноги.
— Ты думаешь?
— Не сойти мне с этого места! — подтвердила Мелания. — Разве даром я столько лет проработала в больнице? Мало, думаешь, я повидала?
Да, она проработала много лет и слишком хорошо понимала, что означает такое лицо, как у Хуго. И чуть не с отчаянием она думала о том, зачем судьба наделила ее, кобылу, железным здоровьем и почему, едрена вошь, мир устроен так, что она ничуточки, ни самой капельки и крошечки не может уделить бедному Хуго, ведь ее здоровья и силушки хватило бы на двоих и еще осталось. Так она думала, а ее широкий рот тем временем ободряюще улыбался Думиню.
— Помнишь, как тогда в больнице… ты будто заново родился, — напомнила она, и теперь бледно улыбнулся и Хуго.
— Тогда, если по совести, не доктора, а ты, Мелания, подняла меня из мертвых.
— Я? — переспросила она, и на глазах ее вскипели слезы.
— Что ты, Мелания, — устало проговорил он. — Не надо…
«Если бы я не ушла от него… — горячо корила себя она, — может, все повернулось бы иначе, и Хуго сейчас не сидел бы тут с чемоданом… Он зачах, как росток, без моего ухода».
— Все могло быть иначе, — произнесла Мелания вслух, между тем как две слезы, оставляя мокрые бороздки, скатились по ее обветренным щекам.
Хуго слабо махнул рукой.
— Что уж об этом теперь…
Но это были не только слова, Мелания видела, что ему действительно все равно, так бы оно сложилось, или этак, или совсем иначе. Что прошло — прошло. Он ни о чем не жалел и ни в чем не упрекал. Он даже не хотел как следует оглянуться на прошлое, потому что все его мысли были о будущем. Он вспомнил, что читал о новом чудодейственном лекарстве, и спросил, не приходилось ли читать и ей. Но Мелания не ответила и только молча, с болью смотрела на Хуго — как он, согбенный, сидит перед ней на лавке, в последнее время не только усохший, но и как будто ставший ниже ростом, худой и почти прозрачный по сравнению с ней, которая брызжет здоровьем и чуть не лопается от избытка жизненных сил, что рядом с немощью Хуго кажется просто бесстыдством и преступлением. Она согласилась бы поменяться с Хуго — болеть и страдать, худеть и даже умереть готова она была вместо него, но ее желание поступиться собой, принести себя в жертву бесплодно и втуне развеивалось в пространстве.
— Тетя, идет автобус!
Тут только Мелания спохватилась и вспомнила про Джемму, порывисто обняла ее и крепко прижала к груди. И Джемма почувствовала, что на голову ей что-то закапало, и слышала, как у ее уха гудит обуреваемое страстями и жалостью Меланьино сердце. Мелания плакала, все громче всхлипывая, — самозабвенно, как делала все. Если плакала, то навзрыд. А смеялась, так до колик в животе. Готовая идти на смерть ради любви, а в ненависти способная умертвить.
— Ну, что это я вою, как пожарная сирена, — глотая слезы, говорила она. — Прямо людей совестно! Будто похоронила кого… Ну дура, старая дуреха!..
— Тетя, передайте привет доктору… я вам напишу… может быть, позвоню как-нибудь… вечерком…
Джемма высвободилась из ее объятий, прыгнула в автобус, помахала — еще на миг в дверях мелькнуло юное, румяное и улыбающееся лицо.
Так, все.
Площадка опустела. Из провожающих Мелания тут была одна. Она высморкалась, утерла лицо и вздохнула. Домой идти не хотелось, — по крайней мере, дня два там будет зиять и звенеть пустота. Она двинулась в противоположном направлении — так просто, куда несут ноги. И ноги ее принесли — кто бы подумал! — к Лаувам, где она не была столько лет. Но за это время ничего почти здесь не изменилось. Как будто бы Хуго никуда не уехал, да и она будто еще живет здесь и просто возвращается домой, из Раудавы или, быть может, из Риги. В березе у ограды хлопотала семейка скворцов. И удивительнее всего — из трубы шел дым. Возможно, Хуго пустил жильцов, чтобы дом без него не пустовал и чтобы чего не стащили. Так оно, наверное, и есть. Но Мелании вдруг показалось, что там хозяйничает, топит печь не кто иной, как старая Думиниха, и она невольно вздрогнула, ведь в окне еще росли знакомые старухины герани, свежие и тучные, словно только что политые заботливой рукой…
Глупая, зачем ей понадобилось сюда идти? Что она тут забыла, что потеряла? Кто ее тянул — ей-богу, как убийцу тянет на место преступления…
В березе у своего домика засвиристел скворец. Из двери вышел мальчонка и уставился с крыльца на дорогу, где топталась Мелания, точно собираясь, но не осмеливаясь зайти.
Ах, зачем она тогда не дала старухе умереть самой!.. Но разве она ее хоть пальцем тронула? Разве можно убить так — словом? Может ли слово обладать такой силой, чтобы убить?.. Вконец измотанная и выжатая, замороченная и чуть ли не спятившая от капризов и блажи, фокусов и причуд разбитой параличом старухи, она как в тумане, как в беспамятстве только всего и сказала: «Хоть бы ты сдохла наконец, стерва!» Но глаза старухи округлились, выкатились, она шевельнулась и вдруг сделала то, чего от полупарализованной бабки никак нельзя было ожидать, — стала подниматься, села, больше того, замахнулась для удара… Но ударить не успела. Глаза совсем вылезли из орбит и в рассветном сумраке из голубых сделались стальными… Костлявое тело дрябло сползло на подушки. Руки еще хватали воздух и долго потом шарили по одеялу, понемногу замирая… Хуго, вставай, мать кончилась! Но тот никак не мог очухаться и сбросить путы утреннего сна. Она, Мелания, не чувствовала ни жалости, ни страха, ни удовлетворения, ничего — ей по-человечески хотелось спать, сон валил ее с ног, и она мечтала только об одном: повалиться на тюфяк хоть бы так, в одежде, и заснуть. И храпеть, и дрыхнуть без просыпу, как убитая; она просто одурела от бесконечного бденья у постели больной. И вот теперь все было кончено. Но когда Хуго как подкошенный упал возле матери на колени и вдруг зарыдал в голос, совсем не как мужчина и даже вообще не как человек, а завыл и застонал, как от дикой боли зверь, она, вздрогнув с головы до пят, с грустью и горечью поняла, что в Лаувах останется вряд ли, не сможет остаться, что уйдет отсюда и никогда не вернется.
Так зачем же она вернулась именно теперь? Чего она прилетела сюда и шастает вокруг усадьбы, косит на нее злым глазом, как ворон, как раз сегодня, когда Хуго уехал и, может быть, навсегда?
Ребенок по-прежнему глазел на Меланию. И в оправдание свое она хотела уж было сказать, что когда-то жила здесь. Но никаких объяснений никто от нее не ждал и ни о чем не спрашивал. Потеряв наконец к Мелании всякий интерес, мальчонка поднял глаза кверху и, сунув палец в рот, наблюдал за скворцом, И было так странно видеть, что в дверях этого дома при гаснущем свете дня стоит не сморщенная как гриб, забытая богом старуха, а малое дитя. В Меланьиной голове сами собой стали складываться слова:
Скворец поднялся на крылья и пролетел как раз над Меланией, и она почувствовала, как на плечо ей что-то капнуло. Ах ты, зараза! Достала носовой платок и вытерла.
Мальчишка вынул палец изо рта и засмеялся. Вместо одного верхнего зуба у него была дырка. Мелания повернула назад.
«А этот тоже хорош! Пришел бы к автобусу и проводил, чем барина из себя строить», — вдруг подумала она, чувствуя потребность на ком-то сорвать злость и ни с того ни с сего, чисто по-женски, избрав жертвой Войцеховского. Однако, поразмыслив как следует, она смягчилась — ведь годы идут и идут, приходят и уходят люди, и только они с Войцеховским бессменно остаются при ветучастке, как вечный инвентарь, как каменный фундамент здания, который, видимо, стоял бы и тогда, если бы даже сгорел и рухнул дом. Она почуяла, что в этом ее раздумье есть некое зерно — мысль, и даже нечто большее, чем мысль, здесь есть поэтический образ, который вдруг, как лосось икру, стал метать слова, их в определенном внутреннем ритме повторяли Меланьины губы, а слова сплетались и слагались в строки — и все прочее сразу слетело с нее и осыпалось, как кора, как шелуха, и стало неважным, несущественным. И она шла и шла, все больше вдохновляясь, пока не перестала замечать все вокруг и только шептала и бормотала новые строфы, как заклинания, как заговор. И по возвращении домой у нее было готово даже название. «Ветеринария» — собиралась она надписать сверху. Но, поразмыслив немного, все же отвергла это название как слишком деловое, будничное и заменила другим, более туманным и поэтичным, «Наш храм», у которого опять же — будь оно неладно! — был другой изъян, церковный этакий душок примешивался тут и запашок, и потому оно Меланию тоже не устроило, как и прежнее. В конце концов она остановилась на трех звездочках, ведь их ставили вместо названий стихов даже классики, и по сей день успешно ставят.
Когда Мелания с этим благополучно покончила, она, уже в полном согласии с собой, отправилась на кухню и стала жарить на ужин картошку с салом.
А Джемма в эту минуту делала то, что на ее месте, пожалуй, делал бы любой человек, который, прожив в Мургале месяц, едет домой, — она вспоминала, как прибыла сюда, и перебирала в памяти события, связанные с теми местами, мимо которых она сейчас проезжала. II так же как в подобных обстоятельствах казалось бы, наверно, большинству людей, ей тоже представлялось, что провела и прожила она здесь не четыре недели, а больше, ведь сумасбродная метель — эта первоапрельская шутка — обманчиво создавала тогда иллюзию глубокой зимы, между тем как сейчас землю покрывала и трепетала на ветках первая нежная зелень.
Магазин, где они с Меланией всегда покупали продукты… Развилка, откуда идут дороги на «Копудруву» и в школу механизации. Просадь, ведущая к хутору, где ее чуть не слопала бешеная баба… Дом под серым шифером в Купенах, который она искала, но так и не смогла найти в сером ночном сумраке… Тут же неподалеку ее, заплаканную, подобрал в свой газик Войцеховский и, успокаивая, говорил так странно, как никто еще никогда с ней не говорил, — как будто на чужом языке, и она поняла из всего и запомнила не слова, а только впечатление…
Колеса прогремели по мосту через Выдрицу, и автобус пополз в гору. Как раз тут в день приезда и пошел снег, повалил и закружил так, что автобус с пассажирами прямо-таки ухнул в белесый кипящий омут метели, и сердце ее сжалось в неясном страхе перед неизвестным, навстречу которому она двигалась, и в столь же смутной тоске по дому, не дому отца или дому матери, а по дому вообще — месту под солнцем, где она никому не будет нежеланной обузой. И в то время как автобус, фырча мотором, тащился и карабкался в гору, где за вершинами парковых деревьев сияла чистая сверкающая полоса вечернего неба, Джемма размышляла также о будущем — не о том, что ожидало ее нынче вечером, завтра и послезавтра, но об отдаленной будущности, как человек, для которого только что завершился пусть и недолгий и не такой уж важный, а все же определенный этап в жизни. Она думала о том, что через год должна кончить техникум и, может быть, так же вот, как сейчас, будет ехать к новому месту жительства, что у нее тогда будет и свой дом, ведь специалистов — а ветеринаров в особенности — колхозы обеспечивают жильем, и тогда она станет наконец самостоятельной, независимой, будет получать приличную зарплату и жить по своему разумению, а не так, как нравится другим.
Так она думала, между тем как светлая полоса понемногу разрасталась вширь, и лишь солнце все еще пряталось за краем облаков. Парк остался позади, открылись бурые и светло-зеленые, обрамленные фиолетовой дугою лесов просторы полей, сквозь которые вился уже обсохший на ветру серый большак. По его обочине двигалась навстречу автобусу темная человеческая фигурка с овцой или теленком. Потом, однако, стало видно, что это не овца и не телок, а большая овчарка. Это был Нерон, и по нему Джемма узнала и Войцеховского.
Феликс Войцеховский шел своей обычной пружинистой походкой, лишь чуточку прихрамывая и кое-когда щегольски касаясь земли тонкой тростью. Джемма хотела его окликнуть, но окно было закрыто, а махать рукой было бы тщетно и глупо: Войцеховский даже не повернул головы в эту сторону, и автобус прогромыхал мимо, быстро оставив путника позади. И Джемму охватило непонятное какое-то чувство — будто она что-то забыла, только не могла сразу вспомнить, что именно. Она даже открыла портфель и пересмотрела содержимое, чтобы проверить, все ли на месте, и все действительно оказалось на месте.
Она оглянулась, но на участке дороги, открытом взгляду, не было ни Войцеховского, ни Нерона. И автобус лихо катил дальше. Под ним, стреляя в раму, градом барабанила и гремела галька. Жар невидимого солнца все больше золотил кромку облаков, и вдруг выглянуло само светило, разом, как при вспышке, затопив землю искристым, слепящим светом.
«Вспышка, — вдруг вспомнила Джемма — просветление…»
И ее вновь охватило то же смутное, неясное ощущение, будто она все же забыла что-то, оставила, хотя и сама уж теперь убедилась и знала точно, что все у нее с собой, в Мургале не забыто ничего, во всяком случае такого, что имело в ее глазах хоть какую-то ценность.
То была чистая случайность — Войцеховский не имел намерения встретить по пути автобус: это было бы смешно и слишком ребячливо для такого человека, как он. Все произошло непредвиденно, если вообще тут уместно слово «произошло». Автобус прогремел мимо, подняв на высохшей дороге легкий хвост пыли, шум позади смолк, на нивы опять спустилась тишина, в которой на все лады заливались жаворонки, вися на большой высоте где-то у него над головой, издали доносилось урчанье трактора, и, когда дорога петлей шагнула в уступ леса, он услыхал и голос кукушки — первой кукушки нынешней весной. Посмеиваясь над собой, ибо не мог удержаться, чтобы не проверить, не окуковала ли его птица, он сунул руку в карман — брякнуть деньгами, чтобы весь год водились, — но наткнулся лишь на связку ключей и совсем лишний сейчас фонарик, который он так и носил с собой без надобности с той грозовой ночи, когда погас свет и все Мургале погрузилось в темноту. Он не нашел даже медяка, но это его мало трогало, он тут же забыл, зачем полез в карман, и, медленно шагая, вслушивался только в звонкие размеренные крики кукушки. И пока ее было слышно, она куковала и куковала без перестану, пророча Феликсу Войцеховскому долгую жизнь, лет сто верных — то была щедрая кукушка, она не скупилась на такой пустяк, как время.
Выглянуло солнце, тотчас придав чуть блеклому и как бы плоскому пейзажу с пашнями и залежью не только ясность, но и третье измерение. Войцеховский глянул через плечо назад — и его ослепило. В свободной, чистой полосе неба между краем облаков и горизонтом солнце, как при гигантской вспышке, лило сверкающий и до того искристый свет, что от него щипало глаза и набегали слезы. Он вынул платок утереть глаза и больше не смотрел на солнце, которое резало глаза, однако позолотило, как в сказочном Эльдорадо, ветхие и новые постройки Мургале, к которому он приближался, немного устав от дальней прогулки. Но усталостью скорее приятной, чем изнурительной, скорее праздной. Чуть позади семенил Нерон. Войцеховский его не видел, но все время слышал, как скребутся собачьи когти о гравий и гальку.
Они перешли через Выдрицу, которая начала понемногу высыхать. Из воды торчали мокрые лбы оголившихся камней. Ветви ольхи покрылись сборчатыми веерками нежно-зеленых листиков. Под ними из жирной сырой почвы тянулись вверх длинноногие хрупкие белые анемоны, и собирала их такая же длинноногая хрупкая девочка, в сжатой горячей ладони которой они тотчас увянут. Он узнал ее. То была Эльфа — ребенка назвали странным именем, — внучка Витольда Стенгревица. А где его собственные внуки? Законные — и, вероятно, так же незаконные, — они живут где-то на белом свете, возможно даже не зная, что в далеком Мургале у них есть дед, так же как ему неведомо, сколько у Петера детей, и, может быть, в точности этого не знает и сам Петер.
Подумав о сыне, Войцеховский опять нащупал в кармане связку ключей и решил зайти по дороге на почту. Вошел в переднюю, вынул газеты и увидел также письмо. Не запирая ящичка, подошел к двери — сквозь стекло проникал с улицы свет — и узнал свой почерк. Это было его письмо Петеру. Адрес отправителя подчеркнут красной жирной чертой, и в углу конверта тем же карандашом нацарапаны два коротких, жестких слова: «Не живет». И хотя это было не первое письмо, возвратившееся к нему с такой надписью, в Войцеховском поселилась тревога.
Что значит «не живет»? Уехал? Умер?..
И, держа в руке письмо, почувствовал, как он сразу, мгновенно состарился, как тело налилось свинцом усталости, а лицо прорезали морщины и складки, — он ощутил свое лицо как гравюру на твердом дереве. Все, что за время прогулки осело в нем и улеглось, высветлив воду, вновь поднялось теперь со дна и замутило поток. Он чувствовал себя всеми покинутым и оставленным, никому не нужным, человеком, которого не только не любят, но и не понимают. Он старался и пробовал прилепиться хоть к кому-нибудь, но все текло и плыло мимо, как река.
«S’en aller, c’est un peu mourrir», — опять вспомнил он и криво усмехнулся.
Потом снова вышел на дорогу. Впереди и вокруг простиралось Мургале. Но где он, тот дом, где та дверь, куда после стольких прожитых здесь лет он мог войти без приглашения, без зова, не как врач, а просто как человек, без определенной цели и нужды, затем, чтобы посидеть и помолчать, раз ему сейчас трудно и плохо, выпить чаю или пусть чего-то покрепче, хоть вонючей мерзкой сивухи, и превозмочь минуту слабости, от которой не застрахованы и сильные.
Нет, неправда — кто-то у него все же есть. Он рассеянно про себя улыбнулся, шагая по Мургале дорогой, освещенной вечерним солнцем. Мелания! Значит, не совсем еще дело дрянь, так, пан Войцеховский? В конце концов, не у всякого есть Мелания…
Он вернулся домой, зажег газ, поставил вскипятить воду: надо выпить кофе — черный кофе поднимает тонус! И вообще… Хватит, баста — нельзя без конца так ходить и ходить вкруговую, как привязанный в поле конь, и опустошать круг жизни, вытаптывать дочерна. Do diabla, не дрожи и не дергайся, Войцеховский, как мокрая крыса! Ne psuj sobie krwi![18] Тебе не впервой начинать все сначала. Важно начать, а там все пойдет само собой…
Он включил магнитофон, перемотал ленту и нашел то, что хотел. И в то время как юные и звонкие голоса пели про старый добрый happy end, счастливый конец, про то, что все так хорошо, а будет еще гораздо лучше, все будет очень, невероятно хорошо, — он подошел к телефону, поднял трубку и набрал номер ветеринарного участка. Долгое время никто к аппарату не подходил, только пищали сигналы, и он уж хотел положить трубку, когда наконец знакомый баритон прогудел:
— Участок.
— Здравствуйте, Мелания! Это Войцеховский.
— Что-нибудь случилось, доктор?
— Нет, Мелания, ничего… Абсолютно ничего. Я просто сижу тут, варю кофе, и мне вдруг… Простите, кажется, бежит!
— Господи, да кто? Тьер?
— Чайник. Наверное, вода вскипела… Подождите, пожалуйста, у телефона… прошу вас, Мелания, я сейчас потушу газ.
Он выключил газ и вернулся.
— Мелания, так на чем мы остановились?
— На том, что вы сидите сейчас и пьете кофе…
— Да, и мне пришла в голову одна идея. Хочу знать, как вы на это смотрите.
— Ну, ну?
— Что если бы мы, Мелания, поженились?
— Вы и… я?
— Да.
На том конце провода раздалось сердитое кряхтенье.
— И где вы успели, доктор, так нализаться?
— Я чист как стеклышко.
В трубке слышалось только Меланьино дыхание. Песня кончилась, и раздались мерные удары метронома не метронома, которые Войцеховскому сейчас меньше всего хотелось слышать, но он не мог дотянуться до магнитофона и выключить эти ритмичные до отвращения и раздражающие звуки.
— Мелания, куда вы пропали?
— Вам, доктор, грех так надо мной куражиться, — проговорила она жалобным голосом.
— Я говорю совершенно серьезно.
— Не озоруйте! Завтра, увидите, доктор, вам самому будет совестно. Идите-ка на боковую. Вы ничего не говорили, и я ничего не слышала. Чего только не учудит, не наплетет человек под пьяную лавочку! А после…
— У меня и капли во рту не было.
— Какая же тогда муха вас укусила, едрена феня?.. Измерьте температуру, и если…
Войцеховский невесело хохотнул.
— Мне никогда, Мелания, не приходилось наблюдать, чтобы измерение температуры дало лечебный эффект. Ну ладно, предположим, я измерю и окажется тридцать восемь и два. А дальше что?
— Возьмите бюллетень и сможете законно отлеживать бока и лечиться.
— А наш драгоценный ветеринарный участок? — по обыкновению с легкой насмешкой вставил он.
— Но нельзя же ради участка лезть в петлю. Отдохнуть тоже надо.
— Отдохнем, когда…
— Тьфу, тьфу, доктор! Типун вам на язык… Я серьезно, примите хоть аспирину и выпейте горячего чая с сахаром и с водкой.
— С водкой? — опять усмехнувшись, переспросил Войцеховский. — Вы меня, чего доброго, совратите. Только тогда в Раудаву к главному придется ехать, Мелания, вам. А между прочим, вы, пожалуй, единственный человек в районе, который мог бы нагнать страху в любой инстанции и выбить фельдшера!
— А я и выбью, если вы ляжете в постель. Как дважды два, увидите! Совсем без ветеринара нас не оставят, не бойтесь! Возьмите только больничный, и я им такой тарарам устрою…
— Есть только одно «но», дорогая Мелания.
— Ну?
— Я, к сожалению, не болен.
— Ага, здоровы как бык, еще бы. Что, у меня глаз нету? Какой вы стали в последнее время? Тощий как хворостина, скрюченный, сморщенный как…
— Ой-ой-ой, Мелания, как вы меня критикуете, по-вашему — я уж никуда! Неужели я так скверно выгляжу?
— Не сойти мне с этого места! Глядя на вас плакать хочется. Днем ходите сам не свой, а по ночам шатаетесь как лунатик.
— Такая у нас работа, дорогая Мелания, что волей-неволей будешь шататься и по ночам.
— Работа! Расскажите кому-нибудь. Я по Нерону вас узнала. Не было бы Нерона, может, я бы не догадалась. Бродите, словно вчерашний день ищете. Стою у окна, смотрю: и ходит, слоняется при свете молний, как призрак, и топчется, шатается, как выходец с того света, и один, все один и такой грустный, что сердце разрывается… Мое-то, думаю, какое дело? Мне-то какая печаль? А все равно… На рентген вам, доктор, сходить надо!
«Значит, это была Мелания! Белое романтичное видение в окне… О, stary sentymentalny osiol!»[19]
Войцеховский с ехидством вспомнил свои ощущения в ту грозовую ночь и подумал, что его подвела собственная фантазия. А может, это был перст судьбы, пан Войцеховский?
— Всего хорошего, Мелания… И на досуге подумайте обо мне!
— А вы сделайте, как я говорю: примите аспирин и выпейте… Вы слушаете? Я…
— До завтра, Мелания!
Так он сказал и положил на рычаг трубку, еще не зная, что этого завтра не будет — что сорок три минуты спустя зазвонит телефон, что еще через пятнадцать минут он выедет в колхоз «Ауруциемс», что на обратном пути ровно в двадцать три ноль ноль с левой стороны внезапно вынырнут совсем близко мутные во мгле пучки света, что он круто повернет вправо, как опытный водитель уже понимая неизбежность аварии, что в последний миг перед столкновением машин он узнает того, другого, но это уже не будет иметь значения, так как удар страшной силы в бок сотрясет газик, маленький драндулет с лязгом подпрыгнет и, дрожа всем корпусом, взлетит в воздух, что раздастся подобный выстрелам треск, с каким лопнет кузов газика, и что дольше всего будут жить колеса, которые по инерции будут вертеться и вертеться…
Если мерить расстояние напрямик, через Выдрицу, то, пожалуй, Лиготне оказался бы самым близким ко мне из соседних хуторов. В свое время, когда я только еще собиралась осесть в этих краях и, присматривая себе жилье, облюбовала один двор, добрые люди меня дружески предостерегли обиняком, что вряд ли мне придется по душе такое близкое соседство с Лиготне. Это меня напугало, хоть я и не могла понять, чем плохо такое соседство, тем более что Лиготне расположен по другую сторону речки, а перебраться через нее можно только летом. Люди — да, ответили мне, люди могут перебраться напрямую только летом, а для шума лето ли, зима — все едино. Ну какой там может быть особый шум, от чего — магнитофон пускают на всю катушку, мотопила визжит, детей бьют? Нет, зачем зря говорить, этого нет. Но раз уж сказано «а», надо сказать и «б» — там живет полоумная Стенгревициха, на нее иногда накатывает, и тогда поднимается такой гвалт, такой кавардак, что хоть уши затыкай, потому что глотка у нее луженая. А часто это у нее? Каждый год такой цирк устраивает, а бывает — и два раза в год. Но разве она не лечится? Врачуют ее, а то как же, в Риге, на Аптекарской, в психиатричке, да совсем исцелить, видно, не могут, чуть подправят — и домой, с кулаками ведь она ни на кого не лезет, зато уж орать здорова, язык что твоя крапива, а голос — труба иерихонская, так что вряд ли это не будет мешать мне сочинять книжки. Я только рукой махнула. На берегах Выдрицы цвела черемуха, настраивая на весьма легкомысленный лад. Казалось сущим пустяком, что к десяткам дней в году, которые отнимали у меня собрания и заседания, совещания и семинары, симпозиумы и лектории, теперь прибавятся каких-то два-три дня, когда я буду лишена возможности работать из-за крика Валлии Стенгревиц.
Так мы стали соседями.
За эти годы видеть старую хозяйку в лицо мне как-то не приходилось, больше все издали, на расстоянии, зато молодая — ее дочь Велдзе, носившая тогда фамилию Страздынь, — пришла меня поздравить с новосельем в первое же воскресенье. Мы были еще слишком чужие, чтобы вести непринужденный разговор, к тому же ни та, ни другая, мы не владели искусством светской болтовни, которая способна выручить и в самых щекотливых случаях. Слегка коснулись того, другого, но между тем она рассказала немного и о себе. Если не ошибаюсь, именно от Велдзе я впервые услышала об ее отце Витольде Стенгревице, а именно, что он пропал без вести в конце войны, когда Велдзе едва исполнился год, и они остались с матерью одни, что у нее туго шло ученье, особенно математика, но был дар к рисованию, что, может, стоило бы заниматься живописью, но художественные школы далеко — в Риге, жили они бедно, как говорится, перебивались с хлеба на воду, что с горем пополам она кончила в Раудаве среднюю школу, поступила на курсы и теперь работает на здешней почте. То, что Велдзе ни словом не упоминала о муже, могло означать, что между супругами нет согласия. И действительно, довольно скоро она со своим Страздынем развелась.
Дальнейшие события по ту сторону Выдрицы развертывались так. Велдзе справила новую свадьбу — с Ингусом Мундециемом, братом продавщицы Ритмы, удалым парнем из мелиораторов, потом отпраздновала крестины дочери, которую назвали странным именем, какого нет ни у одного создания женского пола во всей округе, — Эльфой, и наконец здесь же, на моих глазах произошли все перемены, вызванные историей, которую можно назвать воскресением. И хотя это слово имеет религиозную, что ли, во всяком случае мистическую окраску, именно так — воскресением Витольда Стенгревица хотелось бы назвать все происшедшее, что связано с этим лицом, которое более четверти века считалось погибшим, по понятиям людей было давным-давно похоронено и превратилось в прах и тлен, но в один прекрасный день восстало из гроба — уже после своей физической смерти, 18 ноября 1971 года. Этой датой было помечено извещение, которое пришло из далекого и до того захолустного городка Соединенных Штатов Америки, что его название даже мургальские знатоки географии слышали впервые. То, что Витольд Стенгревиц все эти годы прожил в Америке и умер в возрасте за шестьдесят лет вполне естественной смертью — от рака, было, конечно, историей не совсем обычной, и все же вряд ли вызвало бы такой стойкий интерес, если бы не еще одно обстоятельство — Велдзе получила наследство.
Догадки о размерах наследства долгое время переходили из уст в уста, предполагаемая сумма колебалась от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, так как в Америке Стенгревиц будто как женился на богатой вдове, которая затем оставила вдовцом его. Так ли оно было или нет — наше дело маленькое, как любит говорить Мелания, а посудачить на чужой счет, кто больше, кто меньше, мы все горазды. Имя Витольда Стенгревица не сходило у людей с языка, тем более что в жизни семьи Стенгревицев — Мундециемов произошли разительные перемены, которые бросались в глаза.
Первой из них была экспортная «Волга» кофейного цвета, которая с Ингусом за рулем плавно въехала во двор усадьбы, — самое роскошное авто в Мургале, какого не было даже у местного начальства и которое блеском хромированных и никелированных частей прямо ослепляло, как в прямом, так и в переносном смысле слова. За этим следовала еще одна новость — ушел из мелиораторов Ингус, устроился в потребсоюз шофером и развозил по магазинам товары. Заработок здесь, конечно, был куда меньше, зато Ингус являлся домой не раз в неделю на выходные, а каждый вечер. Из Лиготне часто доносилась музыка. Я вспомнила, что давно не слыхала голоса старой хозяйки, и решила, что происшедшие перемены и для нервов Валлии Стенгревиц, видно, были благотворны.
Но я все же ошибалась. Как-то утром встретила я Велдзе, которая несла на руках Эльфу. Мы обменялись, как и водится между соседями, парой слов. Вот, мол, тащит дочку в Купены к Марианне — чтобы побыла до вечера, ведь торчать на почте, где люди приходят и уходят, а в воздухе полно пыли и микробов, это не для ребенка. В общем-то оно, конечно, верно, хотя замечание насчет пыли и микробов все же показалось мне преувеличением, ведь операционная на почте всегда блестит и сверкает чистотой, уставлена декоративными растениями.
А мама — разве она присмотреть не может? Мама? Тогда, наверно, вы не знаете, что мама уже долгое время в больнице. Посоветовались с врачами и решили, что так будет лучше, пусть еще полечится до весны. А кому же и подкинуть ребенка, если не Марианне? Сами они оба на работе. Ищет она какую-нибудь тетеньку, чтобы пришла днем убрать в доме и присмотреть за ребенком, хоть душа была бы спокойна. Но старухи стали гордые — не подходи близко, у всех пенсия, все независимы, у всех, голодранок, хвост трубой. Что-то неприятное и нетерпимое, барское и высокомерное сквозило в ее тоне, но можно было понять и Велдзе, которой с утра, ни свет ни заря приходится тащить свое дитя в Купены, тогда как иной бодрой пенсионерке некуда девать время. Хорошо еще, что поблизости живет Марианна, безотказная Марианна, у которой Велдзе может оставить свою малышку без опасений: я подозревала, что забот у Велдзе хватает и помимо матери, и помимо дочери, потому что с Ингусом, насколько можно было судить, дело обстояло неладно.
Очень забавно было порой наблюдать, как Ингус возвращался с работы верхом на своем «козлике» (козликом он называл мотоцикл «Минск») — кепка задом наперед, в зубах сигарета, вся борода в искрах и дым струится по ушам — ну прямо черт, и мчит сломя голову как ненормальный. Излишне говорить, что за езду без шлема, и за превышение скорости, и за вождение мотоцикла в нетрезвом виде, и за тройной обгон его не раз лишали прав, и все ж начальство потребсоюза — а у него в автоинспекции была рука, ему позарез был нужен шофер — всякий раз Ингуса вызволяло, давая за него обещания, которые тот не выполнял, поскольку выпивши, как он сам уверял, он ездит даже лучше, чем на трезвую голову. Так ли оно на самом деле, трудно сказать, но такого аса мне в своей жизни приходилось видеть разве что на трассах автомотогонок. Говорят, он еще подростком мог проехать на велосипеде по проволоке, чего я сама, конечно, не видела, но в мою бытность, что правда то правда, при всех своих выходках и сумасбродствах он ни единого раза не попал в аварию. Это прибавляло ему смелости и уверенности в себе, а может, и самоуверенности, и безрассудства: я и по сей день не могу забыть той шальной поездки из Раудавы, когда он посадил меня в машину, упомянутую выше кофейную «Волгу», и мы гнали и неслись сквозь темноту и слякоть со скоростью сто десять километров в час, по скользкой дороге, под свист ветра, и я ждала и надеялась, я про себя молила бога, чтобы впереди блеснул фонарик автоинспектора, прежде чем мы врежемся в дерево или слетим в Даугаву. Но автоинспекторы тоже люди, они прятались под крышей, спасаясь от мокряди, которая падала с неба как из прорвы, и мы мчались и летели, будто за нами гонится нечистый, до самого Мургале. «Восемнадцать минут, точно!» — взглянув на часы, сказал Ингус и засмеялся. От пережитого страха я как-то отупела; и до меня не сразу дошло, что за восемнадцать минут мы покрыли расстояние от Раудавы до Мургале. Вот так он ездил, когда спешить ему было решительно некуда, хм…
Да, как женщина женщину я могла понять Велдзе. И когда несколько месяцев спустя — уже весенним вечером — я увидела, как она стоит в темноте у дороги и нервно курит, я сразу догадалась, что она, вероятно, ждет Ингуса, волнуется, не может усидеть дома и вышла навстречу. От возбуждения, наверно, она и поведала мне тогда кое-что о своих неладах с мужем. Ингус много пьет, сказала она, действительно много, а в последнее время особенно. Никогда-то он не был трезвенником, но и пьяницей никто б не решился его назвать — ну в субботу, ну в получку, ну в праздники. А теперь… Она бросила недокуренную сигарету, но тут же достала и закурила новую. А теперь редкий вечер пройдет, чтобы без этого. В рабочее время — на колесах, после работы — на колесах: страшно подумать, что будет. Иной раз кажется, что все идет под откос и добром это не кончится, но она не знает, как быть и что делать. Сдала экзамены сама, получила права, чтобы Ингус хоть в свободное время не садился за руль. Но это все равно что мертвому припарки: снова привел в порядок своего «козлика» — гоняет на нем. Без мотора Ингус ни шагу, в туалет разве что пешком ходит, а так везде и всюду на мотоцикле. А мотоцикл, всем известно, для самоубийц придуман. «Волга»… «Волга» хотя бы крепкая и стабильная, широкая как баржа…
Пока мы беседовали, с хутора два раза долетал скрип отворяемой двери и голос Валлии Стенгревиц, кликавшей дочь. Велдзе оба раза отзывалась и говорила, что идет, сейчас идет, но так и не тронулась с места. Ее, видно, не очень-то тянуло домой и хотелось кому-то излить душу.
Вспомнив, как часто у Ингуса в кузове были пустые бутылки и полные, я вставила, что ему надо бы поискать другую работу. Велдзе ухватилась за эту нить: да, она тоже так думает, но мнения на этот счет у них с Ингусом расходятся. Он рвется обратно в мелиораторы, на что она… она никогда не согласится. После той мины… Нет, уж лучше потребсоюз. Какой мины? Да разве я не знаю — когда осушали болото, Ингус своим трактором вытащил мину. Прислали саперов. Наверно, это была мина замедленного действия. И сейчас еще, она как вспомнит, по спине бегут мурашки. При этих словах у Велдзе действительно дрогнул и пресекся голос, и я усомнилась, стоит ли объяснять и доказывать, что в автомобильных катастрофах люди гибнут, наверное, в тысячу раз чаще, чем подрываются на минах. У всякого своя правда. Лягушки и мыши, например, куда безобиднее мин, однако есть люди, которые их панически боятся, и никакие уговоры тут не помогут. И пока я размышляла, что сказать по этому поводу и чего не надо, мы обе одновременно услыхали, как сюда на всех парах мчится мотоцикл — едет Ингус. Я думала, Велдзе выйдет мужу навстречу, раз она его поджидает, но я ошиблась. Когда я оглянулась, ее фигуры в отблеске света нигде не было видно, она как бы растаяла.
МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ,
ИЛИ РАССКАЗ ПРО ВЕЛДЗЕ И ИНГУСА
Она вышла Ингуса встретить, но когда услыхала захлебывающийся треск мотора, когда увидела мутный в вечерней дымке свет фары, когда заметила, как приближающийся желтый сноп дрожит и скачет вправо и влево, и не только от тряски, ведь никаких особенных ям и ухабов здесь нет, и когда она в очередной раз поняла, что Ингус опять под градусом и сегодня она может не выдержать и сорваться и что это ничего, решительно ничего не изменит, а только осложнит положение и усугубит, потому что криком Ингуса не проймешь и добиться от него хоть самой малости можно только и единственно добром, — когда Велдзе все это уяснила себе и осознала, ей показалось разумнее не попадаться сейчас мужу на глаза, немного остыть и успокоиться и еще раз продумать от начала до конца все, что она собирается ему сказать, если хочет, чтобы разговор не превратился в грызню и перебранку, а повлек за собой перемены к лучшему. Вот почему она укрылась в тени деревьев, куда не мог достать свет мотоциклетной фары, и ждала, пока Ингус проедет.
И в то время как прерывистый треск мотора все приближался, Велдзе слышала глухие удары собственного сердца, которые дрожью отзывались во всем теле вплоть до кончиков пальцев, давая ей почувствовать степень ее смятения. Казалось бы, должно быть совсем наоборот: раз Ингус возвращается, притом целый и невредимый, ей следовало бы успокоиться, однако произошло обратное, и возбуждение не ослабевало, а росло. И когда мотор «козлика», свернувшего в просадь, внезапно заглох и Велдзе вдруг показалось, что ее заметили, обнаружили, у нее даже перехватило горло, как будто она стояла не на дороге к собственному дому, где стоять она имеет полное право в любое время дня и ночи, а пряталась впотьмах с краденым добром.
«Это нервы, — думала она, — окаянные нервы», — мысленно говорила она себе, в то время как Ингус старался взнуздать мотоцикл и что-то бормотал себе под нос — может, чертыхался вполголоса, но, вполне возможно, и тихо напевал.
Сказал бы ей кто-нибудь раньше, что у нее есть нервы, она бы рассмеялась! Впервые она пошла к невропатологу около года назад, да и то не по своей воле — оформляла документы на получение водительских прав. Молоденькая врачиха осмотрела ее и расспросила, и особенно тщательно после того, как на вопрос, не страдает ли кто из родственников психическим расстройством, Велдзе ответила утвердительно, не умолчав о матери. Разве такие болезни передаются по наследству, с удивлением спросила она. Да, бывает, хотя и не обязательно. Может быть, ее мучит бессонница и постоянное чувство тревоги, может быть, у нее кружится голова? Нет, голова у нее не кружится. Бессонница и постоянное чувство тревоги? Велдзе про себя усмехнулась. Какая женщина не теряет сон и не мучается, если жизнь, того и гляди, полетит кувырком? Не минует это и милую симпатичную докторшу, при всей ее институтской учености, если муж попадется пьющий или же бабник…
Ингус копался в такой от нее близости, что Велдзе слышала не только его невнятный шепот, но и в перерывах натужное дыхание и ясно различала подвижные контуры знакомой фигуры. А он не чувствовал ее взгляда. Наверное, разгоряченный работой, он сдернул с головы шлем, кинул его за ремешок на руль, сплюнул и вновь принялся заводить мотор, пока наконец не добился своего и «Минск» не ожил, не зафырчал опять прерывисто, захлебываясь. Тогда Ингус, вскочив в седло, умчался по направлению к дому, и там раздался радостный визг собаки, а Велдзе, мелко дрожа, как в ознобе, плелась по дороге за вспышками света, пока они во дворе не погасли, а после тащилась сквозь тьму, напитанную легкой весенней мглой и вонючей бензиновой гарью.
«Это нервы», — продолжая идти, думала она, словно это могло не только объяснить давящее чувство тревоги, но и тем самым дать успокоение.
Во дворе, слабо озаренном светом из окон, никого не было.
Велдзе обвела взглядом вокруг — не бросил ли Ингус мотоцикл, что нередко бывает, где попало и как попало. На сей раз у него все же хватило ума завести «Минск» в гараж, но не настолько, чтобы закрыть и дверь. «Мне ума досталось много, только толку нет с него…» И Велдзе пошла затворить. Отражая падающий из дома свет, в полутьме гаража мерцали фары автомобиля. Все было в порядке, все стояло на месте, мотоцикл тоже, и она замкнула замок с секретом, размышляя о том, не стоит ли сменить шифр, чтобы ключ был известен ей одной, но, взвесив все, от этой мысли отказалась, боясь последствий такой перемены, — ведь Ингус и так болезненно переживает, что он больше не главный кормилец в семье, а значит и хозяин, каковым, по его понятиям, должен быть единственный мужчина. Есть чего переживать и сокрушаться, что дом и машина записаны не на его имя и что большая часть расходов покрывается не из его кармана! Мужское самолюбие, смешно просто! Предлог все это, всего лишь повод, чтобы пошуметь и побуянить, ведь мужчине сам бог велел всегда быть чем-то недовольным, и уж в первую очередь своим браком и собственной женой, мужчине вынь да положь неприятности, если не настоящие, то хоть выдуманные, а иначе что же топить в вине…
Ну, чего им в жизни сейчас не хватает? Разве у них не с лихвою, не с избытком всего, о чем они раньше мечтали, на что собирались копить? Годами откладывать по рублю, по копейке, экономя на всем, чтобы со временем, в пожилом возрасте, когда они будут седыми и больными, приобрести то, что есть у них уже сейчас, когда они оба еще молодые и здоровые, когда им обоим только жить и жить… Наслаждаться жизнью взахлеб…
А тут, боже мой, да разве это жизнь? Слоняться, торчать у дороги, как собаке в ожидании своего хозяина и повелителя, никогда не зная, в каком настроении он явится — приласкает или, быть может, пнет ногой? Торчать ей, которой восхищаются и которой завидуют, наследнице Лиготне, как ее называют просто зеленые от злости знакомые и подруги во главе с милейшей золовкой! Ей, которая плавно мчит мимо всех на своей шикарной экспортной «Волге», на какую сплетницам, так рьяно перемывающим ей косточки, сколачивать и копить до последнего часа своей жизни, до последнего вздоха и все равно не собрать и не скопить… не видать им такой машины как своих ушей, этой голытьбе и глазам завидущим! Ей, всегда элегантной, умеющей носить одежду с аристократической небрежностью, ей, которую директор школы называет первой дамой Мургале! И хотя обычно это говорится несерьезным тоном, полушутя, разве в словах красавца Каспарсона не кроется подтверждение того, что Велдзе отличается от других женщин и в каком-то смысле выше их, и это очевидно. Не видит этого только собственный муж…
Ну ладно, хватит. Она коротко провела по лицу прохладной рукой. Надо настроиться по возможности мирно, зачем зря себя растравлять. Если начать с упреков, так можно все испортить. У Ингуса, как всегда, тут же найдется тысяча и один довод в свое оправдание, и все превратится в заурядную будничную перебранку. Надо принять какую-нибудь таблетку, чтобы не дрожали руки и голос. Смешно, как будто бы провинилась она. Что бы, интересно, сказал и подумал Ингус, знай он, что у Велдзе сейчас дрожат руки, как перед встречей с высоким и грозным начальством? Вселило бы это в него жалость и нежность? Или совсем другие чувства? Возможно, он ощутил бы удовлетворение, ведь мужчине время от времени просто необходимо заявить о себе, а самоутверждение мужа с большей или меньшей силой бьет по терпению и нервам жены.
Велдзе вошла в прихожую, где был зажжен свет, но так и не погашен: на крючке болталась мужнина куртка, зацепленная не за вешалку, а вздернутая за подкладку. На полу валялся и голубой мотоциклетный шлем. Она перевесила куртку как следует, прицепила за ремешок и шлем; за стеной слышалось монотонное бормотание матери, слов не разобрать, так что непонятно было, с кем говорила мама — с Эльфой ли, Ингусом ли, возможно, сама с собой. Нет, все-таки с Ингусом, она это сразу увидела: мама стояла против него, едва доставая ему до плеча — щуплая, высохшая старушка, — и усердно терла носовым платком, чистила ему грудь. А тот смотрел сверху вниз, и в бородатом его лице, отупелом во хмелю, сквозили пренебрежение и гадливость, смешанные с сочувствием и жалостью.
«А если он и на меня смотрит такими глазами?» — вдруг подумала Велдзе.
— Кровь… — монотонно бубнила мама, продолжая заботливо оттирать ему на груди рубаху. — Кровушка…
«Кровушка!» — наконец достигло слуха и сознания Велдзе страшное слово, и, забыв о своем решении вести себя как можно сдержанней и спокойней, она с внезапным ужасом вцепилась мужу в рукав так, что пальцы прямо впились в сильную руку.
— Ты ранен?!
На серой клетчатой ткани расплылось красное пятно — с левой стороны, примерно там, где сердце.
— Ингус… милый! — выдохнула она чуть не в беспамятстве, а он, запрокинув голову и блестя зубами, пустил громкий короткий смешок.
— Как две курицы, точно! Это кагор, Велдзе, — сказал он и оттолкнул мамину руку. — Идите спать, муттер. Хватит! В бак надо бросить рубашку. Платком тут ничего не сделаешь.
— Дай, я отвезу в стирку, — тускло проговорила Велдзе и отстранилась от мужа, однако не уходила, а молча наблюдала, как он чуть неуклюже стаскивал через голову рубаху, зацепив и стягивая заодно и майку, и остался голый по пояс и растрепанный — кожа так и лоснится при электрическом свете, чуть не лопаясь на буграх мышц от натяжения, словно еле вмещает плечистое тело. И, все еще во власти пережитых страхов, как бы видя на этой блестящей коже свежий багрец раны, Велдзе ощутила сосущую пустоту под ложечкой и даже легкую дурноту, так как не выносила вида крови. А ведь сколько раз, прямо-таки искушая судьбу своим ухарством и безрассудством, Ингус бывал всего на волосок от беды, нимало не горюя о том, каково это ей, жене.
Его взгляд обратился в Велдзе.
— Чего ты так побледнела, дорогая? 'Замерзла?
Она встрепенулась: сейчас надо сказать… поговорить теперь же…
— Ингус, — начала Велдзе, — тебе не…
— А черт! — вскричал он. — Да где моя полосатая рубашка? Не могу же я так стоять — голяком! Я тут ее вроде утром повесил, на кухне…
Велдзе почувствовала, что у него из головы она уже выветрилась, — сам же спросил, завел речь, но даже не дождался, чтобы ответила. А если она больна? А если ей плохо? Ему начхать. Пошел искать рубаху, вернулся, застегивая, зевнул во весь рот, явным образом уже забыв обо всем.
— Пойдем спать, а?
— Есть ничего не будешь? — суховато спросила она, в глубине души задетая и разочарованная, и в горле у нее застрял горький комок.
— Чего-то не хочется, — признался он и виновато скосил глаза на Велдзе.
— А вы там… и ели?
— Вроде бы да. Но что ели, хоть убей не помню.
Ингус широко улыбнулся. Но Велдзе не ответила ни словом, ни улыбкой, повернулась и так же молча стала вынимать из духовки ужин, оставленный там для Ингуса, чтобы не остыл.
— У тебя там что-нибудь вкусненькое? — примирительно спросил он, даже во хмелю, наверное, замечая напряженность Велдзиного молчания, грозившего прорваться криком и упреками, чего ему, вероятно, не хотелось: ударившие в голову винные пары настраивали его скорее на миролюбивый лад, чем на воинственный, если, конечно, кто-нибудь сам не нарывался.
— Не знаю, что там мама тебе оставила, — бесцветно проговорила Велдзе, хотя ужин в духовку ставила сама и знала досконально, что там котлеты с соусом и жареная картошка. — Ну что, подавать или нести в кладовку?
— Если ты закусишь со мной, буду есть, а если нет — пошло оно все к бесу! — сказал он с потешным, прямо-таки детским упрямством выпившего человека, однако эта грубоватая нежность прорвала в Велдзе как бы внутреннюю плотину, и, к удивлению мужа, да и к собственному удивлению, она не рассмеялась, а вдруг залилась слезами.
«Это нервы. Ничего же не случилось, — подумала она в третий раз, судорожно всхлипывая. — Проклятые нервы…»
Велдзе негодовала на самое себя: она так хотела, так старалась сохранить выдержку, хладнокровие, а слезы ее подвели, выдали тайное отчаяние, но отчаяние — это слабость и бессилие, отчаянием ничего не добьешься, не возьмешь, его можно только выплакать в одиночестве, как плачет волчица, воя на луну.
— Велдзе, милая! — испугался Ингус. — Что с тобой, женулька? Нелады на работе?
Она молча помотала головой.
— Я устала… ах, как я устала, — без видимой связи повторяла она, не в силах выразить, от чего она устала, да и не очень веря, что Ингус поймет.
— Ты слишком много ишачишь, точно! — горячо поддержал Ингус, действительно не понимая, что Велдзе измучилась просто от жизни, какую они вели, от вечных страхов и ожиданий, неопределенности и неясности — от всего того, что женщину сушит и изнуряет во сто крат больше, чем самый тяжелый труд.
Ингус обнял ее и привлек к себе. И сквозь винный перегар Велдзе почувствовала дух бензина и табака, здоровый запах мужского пота, ее обволокло живое тепло сильного тела, под рубашкой у самого ее уха гудело мужнино сердце, отдаваясь в груди низким и ровным стуком больших часов, и все это вместе — знакомые запахи, близкое тепло объятий и спокойное гудение крови — слилось в ощущение тихого счастья, которое, очень возможно, было самообманом и ложью, как и многое другое, что ей уже довелось испытать. У нее мелькнула такая мысль, но Велдзе ее прогнала, отдаваясь сладости мгновенья. Главное — они живы и молоды, в их власти превратить свой дом в ад или рай, и только от них самих зависит, как…
Над ухом у нее Ингус сладко зевнул. И Велдзе — в кольце его рук — охватило вдруг глубокое одиночество. Она поспешно высвободилась из объятий, которые казались ей теперь холодными и фальшивыми, и, снова мучаясь сомнением, заводить ли сегодня вообще этот разговор, спросила у мужа сигарету и со странным отчуждением наблюдала, как он неловко и усердно шарил по карманам, потом наконец, нашел пачку и вытряхнул одну сигарету ей, другую себе. Они молча закурили. Велдзе догадывалась, что мыслями Ингус где-то далеко и, наверное, вообще успел позабыть, что она плакала и что он так и не выяснил о чем.
Положив дымящую сигарету на край плиты, она достала две тарелки — одну Ингусу, другую себе, поставила на стол еду, присела напротив, однако больше курила, чем ела, и молча, с грустью глядела на мужа, который, понурив голову, нехотя ковырял котлету, принося тем, видимо, большую жертву во имя доброго согласия. Смешно просто. Ей пришло, в голову, что он не счел даже нужным объяснить, где шатался дотемна и проводил время, как будто бы жены это не касается и у него есть неписаное, неоспоримое право поступать как заблагорассудится. Так вот до чего дошло дело…
— Ингус!
Он поднял голову и взглянул на нее, лениво валяя во рту пищу. Велдзе, мешкая, стряхнула с сигареты пепел.
— Мм? — выжидающе промычал он.
— Мне с тобой надо поговорить.
— А что мы все время делаем, как не говорим? — заметил он с улыбкой, в которой Велдзе уловила легкую настороженность.
— Когда-то ведь мы должны обсудить нашу жизнь.
— Жизнь? — переспросил Ингус, как будто не разобрал слова, хотя расслышал достаточно ясно, и она зорким женским глазом это прекрасно видела. — А что в нашей жизни есть такого… чтобы обсуждать? — пожав плечами, спросил он и проглотил кусок.
— Много чего.
Велдзе так глубоко затянулась, что даже закашлялась. У нее опять стали дрожать руки. Хорошо все же, что она догадалась закурить — хоть немножко это успокаивает. Неделю тому назад она решила курение бросить, но вчера ее решимость пошла насмарку. Стоило Ингусу после работы на два часа задержаться — и она взялась за старое. И если так будет продолжаться, то вряд ли вообще бросит. А надо бы, и сейчас особенно — нельзя же самой губить свое здоровье.
— А именно? — опять подстегнул Ингус. Велдзе с тайным удовлетворением заметила, что он больше не зевает, а мину состроил несчастную и даже слегка побледнел.
— Тебе кажется, что это может продолжаться до бесконечности?
— Что это?
— Твое пьянство. Тебе никогда не приходит в голову, что в один прекрасный день мне это может надоесть?
— Надоесть?
— Ну да.
Ингус побледнел еще сильнее, он стал совсем зеленый, и Велдзе наблюдала это со злорадством. Она снова затянулась сигаретой, силясь превозмочь противную дрожь в руках. Но тщетно. И когда она заговорила как можно спокойней, почти нежно, у нее дрожал и голос:
— Ты знаешь, Ингус, как я тебя… люблю, и мне больно видеть, что…
Он, шатаясь, водрузился на ноги, бросил на жену мало осмысленный взгляд и лиловыми деревянными губами из себя выдавил:
— Ты прости, Велдзе… но мне ужасно плохо…
И с шумом выбежал во двор. В вечерней тишине было явственно слышно, как его рвало. Велдзе сидела, сжав пальцами виски, и так же, как до этого по дороге, ей хотелось кричать… выть в голос. Но и на этот раз она с собой справилась. Посидев немного, поднялась и достала из сумочки патрон с таблетками. Из лекарств, прописанных маме, — чудное, сильное снотворное. Велдзе приняла одну — и в считанные минуты все вокруг заволоклось как бы плотной волнистой мглой. Она добралась до кровати, разделась, легла, тут же погрузилась словно в белесую теплую воду и не слыхала, вернулся ли Ингус, нет ли.
Ингус глубоко втянул в легкие глоток сырого свежего воздуха. Полегчало. Он весь был в липком холодном поту, будто его трясла лихорадка. Во всяком случае, хмель вроде бы вычистило, зато голова гудела, будто стянутая обручем. Он хорошо знал это паршивое состояние — черт бы его побрал! — слишком хорошо и так же хорошо знал, что помочь тут может наперсток водки или бутылка пива. Но ни того ни другого не было, и слава богу: стоило ему вообразить себе хоть что-нибудь спиртное, как к горлу подкатывала тошнота, тьфу! И сколько там они этой пакости дернули? Вообще говоря, не так и много, даже меньше, чем бывало раньше. Но главное — не следовало мешать, точно. Сто раз, наверно, он говорил себе, талдычил, что не надо делать ерша, и сто раз давал себе зарок никогда больше не делать этого, ни в жизнь. Но как пропустишь одну чарку — о-ля-ля! — опять хвост трубой и сам черт тебе не брат. Недаром говорится: выпил вина — стал без ума. Истинная правда! Стоит только начать, а там пошло-поехало. Когда протрезвеешь — брр! — вспоминать тошно. Свинья распоследняя, и больше ничего, как ни хорохорься, как ни оправдывайся…
Ну кто его заставлял после вина хватить у Краузе того зелья? Вот дурошлеп! Мучайся теперь, гоняй за угол блевать… А может быть, причина в колбасе? Кто знает, какую требуху они там смалывают и пихают в полиэтиленовые кишки? Жахнут туда побольше чесноку и перцу, чтобы в нос шибало и чтобы никто ничего не заметил, и в лавке идет за деликатес! Однако вряд ли все же Ритма родному братцу всучит какой-нибудь хлам, они там, в магазине, за версту чуют, где дрянь, а где первосортный товар… Нет, все дело наверняка в этом чертовом самогоне…
Влажная рубаха дымилась на холоде. По спине у Ингуса побежали мурашки. Ночи в апреле стояли еще прохладные, мглистые, от нагревшейся за день земли шел горьковатый пар, затягивая горизонт и замутняя звезды и накрывая местность крышкой тишины, под которой в своих обрывистых берегах кипела Выдрица…
Дьявольски красивая весенняя ночь, а он тут дрожит и трясется, точно в штаны напустил, тьфу ты, — как старый хроник, думает о водке и какой-то дерьмовой колбасе, когда его глупый черепок и так раскалывается. Ко всем чертям — свалить бы сейчас на остановке столб, пересчитать кому-нибудь ребра, покуролесить, выдуриться, поставить точку и начать новую жизнь! Но все завязалось в такой узел, что ни удалью, ни мордобоем его не разрубишь…
В тишине протарахтел запоздалый мотоцикл и напомнил Ингусу про его «Минск». Смутно шевельнулось в его мозгу, что гараж он все же закрыл вряд ли. Поставить туда «Минск» — да, он поставил. А вот чтобы запирал висячий замок, это в его тяжелой голове не зацепилось, и мимо тонущего в темноте дома он медленным шагом двинулся туда, чтобы проверить. Гараж был заперт, все было в полном порядке, всюду приложили руку и без него — лодыря и шалопая. Он не мог успокоиться, все брюзжал и сетовал на себя, досадовал и злился, хорошо, слишком хорошо зная и это свое состояние, жуткие угрызения совести, которые мучили его, донимали, пока пьяный угар не выветрится, жгучее недовольство собой, давившее его, как большой палец вошь, точно!
Он поежился от холода. Не оставалось ничего иного, как вернуться в дом. Куда же пойдешь шататься и колобродить в одной рубашке как неприкаянный. В курятнике низко и глухо пропел петух. Полночь? Или уже утро? Ингус поднес к лицу часы, но перед глазами мутно белел лишь кружок циферблата, и ничего было не разглядеть. А, не все ли равно — двенадцать ли, два или три, завтра воскресенье…
Петух прокукарекал вновь, но в голосе его, запертом в помещении, не было ни звонкости, ни жизни.
Ингус вошел в дом, запер изнутри дверь и ощупью направился в кухню. В темной передней под ногами у него кто-то взвизгнул.
— Наступил, да? — шепотом спросил он. — Как слон, точно! Лежи, лежи, песик… не вставай, лежи.
Стараясь не нарушить покоя в доме, Ингус двигался и ступал как можно тише, но дверь из прихожей в кухню заскрипела пронзительно и ржаво, так что он даже вздрогнул. Петли смазать, лентяй, и то не удосужился. Ну, завтра же он это сделает, с самого утра, чтобы навески не стонали, не визжали как резаные. И соберется наконец, починит электричество в кладовке и заодно прочистит дымоход: мама жалуется, что плита хоть убейся не тянет, весь дым назад идет в кухню, а на дворе еще не такая теплынь, чтобы жечь один только газ, кое-когда надо и плиту истопить, хотя бы ради ребенка. А видел ли он толком за все эти дни Эльфу? Чуть свет — из дома, а назад — уже с налитыми шарами, эх-ма!
В горле пересохло, и он подошел к крану напиться. Вода в трубах нагрелась и была невкусной. Чтобы пошла холодная, надо было пустить ее вовсю и обождать с минуту, но от хлещущей воды поднялся бы адский шум, и Ингус удовольствовался такой, какая есть, напился из ладони, не догадавшись взять из шкафа кружку, в конце концов сунул под струю голову и не вытер полотенцем, а только отжал волосы пальцами и встряхнулся как собака. За стеной в своей комнате что-то невнятно бормотала во сне мама. Спать Ингусу не хотелось, но он не мог придумать, чем бы таким заняться, чтобы не поднять ночью всех на ноги. А поскольку ничего путного в голову не приходило, ему оставалось, хочешь не хочешь, тоже двигать к кровати.
Потихоньку зашел он в комнату, с опаской ожидая, не завизжат ли и здесь петли, но дверь отворилась и затворилась бесшумно и только под его ногами скрипнула половица. У порога он остановился, вслушиваясь в ровное Велдзино дыхание. Она крепко спала. В душе ему хотелось, чтобы жена бодрствовала. Наконец у него было подходящее настроение, чтобы поговорить — сделать то, от чего он всячески уклонялся, притворяясь и непонятливей, и более усталым, чем был на самом деле. Велдзе права, надо наконец выяснить отношения, потому что жизнь действительно зашла в тупик. Дальше так продолжаться не может, надо что-то решать — начать все сначала… или собрать свои шмутки и уходить из Лиготне. Но разве он этого хочет?
Ингус разделся и подлез под одеяло. Привычным неосознанным движением Велдзе чуть подвинулась во сне, чтобы дать ему место.
«Ах, как я устала…» — невольно вспомнил он с горечью ее слезы.
Свинья! Свинья он и скотина! Но и он устал, только ей, Велдзе, этого не понять. Она рассуждает по-женски, ей кажется, что у него сполна есть все, что можно пожелать, чего же ему еще, и он просто распустился от вольной и слишком сытой жизни. А в чем она, сытая жизнь? В том, что есть звонкая монета? Барахло? Тьфу, да разве он хиляк какой-нибудь и калека, чтобы лизать, как заморенный кот, чужие миски и подбирать, как голодный петух, кем-то брошенные зерна? Разве он не в силах заработать все сам, вот этими своими руками, которые могут своротить горы? И разве он, работая мелиоратором на «сотке», не зашибал сотни? Тридцать семь рублей за гектар болота — это тебе не фунт изюма. И гектар нередко удавалось провернуть за один день. Душный запах багульника в полуденный зной, и по ночам ядовито-горький туман над бочагами, и вечером такая синяя дымка на горизонте, какая бывает только над топью, и по утрам в канавах, вырытых накануне, черные молнии гадючьих спин. Однажды их нападало с сотню — гадюки, ужи и медянки, он прыгнул в канаву с лопатой и, хлюпая по ржавой жиже, выкидывал змей наверх, на сушу. Они с шипеньем летали над его головой, — черт побери, вот это была картина! Он действовал как факир, остальные стояли в сторонке разинув рты. Или еще — когда он нашел мину, выкатил что-то вроде ржавого ночного горшка, не сообразив сперва даже, что это за штука и механика, он ведь никогда мины в глаза не видал, потому что служил в ракетных, и лишь тогда, когда Краузе вскрикнул: «Дурак, ведь это мина», до него наконец дошло — ясно, что мина… А еще — он видел танец журавлей…
Но для Велдзе все это лишь неведомая, чужая и полная опасностей планета, откуда она хотела его вызволить — и вызволила, потому что его «ежедневный риск» и «длинный рубль», его тяжелый труд и в поте лица заработанные деньги в глазах Велдзе утратили всякую цену. И вот он лежит со скрещенными на груди руками, такой, каким его сделали, — грустный и несчастный, с тупо гудящей головой и спекшимися губами, чувствуя в мутном похмелье идущий из собственных пор запах спиртного.
Его сделали… Тьфу, да мужчина он или тряпка? Телок он и заячья душа, вот кто он, точно! Он катится вниз, он стремглав мчится под гору, обрастая жирком благоденствия и достатка, еще кое-когда оглядываясь, еще время от времени тоскуя, но спроси, годен ли он для былой жизни, к которой стремится, о которой мечтает, готов ли он еще терпеть лишения, которых будто бы жаждет. Ведь жизнь мелиоратора — это не только романтичная дымка и журавлиные танцы, это каторжный труд от темна до темна и ночи в вагончиках, под чужой крышей, это сухая пайка и жена только в выходной день. И никогда ни одна баба, будь он к ней хоть как привязан, не смогла бы его уговорить и уломать, если бы сам он в какой-то миг не поколебался, не усомнился, так ли он живет, как следует, и тем ли занимается, чем следует, и если бы сам он не поддался соблазну, вполне человеческому желанию устроить свою жизнь удобнее, полегче, пользуясь возможностью, какую дает Велдзино наследство…
Проще всего сейчас, конечно, винить Велдзе, которая, добившись своего, может быть, еще более несчастлива, чем он, — на каких весах взвесишь, кто из них двоих страдает сильнее?
Ингус обвил рукою жену — не в порыве страсти, а с тихой нежностью и мягким участием, сам тоскуя по отзывчивости и сочувствию, но Велдзе не открыла глаз, даже не шевельнулась, и мерный ритм ее дыхания не сбился, не нарушился. И держа Велдзе в объятиях, он почувствовал себя очень одиноким — даже самый близкий человек его не понимает. По мнению жены, он должен бросить пить, и только, чтобы все опять пришло в норму. Но брось он, может быть, настанет день, когда он сунет голову в петлю, и вряд ли это будет лучший выход…
Все их благополучие в последние годы покоилось не на плодах их собственного труда. Об этом шли толки в Мургале на каждом углу, и надо было быть глухим, чтобы этого не слышать, и тупым, чтобы не понять — это не только зависть и злословие, как воображала Велдзе, ведь Стенгревица и его дела местные люди слишком хорошо помнят. И самое разумное, что Велдзе с мамой могли в свое время сделать, это уйти с хутора и в этих краях больше носа не показывать. Но сейчас-то легко рассуждать задним числом. Куда бы они ушли: одна — больная, другая — ребенок? Или мама тогда еще не болела, умом не повредилась? Но когда-то же это началось. Может быть, в тот вечер, когда ее Стенгревиц явился домой, намотавшись за день как черт и пьяный вдрызг, и мама увидала на его груди кровь и стала вытирать, как стирала «кровушку» нынче у него, Ингуса, с такой кротостью и смирением, что Ингуса передернуло. Уже выплакала все слезы и примирилась со своей участью, а может быть, закричала тогда, завыла в голос, проклиная свою судьбу, жена палача…
А теперь они мягко катят мимо всех на своем экспортном авто, купленном на доллары этого убийцы и гада…
Ингус глухо простонал сквозь стиснутые зубы.
Если бы у него, черт побери, хоть была такая дикая уверенность в своей правоте и в своих правах, как у Велдзе! А ему совестно глядеть людям в глаза, точно и человеком он себя чувствует только на старом маленьком «козлике», приобретенном за свои деньги. Если бы он мог, как Велдзе, нареветься вволю, потом залечь и дрыхнуть себе сном праведника божьего, как будто бы достаточно того, что они лежат рядом и что Ингус обнял жену за талию…
Ну что делать, ну как жить? Жить-то ведь надо — нельзя же врезаться в первый попавшийся столб или присматривать балку поближе. И решать это все ему самому, никто за него этого не сделает, и уж тем более Велдзе; она борется героически, но лишь за покой и согласие, за соблюдение приличий — за теплое семейное гнездышко без тревог и свербящих мыслей, которые гложут, не дают спать по ночам, а лежать не смыкая глаз вредно для нервов и от бессонницы пойдут морщины. Но он так и не может придумать ничего путного — он может только махнуть, завиться куда-нибудь, в который раз напиться в дым, отдаляясь все больше от своего ребенка и делая жизнь Велдзе мукой и адом…
На дворе нехотя брезжила серая заря, и в ее блеклом свете Велдзе тоже казалась необычайно бледной — темные запавшие глазницы придавали худощавому лицу выражение застывших страданий, которые не сглаживал и не стирал даже сон, черты были недвижны, как на посмертной гипсовой маске, дыхание стекало с губ совершенно беззвучно, и, хотя рука Ингуса ощущала тепло родного тела, сквозь легкий туман подкрадывавшейся дремоты ему нежданно померещилось, что это окоченевший лик мертвеца. Прогнав сон, Ингуса вдруг обуял безотчетный ужас, в мгновенном озарении словно открывая ему глубину и силу собственных чувств, которые в череде будней и раздоров как бы закатились за горизонт обыденности.
— Велдзе!..
Ингус притянул ее крепче к себе, приник лицом к живому теплому плечу, грудь его сотрясали немые рыдания. Велдзе вздрогнула и непроизвольно чуть отстранилась, так как его борода и волосы были по-прежнему мокрые, но она не проснулась и сейчас.
Велдзе открыла глаза лишь через несколько часов, и тишина в доме и воскресная леность, возможно, убаюкали бы ее вновь, если бы вставшее над горизонтом солнце не било в лицо и если бы Ингус так не храпел, да еще, нахал, в самое ухо. Спать с ним было сущим мученьем. Он не только сопел с присвистом, но и, повертываясь во сне на другой бок, нередко стягивал с нее одеяло и разбрасывался, занимая добрых две трети тахты, и спасибо еще, что ее законное место было у стенки, не то она как пить дать скатилась бы ночью на пол, и винить было бы некого: Велдзе могла упрекать мужа только за то, что он делал бодрствуя. Ей оставалось либо примириться с тем, как оно есть, либо спать отдельно, что ей и приходило в голову, но она втайне этого боялась, страшась еще большего и, может, безвозвратного отчуждения. Мужа и так приходилось держать обеими руками, чтобы он, болтаясь обычно в подпитии, не запутался в какой-нибудь юбке, как в свое время Страздынь. На Ингуса многие заглядывались — плечистый, живой, отчаянный, — надо быть слепой, чтобы этого не видеть. И, брошенная однажды, Велдзе больше всего боялась, что прошлое может повториться.
А что, если у женщин в их роду вообще такая судьба? Отец покинул маму. Ну ладно, Советская Армия наступала, и отцу никак нельзя было здесь остаться. Но потом — ни единой строчки, будто камень в воду ухнул. Почти тридцать лет никаких признаков жизни… А Страздынь бросил ее. И если бы еще ради какой красотки, а то — господи твоя воля! — спутался с простой дояркой из Ауруциемса: навозом пахнет, оплыла жиром и вдобавок еще на четыре года старше, смех просто. Возможно, теперь кусает себе пальцы… Как-то раз она затормозила нарочно у автобусной остановки перед самым его носом: «Ну, Харальд, может, подвезти?» Отшутился: «Соблазняешь. А я уж больше двадцати лет соблазненный», и все ж не утерпел, не отказался и полез в машину. «Как же тебе живется, Харальд?» — «Не жизнь, а малина!» Ха, оно и видно! Потрепанный свитер, брюки неглаженые, на плечах линялый брезентовый рюкзак — вахлак, да и только! Удивительно еще, как к нему не прилип от его крали навозный дух, и воняет он только «Примой» или «Севером», словом, дрянным дешевым табаком. «Шикарный у тебя, Велдзе, мотор, да-а!» — откидываясь на сиденье, одобрительно сказал он. А ты как думал, серый чижик?.. Возможно, это не так уж благородно, но ах как сладко прокатить этаким манером свою бывшую половину, которая некогда тобой погнушалась и пренебрегла, — включить радио, прикурить от зажигалки, на прямых участках дороги разогнаться до девяноста километров в час… сознавая к тому же, что Ингус на голову выше этого облезлого типа…
И вот Ингус лежит с ней рядом, обхватив ее рукой за талию, такой близкий, теплый, сонно-расслабленный, и только безудержно, отчаянно сопит. Она повернулась на бок и легонько его толкнула:
— Ингус…
Он фыркнул, лениво и медленно заворочался, что-то такое промычал, но храп все же прекратился — и настала тишина. Рука на Велдзе тоже непроизвольно шевельнулась, на какой-то миг вроде отстранилась, потом вновь обхватила сильным, но очень бережным объятьем, как бы защищая. Растроганная и оттаявшая, Велдзе прильнула к мужу всем телом, воспоминания о Страздыне в эту минуту показались ей вдруг кощунством, и она неслышно, одними губами шептала: «Ингус, Ингус…» Мир царил между ними и согласие, казалось, что и желать-то уж больше нечего, и ей подумалось — почему так не может быть всегда, почему мгновения счастья в их жизни стали так коротки и мимолетны: вспыхнут как молнии, и тут же погаснут в серых буднях, и вновь растворятся, будто их не было, в распрях и перекорах.
Чего им недостает, чтобы они всегда были счастливы? Такой малости — только желания! Но разве у нее нет желания? Ах, да у нее целый воз желания и еще с верхом, и ничего она так не жаждет, как не дать Ингусу спиться и себя погубить. Его, как дитя, надо любить и жалеть. Ингуса надо беречь ночью и днем — тоже как дитя, чтобы он не вздумал играть с огнем и бегать по крышам, беспечный, отчаянный, ветреный.
В кухне глухо брякнула посуда, и открылась наружная дверь. Мама. В птичник пошла к своим курам. Петух и три курицы — мама выпросила их христа ради, сельский человек, не может она, чтобы совсем без живности, хотя Велдзе не хотела держать в усадьбе никакого скота — лишняя обуза и хлопоты. Да какой же это скот — куры… Ну ладно уж, пускай, уступила дочь скрепя сердце: птица имела подлую привычку разрывать, раскапывать цветочные грядки — три штуки, и ни единой больше. Мама выклянчила еще и петуха: как же курочкам без петуха? Ладно, пусть будет и петух, что ты сделаешь. Старый человек, капризный, — удовольствие ей, какая-то забота с этой птицей, раз мало ей других невзгод, которых по горло…
Хрустальное утро под самым окном расколол громкий петушиный крик. Ну да, не иначе как мама пустила этих чертей в сад, где только вчера посеяли душистый горошек и настурцию. Вот наказание! В воскресенье и то нет покоя. Осторожно сняв с себя мужнину руку, Велдзе откинула угол одеяла и прямо босая, в ночной рубашке подошла к окну, открыла… Так и есть! Вы полюбуйтесь только — шуруют! Ах, мама, мама… Не желая шуметь, чтобы не поднять Ингуса, Велдзе схватила со спинки стула что-то из одежды и стала махать ею в окно, пугая кур и петуха, и птицы, крича как оглашенные и хлопая крыльями, кинулись с грядок врассыпную прямо через флоксы, гладиолусы и нарциссы.
— С кем ты там воюешь, милая? — тихонько засмеялся сзади Ингус.
— С мамиными курами, — отозвалась Велдзе, оглядываясь на мужа, который наблюдал за ней с тихой улыбкой — взъерошенный, волосатый, кудрявый, бес, да и только, — и невольно расцвела в улыбке и она, и вся ее досада мигом улетучилась. — Хорошо спал?
— Как сурок.
— Ты ужасно храпел.
— Да ну! Надо было дать мне тумака.
— Я и то уж.
Она подошла, села рядом на краешек тахты.
— Озябла?
— Нет.
И все же Ингус, обхватив, затащил ее под одеяло.
Поддразнил:
— Не озябла! А сама холодная, как ледышка.
И стал целовать жаркими нетерпеливыми губами лицо, плечи, грудь, живот сначала со смехом, а потом все больше загораясь и распаляясь; и Велдзе, которая сперва, тоже тихо смеясь, уклонялась от щекотных прикосновений его рта, вся напрягшись вдруг, порывисто обхватила его за шею, сдавила, стиснула тонкими нервными пальцами, осязая под горячей кожей стальные мускулы.
— … Ингус… Ингус… — повторяла она одними губами, чуть не задыхаясь в его объятиях под тяжестью могучего тела, и в этом ее шепоте, в частом, шумном дыхании, в немом крике прорывался весь сумбур ее страстных, кипучих чувств — пьянящая радость и готовые брызнуть слезы. — …Ингус… Ингус… Ингу-ус…
…Первое, что она услыхала, была кукушка. Птица пела где-то далеко — может быть, в мызном парке, может быть, на опушке леса, но безветренное утро было столь прозрачно, что чистый звон песни долетал до хутора.
— Ингус!
— Мм?
— Ты слышишь?
— Что, дорогая?
— Кукушку,
— А-а.
Раза два кукование прерывалось гулом грузовика на дороге, потом фырканьем мотоцикла, но, когда шум отдалялся и затем стихал, сквозь тишину вновь долетал монотонный звонкий голос птицы.
— Она кукует нам долгую жизнь, точно!
— Да, Ингус.
Солнечный свет залил весь оконный проем.
— О чем ты думаешь, Велдзе? — в блаженной истоме спросил Ингус, тогда как птица продолжала отсчитывать им годы.
Велдзе помолчала.
— Тебе, Ингус, это покажется глупым.
— Ну уж. Не могу себе даже представить.
— Мне хотелось бы, чтобы так было всегда… Но это… невозможно.
На сей раз помолчал он.
— Понимаю, что ты хочешь сказать, Велдзе. По отношению к тебе я был гадом и скотиной, точно. А ты всегда… От тебя я видел только добро… Почему ты плачешь? — испуганно вскричал он. — Велдзе!
Но она, как и вчера, только молча мотала головой и не могла с собой совладать. Ингус неловко вытирал ей углом простыни щеки, а она плакала все сильней, в три ручья, заливаясь слезами. И мужскому уму его было не понять, что это слезы не горя, а счастья.
— Господи, как же я, подлец, тебя разобидел! — воскликнул он, искренне огорченный, виня себя во всем. — Надо было по мордасам мне надавать, и поделом бы, точно!
Велдзе бледно улыбнулась сквозь слезы, между тем как вдали за окном, в звонкой тишине весеннего утра кукушка отсчитывала последние часы их совместной жизни, но они — ни тот, ни другой — об этом не подозревали.
После завтрака, напившись горячего как огонь, до ужаса крепкого черного кофе, Ингус совсем воспрял духом и ожил, руки так и чесались, так и просили какого-нибудь занятия, дела, готовые сдвинуть с места и даже своротить гору. Он починил свет и смазал петли, а потом, вспомнив про нечищеный дымоход, нашел под лестницей старые штаны в известке, влез в них, разыскал, насвистывая, оббитый таз — для сажи, но никак; ни в какую не мог напасть на проволочный еж, упругий и гибкий инструмент, которым можно достать в трубе любой оборот. Тьфу ты черт, ну куда его засубботили — как в воду канул, и кому эта штука понадобилась? Может быть, взяли соседи? Но одно то, что он, убейся, не мог найти проволочный еж, хоть и облазил все углы и закоулки, лишний раз подтверждало, что он уже сто лет не держал в руках эту вещь и вообще в последнее время жил не тужил и на все поплевывал, насчет хозяйства и в ус не дул, пропади оно все пропадом, как будто Лиготне — хутор Витольда Стенгревица, и только, а не дом, не пристанище его жены и ребенка.
Тщетно копаясь в старой, отслужившей свой век рухляди, он стал хмуриться и сердиться, потом плюнул, махнул рукой, вооружился маленькой лопаткой, поварешкой, еловой веткой и двумя газетами, стал у печки на колени и вынул трубную дверцу. Серо-черная пыль пахнула прямо в лицо, пфу-у — удивляться надо, как это плита хоть с горем пополам тянула!
— Полно? — стоя позади, спросила Велдзе.
— Угу, прямо битком!
— Может, мне подстелить еще газету?
— Все равно, Велдзе, пол придется скрести. Ты видишь, как ее тут кружит? Пчелиный рой! — Он обернулся, глядя на жену снизу вверх с ослепительной белозубой улыбкой, точно извиняясь за грязь, которая шла из трубы. — Это еще цветочки. Вот повалит из оборотов, где сажа сбилась и слиплась комками от жирных смол в еловых дровах, тогда держись… Тьфу ты, опять в лицо!
Когда же он, дармоед, последний раз подходил к печи и закатывал рукав? И что бы ему в будний день взяться, к вечеру, а то загадит весь дом как преисподнюю, и еще в воскресенье. Только вчера небось женщины все вымыли, вычистили, как и водится, под выходной.
— Дай я вынесу, — предложила Велдзе, когда таз наполнился до половины,
— Я сам.
— Ты мне заделаешь дверные ручки.
— И то верно.
Она вынесла, ссыпала в ящик, ведь сажа — ценное удобрение для лука и бросать ее так просто в яму, где хлам и мусор, было бы грешно. Потом возвратилась с пустым тазом в дом, где Ингус, согнувшись в три погибели и пыхтя от натуги, тыкал хвойным сучком в дымоход.
— Коротка, подлюга, и ломкая!
— Кто, Ингус?
— Да ветка. Не достаю я доверху. Ну… Эх… Ну, еще… Видишь, дальше не идет!
— Что же нам делать?
— Тут не елку нужно, а можжевельник. Гибкий такой кустик и тонкий. А лучше два или три — разной длины.
Велдзе тихонько засмеялась.
Он обернулся к ней — борода в серой муке, точно седая, черный потешный мазок на носу, — и Велдзе опять засмеялась.
— И все-то ты, Ингус, знаешь!
Он только рукой махнул.
— Кто же этого не знает, Велдзе… Но где взять можжевел, а?
Велдзе засмеялась в третий раз.
— В лесу.
— Где?
— В лесу, где же еще.
— Что в лесу, это и я знаю. У Каменных гряд их полно, да ведь… Надо смотаться рысцой. И засветло успею вернуться, точно.
— Вот глупенький, для чего же у нас машина?
— В таком виде?
— Ну зачем в таком? Разве долго вымыться, переодеться? Ведь сегодня воскресенье.
— Но я…
— Мы вернемся через полчаса… через час. Взяли бы с собой Эльфу, — все больше загораясь, говорила Велдзе, а Ингус сидел у ее ног как пес и смотрел снизу вверх. — Ну скажи, когда мы вместе куда-нибудь ездили? — продолжала она и, стараясь опередить его возражения, поспешно сказала: — Ладно — в гости, на свадьбу, ладно — в магазин в Раудаву или в Ригу. А так просто, ни с того ни с сего, только потому что хочется? Скажем, за какими-то несчастными кустиками? Оставим все как есть и…
— Не побоявшись мамы! — весело добавил Ингус, хотя ему страх как не хотелось бросать все на полдороге. Доделать бы, поставить точку, хоть самую грязь убрать — тогда пожалуйста, на все четыре стороны. А то, как недотепа, как балбес, развел, затеял, поковырялся полчасика, и поминай как звали! Но и можжевельник нужен, черт бы его побрал, и неохота огорчать Велдзе… Такой солнечный день, да и то правда — когда они вообще куда-нибудь ездили так просто, для удовольствия? В последние два года за грибами, пожалуй, и то не выбрались. Сперва Эльфа была кроха, а потом даже как-то не приходило в голову…
— Ну, Ингус! — не отступалась Велдзе.
Он поднялся медленно с пола, тоскливо обвел взглядом дело рук своих, за которое так горячо взялся и теперь должен на полпути бросить, весь этот разор и грязищу, что он оставлял, однако пошел мыться, намылился, потом усердно тер себя щеткой с моющей пастой, три раза меняя воду, и растерся полотенцем до приятной, бодрящей красноты.
— Собрались куда, что ли? — заговорила с ним мать.
— В лес, муттерхен, — отозвался Ингус, вытираясь и глядя сверху на маленькую сухонькую женщину, которая всегда вызывала в нем двойственные, противоречивые чувства — нечто среднее между гадливостью и жалостью, как раздавленный муравей или вздетый на крючок червь, истинную меру страданий которого Ингус мог лишь отдаленно угадывать, но не в силах был живо себе представить, ведь мама обреталась в каком-то другом мире, с иными, своими законами, где не годились привычные понятия о сути вещей. — Вы в комнате до нас ничего не трогайте. Приедем из леса — сами наведем чистоту.
Но мама, казалось, не уяснила себе его слов, переспросила:
— В лес? Ой, не надо бы ехать! Тревожные времена, тревожные времена…
Мама жила еще в иных, давно минувших временах, и втолковывать ей что-либо, Ингус прекрасно это знал, было бесполезно, она бы только пришла в возбуждение — окаянство! — и в очередной раз подняла бы крик и такой тарарам, что хоть уши затыкай. И он, не пускаясь в объяснения, терпеливо сказал:
— Все будет в порядке, муттер! — невольно подумав, а не держится ли с ним мама, не ведет ли себя порой так, как вела себя и держалась со своим Стенгревицем, — защищая, что ли, от возможной опасности. Он вспомнил вчерашнее кроткое, покорное бормотанье: «Кровушка… кровушка…» — и внутренне содрогнулся. — Все будет в порядке, — повторил он, пошел одеваться и затем направился к машине. Отпер гараж, вывел «Волгу» и несколько раз нажал кнопку сигнала. Подождал минуту и погудел еще. Но вот и они вышли — Велдзе за руку с Эльфой. Девочка этой зимой сильно вытянулась, весеннее пальтецо было явно коротко, и ноги в серых колготках выглядели длинными и тонкими, как у аистенка.
— Может быть, ты сядешь за руль? — предложил Ингус.
— Зачем, езжай сам. Только не сумасбродствуй.
— С какой скоростью мне высочайше дозволено двигаться? Тридцать, сорок километров?
— Глупый…
Они выехали со двора на обсаженный деревьями прогон и, ослепленные, покатили сквозь тоннель из теней и бьющего света.
— Ты видишь, Ингус, какой день? — горячо воскликнула Велдзе. — Наверное, самый прекрасный за всю весну, а?
— Точно! — согласно кивнул он, и мысль его не участвовала в том, что он говорил.
Лес обнял их ароматами нагретой на припеке смолы и земляничника, едва слышными вздохами сосновых вершин и очень близким сейчас разговором кукушек. А из долины, с берегов невидимого отсюда и лишь легкой, прозрачной зеленью помеченного ручья, долетали многоголосый свист и трели, теньканье и щебет, и эти звуки мягко влились в тишину, которая в первые мгновенья, после того как заглох мотор, казалась нежилой и пустынной, а потом наполнилась весенним ликованьем. Однако весь этот хор перекрывали чистые голоса кукушек: ку-ку, ку-ку… пли-пли-пли…
— Ты слышишь?
— Да, Ингус, — подтвердила Велдзе, вслушиваясь в звонкую разноголосицу.
— Тот, что «ку-ку», это самец, а «пли-пли-пли» — самочка.
— Ты шутишь! Это, скорее, дятел.
Ингус рассмеялся.
— Так бывает, Велдзе, только в анекдотах.
— Что именно?
— Чтобы самцу кукушки откликалась самка дятла, точно.
— Так это в самом деле кукушка? — удивилась Велдзе, стараясь уловить еще раз необычный крик и его запомнить, но самочка смолкла, и теперь доносился лишь знакомый испокон веку зов самца. — Все-то ты знаешь! — похвалила Велдзе мужа.
— Так уж и все, — отозвался Ингус, но Велдзе чувствовала, что ее слова ему польстили: мужчина есть мужчина.
— Красота! — восхищенно сказала она, обводя взглядом вокруг — светло-зеленую впадину с речушкой по одну сторону и с большим ажурным сосняком по другую, сквозь который на солнце просвечивала Каменная гряда, царство гранита и можжевельника. — А то бы мы так и просидели дома как кроты. Смотри, вон бабочка! Эльфа, видишь?
Бабочка была желтая, она реяла и трепетала, как малый блуждающий огонек, порхала вокруг стволов сосен, постепенно удаляясь. И Велдзе вспомнилось старое поверье — какая встретится первая бабочка, таким будет и лето: если крапчатая, то и лето выдастся пестрое, а если одноцветная — лето будет спокойное, однотонное, без особых приключений. Значит, у нее лето будет тихое, и это хорошо: она измучилась от вечных сюрпризов и происшествий. Она хочет спокойного, самого обыкновенного счастья, чтобы у нее был, как сейчас, свой дом, Ингус, ребенок, ей не надо ни славы, ни любовника, ни перемен, у нее есть все, о чем мечталось, и если она за что тревожится, чего боится, так это — растерять все и утратить, промотать и остаться ни с чем. Она не жаждет у кого-то что-то отнять, она не скряга, не сквалыга, она только не хочет отдавать своего. И пусть бледно-желтая бабочка пророчит мирное лето! Нынче Велдзе нужно тихое лето — без града и гроз, без жары и суховеев, как земле, чтобы она могла рожать…
Велдзе смотрела, как Эльфа в светлом пальтишке зигзагами, скрываясь между стволами и вновь появляясь — как порхавший сейчас мотылек, — бежала трусцой по лесу, то и дело нагибаясь и что-то собирая.
— Что там такое, Эльфи?
— Цветики, — отозвалась девочка и подняла вверх пучочек стебельков с нежными колокольчиками сон-травы.
— Только не заблудись, Эльфа!
— Да!
— Не ходи далеко!
— Не-ет… Здесь такие красивенькие…
— Вернись!
— Сейчас…
Ну а Велдзе? Что она стоит у машины как привязанная — задумчивая, озабоченная, боится позволить и ребенку отойти на лишний десяток шагов? Да. Человек не умеет наслаждаться счастьем. Иной раз ему невдомек даже, что это счастье, а когда он это сознает — беспрестанно тревожится, боясь его потерять, и губит этим все…
Ей захотелось курить. Но сигареты в сумке, а сумку Велдзе с собой не взяла. У Ингуса в кармане что-нибудь найдется. Мужчинам хорошо — карманы дома не забудешь… Она про себя улыбнулась своей неуклюжей шутке и пошла навстречу мужу, который нес в руке гибкие зеленые кустики и тихонько насвистывал.
— Ингус, у тебя есть закурить?
— Как всегда! — бодро ответил он и достал пачку сигарет, а потом и спички. Встряхнул коробок, сам себя спрашивая: — Пустой номер? — Но в коробке что-то слабо потарахтело. — Последняя спичка.
Ингус чиркнул ею, единственной, и Велдзе закурила. Сам он, однако, не успел — под ветерком пламя погасло.
— К машине сходить разве?
— Прикури от моей, — предложила она.
Их сигареты соприкоснулись. Лица Ингуса и Велдзе встретились в такой близости, что она видела золотые искры в радужных оболочках его глаз — от солнца и сдерживаемого смеха, веселые огоньки, которые в ней почему-то не отразились, а, напротив как раз, — вселили смутное чувство близкой опасности, что ли, и все тот же страх потерять. Но что потерять? Смешно просто. Сама забила себе голову, все последние дни волновалась, нервничала, переживала… Сколько раз ей казалось, что с Ингусом что-то стрясётся… что он не приедет… и что-то должно произойти… Все это ерунда! Сто раз, наверно, ее мучили и терзали дурные предчувствия — ну и что, разве они хоть когда-нибудь сбылись? Все нервы, нервы… А сейчас особенно. Вот ее и кидает как на качелях: вверх-вниз, вверх-вниз…
Сделав над собой усилие, Велдзе засмеялась, хоть и незвонким, тусклым голосом.
— Что ты смеёшься, Велдзе?
— Это последняя сигарета — я бросаю, всё.
— О-ля-ля! Кто же это тебя вдохновил на такой подвиг?
— Никто. Я сама… мне теперь лучше не курить.
— Начиталась, наверно, что от никотина лицо старится, точно!
Ничего-то он не понял, мужчина-мужчина!
— Черт возьми, что же теперь со мной будет! — с притворным ужасом воскликнул он.
— В каком смысле? — без выражения спросила она.
— Никто так яро не воюет против своих прежних слабостей у других людей, как отступники, точно. Теперь ты будешь меня гонять и мылить мне шею за каждую цигарку, я. уж чувствую.
Велдзе криво усмехнулась. Говорить ей больше не хотелось — их слова как бы не встречались, как бы расходились в пути. Ингус не сознавал серьезности этой минуты. А она… она видела, что миг наибольшей их близости уже позади. А когда он был — утром в постели? Или недавно, когда они втроем вышли из машины тут, у Каменной гряды, и нежданно-негаданно их обняло птичье пенье и душистое свежее дыхание леса? Или сейчас, когда соприкоснулись их сигареты и в нее, близкие-близкие и смеющиеся, живые и золотистые, вперились мужнины глаза? Неважно. Оно ведь уже миновало, оно уже в прошлом. Его нельзя больше почувствовать, его можно только вспоминать. И ей расхотелось здесь оставаться, на этом месте. Пустом теперь, как кулек, в котором были конфеты, как бумага, тара…
— Эльфа, мы уезжаем!
— Да!
— Ну сколько можно ждать, Эльфа?
— Сейча-ас!
Девочка вышла на опушку леса — в обеих горстях у нее были цветы.
— Ну куда ты нарвала столько, глаза завидущие!
Эльфа искоса метнула на мать вопросительный с лукавинкой взгляд — точно так поглядывал Ингус, когда провинится. Мамина дочка… Те же глаза, рот, нос, волосы, даже сухощавость, только взгляд отцовский. На таких хлебах, между прочим, могла быть и покруглее. Вон у Ритмы Атис — как сбитый… Сколько раз Велдзе ловила себя на том, что, думая о сыне, представляет его себе примерно таким, как Атис, — наверное, потому, что мальчик был немножко похож на своего дядю… Теперь, однако, у Велдзе было такое чувство, что второй ребенок ей ни к чему. С Эльфой одной — о боже, сколько она приняла, лучше не вспоминать! Была бы еще мама здорова, тогда другое дело. Но мама и сама как ребенок, хуже ребенка… Может быть, пойти в больницу — сделать аборт? После недавней вспышки чувств Велдзе словно потухла, как будто не выдержав бремени счастья.
— Ну, поехали! — сухо сказала она, села в машину и взяла на руки Эльфу.
— Как прикажет сударыня! — отозвался Ингус, комичным жестом снимая шапку и сгибаясь в поклоне.
Уголки Велдзиных губ дрогнули. В улыбке? В усмешке? Она сама не могла бы сказать. Ей хотелось домой, и было страшно подумать, какой хаос они там, дома, оставили.
— Ты на меня дуешься? — не удержался Ингус и, повернув ключик зажигания, бросил короткий испытующий взгляд на профиль жены.
Она легонько пожала плечами:
— Нет. С чего ты взял.
Но то, что Велдзе не повернула головы, не улыбнулась ему, не просияла, скорее опровергало ее слова, чем подтверждало. И в недоумении вздернул плечи и он.
Иногда ее, Велдзе, без пол-литра не поймешь. Качается туда-сюда, как маятник. Никогда не угадаешь, по шерсти погладишь или против шерсти. Самой же загорелось — поедем и поедем в лес! И вот, пожалуйста, уже надоело, наскучило, уже насупилась — кислая, как уксус. Дергает Эльфу. Того и гляди возьмется за него: и задний ход дал не так, как следует, и обогнал кого-то на повороте не по правилам… Садилась бы за руль сама! Но теперь уж поздно ломаться и кобениться, как барышня, — раз взялся, двигай знай только вперед… А плечи у него широкие и нервы в порядке, стерпит какой-то там комариный укус, не умрет, такой бык, на нем землю пахать можно, тогда как Велдзе…
Да, здоровье у нее, видно, не того. Лицо желтое и сама худая — у него сегодня прямо сердце сжалось. Давно ему не приходилось смотреть на нее при таком нещадно ярком свете, при весеннем солнце, когда видна каждая морщинка, каждая пора. Помада, которой Велдзе намазюкала губы, и черный карандаш под глазами лишь оттеняли газетную серость и тусклость кожи, а подведенные синим веки, брр, делали лицо неживой маской деревянной куклы. Краски прямо-таки лезли в глаза и чуть ли не лупились с лица Велдзе, так что в какой-то момент — когда Ингус у нее прикуривал — его так и подмывало вынуть носовой платок и стереть к чертовой бабушке всю эту косметику, на которую он не мог смотреть без смеха; но в то же время и без грусти. Как Велдзе за зиму постарела! Он еле удержался, чтобы не вякнуть что-то насчет ее вида, бог ты мой, это был бы номер, это было бы самое худшее, что вообще он мог ляпнуть! Но возможно, Велдзе и так угадала его мысли, ведь женщины глазасты и жуть до чего сметливы… А, точно, он же сболтнул насчет преждевременных морщин от куренья — и Велдзе, понятно, обиделась.
Но что же так подточило ее и доконало? Какая-то хворь? Или же его пьянство и фортели, которые он в последнее время нет-нет и выкидывал и которые, видно, так сильно портили ей кровь? А может быть, ей вовсе не так безразлично, что о них говорят и как на них смотрят здесь, в Мургале? Возможно, такая уверенность в своей правоте — всего лишь средство самозащиты? Чужая душа потемки… И что бы на ее месте делал он? Да, не так-то просто это сказать и еще труднее, наверно, делать… Все, что он мог придумать, было так только — подгонкой, латаньем заплат, тогда как одежду надо было перекроить заново.
Но как?
Ингус опять скосил глаза на жену, однако Велдзе и на сей раз не ответила взглядом, видела ли, нет ли — к нему, однако, так и не повернулась, отчужденно смотрела прямо перед собой на дорогу, и он вновь почувствовал себя одиноким — так же, как ночью, когда Велдзе спала и ему казалось непостижимым, что она может спать безмятежным сном, в то время как он терзался и мучился неотвязными мыслями и жаждал понимания, участия.
Ингус догадывался, что Велдзе поездкой разочарована. А он? Да, и он тоже. Ну зачем им понадобилось катить в лес? Что это дало — три можжевеловых кустика разной длины, без которых, вообще говоря, можно было и обойтись? Или Велдзе стремилась продлить ту радостную, теплую близость, которую оба они испытали ранним утром, еще в постели? Но продлить ничего им не удалось.
— Ой, это Нерон! — воскликнула Эльфа, припадая к ветровому стеклу.
По левой стороне дороги, порой слегка опираясь на трость, прихрамывающей и между тем пружинистой походкой навстречу медленно шел Феликс Войцеховский, и на шаг впереди него тяжеловато трусил большой пес.
— Это Нерончик, вон как…
— Сиди спокойно, Эльфа! — резковато одернула ребенка Велдзе и, когда они с ветеринаром поровнялись, неприязненно сказала не то Ингусу, не то себе, как бы думая вслух: — Войцеховскому, ему, видно, все можно…
— Что все? — удивленно бросил Ингус,
— Когда наш Джек выбежит на шоссе и немножко полает, уполномоченный грозит протоколом и штрафом. Зачем бегает без намордника. А тут, нате вам, среди бела дня — ни поводка, ни намордника. И ты думаешь, ему хоть слово скажут? Пан Войцеховский и его благородный пес!
— Ну, Велдзе, все же большая разница.
— В чем, интересно?
— Наш Джек гоняет за каждым мотоциклом, тогда как Нерон…
— …само собой, римский император!
Ингус ничего не сказал.
— Помнишь, — прервала молчание Велдзе, — когда пекарня была на ремонте, не хватало белого хлеба и давали по одному батону на человека. Тот сидит у лавки и ждет, облизываясь, нахал этакий, пока…
— Это Войцеховский?
— Не придуривайся, Ингус! Сидит у крыльца, с двери глаз не сводит и ждет, пока этот поляк выстоит очередь. Как выйдет с батоном, тот вскочит и тут как тут! Войцеховский ломает пополам — и ему в рот. Не хватало людям, а он скармливал собаке. И у всех на глазах, ничуть не стесняясь! Еще посмеется: «Половину надо отдать закадычному другу, а как же». Кощунство!
— А у тебя… — с холодной насмешкой сказал Ингус, — у тебя, видно, эти полбатона и по сегодняшний день колом стоят в горле — никак не проглотишь…
Тут Велдзе все же метнула взгляд в его сторону — ледяной, надменный, барский.
— Не забывайся!
Ингус опять помолчал, а тем временем Велдзе стремительно от него отдалялась, становясь все более чужой — такой чужой, как будто они никогда не были очень близки друг другу.
— Ну да, лучший вид обороны — наступление, — усмехнувшись, сказал наконец он.
— Не понимаю, — резко обронила она и поджала губы.
— Зато до меня, хоть и с большим опозданием, дошло наконец, почему Войцеховский для тебя все равно что бельмо на глазу.
— Ну, почему же, по-твоему?
— Пошевели мозгами сама. Не в полбатоне дело, который слопала его собака, и не в том, что милиционер цепляется к нам из-за Джека. — Велдзе упрямо молчала. — Тебе не по нутру, что он вообще тут ходит… Как напоминание, точно.
— Напоминание? О чем, интересно?
— О том, чего тебе не хотелось бы вспоминать.
— Ты про то, что болтают и плетут злые языки? — спросила она. — О брате Войцеховского, да?
— А ты этому не веришь?
— Нет! И еще раз нет!
На сей раз они помолчали оба.
— Мне бы, Велдзе, твою способность и умение не верить тому, чему невыгодно верить!
— Но тогда ведь была война, — заговорила она торопливо и взволнованно. — И в войну убивали многие и многих.
— Убивать можно по-разному и по разным причинам. Можно, например…
— Я ничего не желаю слышать! — воскликнула она. — Я не хочу вдаваться ни в какие детали. Не мое это дело судить человека, который дал мне жизнь!
— А потом бросил, как слепого котенка! И дал тягу, драпанул без оглядки, спасая свою шкуру.
— И все же обо мне думал. Это доказывает хотя бы завещание.
Ингус невесело усмехнулся.
— Сейчас ты станешь уверять, что вдобавок его любишь.
— Он мой отец — и этим все сказано!
— У тебя, Велдзе, по-другому устроена голова. Для меня говно есть говно, под каким бы сладким соусом оно ни было. А ты готова его тут же назвать деликатесом.
— Ингус, выбирай слова! — вскричала она. — Мы говорим об умершем и близком мне человеке, который нам — тебе тоже! — желал только добра и деньги которого, кстати…
— Это дедушка? — неожиданно вставила Эльфа.
— Замолчи! Тебя никто не спрашивает.
Оба сразу отрезвели — они забыли о ребенке, для ушей которого это не предназначалось. Но удастся ли Эльфу от всего этого оградить? И надолго ли? Самое позднее, наверное, до школы. А дальше? Не придет ли однажды девочка с вопросом, на который не знаешь как ответить? И, оберегая от ударов нежную душу ребенка, не соорудят ли они с Велдзе ловкие буфера лжи, прочную амортизацию? Или же подкатить к школе на шикарной «Волге» для Эльфы окажется важнее, чем узнать горькую правду? К дьяволу!.. Зачем ломать себе над этим голову сегодня? До того времени еще больше двух лет.
Мягко колыхаясь, машина въехала во двор усадьбы. Навстречу вышла мама.
— Что так долго? — проговорила мама. — У меня уж сердце не на месте — не случилось бы худого. Не надо бы, не надо в лес ездить. Мало ли что может…
— Да ну, мама! — махнула рукой Велдзе. — Что же с нами может случиться?
— Кто знает… — покачала головой мама. — Ну иди, Эльфи!
Ингус невольно подумал, что мама не так уж неправа — действительно ведь случилось! И нечто большее, чем обычная ссора, после которой достаточно поцеловаться — и все забудется…
Он выпустил и Велдзе, потом задним ходом подал машину в дверь гаража, так как никакой поездки сегодня больше не намечалось.
Надо снова браться за дымоход, закончить, поставить точку, чтобы можно было навести порядок. После обеда еще наколоть дров. Самое умное было бы собраться наконец и устроить в доме центральное отопление. Да некогда все, нет времени, дел невпроворот: за одно хватаешься, за другое, а третье тебя поджидает. Там скрипит, там не горит, там засорено, там не тянет. Крутишься, ловишь, как собака, свой хвост, пока не подумаешь — вот плюну на все и выпрягусь…
Ингус чувствовал свербящее, навязчивое беспокойство, мучившее его, как зуд. Мысль перескакивала с предмета на предмет, во рту сохло, руки дрожали от нетерпения, однако то, к чему он сейчас так рвался, была не работа. Он и сам не знал, на что направить свой лихорадочный, суматошный порыв к действию, всеми силами старался уйти от тревожных дум, но против воли снова и снова к ним возвращался. Сумбур чувств его мучил, не давал собрать себя воедино, что ли, сосредоточиться, разрядиться. Ингус хорошо — о черт, слишком хорошо! — знал это состояние, хотя и старался не только скрыть его от других, но и утаивал от себя: ему хотелось выпить и забыться, хотя бы на час-другой выбросить из головы всю эту проклятую сумятицу и мороку, которая звалась его жизнью.
К обеду Велдзе выставила бутылку хорошего импортного вина — в знак примирения.
Вспоминая происшедшую размолвку, она все же не могла восстановить в памяти, как они — о боже! — дошли до таких резкостей. Началось ведь буквально с пустяка. Она вскользь что-то заметила насчет собаки Войцеховского и… Но возможно также, что все завязалось в узелок еще до того, в лесу. Велдзе, видимо, утомилась слегка от солнца и слепяще-острого света, так что ее подташнивало и сильнее обычного раздражало мужнино легкомыслие, да еще в такую минуту, когда она хотела сообщить ему что-то серьезное и очень важное, что имело большое значение для их дальнейшей жизни. Но теперь, глядя с некоторого расстояния, она уже сознавала, что, по правде говоря, сама была к Ингусу несправедлива: ведь он ни о чем не догадывался, и если можно его в чем упрекнуть, так лишь в непонятливости, несообразительности, но никак не в злом умысле. Его озорство и болтовня были скорее забавны и милы — без намерения ее дразнить и злить — и выдавали только хорошее, бодрое настроение и жизнерадостность, а она своей угрюмостью все испортила.
Ну а Ингус? Разве она заслужила таких ярых нападок с его стороны за свое пустячное замечание о Нероне? Зачем было ворошить прошлое и чуть ли не тыкать ей пальцем в нос— да что в нос! — прямо в глаза ее отцом? Своего отца она не выбирала, так же как Ингус не выбирал своего. И за то, что она дочь Витольда Стенгревица, Велдзе немало натерпелась, немало… Было бы в кого — всегда найдется рука, которая бросит камень. В школе она громко, с выражением декламировала стихи, в том числе и балладу «Жертвам фашизма слава!». Ее даже выдвинули на районный смотр, а потом спохватились: ах, да, верно, вряд ли это будет уместно, что именно дочь Витольда Стенгревица и так далее и тому подобное… Как будто за грехи отца она в ответе! Стоило только с кем-то сцепиться, поссориться — а, да что говорить… Пусть это были другие времена. Но вот совсем недавно, когда их отделению связи присудили диплом за хорошую работу… Где-то кому-то что-то, видите ли, не понравилось, не показалось. И письмо без подписи в высшие инстанции напомнило, что-де Велдзе Мундецием и есть та самая Стенгревиц, и потому… Противно вспоминать! А в глаза: «Велдзе, милочка… какой у тебя свитерок!.. да какие туфельки… Не сможешь ли ты мне достать… не можешь ли отвезти?..»
И так приятно с усмешкой смотреть мимо этих мелких людишек и завистников.
А Ингус? Чего хочет, чего ждет от нее Ингус? Чтобы она, пользуясь благами, что ей дал отец, в то же время отца поносила? Никогда! К тому же отца уже нет в живых, и недаром народная мудрость гласит: о мертвых плохо не говорят. В прошлом ничего изменить нельзя, если бы даже хотел. Надо примириться, каким бы оно ни было — плохим или хорошим, так и так надо примириться. И самое разумное его не вспоминать, не трогать и зря не ворошить, все равно ведь ни слезами, ни проклятиями мертвых не воскресить. А живые должны жить и жизнью наслаждаться, а не мучиться, не страдать сами и не терзать друг друга бесплодными попытками — смешно просто! — изменить, исправить то, что исправить нельзя. Жизнь так коротка! Зачем же превращать ее в ад?
Так думала Велдзе, ставя между посудой на обеденный стол бутылку хорошего марочного вина — уже уставшая от напряжения ссоры и гнетущего молчания мужа, время от времени вздрагивая от непривычных шумов и чирканья в обычно молчащих трубах, где сейчас словно кто-то скребся, лазил и порою пускал сухой сдавленный смешок. И хотя Велдзе прекрасно знала, что это просто можжевельник с трудом пробивает сажу в забитом дымоходе, она всякий раз невольно застывала и настораживалась: что там опять? И вспомнив — ах да, — вздыхала с облегчением…
Наконец она зашла к Ингусу и, глядя ему в спину и затылок, молча и терпеливо ожидала, не почувствует ли, не оглянется ли, не скажет ли что-нибудь. Да, почувствовал, оглянулся, сказал:
— Сейчас, уже идет к концу.
Короткие, будничные, недосужие слова без улыбки, и все же лучше, чем каменное молчание. Теперь, по сути дела, у нее больше не было повода тут задерживаться, тем не менее она осталась, сама не зная зачем и чего она ждет, быть может подсознательно еще надеясь и втайне мечтая — вдруг да что-то повторится из утренней волшебной яви, когда Ингус сидел на расстеленной газете у ее ног, как большой пес, и, глядя снизу вверх, сияюще, белозубо улыбался. Но нет; не повторилось. Она видела лишь согнутую спину, широкие плечи и темный затылок, на котором едва держался носовой платок, узелками завязанный на углах, — смешной чепчик, он вряд ли мог закрыть от пыли густенную шапку волос. Она слышала затрудненное хрипловатое дыхание. Ингус всецело отдавался своему не слишком утомительному и не бог весть какому сложному занятию — так самозабвенно, что эта увлеченность выглядела нарочитой.
Велдзе чувствовала, что своим присутствием Ингусу, очевидно, мешает, и у нее сжалось сердце. Она вновь остро, отчетливо поняла, как сильно, сильно она боится Ингуса потерять — готова бросить на чашу весов все, что у нее есть, только бы…
Ингус вновь мимолетно обернулся.
— Тебе что-нибудь нужно, Велдзе? — коротко бросил он, даже не стараясь скрыть свое неудовольствие тем, что она все еще здесь и за ним наблюдает. А ведь еще сегодня утром… И она с грустью подумала: как быстро и безвозвратно улетучились и недавняя близость, и согласие. Ах, лучше не вспоминать!
Она круто повернулась, оскорбленная и глубоко униженная, выбежала из комнаты, хлопнув дверью, повалилась на стул и с горькой улыбкой взглянула на парадно накрытый обед.
«Дура, дура… — мысленно повторяла она, — дура, дура, дура…»
Сдавленно засмеялась, закрыла обеими руками лицо, и тихий смех незаметно для нее самой перешел во всхлипывания.
— Ну все, с этой мурой покончено! — доложил Ингус, толкнув локтем дверь между комнатами, чтобы не вымазать ручку. — Иди принимай работу, хозяйка!
Велдзе поспешно вскочила — Ингус не успел заметить, что она там, у стола, делала, — отвернулась к зеркалу и стала пудриться. Он невольно усмехнулся — опять пошла в ход замазка и штукатурка? Ну, если для него, Велдзе могла бы спокойно не усердствовать и не белиться, он достаточно видел жену и без всех этих румян и белил, так сказать — в натуральном виде.
— Сейчас иду, — отозвалась она.
Это, наверное, был намек на то, что в данный момент он здесь лишний, но он все же не ушел и молча смотрел, теперь он, жене в спину и в затылок. Можно бы наконец и оставить в покое всю эту парфюмерию и не обхаживать столько свой фасад, нашла время… А скажи — обидится! Бросив затем взгляд на стол, он увидел — о, смотри-ка, поставила бутылку вина электрику и трубочисту! Прополоскать от пыли горло — это не мешает. Его труды получили высокую оценку, точно! Но и поработал он как вол, нельзя сказать чтобы не заслужил. Аппетит тоже помаленьку разгуливается.
— Велдзе, ну…
В конце концов Велдзе оглянулась. Глаза у нее были воспаленные, и сквозь пудру проступали красные пятна.
— Ты плакала? — спросил Ингус, сразу раздражаясь. Раз в день обязательно надо пустить слезу, это точно, как закон.
— Что-то в глаз попало.
— Наверно, сажа.
— Возможно.
Пусть будет так, пусть считается — сажа. За каким лешим доискиваться правды; да начни он только и — о-ля-ля! — опять пойдет вертеться карусель. И кончится дело тем, что они снова поцапаются и все равно ни к чему не придут, не первый же раз. Ну что они выяснили сегодня в машине? Ни хрена! Только сшиблись лбами, выпустили пар и все — с чего начали, тем и кончили…
— Мойся и приходи обедать, — сказала Велдзе, глядя не на мужа, а куда-то вбок, видимо чтобы спрятать заплаканные глаза. — Тебе, наверно, опять надо сменить рубашку.
— Ох ты черт, я и эту завозил! — воскликнул он.
Им не о чем было говорить, и они оба это чувствовали — они петляли и кружили, боясь коснуться больного места и стараясь не ранить другого и не разбиться самому. Велдзе вышла вслед за Ингусом на кухню и лила ему на руки теплую воду из ковша, хотя с таким же успехом он мог, как обычно, вымыться в тазу. Или она думала, что так удастся вернуть близость? Помириться? Все загладить? Женщина — она пыталась устранить только последствия. Если нельзя иначе, то запудрить и забелить… Под слоем пудры на ее лице Ингус ясно различал розовые пятна. Не все можно зашпаклевать, дорогая. Тщетные усилия, точно!
Но за стол они сели согласно и дружно, будто между ними и не пробежала черная кошка, и сидели, ни намеком себя не выдавая, — отчасти из-за Эльфы и мамы, которые обедали с ними вместе, отчасти потому, что Велдзе, видимо, не хотелось вспоминать о ссоре, а ему казалось бесполезным и глупым трепать языком впустую — только настроение себе портить.
Велдзе налила вина ему и себе. Эльфа отпадала, мама тоже.
— Ты, мама, приняла лекарство? — напомнила Велдзе.
— А правда ведь! — спохватилась мама, что нет, не выпила, поднялась, скрылась в двери, потом вернулась и отсыпала на скатерть у своей тарелки несколько таблеток и пилюль, разного цвета и размера, лошадиную дозу, точно. И это, считают врачи, надо глотать три раза в день — хреновина какая! — чтобы…
— Ингус! — сделала ему внушение Велдзе, усмотрев что-то, как ей показалось, в его лице. Да ему-то что! Если маме положено пить эту дрянь, пусть себе напихивается.
Он отвернулся от мамы и таблеток, машинальным жестом потянулся к бокалу, поднял слегка искристый розовый напиток и посмотрел на свет; по-прежнему не говоря ни слова, большими булькающими глотками осушил бокал, не смакуя букет выдержанного марочного вина, а будто лишь проталкивая застрявший в горле сухой кусок. И, только опорожнив, хватился, что даже не пригласил Велдзе выпить, как обычно делал.
— Велдзе!
Она помазала по губам краешком бокала — отпила ли сколько-то или даже не попробовала — и поставила бокал на стол.
— Что же ты? — удивился Ингус.
— Да так… — коротко ответила Велдзе, и взгляд ее затуманился.
Обиделась, может? И есть за что! Вылакал свое, как истомленный жаждой верблюд, и глазом не моргнул, как на горящие угли вылил, старый алкаш.
Желая загладить нечаянную оплошность, он потянулся к бутылке — налить по второй чарке, чтобы на сей раз не выдуть залпом, а выпить как человек, вместе с Велдзе, но та неверно его поняла и с легким упреком остановила:
— Хватит, Ингус, больше не надо. Сначала поешь!
И он убрал руку, сконфуженный и в то же время раздраженный, что Велдзе одернула его и отчитала как глупого мальчишку. Разве мало того, что жена за него решила, как ему жить?.. Она еще желала командовать, сколько ему пить… а потом ей захочется указывать, как ему думать… Не тряпичная ли он кукла, не паяц ли, которого дергают и заставляют плясать на золотой нитке?' А сорваться с нее нету сил — он прочно повис на приманке. И разве сквозь нежность и слезы жены не вылезает порой, как шило из мешка, кулацкая спесь, осознанное и неосознанное презрение к голякам, одного из которых себе в утеху и в усладу она приручила и осчастливила? Теперь Велдзе мечтала еще и обтесать его по своему образу и подобию, как господь бог! Но этому, дорогая, никогда не бывать, никогда!
Ингус чувствовал, как по обе стороны его рта вздулись упрямые желваки.
— Ингус! — через стол окликнула его Велдзе, и по растерянности на ее лице и в голосе он догадался, что вид у него, должно быть, зверский.
— Все нормально, — приходя в себя, сказал он и посмотрел в узкое бледное лицо Велдзе. Ну что он взвинчивает себя и распаляет, как будто речь идет о смертельном, заклятом враге, которого надо согнуть, одолеть, а не об этой маленькой, хрупкой, внутренне надломленной женщине, которая любит его глубоко и искренне — может быть, глубже и искренней всех баб, какие у него когда-нибудь были. Ни единой минуты Велдзе не желала ему зла, как раз напротив — по своему понятию и разумению всегда старалась делать добро, и только добро… И хотя ее взгляды на добро и зло порой и отличались от его суждений, не заметить или оболгать ее старания и усилия было бы низостью — Велдзе этого не заслужила, точно!
Ингус и сейчас видел, как непосредственно его чувства в ней отражались — как в зеркале: как она, ответив на его ожесточенность немою тревогой, сразу просияла, как только внутреннее напряжение в нем ослабло. Безошибочным чутьем любящей женщины она угадала его настроение и через стол ему улыбнулась таинственно и нежно.
— Чему ты улыбаешься, Велдзе?
— Так просто. Мне кое-что пришло в голову,
— Что-нибудь хорошее?
— Очень!
— Тогда я тоже хочу знать.
Велдзе бросила взгляд сперва на Эльфу, которая вяло, нехотя ковыряла кусочек тушеного мяса, потом на маму, которая, уже наевшись — поклевав, как птичка, — тонкими, прямо детскими пальчиками подцепляла со скатерти свои таблетки.
— Потом, Ингус, — сказала Велдзе.
— Ну, потом я буду в сарае. Наколоть дров надо.
— Эльфа, не балуйся за столом!
— Я…
— Может, мне тебя покормить?
— Не надо…
Мама, выпив лекарства, тут же стала зевать — после обеда она любила вздремнуть.
— Лечь, что ли, поспать?
— Иди, иди.
— А посуда?
— Я вымою.
— Тогда так.
Мама ушла, а Эльфа с несчастным видом по-прежнему сидела над полупустой тарелкой.
— Не лезет? — посочувствовал ей Ингус.
— Не лезет…
Велдзе вздохнула.
— И в кого она такая привереда?
— Наверно, в меня! — сказал Ингус, и они оба засмеялись.
Велдзе взяла бутылку и вновь наполнила бокалы — мужу и себе. И его опять прямо укололо, что в их доме это делает Велдзе — не мужчина, как везде, а женщина, как бы показывая, кто глава семьи и хозяин в этой усадьбе.
Вот глупости! Ну не все ли равно, кто наливает? Он стал ужас какой мелочный и подозрительный, точно! И не оттого ли, что в глубине души ему недостает уверенности в себе и самомнения, без чего мужчина круглый нуль и пустое место: ведь он только и делает, что ищет во всем прямых и косвенных намеков на то, что он ничего собой не представляет, чтобы затем опять восстать и взбунтоваться.
— Выпьем! — стараясь не думать ни о чем, сказал он жене и вновь с непроизвольной жадностью долгими глотками опорожнил бокал, тогда как Велдзе опять еле пригубила.
Моя посуду, Велдзе то и дело слышала низкое глухое буханье, доносившееся из дальнего сарая не только воздушными волнами, но и тяжким сотрясеньем земли, и она улавливала его не одним слухом и, может быть, даже не столько слухом, сколько всем телом, в котором оно отдавалось. Ингус колол дрова, и в гулких ударах топора по кряжу, от которых дрожала земля, так и чувствовалась богатырская сила: Велдзе ею втайне восхищалась, почему-то невольно ее боялась, как все слабые осознанно и неосознанно боятся сильных, и одновременно черпала в ней чувство безопасности, чего она жаждала, так же как все, особенно хрупкие женщины, жаждут надежной защиты, какую дает физическая сила мужчины.
Она вспомнила, какой сидел против нее Ингус после первой рюмки. От вина у него сразу запылали уши, он сидел весь пышущий такой жизненной силой, что Велдзе, взглянув на него через стол, сразу почувствовала себя серой и неказистой, невзрачной и захудалой больше чем когда бы то ни было: рядовая, средняя курица против расписного, полного энергии, самоуверенного петуха, и сознание собственного ничтожества вгоняло ее как кол в землю…
Почему она так сильно боялась Ингуса потерять, с какой-то прямо ужасающей обреченностью? Или ей от мамы передались эти вечные страхи — как бы чего не стряслось, не случилось? Немало тяжких минут пережила на своем веку мама, что говорить. Партизаны и налеты, опасные места на дорогах и прочесывание леса, засады и облавы…
Разве мама, провожая отца утром, всегда была уверена, что вечером его дождется? Ох, не всегда, далеко не всегда. И своими причитаниями, вечными опасениями мама отравила душу и ей, Велдзе, заразила ее своим недугом…
Она вновь прислушалась, и тарелки в ее руках застыли. От сарая долетал мерный и энергичный гул. Ингус колол дрова для их дома, для их очага, для их детей — разделывал сучковатые смолистые кряжи ели, в которых застревал топор, молотил их, как камни, от избытка силы, над которой Велдзе вдруг осознала свое превосходство! Это было как взлет на качелях, когда от восторга замирает сердце. Ведь в ее руках та власть и счастье, которые мужчине недоступны, которые он может разве что вообразить, но почувствовать никогда. Ей подвластна жизнь другого существа. За ней право решать, произвести его на свет или убить. Она может оказать мужчине честь, пожелав родить ему ребенка, или выразить ему свое презрение, не пожелав. Могут ли быть на свете еще большие права, еще большая власть? У кого? У бога? Смешно. И что в сравнении с этим физическая сила Ингуса? Во всяком случае, они квиты, потому что нет на свете мужчины, который не хотел бы сына, а решает она — быть ему или не быть.
Велдзе поняла, что по существу она уже решила — тогда, за столом, когда Ингус вдруг повеселел и она, тоже сразу внутренне оттаяв, сказала, что хочет потом ему что-то сообщить, что-то хорошее и очень важное, и дважды бросила многозначительный взгляд — сперва на Эльфу, потом на маму, столь красноречивый, что другому бы тут же все стало ясно и понятно, только не Ингусу, голове садовой, которая насчет чего другого сметлива — насчет моторов и механизмов, железяк и труб она чудо как соображает, но только не насчет самого главного!
Тарелки заходили в ее руках быстро и зазвенели тонко, и, вслушиваясь в уханье топора, она с радостью думала о том, что вот кончит возиться с посудой, пойдет в сарай и все Ингусу скажет. У них будет ребенок! Это важнее всего и в корне перевернет их жизнь… Ах, если бы Велдзе сообщила это ему еще утром в лесу, ну, скажем, в тот момент, когда соприкоснулись огоньками их сигареты, ничего бы подобного, наверно, не случилось. Беда их — особенно Ингуса — в том, что они слишком копаются в прошлом. А ребенок, которому предстоит родиться, это завтрашний день, они будут ждать и желать сына, и их взоры сразу обратятся к будущему.
А она, глупая, еще вздумала делать аборт! И только потому, что некому присмотреть за малышом! Смешно просто. Разве может так быть, чтобы никого не нашлось? За деньги ведь. На худой конец, она уйдет на время с работы — не нищие же они, не голытьба же какая-нибудь, чтобы себе этого не позволить, им не нужно дрожать над каждой копейкой, чтобы…
Ее мысль оборвалась,
Что это? Велдзе снова напряженно вслушалась, не сразу понимая, что именно она услышала и что на сей раз это не шум, а, наоборот, — тишина. От сарая больше не долетало сотрясавшее землю буханье. Она постояла, ожидая, что шум возобновится, но тишина была глубокая, полная, и в ней было слышно только, как ворочается на кровати мама, и далекое, все угасавшее фырканье мотоцикла где-то на дороге.
Составив посуду на сушилку, она вышла во двор и направилась к сараю. Всаженный до половины, торчал в колоде топор, на гвозде висел старый пиджак, от наколотых поленьев шел крепкий смоляной дух.
— Ингус!
Никто не отозвался, только под стрехой кто-то тихо шуршал — может быть, птица, может быть, мышь.
— Ингус!
Он должен был быть где-то здесь, поблизости, иначе он надел бы пиджак, положил на место топор.
Велдзе обошла вокруг сарая. У южной стены жужжала и звенела мошкара. На рукав ей села божья коровка и поползла вниз, к ладони. Велдзе протянула руку к солнцу, ожидая, что букашечка в черную точку вспорхнет, но та все ползла, и Велдзе со странным — скорее грустным, чем радостным — удивлением смотрела на яркую живинку, пробужденную приходом весны.
— Божья коровка, глянь на небо, дам тебе хлеба… — приговаривала она шепотом, как в детстве, и божья коровка расправила крылья и тут же скрылась — как растаяла.
— Ингу-ус!
Она прошла до гаража. И машина, и мотоцикл стояли на месте.
«Здесь он где-нибудь», — уверяла себя Велдзе, а сердце у нее, как от дурного предчувствия, больно сжалось.
— Ин-гу-ус! — окликнула она в последний раз, не надеясь больше, что он отзовется, и он действительно не отозвался.
А Ингус и не мог ответить на ее зов — в эту минуту он был уже далеко, намного дальше, чем Велдзе могла предположить, почти что в Ауруциемсе, а дотуда от Лиготне одиннадцать километров — одиннадцать по шоссе, а если срезать крюк и жать напрямик, мимо школы механизации, то семь; но на мотоцикле Альберта Краузе им, само собой, не было нужды трястись через поля и ломиться сквозь лесок только затем, чтобы сэкономить несчастных четыре километра, что для «Ижа» сущий пустяк: они лихо мчали по шоссе и прибыли в Гутманы прежде, чем Велдзе кончила мыть посуду и наконец сообразила, что в сарае воцарилась тишина. И когда она в последний раз Ингуса окликнула — уже сильно сомневаясь, что тот отзовется, Краузе вытащил зубами из бутылки пробку и налил Ингусу и себе в пластмассовые стопки, удобные, потому как упадут — не разобьются, и в них не видно, что жидкость мутновата и малость с желтизной, — ведь для крепкого напитка главное градусы, а не вид, горькая должна шибануть в голову, а не розовой водой пахнуть, так-то.
— Ну, дернем! — подгоняет Краузе. Жена у него на два дня уехала к дочери, так он без хозяйки прямо пропадает. Корова, хрюшка, куры — тьфу, и это называется воскресенье!
Краузе свою чарку опрокинул не моргнув, а Ингус потянул носом и сморщился.
— Чего обнюхиваешь, как собака столб? Хряпнул — и вся недолга!
— Это она, вчерашняя?
— Угу! А что такое?
— Вывернуло меня наизнанку, — признался Ингус. — А ты знаешь, какой у меня желудок — гвозди глотать могу, и хоть бы что.
— Стоп! Нормальное похмелье — это да, а дурноту ты где-нибудь еще подцепил, не от моей сивухи! Хлебнул какой-то дряни до того… Не надо было нам у лавки сосать винишко, факт, а дуть бы сразу ко мне. Да побоялся я, что старуха еще не вымелась. Пей — и на вот, заешь.
Ингус выпил, скривился, но закусывать не стал.
— Да-а, у меня тоже утром было, язви тя в душу, ну и похмелье! — ужаснулся Краузе. — Надо идти корову доить, ой, голова как котел. Батрак я ей, что ли, думаю! Она в Риге как барыня, а я со скотиной вожжайся! Повертываюсь на другой бок и храплю во все носовые завертки. Да разве дадут покой? Как бы не так! Корова, ведьма, мычит, боров, старый кастрат, визжит как резаный… У самого тоже: сушит в горле и сушит, спасу нет. Провалялся часов до десяти, что ли. Но когда-то все ж надо подниматься. Похлебал кислого молока, накормил свинтуса, кое-как подоил эту чертову лягаву… Похмелиться бы, а дома ни живой души. Пробовал один — не лезет. До обеда прослонялся по дому, но все, понимаешь, из рук валится. В конце концов сую бутылку в карман и седлаю «ижика». Ну, думаю, — кого первого встречу… И тут вспомнил про тебя. Но по дороге того, малость засомневался — воскресенье все же, супружница, наверно, дома… И вдруг, мать честная, слышу — кто-то шурует в сарае! Не старуха же, думаю, и уж, само собой, не мадама. Наверняка Ингус, едрена феня, свой брат Ингус!
Ингус улыбнулся.
— Перст судьбы! — сказал он.
— И правда что перст судьбы! — согласился Краузе и налил по второй.
— У меня сердце так и екнуло, когда… Пей, Ингус! Такого первача нигде ты не найдешь, кроме как у старого жулика Альберта Краузе. Факт? Факт! Практика, милок, практика… Почти тридцать лет. Куда там, больше тридцати! Со времен фрицев. Сколько воды утекло с тех пор, Исусе Христе, сколько добрых друзей и дружков-приятелей, сколько подонков и гадов ногами вперед вынесли, сменялись правительства, дети выросли, а самогон остался, как говорится, навечно в строю.
И в подтверждение своих слов Краузе запел высоким тенором, какого никак нельзя было ожидать от этого уже седеющего и старчески обрюзгшего детины:
И хотя в песне речь шла о пиве, это не помешало им выпить еще по чарке гораздо более крепкого зелья, которое Краузе проглотил одним духом, бодро крякнув, а Ингус протолкнул с явным трудом, по-прежнему кривясь и гримасничая. Водка ему сегодня почему-то не лезла в горло, казалась до тошноты вонючей и горькой. И зачем он вообще сюда притащился — бросил все и снова припер в Гутманы, откуда только вчера поздно вечером уехал с дурной головой, не в себе, и ночью решил держаться отсюда как можно дальше? Привычка? Не мог обидеть Альберта? Дух противоречия? Хотел доказать Велдзе, что нельзя им вертеть и крутить как вздумается? Или же это потребность смыть… утопить в вине то, что его гложет и душит?..
— Чего ты кислый такой? — заметил его состояние Краузе. — Зубы болят или у тебя месячные?
Ингус махнул рукой.
— Или благоверная взяла в оборот за вчерашнее?
— Не то что взяла…
— Представляю себе — развела сырость! На это они все мастерицы. Хлебом не корми — дай поплакать. Для них слезы все равно что для нас винцо.
Ингус молчал.
— А ты — ноль внимания! Если бы я слушал все, что талдычит мне моя Ильза, я бы давно был на том свете или в дурдоме, факт! С бабами самое лучшее так: ты им не перечь, а втихую делай по-своему.
— Всего втихую не сделаешь, точно!
— Ну а с треском — какие горы ты своротить хочешь?
— Я сам не знаю! — сквозь стиснутые зубы выдавил из себя Ингус и сжал рюмку так, что пластмасса в ладони лопнула и самогон вытек сквозь пальцы. — Иногда мне казалось, что надо идти снова в мелиораторы. Что стоит мне туда вернуться — и сразу все станет на свое место. Помнишь, как мы вместе вкалывали, как… Да что я тебе толковать буду, ты и сам все знаешь… А потом взяло меня сомнение — в том ли дело, может, мне это просто втемяшилось? Тянет меня вон из Лиготне, а куда — сам не знаю. Кажется, будто я в дерьме весь, барахтаюсь, как в навозной жиже… и еле держусь на поверхности… И тогда я себя спрашиваю: чего мне не хватает? У меня есть все: жена, ребенок, дом, машина… Притом же я не убогий какой-нибудь, не калека. А кружусь как пес и ловлю собственный хвост. Как оно есть — не по мне, а чего я хочу — не знаю.
В то время как Ингус говорил, Краузе встал, нашел взамен раздавленной стопки другую и налил.
— На вот трахни, и речку высветлит — вся муть осядет.
— Не высветлит, — упрямо сказал Ингус, но рюмку опрокинул.
— Знаешь, Ингус, как у нас в лагере про таких, как ты, говорили?
— Ну?
— С жиру бесится.
— Ничего ты не понимаешь, Альберт!
— Мало у тебя горя — вот где закавыка! А свободного времени и денег слишком много. Посадить бы тебя, хе-хе, годика на два, чтобы ты, милок, на вкус распробовал, что есть свобода. И какое это счастье — полное брюхо и рядом в постели баба.
— Что ты мне женой и набитым брюхом в нос тычешь! Ты и сам к этому привык не хуже меня. Как будто десять лет в кутузке не ты — кто-то другой отсидел, точно. Накормленный-напоенный, ты каждый вечер ложишься под бок к своей Ильзе и не звонишь на всю округу, что это какое-то особое счастье, потому что трепать языком ты здоров, но пока еще не совсем заврался… Залезешь в логово и дрыхнешь как боров до утра, свято веря, что свою вину ты искупил…
— Какую вину, помилуй! Кровь никогда не липла к моим рукам! Это тебе подтвердит каждый. А то схлопотал бы не десять, а верняком все двадцать пять, и теперь, наверно, уже летал бы на крылышках, чистый и непорочный, а не лакал бы эту грешную и — черт возьми! — такую сладкую водочку, факт.
— Налей, — сказал Ингус и пододвинул к Краузе свою посудину.
— Это другой разговор, — с готовностью отозвался Краузе, взболтал на свет остатки самогона и достал другую бутылку.
— Альберт!
— Ну?
— Раз уж мы начали об этом… Правда ли, что… Скажи мне, кто убил брата Войцеховского?
Краузе состроил кислую мину.
— За каким чертом это нужно? Чтобы опять спасать спасенных и крестить крещеных, так, что ли?
— Мне надо знать! Ты же, говорят, там был…
— Ну, был.
— И знаешь кто… Только не вздумай заливать, что в этот момент ты зашел за угол по нужде и ничего не видел…
— Под присягой скажу, Ингус, что не я! И пальцем его не тронул, разрази меня гром…
— Я не про тебя спрашиваю, Альберт. Я спрашиваю…
Краузе криво усмехнулся.
— Не про меня? Тогда ты сам, милок, отлично знаешь кто… Но если я его назову, не шарахнешь ли ты: «Альберт, старый жулик и плут, хоть ты мне и друг, сейчас тебе хорошо валить все на покойника Стенгревица, теперь тебе легко быть умным, а где твоя голова была тогда, сукин ты сын?» И скажешь! Потому что все мы умные задним числом. «Но угадать судьбу нам не дано, нам не дано…» И давай за это выпьем!
— Не виляй, Альберт. И не темни.
— Я не виляю. А только непонятно, с чего это ты старое ворошить взялся? Какая муха тебя в зад укусила? Что было — было, что прошло — прошло… Обоих нет в живых, и пусть их мирно спят. А если там, на том свете, есть бог, теперь это его дело разбираться, а не наше.
Они помолчали. И Краузе примирительно добавил:
— Все равно он был не жилец…
— Кто?
— Зенон Войцеховский.
— Что же вы такое ему сделали?
— Господи, что ты кричишь? Ничего. Его как следует отделали до этого. При отступлении. Напоролся он на айзсаргов, что ли. Кто его после притащил на хутор к отцу и как оно потом на свет выплыло, не знаю… Только является однажды сюда, в Гутманы, Витольд. Съездим, говорит, Альберт, с нами на часок.
— И ты поехал!
— Так я же…
— Тебя пальцем поманили — и ты бегом побежал. И, само собой, безоружный?
Краузе, сгорбившись, вертел в руке пластмассовую стопку. Потом вскинул глаза на Ингуса.
— Если бы у тебя взяли и посадили шурина, ты бы тоже бегом побежал, как ты говоришь. Вы, молодые, страсть до чего умные — языкатые вы, пока до дела не дошло. Повидал бы ты, милок, с мое, ты бы в штаны наложил, факт!
— Что повидал — как вы его волокли? Он был не в силах идти, и потом…
— Говорю тебе и повторяю: я и пальцем его не тронул!
— Что же ты делал? Смотрел? Или стыдливо отвернулся и застегивал штаны?
Краузе опять помолчал.
— А что делал бы на моем месте ты? — вымолвил наконец он глухим голосом.
Теперь помолчал Ингус.
— Я не знаю, Альберт. Но…
— По крайней мере откровенно, и на том спасибо. Ты думаешь, я все знал? Черта с два. Мне было всего двадцать. Молокосос, щенок… Теперь такие шляются с гитарами и только еще, как пишут в газетах, «ищут свое место в жизни». Мы не могли искать годами. Иногда все решалось в считанные часы: на какой ты стороне — на той или на этой? Так-то, милок…
Они чокнулись. Пластмассовые стопки не звякнули, как звякают стеклянные, а стукнулись сухо и безжизненно. Ингус поднес свою к губам, не замечая ни запаха, ни вкуса, — глоток жидкости проскочил по пищеводу, обжигая как пламя.
— Да, жаркое было время… — предаваясь воспоминаниям, сказал Краузе. — Человеческая жизнь и гроша медного не стоила, факт. Тому, кто этого не испытал, трудно представить, как круто нам приходилось, милок…
Краузе прокашлялся и запел:
И ребром ладони отбивал такт по столу. Ингус протянул руку к бутылке и налил обоим.
Во хмелю тенор Краузе сделался еще выше и сильно дрожал. Стар, да, стар становится Альберт Краузе, не тот уже голос, а когда-то — такой был когда-то соловей! И каких только не знал песен! Теперь уж не те годы! Годы берут свое. Пятьдесят пять стукнуло, а те десять в каталажке надо считать вдвое…
— Еще по одной, и двигаю на автобус! — заявил Ингус. — Как бы не перебрать, точно.
— Сиди! Куда тебе спешить? Дом не волк… Домчу тебя одним духом!
— Я обещал Велдзе… Что-то я, кажется, обещал. А, нарубить дров.
— Ты что — батрак, нанялся, что ли, в воскресный день дрова рубить? Тебя за буханку хлеба покупают, а ты, лопух… Да если бы я отпустил вожжу, на третий же день моя Ильза запрягла бы меня в плуг, факт. Посидим, споем…
— А на последний автобус я уж пойду, точно.
— До последнего далеко. Сиди! Попоем песни, пока моя старуха в Риге, ладно? «У меня жена рижанка…» Три-четыре!
Ингусу медведь на ухо наступил, но сейчас на пару с Альбертом получалось вроде бы здорово.
— Прозит! — возгласил Ингус, замечая, что плотину внутри него наконец прорвало и он начинает пьянеть. Он ухнул в хмельной омут, как камень в воду — с чувством облегчения, забывая обо всем. И хотя весь этот день он с мужским упорством стремился к истине и ясности, разве он подсознательно ее не боялся, от нее не увиливал, желая уйти от гложущих дум — неважно каким путем, хотя бы в очередной раз таким?..
Стало смеркаться, а Ингус все не являлся. Давно уже было ясно, что он куда-то улизнул и, скорее всего, пьет на одном из соседних хуторов. Что же еще можно делать с обеда до вечера, если не пить? Велдзе это знала точно — точнее, чем ей бы хотелось, ведь в этом не было ничего нового, все это уже было и в который раз повторилось и завертелось как карусель, ничего, ровно ничего не изменилось, ни ее слезы, ни светлые минуты близости не помогли, не изменили ничегошеньки, ни на самую капельку, ни на йоту… Хоть бы зашел в дом сказать, куда отправился, — не приходилось бы, по крайней мере, думать и гадать, ломать голову. Да где там! Сбежал при первой же возможности, удрал, точно сорвался с привязи. Как будто Велдзе какая чурка, без нервов и души, как будто она шавка и место ей у шоссе на просади. Кто-то показал бутылку — и все остальное сразу побоку: жена, дом, ребенок, на все ему плевать.
Бах-бах… ба-ах…
Что это, где? Опять в сарае? Напрягшись вся, она вслушалась, разумом понимая, что это ей только кажется, а сердцем все еще надеясь на чудо.
Конечно, это было не буханье топора по кряжу, а гул грузовика на дороге — наверно, прицеп с грохотом прыгал на поворотах.
И вдруг ей тоже пришла фантазия: взять машину, куда-нибудь махнуть и вернуться поздней ночью — во всяком случае позже Ингуса, пускай и он хоть разок помучится сомнениями, ожиданием, поторчит у дороги, подымит сигаретой, пусть померзнет, пусть… Но ведь этого никогда не будет, увы, нет… В пьяном виде Ингус, пожалуй, и не заметит ее отсутствия, а если обратит внимание, то вряд ли огорчится, скорей обрадуется, что избежал встречи лицом к лицу в такой неприятный момент и что, слава богу, хоть на этот раз он будет избавлен от слез и причитаний, которые надоели хуже горькой редьки. Примет горизонтальное положение и тут же заснет беспробудным сном пьяного человека. Скорей всего именно так и будет. Если она кому и может этим досадить, то единственно себе — тратить силы, которые и так на исходе, трепать себе нервы…
«Я начинаю, видно, сдавать, — как и вчера, подумала она, то ли жалея себя, то ли кому-то жалуясь. — Как я устала…»
Тсс, где это? В сарае?
Но, выйдя во двор, она поняла, что шум и на сей раз шел не из сарая, который молча высился черным силуэтом в белесой мгле. Пахло как в бане — сырым воздухом и березовым веником. Поднимался туман, он уже заволок местность серой мутью, сквозь которую огни, постепенно загоравшиеся тут и там в этот час густых сумерек, отливали загадочным, тусклым блеском. Велдзе старалась уловить в вечерней тиши какие-то звуки, говорящие о близости Ингуса: хриплое пение пьяных голосов или все нарастающий шум мотоцикла. Но туман глушил все, накрыв Мургале матовым куполом, — кругом царил покой, нерушимый покой. Ах да, вспомнила она, «козлик» ведь в гараже. Ну, хоть Ингус хмельной не поедет на мотоцикле. Но она не испытывала от этого ни удовлетворения, ни хотя бы проблеска радости, как будто белесый купол накрыл и ее чувства.
Принять таблетку, лечь в постель и попробовать заснуть? По крайней мере, не надо будет ни о чем думать. Хорошо бы заснуть и вообще больше не проснуться, уйти сразу от всего — от прошлого и от настоящего, не мучить ни себя, ни других, освободиться самой и освободить других… И в вечерней тишине эти мысли скользили перед ней тихими серыми лодками.
Закаркал ворон. По шелесту крыльев было слышно, как он летит над Лиготне и над речкой невидимой, призрачной тенью, и карканье гасло в тумане и в темноте, которая все густела.
«О чем я недавно думала?.. Ах, да… Как я устала! Я измучилась до смерти…»
Велдзе вздохнула и возвратилась в дом. Но не прошла в свою с Ингусом комнату, а заглянула сперва к Эльфе, стремясь, как большинство женщин в минуты душевного смятения, найти прибежище у своего ребенка, как будто маленькое существо способно дать то, чего ей недостает и чего не мог дать никто, — поддержку и равновесие. Эльфа уже спала. В дверную щель из кухни сочился слабый свет, и Велдзе смотрела, как девочка спит — спокойно и тепло, как в гнездышке птенец. Ей хотелось взять дочку на руки и прижать к себе, но боязно было разбудить, и она только глядела, чувствуя, как безоблачный покой ребенка медленно переливается и в нее, и стянутые мышцы расслабляются, наливаясь сладкой тяжестью. Не хотелось ничего делать, не хотелось никуда идти, не хотелось ни о чем думать — хотелось отдаться этому безбурному, освобождающему равнодушию, погрузиться как в теплую ванну, до конца сбросить перенапряжение и забыться…
Через полосу света с легким шорохом птичьего крыла скользнула тень, и, потревоженная вдруг, Велдзе с невольным страхом обернулась.
Это была мама — в ночной рубашке, как лежала в постели, и босая.
— Ты еще не спишь, мама?
— Где Ингус?
Велдзе не ответила.
— Скажи, где Ингус?
Она снова промолчала.
— Зачем ты пускаешь его одного? — закричала мама. — Дура! Ночью, в темень… На каждом шагу опасность!
— Не кричи, мама! Ты…
— Стой, ты ничего не слышишь? — спросила мама, вдруг понизив голос до шепота, склонила набок маленькую, уже совсем седую головку и вся обратилась в слух.
Мамина тревога эхом отозвалась в Велдзе. Прислушалась и она, всеми силами стараясь уловить то, что слышала мама, однако тщетно. В ушах звенела и свистела только тишина.
— А что… что ты, мама, слышишь? — проговорила Велдзе с нарастающим страхом, хотя и знала, что на мамино чутье не всегда можно положиться.
— Зовет кто-то… зовет же… зовет и зовет… — путано шептала мама, медленно переводя застывший взгляд на окно, в котором белел лишь ее собственный бледный лик.
— Там никого нет.
— Тш! Зовет… Ну что ты, овца, разрешила ему уйти? Не знаешь разве, какая судьба у вдовы? А ты…
— Перестань! — надломленным голосом вскрикнула Велдзе, и в ней самой тоже что-то сломалось… — Я больше не могу!
Но ее пронзительный крик не нашел отзвука. В мамином лице не дрогнул ни один мускул. Ее черты как бы окаменели в нечеловеческом усилии схватить лишь ей одной слышимый шум, что было сейчас самым важным в ее сумеречном мире. И только губы шевелились беззвучно, продолжая шептать бессвязные слова — упрека, раскаянья, проклятья?
«Я, кажется, схожу с ума! — беспомощно подумала Велдзе. — Что со мной творится?.. Что творится со всеми с нами?»
И вдруг, словно пробуждаясь от сна, что-то услыхала и Велдзе: да! Но это был не голос человека, как чудилось маме, и не крики о помощи. Снаружи врывались странные звуки — как бы вой далекой пожарной сирены, он лился подобно неясной музыке, рассекая ночь руладой трубы, и, вибрируя в воздухе и нервных клетках, горестным плачем и страшным, зловещим смехом проникал и сочился сквозь щели в стенах и волокна одежды, сквозь барабанные перепонки и поры кожи — вовнутрь, в сердце.
На дворе беспрестанно выла собака.
— Погиб Ингус! — ударом тока пронзила Велдзе догадка, и она, ища опоры, обняла, обхватила, судорожно стиснула узкие, слабые мамины плечи. И обе женщины заплакали в голос.
…Но тогда, когда Велдзе как безумная вскрикнула, что погиб Ингус, как раз в тот момент он вышел от Краузе, чуть споткнувшись о высокий порог, в остальном же целый и невредимый, даже больше чем целый и невредимый, — в развеселом к тому же настроении и тихонько про себя напевая, так как водка сделала то, что водке и положено делать, она выполнила свою функцию и оглушила его сладким хмелем, смыв все, над чем Ингусу не хотелось думать и ломать себе голову, потому что выдумать он там, хоть он вывихни себе мозги, все равно не мог ничего. Тело у него было тяжелое, а голова легкая, он чувствовал себя обновленным, будто избавленным от кошмара, и прежние тревоги казались ему чепухой, и вся его жизнь, и особенно Велдзе, представлялась такой далекой и мелкой, словно виделась в полевой бинокль с другой стороны, точно!
— О-ля-ля! Какой туман! — удивленно воскликнул Ингус, выйдя на дорогу: воздух был до того белый и густой, что его можно было, как молочный суп, черпать ложкой.
Вокруг почти ничего не было видно, и лишь в той стороне, где Гутманы, близоруким глазом сквозь мглистую муть зыркал тусклый огонек.
Сколько сейчас?
Ингус остановился и поднес часы к лицу, поднял и подсунул к самым глазам, но не разобрал — так же, как вчера ночью, только смутно серел слепой циферблат. А, в конце концов фиг с ним! Автобус так и так ушел, дорога — вот она, и шагает он браво, потому что мужик он крепкий, точно, с Краузе не равняй! Тот остался за столом, кукует, клюет носом, дряблый, как шкурка с колбасы, и обвислый, как дырявый мешок, тогда как он сам еще ого-го! Отмахает сколько тут километров до дома будь спок, насвистывая, с песней, левой, левой! — и не кое-как, с грехом пополам, не шалтай-болтай, а по всем правилам, с выправкой, как в свое время в армии, так и чеканя, так и печатая шаг, грудь колесом, живот втянут, левой, левой! — станет перед Велдзе по стойке «смирно», вскинет руку к виску и гаркнет на одном дыхании: «Младший сержант Ингус Мундецием по вашему приказанию прибыл… сударыня!»
В Гутманах замычала в хлеву корова.
— А впрочем, ну ее подальше! — сказал Ингус без злобы, имея в виду то ли Велдзе, то ли недоеную Альбертову корову. — Да пошла она… точно!
Он взял левее и, пошатываясь, двинулся посередине дороги, держась подальше от канав, которые серо темнели по обе стороны, — ноги, как старые умные кони, сами вели его к Мургале, к дому.
Плотная мгла застилала все. Он шагал словно по вселенной, ступал как по Млечному Пути, увязая башмаками в туманностях и цепляясь носками за метеориты. Он шел, все больше теряя ощущение реальности, свободный и раскованный, как бывает во сне, брел сквозь кашу действительности и фантазии, где трудно было двигать ногами, зато дух парил легко и радостно, как сигаретный дым над головой. Его руки и ноги налились свинцом от перегрузок, а мысли пребывали в состоянии невесомости. Голова, казалось, набита ватой, уши и ноздри законопачены паклей, а в груди, под ребрами, как в дубовой бочке, бродил и кипел хмель, грозя выстрелить затычку ракетой.
— Здорово я нагрузился! — с веселым удивлением, с пьяной радостью вскричал Ингус, непроницаемо объятый мглою со всех сторон. Его голоса не подхватило эхо. Ночь была белая и тихая, как дом с закрытыми ставнями, — слепая, глухая и немая. И в жажде заявить о себе, дать выход энергии, бурлившей в жилах, он, точно петух на заре возвещая утро, запел:
В такт песне шагалось бодро-весело, хотя мелодия была такой же шаткой, как и его поступь.
Сзади посигналила машина.
— Я на мерине на сивом… Точно!
Скрипнули тормоза, и строгий мужской голос его окликнул:
— Эй, вы там, послушайте!..
— Ну, я слушаю, я слушаю. Навострил уши как конь… хе-хе… как сивый мерин, точно!
— Аскольд, это Мундецием, — раздался женский голос.
— О черт, почтенная чета Каспарсонов! А я без пиджака и без галстука! — воскликнул Ингус и стал шарить по голове в поисках несуществующей шапки и, не найдя, все равно поклонился, да так низко, что еле устоял на ногах. — Мне еще мальчишкой вбили уважение к учителям, точно. Ремнем по заднице вбили! Кое-кому ремнем вбили самые лучшие… понятия. Слово даю! На этом жизнь держится, точно!
— Не паясничайте, Мундецнем, на вас смотреть жалко. Садитесь в машину!
— Хе-хе, туда, товарищ директор, куда я иду, я никогда не опоздаю. С гарантией!
— Куда же это?
— Домой, Аврора, домой. Ав-ро-ра! А правда, что это значит — утренняя заря?
— Ах, Ингус, Ингус, какой вы пьяный!
— Вдрызг, Утренняя Заря, вдрабадан! — довольно отозвался он. — Я насосался, как клоп, точно!
— Ваша жена, возможно…
— Хе, жена! Жен ни один черт не берет. И это в них, может быть, самое худшее. Правда, товарищ директор?
— Поедем, Аскольд! Не понимаю, что мы тут разглагольствуем с этим… типом.
Дверца хлопнула, заурчал мотор, в тумане растаяли задние огни.
Чего они вообще тут остановились? Мораль читать? Добродетельную жизнь проповедовать? Прочесть лекцию о вреде спиртного? Только навоняли бензином, фу! Мало он таких нотаций слышит дома, хватит с него, сытехонек. «Ваша жена, возможно…» Не «возможно», а точно — опять разнюнилась! Что он, не знает? У баб глаза на мокром месте, а у Велдзе в особенности! Разводить сырость — это она мастерица. Вечно трясется, дрожит как кисель: нервы, нервы… Только у него нет нервов! И то нельзя, и это нельзя — можно только, как дрессированной собачонке, плясать на задних лапках, просить мясную кость… Ну, теперь баста — пусть катится колбасой! Он больше не будет плясать под ее дудку, нет! Или он хозяин в доме, или… Мир велик!
— Мир ве-е-лик!.. — пьяно и освобожденно выкрикнул Ингус в ночную тишину, как в открытые ворота тюрьмы, но его голосу и на сей раз не ответило эхо — звук завяз в тумане и потух, как спичка в горсти.
…А Велдзе, как и вчера ночью, постояла у дороги, возвратилась домой и приняла лекарство — так прямо, без воды, кинула таблетку в рот дрожащими от нетерпения пальцами, ничего не желая — только успокоения. Таблетка на секунду застряла, как бы помедлила в горле, затем проскочила, оставив на языке горечь. Потом Велдзе легла и лежала в темноте с открытыми глазами, ожидая сна в мертвой тишине безветренной ночи: пес больше не выл, и лишь время от времени скрипел и трещал дом — его чуть слышно точил жучок времени, точно так же как он потихоньку грыз и без спешки съедал не только постройки и вещи, но и жизни.
Издали донеслось урчанье мотора. Длинными, мучительно одинокими вечерами Велдзе улавливала наружные шумы особенно остро — как мать дыхание больного ребенка.
Где Ингус? Без пиджака, без шапки…
И ее вновь охватило беспокойство и прогнало дрему.
Все, о чем она думала со вчерашнего вечера, тоскливое и светлое, постепенно вылущиваясь из обыденности и очищаясь от быта, сжалось опять, как пальцы в кулак, в одно-единственное, до отчаяния жгучее желание — лишь бы Ингус был жив, лишь бы не стряслось то непоправимое, что в мгновение ока перечеркнет все усилия, и стремления, и планы на будущее и сотрет мечты, как порыв ветра стирает чертеж на песке. Только не это, господи, только не это! Ведь пока они живы, все можно поправить, изменить, и одна только смерть… И, лицом к лицу с мыслями о возможной беде, она с. ясностью озарения открыла для себя глубину и силу собственных чувств, которую не могла не только облечь в слова, но даже выразить в ласках.
Но понимал ли это Ингус? И если понимал — много ли это для него значило? Не была ли ее любовь самосгоранием, что ли, которое не излучает ни тепла, ни света и рассеивает вокруг один пепел?
Не была ли ее любовь в глазах мужа сущей безделицей, раз она неизменно терпела фиаско в состязании, ах, даже не с другой женщиной, а с бутылкой горького вонючего пойла?..
Может, подняться и выпить еще таблетку? Ничего это, конечно, не изменит, ни на йоту, только даст на несколько часов забыться. А придумать пока все равно ничего не придумаешь. Только будешь ждать и вновь и вновь перебирать все, пересыпать как пепел.
Она привстала, нашарила сумочку, нашла пузырек и легонько вытряхнула лекарство на руку. Отсыпалось две таблетки. Она видела, как белели они в темноте на серой ладони. Пусть будет две… В пузырьке еще есть — для другого раза, для следующего. Потом пошла в кухню за теплой водой, налила из чайника и запила таблетки большими глотками, чтобы не чувствовать горького вкуса.
«Но разве не от всего она остается?» — ощутив все же горечь, подумала Велдзе, и ей пришло в голову, что точно так же, залпом, она выпила и свое супружеское счастье, как стакан пива, — до дна, а на дне был осадок, который она тогда не заметила и только теперь почувствовала. «Я была слишком счастлива, — продолжала она рассуждать с некоторой отчужденностью, как бы глядя на себя со стороны. — Такое счастье долго продолжаться не может. Это все равно что маятник у часов застыл бы на отлете… или качели вдруг остановились на лету… Так ведь не бывает, правда? А я хотела, чтобы был вечный праздник. Казалось, у меня столько пирогов и пива, что можно праздновать и гулять без конца…»
Ее мозг все плотней заволакивало как туманом. Начало, видимо, действовать лекарство. Голова стала тяжелая, и все тело мягкое, как из воска, и ноги были точно не свои, чужие.
Это походило на опьянение от шампанского. И она криво усмехнулась. Сейчас впору танцевать, а она потащится в свою комнату, вновь повалится в свою холодную постель — и будет спать, спать, спать, ведь только во сне для нее избавление и спасение…
Что это?
На шоссе опять зафыркала машина и стала тормозить против Лиготне.
Это Ингус! Вернулся Ингус!
И в ней разом лопнуло что-то мучительно натянутое, она рывком выпросталась, как мотылек из тесной и душной тюрьмы-куколки, от облегчения у Велдзе кружилась голова. Ингус, Ингус! Руки сами собой хватали пальто. Велдзе наспех накинула его прямо на ночную рубашку и выбежала во двор — с дороги долетали голоса и что есть мочи лаял Джек.
— Джек, назад, Джек! — крикнула Велдзе, но вернуть собаку не удалось, и она, не в силах совладать с собой, побежала неверными ногами к шоссе, где все явственней проступал силуэт «Запорожца».
— Добрый вечер! — раздался из темноты голос.
Она поздоровалась, подошла ближе и увидела возле машины две фигуры — мужчину и женщину, однако мужчина был не Ингус. То были Каспарсоны. И она, сразу теряя силы, почувствовала себя обманутой, как будто с ней сыграли злую шутку.
— Проезжая, мы заметили, что у вас еще как будто горит свет. И Аврора сказала, что, возможно, вы ждете мужа… — заговорил Аскольд.
— Да, — глухо отозвалась Велдзе.
— Мы встретили его по дороге, но он… знаете…
«Мертв!» — молча вскрикнула Велдзе.
— …он в стадии крайнего опьянения, — присовокупила Аврора. — Хотели взять его в машину. Но с ним даже нельзя нормально разговаривать. Он только сказал, что…
— Ну, это не так важно, — перебил ее Аскольд.
Аврора пожала плечами.
Настала неловкая тишина, в которой все еще тявкал неугомонный Джек, и лай отдавался в Велдзиной голове как в бочке.
— Где он? — стараясь прийти в себя, спросила наконец она.
— Он идет по Ауруциемскому шоссе, — сообщил Аскольд. — И вообще он в одной рубашке. Я понимаю, что приятного в этой вести для вас мало. — Он замолчал, возможно ожидая ответа, но Велдзе, старавшаяся побороть слабость, не сказала ни слова. — Нехорошо это, если он будет болтаться на дороге. Да еще в такую погоду. Мы вполне могли на него наехать.
— Спасибо… благодарю вас… я вам очень благодарна…
Горло у нее, казалось, сдавлено, и голос звучал хрипло. Ее душили слезы не то горечи, не то облегчения, ведь Ингус жив, но опять, опять, опять пьян, и сильнее обычного. Оттого, что она бежала к дороге, босая, в ночной рубашке, которая на пядь выглядывала из-под пальто, она чувствовала себя смешной и жалкой в глазах Каспарсона и особенно строгой, самоуверенной Авроры, которой посчастливилось быть женой непьющего. И ей хотелось, чтобы Аврора не видела хотя бы ее слез, но, как и многое другое этой ночью, их заботливо скрыл туман.
Они молча смотрели друг на друга,
— Может быть, мне за ним поехать? — наконец вымолвила Велдзе.
— В самом деле поезжайте, иначе он может…
— Я вам очень благодарна… очень… — вновь повторила она, не думая о том, что говорит.
Зябко кутаясь в пальто, Велдзе возвратилась во двор, подошла к гаражу. Ах да, сперва же надо одеться и взять ключ зажигания. Сквозь сонливую усталость, которая вновь стала обнимать Велдзе с тех пор, как она узнала, что с Ингусом не случилось несчастья, действительность доходила до ее сознания столь же неясно, как сквозь туман контуры ближних предметов. Она оделась, взяла карманный фонарик, набрала у висячего замка шифр, на какую-то цифру, вероятно, ошиблась, потому что скоба не поддалась. Она набрала второй раз…
Так. Замок отскочил. Двери гаража со скрипом отворились. В снопе лучей фонарика блеснули фары «Волги» — она глядела из темноты на свою хозяйку, как бурая смирная корова. Велдзе протянула руку к выключателю, и гараж залило режуще ярким светом, который сеяла с низкого потолка стопятидесятисвечовая лампа без абажура. После сырой свежести здесь, в помещении, казалось тепло, душно и мягко пахло бензином, маслом и лаком.
Велдзе вывела машину во двор, оставив все как есть — замок в скобе, ворота гаража настежь, включенное электричество. Обернулась. Может быть, выйти из машины — потушить, затворить? Открытые двустворчатые двери в белесой тьме напоминали уши летучей мыши, и она невольно еще раз оглянулась.
«Что я хотела сделать? А, ничего…»
Туман, туман… За стеклами машины он мутнел разбавленным молоком, а впереди «Волги» тек в берегах деревьев замерзающей рекой, которая покрывается салом, и оно бесформенной массой мелькает и колышется, плывет и рябит перед глазами… как бывает, когда слипаются веки и…
Что с ней? Проклятые таблетки!
Она вырулила на шоссе и ехала к развилке мимо неведомых силуэтов. Расстояния и размеры стали обманчивы и преобразили местность. Столбы и стволы выглядели одинокими фигурами. Ей не раз чудилось, что она видит Ингуса, но всякий раз она убеждалась в своей ошибке — это был даже не человек, а какие-то части предметов в расплывчатом и клубящемся свете фар, где силуэты построек напоминали баржи, ставшие на якорь в озере тумана. Они промелькнули и скрылись из виду, а впереди громадным стогом сена означилась рощица. Канавы по обе стороны полнились белой мглой, а за ними ничего не было видно, и «Волга» двигалась по мутному световому тоннелю.
Ни одной встречной машины не попадалось. Все время только выныривали и таяли, появлялись и вновь растворялись кусты и деревья, они мерцали в огнях фар, точно заиндевелые, и казались смутными видениями на грани между явью и сном.
Мысли были как бы вне ее. Мозг и тело наполняла тупая тяжесть и…
Вдруг Велдзе вздрогнула. Что это? О боже!
Перед ней из мглы возникли призрачные контуры и свободно плыли в белизне тумана, темной птицей скользя на парусах-крыльях. «Летучий голландец»! Леденящий ужас током прошил ее тело, парализуя на миг волю и члены. А кофейная «Волга» стрелой вылетела на перекресток. И туманный призрак тут же сгинул, и вместо сказочного корабля впереди был маленький, темный, угластый и очень знакомый драндулет. Она нажала тормозную педаль, но, понимая, что уже поздно, вся сразу сжалась в комок и вскрикнула, как от страшной боли кролик, пронзительно и тонко, но сама не слышала своего голоса, потонувшего в лязге, скрежете и треске.
Обитатели Купенов — практически две женщины разных поколений — жили так тихо, что еще два-три года после того, как я поселилась в Мургале, у меня было весьма смутное, а вернее — просто превратное представление об их родственных отношениях, то есть я считала, что Марианна и Алиса — мать и дочь.
Но тут неожиданно появился Петер, а Петер уж не тот человек, которого можно не заметить и не запомнить: видный и шумный, бесшабашный и смешливый, к тому же одет очень броско — через плечо ярко-синяя лаковая сумка чуть не фантастических размеров (и что в ней носить, интересно?), на голове шикарная шляпа — нечто среднее между котелком Чарли Чаплина и тирольской шапочкой. В его физиономии я в первый же раз уловила знакомые черты, но на кого именно похож Петер, сразу не угадала. При встрече со мной он приподнял головной убор, под которым обнаружились светлые кудри, и низко поклонился с какой-то врожденной грацией, которая также воскресила в памяти что-то уже виденное, хорошо знакомое. Я поняла, что обо мне он осведомлен. И не только это. Его артистически раскованный и до смешного торжественный, самоуверенный поклон, как и ослепительная и лукавая, но весьма фамильярная улыбка, позволяли заключить и другое: он, надо думать, воображал, что о его примечательной персоне я знаю все, что известно в Мургале, и она, само собой, мне весьма импонирует. Кривлянье провинциального донжуана уживалось в нем с каким-то неподдельным, прямо-таки лучащимся дружелюбием, его уверенность в своей неотразимости и обаянии раздражала и одновременно трогала ребяческой откровенностью, с какой он выставлял ее напоказ, не строя из себя ни сноба, ни циника, иными словами — он принадлежал к той категории мужчин, которых женщины чаще других проклинают и больше всего любят.
Так я подумала, впервые встретившись с Петером, ничего еще, вопреки его предположениям, о нем не зная, однако дальнейшие события подтвердили, что интуиция меня не обманула. А насколько я была не в курсе дела, пусть подтвердит тот факт, что я считала Петера — смешно вспомнить даже! — братом Алисы, хотя в действительности он был…
Да, здесь возникают известные трудности — как поточней и в то же время возможно деликатней объяснить, кем же был для Алисы Петер, так как обычные и очень четкие определения — и юридические, и традиционные — отношений между мужчиной и женщиной здесь были бы весьма приблизительны и совсем неточны. Жена? Невеста? Любовница? Гражданская жена? «Жена» отпадает, поскольку они не были официально зарегистрированы. Назвать Алису невестой как-то неловко, это звучало бы чуть ли не насмешкой, так как Петер в своих скитаниях по белу свету трижды женился и разводился, и в последний раз, когда появился в Мургале, никто (возможно, за исключением Марианны) не знал в точности, не сделал ли Петер четвертый заход в супружескую гавань. Чтобы назвать Алису гражданской женой, они должны были вместе жить дольше, чем какие-нибудь две-три недели за два-три года, которые проводил в Купенах Петер (если не считать одной зимы после дальнего рейса на траулере). А слово «любовница», которое вроде бы соответствовало эпизодическому характеру связи, звучало — по крайней мере, в моем восприятии — слишком несерьезно и легкомысленно, во всяком случае несерьезней и легкомысленней, чем заслуживали их отношения.
Но в конце концов точное название, пожалуй, не так и важно — что оно меняет или может изменить в существе дела? Решительно ничего, потому что Алиса ждала Петера чистая, как невеста, в его отсутствие была ему верна, как добрая жена, и, когда обманутые надежды и неудачи, пустой кошелек или просто случайность прибивали Петера, как течение прибивает дрейфующий корабль, к Купенам, она становилась его любовницей и гражданской женой — до того дня, всегда неизвестного, непредсказуемого, когда странная и, наверное, непонятная для Алисы тоска по дали и простору вновь не заставит его поднять паруса и на неопределенное время скрыться за горизонтом.
Другая женщина, выпади ей такой жребий, рвала бы, как говорится, на себе волосы, тогда как Алиса… Но что я, собственно, знала про Алису? Сухая, молчаливая — из тех, о каких говорят «себе на уме» и какие отнюдь не вызывают симпатии своей чрезмерной сдержанностью, за которой может скрываться как застенчивость и робость, так и нелюдимость, гонор. Что именно крылось за внешней холодностью Алисы, я не могла понять, даже тогда не могла, когда с обеими хозяйками Купенов — и старой, и молодой — у меня завязался контакт, правда на весьма прозаической основе, а именно — в этой усадьбе я стала брать молоко. И хотя до Купенов от меня с километр, нас связывала договоренность, не обременявшая ни ту, ни другую сторону: во время вечерней прогулки я заносила туда бидончик и утром в любое время, когда мне удобно, могла забрать свой литр или два из свежего удоя, причем не всякий раз даже заходя в дом, так как бидон, я опрокидывала во дворе, на кол, к которому был привязан слабый кленок. Придумала все это Марианна — негоже, мол, пустой бидон держать всю ночь под крышкой, завоняется, а молочная посуда должна быть чистой и пахучей, как душа. Именно так она и сказала — очень необычно для моего слуха, потому что красивых слов эта деревенская женщина не любила. Тут, однако, слышалась жизненная мудрость. И вряд ли ведь найдется человек на свете, который не пожелал бы брать молоко в усадьбе, где посуда, как выразилась Марианна, чистая и пахучая, как душа.
Но это так, между прочим. Бидон, он всего-навсего бидон и есть. К. тому же мне никогда не приходило в голову, что мой бидон может сыграть какую-то роль в судьбе Марианны Купен…
Но как раз благодаря этой маленькой сделке мы с Марианной хоть немножко сблизились, и из всех мургальских усадеб именно в Купены я волей-неволей заглядывала чаще всего. И случалось, мы не только перекинемся словом из вежливости, но иной раз — особенно когда дома не было Алисы — и поболтаем про жизнь, и про жизнь вообще, и конкретно про жизнь Марианны, в которой особенно большое место занимал Петер.
Так за несколько лет из отрывочных воспоминаний, рассказанных в разной связи и по разным поводам, и нечаянно оброненных фраз в моей голове сложилось определенное представление, в котором, очень возможно, немало субъективного, о Марианне Купен и ее жизни. Сколько достоверного было в том, что мне поведала Марианна, сказать не берусь. Правдивость ее слов я никогда не проверяла, хотя и не все в них казалось мне убедительным, и в первую очередь то, что Петер в ее рассказах всегда заслонял собой все прочее, а ведь в жизни Марианны был и муж, было двое родных сыновей, Эдгар и Кристап, умершие в раннем детстве. Может быть, время так стерло живые черты собственных сыновей, что Марианна их как следует уж не помнила. Но как женщине, у которой тоже есть дети, мне трудно это допустить — в сердце матери все же остается нечто такое, чего не в силах стереть и развеять в прах время, разве что припорошить пеплом забвения. Во-вторых, Петер в воспоминаниях Марианны обретал как бы ореол благородства, который слабо вязался с тем, что мы в Мургале (к тому времени и я) о нем знали: легкомысленные браки, более чем странные отношения с Алисой, вечные скитания по белу свету, хватка во всяком деле, начиная с рубки леса и кончая кроем заготовок для обуви, и в то же время полная неспособность по-настоящему, душой привязаться к чему бы то ни было, вдобавок еще исполнительные листы на алименты, которые искали его и преследовали по всему Советскому Союзу, обычно опаздывая, так как он успевал в очередной раз переехать на новое место, и наконец желание покрасоваться, можно сказать даже некоторая фатоватость, — в сумме набирался такой груз грехов и пороков, что было сомнительно, может ли его возместить нечто столь абстрактное и крайне неопределенное, как доброе сердце, чего у Петера не отнимал никто…
И однажды я Марианне примерно так и сказала. Не подумав, выпалила и потом спохватилась, что зря и что все равно это в ее взглядах ничего не изменит — только повздорим. И в одном я не ошиблась — мнения Марианны мой довод не поколебал и даже, казалось, не вызвал у нее и тени сомнения в своей правоте. Но поссориться мы все же не поссорились. Помолчав немного, она с глубокой убежденностью сказала, что людей дорогих и близких надо принимать такими, какие они есть, а все горести наши и раздоры идут оттого, что мы понимаем только себя, а другого норовим переделать на свой лад. Так она выразилась, возможно имея в виду меня и себя, но скорее всего себя и Петера, и руки ее на коленях лежали такие спокойные и в таком согласии друг с другом, а лицо смотрело так ясно и просветленно, что у меня не хватило духу вымолвить, а не эти ли ее взгляды были причиной многих невзгод Петера?
Марианна прямо сияла, расцветала на глазах, когда упоминала сама или кто-то другой при ней называл имя Петера. Признаться, мне никогда не случалось наблюдать такую слепую и тем не менее столь возвышенную любовь матери к сыну, ведь рабская привязанность обычно бездуховна, а чувства Марианны отличала восторженность, что ли, погасить которую с годами не могло ничто. Казалось, она каждый день благодарит судьбу за то, что ей выпало счастье быть матерью Петера. И если гениальными можно назвать не только умственные способности, но и эмоции, исполненные силы и постоянства, больше того — не затухающей десятки лет эйфории, то гениальной хочется назвать и любовь Марианны к Петеру, который не был ей даже родным сыном.
Это обстоятельство, кстати, она упоминала весьма неохотно и крайне редко, за все годы, если меня не подводит память, обмолвилась только раз: когда речь шла о Петере в детстве, она сказала, что веночные дети всегда родятся крепенькие. Я в простоте душевной удивилась — что это за веночные дети? И Марианна мне объяснила, что так называют детей незаконных. При всем моем филологическом образовании я знала только детей внебрачных и прижитых, детей побочных и бастардов — всё с более или менее презрительным оттенком. А веночные дети звучали таинственно и, я бы даже сказала, торжественно, и это лишний раз говорило об отношении Марианны к Петеру.
В то время для меня уж было не секрет, что он Купенам приемный сын. Петер был личностью до того экзотической, что с каждым его довольно редким появлением в Мургале люди начинали вновь перевеивать мякину прошлого, от коего занятия подымалось столько пыли, что контуры истины проступали сквозь нее очень слабо. Поэтому я не слишком доверяла версии, что Петер — сын Войцеховского. Однако Марианна подтвердила: да, его сын. От Евы Лукаж, которая умерла в родах. Ребенка пришлось взять ее сестре Эльзе, у которой своих было четверо. Войцеховский? Про Войцеховского было известно только, что он вместе с отцом расстрелян в Раудавской тюрьме. И Эльза, посомневавшись, поколебавшись и наплакавшись — но куда в войну денешься с такой оравой и как накормишь пять ртов? — в конце концов согласилась отдать, и они с Мартином привезли малыша к себе. После оформили и бумаги, все как следует, и фамилия мальчонки стала Купен, а имя дали Петер. Мартин сперва беспременно хотел назвать его Эдгаром или Кристапом, но она, Марианна, не согласилась. Имена умерших давать нельзя, это не к добру…
Мне не терпелось спросить, как сложились у них отношения с Феликсом Войцеховским, который жил тут же, рядом, но стоило мне обиняком насчет этого заикнуться, чтобы сразу заметить — Марианна не желает об этом вспоминать, во всяком случае рассказывать. И хотя мое любопытство, как легко догадаться, было возбуждено, я от расспросов воздержалась, так никогда всего и не узнав. Но можно ли о чем бы то ни было разузнать все и нужно ли вообще лезть в душу ближнего?
Но если Марианна казалась мне человеком глубоким и даже с необычной внутренней жизнью, то Алиса, наоборот, производила впечатление существа довольно примитивного. В ее холодности было что-то от рыбы, в ее безропотности — что-то от овцы, и, судя по характеру их с Петером отношений, вполне можно было допустить, что ей неведома, как курице, и ревность. Дурнушкой ее никто бы не назвал, но и красавицей никоим образом тоже. Никаких особых изъянов в ее внешности не было, и в то же время с ней можно было встретиться десятки раз и не заметить, не запомнить, какого цвета у нее глаза (серо-голубые? зеленовато-желтые?) или какого тона волосы (светло-русые? темно-русые?). Она работала в Бривниеках, на свиноферме, и дорога туда из Купенов шла почти вдоль моего двора, так что, по крайней мере, раз в день, а иногда и два я слышала треск ее мопеда или видела ее на пути туда или обратно, и почти всегда, если не считать самой середины лета, в одном и том же: в платке, куртке, в мужских брюках и резиновых сапогах. В брюках она, как говорится, ложилась и вставала, прямо как парень. В эксплуатации, так сказать, они очень удобны, однако накладывали на Алису печать сугубой деловитости и бесполого, что ли, существа, что отпугивает мужчин больше, чем явное уродство, облаченное в женские аксессуары.
Интересовало ли ее что-нибудь, помимо небольшого хозяйства в Купенах, колхозных свиней и, конечно, еще Петера? Сказать трудно. Я никогда не видела также, чтобы Алиса громко, от души смеялась, и это наводило на мысль, что характер у нее мрачноватый, брюзгливый, но в предположении этом заставляло усомниться то, что она никого не честила и ни на что не сетовала, ни о ком не злословила и ни с кем не ссорилась, хотя свинарки на ферме иной раз и цапались, — и вообще и к соседям, и к товаркам по работе относилась без предвзятости и держала себя в узде. Ах да, если не считать единственного раза, когда она хлестко, забористо и, при ее общеизвестной молчаливости, довольно долго отчитывала зоотехника за то, что свиньям привезли негодный корм. Однако этот случай, выражаясь литературно, был настолько нетипичен, что вряд ли позволял делать какие-то выводы, и пришел мне в голову в связи с совсем другим событием, происшедшим этой осенью, в грибную пору.
После длительной засухи прошел сильный и теплый дождь, грибы в наших лесах полезли из земли скопом, и отовсюду — из Раудавы и даже из Риги — скопом понаехали машины и мотоциклы, так что на каждом перекрестке просек стояло по «Москвичу» или «Яве». Мы, мургальцы, тоже не хотели остаться в дураках, и кто только мог выбрать часика два, тот, поддев на руку корзину или ведро, отправлялся в лес.
И в такой вот день я однажды встретила Алису. Мшистые бугры и молодой лес, как я уже говорила, кишмя кишели грибниками, поэтому вначале я не обратила внимания на какую-то бабенку в брюках, которая маячила невдалеке и делала руками какие-то знаки. В брюках здесь были все, и, аукаясь со своими напарниками, кричала не она одна — справедливости ради надо сказать, что больше всех горланят в лесу все же представители сильного пола, у которых в крови, возможно еще с древних времен, живет инстинкт реветь в период гона. Я собиралась спокойно идти дальше своею дорогой, но бабенка двинулась ко мне, и я узнала ее — Алиса. Впрочем, «узнала» совсем не то слово.
Да, конечно, в женщине я признала Алису, но была она до того непривычная, взбудораженная, что сразу стало ясно — что-то случилось. Обычно лицо ее вовсе не отличается яркостью, разве что на сильном морозе, но и тогда краснеет прежде всего нос. Теперь же щеки ее так и цветут нежным румянцем. Глаза блестят ясные и синие — того редкого и насыщенного тона, который называют цветом незабудок. Приоткрытые как от быстрого бега губы, которые всегда казались мне аскетически тонкими и бледными, сейчас влажные, пунцовые и почти чувственно дрожат. И, удивленная такой неожиданной, просто разительной метаморфозой, я замечаю ту же перемену и в ее фигуре: под расстегнутой курткой сквозь тонкий джемперок заметно, чуть ли не дерзко выпирают полушария грудей, и даже нескладные пятирублевые брюки не могут скрыть мягкую линию ее бедер — она вся налилась и заиграла красками, как поспевшее на дереве яблоко, только поспевшее в мгновение ока.
— Что случилось, Алиса? — спрашиваю.
— Хочу вам что-то показать, — отвечает она, и в голосе ее волнение.
— Где это?
Она кивает в ту сторону, откуда сейчас подошла, и мы обе направляемся туда — она торопливо, стараясь опередить меня, так что я едва за ней успеваю. И с приближением к месту, куда она меня ведет, чувствуется, что возбуждением дышит все ее существо.
Неожиданно остановившись, Алиса одними губами шепчет:
— Там ребенок.
— Ребенок?
— Да. Брошенный ребенок.
— Вы не ошибаетесь, Алиса? — с сомнением спрашиваю я.
— Ну, посмотрите сами.
Она делает еще несколько шагов, резким движением хватает меня за рукав и глухим шепотом произносит:
— Тсс! Смотрите, вот он!
Теперь вижу и я — под низколапой елью.
Ребенок завернут в клетчатую ткань — не то шерстяную шаль, не то скатерть — и лежит, по-видимому, на боку, так как под материей проступают округлости и головы и попки. Судя по росту, ему месяцев десять-одиннадцать, а может, и год. Но если Алисе он кажется спящим, то мне… Я сразу чувствую под ложечкой сосущую пустоту. Живых детей так не увертывают, как завернут этот малыш — прямо с головой, и не суют под елки…
Я подбираю с земли палку.
— Что вы ей будете делать? — встревоженно, чуть не испуганно спрашивает Алиса.
— Попробуем развязать узел, — отвечаю я непослушными губами.
Алиса понимает, что я имею в виду, и сразу бледнеет как мел! — будто на нее внезапно обрушилось тяжкое горе. Опередив меня, она наклоняется, распутывает узел, в который углами стянут серый платок, и мы смотрим сверху на свою находку, избегая поднять глаза и взглянуть друг на друга.
В платке лежит зонт, две свернутые женские кофты и полиэтиленовый пакет с бутербродами, пустой жирной бумагой и яичной скорлупой…
Алиса связала углы платка. Мы не проронили ни слова и, пройдя вместе метров пятьдесят, расстались.
Никогда никому про это печальное происшествие я не рассказывала, и Алиса как будто бы тоже. Я — потому, что хотела развязать сверток, в который был завернут ребенок — хоть и неживой — не руками, а палкой. Она же, наверное, оттого, что нечаянно выдала себя, открыв мне нечто такое, что было запрятано глубоко и не предназначалось для чужих глаз.
ГРИБНОЙ ДОЖДЬ,
ИЛИ РАССКАЗ О МАРИАННЕ И АЛИСЕ,
А МОЖЕТ БЫТЬ, О ПЕТЕРЕ?
«Вот и осень…» — думает Марианна, так как осень пришла, незваная, нежеланная, она снова тут, и за окном идет грибной дождь, накрапывает и сеется, моросит и каплет, и черно-лаковые стекла сплошь усыпаны снаружи серым бисером, а он все идет и идет без конца, идет и идет беззвучно, бесшумно, падает на землю как густой туман и нет-нет, когда налетит ветерок, плеснет и в окно. Если бы дверь в Алисину комнату не была приотворена, впуская в щель полоску розового света и музыку, то тишина, пожалуй, не казалась бы такой полной, тогда, наверно, было бы слышно, как в лесу, по ту сторону речки с низким гулом лопается земля, с каким весной трещит лед, и как из-подо мха — пах, пах! — ракетами выстреливают грибы.
Но сейчас дверь в Алисину комнату приоткрыта, мужской голос за ней поет про Марианну, которая спит так сладко, что жаль ее будить, и бархатный тенор, как пелена дождя, накрывает все звуки, хотя Марианна — Марианна вовсе не спит. Она не может заснуть, и вовсе не потому, что мужской голос так возбуждающе ласков, о нет, Марианна слишком стара, чтобы ее сердце мог взволновать самый нежный и сладкий мужской голос, хотя не дает ей заснуть именно сердце, капризничает сердце. Немеет и холодеет вся левая сторона тела, как у нее уже бывало, да что тут сделаешь — придется лежать с открытыми глазами и слушать песню про Марианну, которая заснула так глубоко и крепко, как спят только в молодости.
Но вдоль розовой полосы скользит тень, и, закрыв собой свет, у косяка застывает темная фигура. Это может быть только Алиса, которая стоит и слушает, бодрствует ли еще Марианна или уже задремала, тогда надо выключить это радио и дверь закрыть, чтобы не потревожить. И Марианне хочется позвать — пусть войдет, но потом она думает: ну позовет, а что дальше, ведь сказать ей особенно нечего, пожаловаться разве на сердце. Но чем может помочь Алиса, если даже самый расхороший доктор нового ей не вставит и ни валидол, ни корвалол, ни капли большого облегчения не дают. Что же в силах сделать бедная Алиса: сказать доброе слово, чаю принести, подоткнуть одеяло, когда у самой небось будильник поставлен опять на четыре? Пусть себе идет девочка отдыхать и не ломает зря голову, пусть ложится и спит, мало, что ль, она набегалась, да и завтра ведь работа — не гулянка.
И дверь затворяется, и светлая полоса гаснет, и мужчина больше не поет про сладкий, на диво крепкий сон Марианны, и лишь тонкие пальцы грибного дождя тихонько шуршат, барабанят в окна, и со двора едва-едва слышно долетает легкий шум: льет, льет… Но осень, она осень и есть, что тут поделаешь? Придет время — цветет черемуха, оглянуться не успеешь — матерь божья, уже облетают листья. В жару об одном только думаешь: господи, хоть бы чуток побрызгало, а грозы, как сговорились, где-то ходят за версту, идут стороной, погромыхают вдали, посверкают молнии, и все, до свидания, поминай как звали, хотя земля не напоена, запеклась коркой и потрескалась, как картофельная кожура. А потом настает октябрь — и все развозит, и все чавкает и хлюпает, и делается жидким как каша и скользким как мыло, бог ты мой, идешь — ноги вязнут, но когда еще так манит тепло в освещенных окнах, как ненастным осенним вечером, наверное, никогда. И так во всем. Весной зацветают сады, и кажется — милые вы мои, можно ли что сравнить с этой красотой, на нее глядя душа радуется! Но вот пройдет хорошая метель, и не заиграет ли даже гнилой пень и заснеженный кол в изгороди, не искрится ли все, не смеется ли на белом зимнем солнце? Ну, так что же краше? Вряд ли кто скажет. А спросить у людей — большинство ответит, что зимой-де холодно, вот и весь сказ…
Так думает Марианна, да и что же еще делать в одиночестве в вечерней тьме, когда сна ни в одном глазу и слышны только шелест мороси по окну и еще перебои собственного сердца? Поразмыслить над чем-то, пораздумать, на что в молодые годы, когда вертишься как белка в колесе, не хватает времени, когда стоит приклонить голову к подушке, и уже десятый сон видишь…
Но, может быть, от стариков сон бежит потому, что уже близко, уже рукой подать до вечного успокоения, когда каждый сможет отдыхать вдоволь, сколько влезет, и наверстать все, что когда-то ему было недодано? Ведь сколько ей может быть отпущено — лет десять еще, пять? Иные живут до ста, ну, это не про нее писано, с таким сердцем до ста не протянешь, да и к чему, только себе мученье и другим в тягость. Но одного ей хотелось бы — повидать Петера. Не так уж и много она хочет и просит — только увидеть, и больше ничего, ни подарков не надо ей, ни денег, хватает и того, что зарабатывает Алиса, и у самой пенсия, и корова, сыты, обуты и одеты, есть крыша над головой — чего же еще? Грешно было бы жаловаться, ныть и гоняться за не знай какими сладкими коврижками. Но у каждого, наверно, есть что-то такое, к чему он тянется всеми помыслами, и у каждого это что-то свое. Одна, у которой на шее целая орава детей, только о том и мечтает что о свободной минутке, когда можно перевести дух, ведь нету мочи, нет больше сил слушать этот ор и визг, и латать штаны и носки больше невмоготу, а другая, бесплодная, напротив, об одном лишь тужит с утра до ночи — о наследнике, ради которого готова трудиться не покладая рук, из кожи вон лезть и надрываться. Одному загорится иметь какую-то вещь, да так, что он и ночью с боку на бок ворочается, а другого и золотой цепью не привяжешь, не удержишь ни богатством, ни силой, а не сможет вырваться из силков, так ногу себе перегрызет — лишь бы уйти. Да спроси еще — куда, и лучше ли хоть там, куда он рвется очертя голову; а душа влечет, зовет — туда, туда… Но разве не то же со зверями и с птицами? Одного можно приручить, так что с руки ест, тогда как другой все в лес смотрит или в небо глядит, бьется о клетку или о загородку, пока не вырвется или не зачахнет…
Так размышляет Марианна, и, куда бы ее мысль ни обратилась, она вновь и вновь возвращается к Петеру и ходит вокруг него кругами, как вокруг маяка чайки. А дождик между тем набирает силу, и постепенно крепчает и ветер, — время от времени слышно, как тукают и барабанят по стеклу капли. И сквозь этот стук и барабанную дробь Марианна начинает различать и нечто другое — она слышит, как где-то звонит колокол не колокол, теленькая на высоких нотах и долетая из-за речки сквозь серую пелену грибного дождя.
«Неужто сегодня кого хоронят?» — удивляется она, но потом спохватывается: нет, в такой поздний час на кладбищенском холме не могут хоронить, зарывать в землю. Колокол звонит сам по себе — динь-дон, как по покойнику…
Жесткая, словно в стальной перчатке, рука сжимает и стискивает сердце Марианны так, что не дыхнуть. Вот-вот, кажется, замрет и остановится, вот-вот замолкнет и…
— Алиса! — немо шевеля губами, шепчет Марианна,
Нет, не замерло, не смолкло, не остановилось — сердце оправляется и снова бьется, и Алиса ничего не слышит — ни беззвучного зова, ни колокольного звона. Оно и хорошо. Чем может помочь Алиса — Алиса, девочка?.. Пусть ее спит, пусть отдыхает, завтра не выходной, работы завтра целый воз. И слышь — не смолк ли этот звонарь? Да, смолк, не бренчит, не теленькает, только капли дождя шуршат, тарахтят, барабанят тонюсенькими пальцами…
Но нет, не спит и Алиса, только радио в изголовье тахты привернула тихо-тихо, еле слышно. Алиса еще не в том возрасте, чтобы ложиться спать вместе с курами, хотя завтра и в самом деле вставать в пятом часу и работы будет невпроворот, как обычно, и даже больше, потому что беконов повезут на бойню. А сейчас она подкладывает под голову собственноручно вышитую крестом подушку, накидывает на ноги фланелевое одеяло и протягивает руку за книгой, где между листами видна узорчатая тесемка — там ли вложенная, где надо, нет ли, кто ее знает. Нынче утром, торопясь на ферму, она сунула в роман закладку наугад, на авось, потому что ночью он свалился за тахту: может быть, она вчера за чтением заснула, как бывало иной раз, когда глаза слипнутся от усталости, может быть, не положила на тумбочку, а упустила в щель между подушкой и стеной. Не все ли равно? Главное, что книга никуда не делась, не пропала. Полистает и увидит, вспомнит, на чем вчера остановилась, ведь эта вещь, слава богу, не такая скучная дрянь, которая тут же вылетает из головы, тут про любовь, тут Он любит Ее, а Она Его так крепко и сильно, так пылко и страстно, как бывает только в романах, за то люди и покупают романы и копаются в них, что там многое по-другому и куда красивей, чем в жизни, а иначе стоит ли вообще брать их в руки, чтобы она еще и по вечерам стала читать, к примеру, про свиней, которых насмотрелась и наслушалась за целый день, да ни в жизнь!..
Так думает Алиса, открывая книгу, потом вынимает закладку и пробегает глазами страницу. Тут или не тут? Читала или еще не читала ну это вот место?..
«— Будем пить «Мери»? — спросила она, держа бокал кончиками тонких, с красными ногтями, пальцев.
— Какую «Мери»? — полюбопытствовал я.
— «Кровавую», дорогой, — ответила она, грациозным движением поглаживая свои длинные желтые волосы, и, повернув ко мне красивое кукольное личико, продолжала: — Это великолепный коктейль — водка, томатный сок, перец и соль, — сказала она, изящно сложив свои яркие чувственные губы. Мне казалось, что она пробовала на вкус каждое слово. Я смотрел только на ее губы, слабо понимая, что она говорит. — Ты совсем не слушаешь, дорогой, — сказала она.
Я усмехнулся.
— Прекрасно, девочка, — сказал я. — Давай кончим «ОС», а вечером у тебя будем пить «Мери».
— Это будет чудесно. Мы сможем пить всю ночь.
Она склонила голову мне на плечо.
— И любить друг друга, — прибавил я.
— Да, дорогой, — ответила она и снова поднесла бокал к своим коралловым губам. — Выпьем, дорогой…
Оркестр играл блюз».
«Интересно, что такое — блюз? — думает Алиса. — Раз играют, не иначе какая-то музыка…»
Блю-уз…
Алиса никогда не бывала в кафе, где бы исполняли блюз, который играют, наверное, только в Риге. И неизвестно еще, пускают ли там таких, как она, на порог. Если даже в «Серебристый тополь» не больно-то войдет и ввалится любой и каждый с улицы… А «Серебристый тополь» у станции в Раудаве, наверно, уж не самое дорогое шикарное заведение, если там даже оркестра нет, только магнитофон. Однако небольшой зал полон приглушенных звуков, душистого табачного дыма, запаха пирожных и жареного мяса, полон мглистого, зеленоватого света, прямо как на дне озера, правда.
В тот раз Петер хоть и давненько вернулся с моря, кое-какие деньжата у него все же водились, а «Серебристый тополь» лишь накануне открыли. В Раудаву они ездили, само собой, не затем, чтобы сидеть в кафе, что говорить, а в универмаг за ботами и в аптеку за лекарством для Марианны, потом еще в «Хозтовары» за новой прокладкой для сепаратора, оконной замазкой и прочей мелочью. Но, увидав, что «Серебристый тополь» открыт, Петер сказал: «Слышь, Алиса, — так сказал он, — не почтить ли нам эту забегаловку своим присутствием?» Вот чудик! Однако швейцар там оказался такой занозой и занудой, сперва поглазел в щелку между шторами — открывать или не открывать? — но, увидав в стеклянную дверь Петера, живо начал щелкать замками, потому что вид у Петера был — ни дать ни взять иностранец! Они ели бифштексы с запеченным в жиру картофелем и жареным луком и пили коньяк, который малость отдавал самогоном, потом еще заказали кофе с фирменными пирожками, и Петер рассказывал ей про Африку.
Он ей рассказывал это который раз, но что за беда, и при зеленоватом освещении в зале, среди дразнящих запахов кафе эти истории звучали совсем по-иному, чем на их кухне с большим чугуном для картошки и помойными ведрами, так что к словам Петера прислушивались даже с соседних столиков, тянули шеи и наставляли уши, и некоторые девчонки, глядя на Петера, плавились как свечки, а Петер видел только ее, он видел только Алису. И она, так же как раскрасавица в том романе, который сейчас у нее в руках, время от времени Петеру говорила: «Да, дорогой», «Выпьем, дорогой». И когда Петер, разгоряченный коньяком и своими речами, заявил, что впредь они будут и правда ездить сюда не реже чем раз в неделю, каждый Алисин выходной они будут здесь как часы, она согласилась: «Хорошо, дорогой», «Как ты хочешь, дорогой», так она сказала и, разгоряченная коньяком и его речами, в тот момент свято верила, что так оно и будет, хотя до той поры ни одного своего обещания Петер не сдержал, и, конечно, не сдержал и этого. Он снова уехал, и в «Серебристый тополь» они больше не ступали и ногой, и тот раз, когда они не купили ни бот Марианне, ни прокладки для сепаратора, ни замазки для окон — ничегошеньки из всего, зачем они собственно из Мургале и ехали, — был и первым и последним.
Но чтобы из-за этого Алиса горевала и сокрушалась? Чего ради? В конце концов, так и так все проходит, как часто оно ни повторяйся и сколько оно ни продолжайся… А тот ужин в «Серебристом тополе» был настолько прекрасен, что его можно вспоминать еще и еще и наслаждаться им мысленно опять и опять, ведь для памяти нет и ни препятствий, ни преград, и воспоминания не знают ни давности, ни расстояний.
Ах, да, верно, было все же одно воскресенье, когда Алисе очень захотелось вновь все это пережить, и не мысленно, не в воображении или во сне, а в действительности, наяву. Она как раз получила премию за беконов. Деньги точно с неба упали. И вдруг ее охватила, да что охватила — прямо-таки захлестнула, обуяла тоска по «Серебристому тополю» и всему, что она там чувствовала. Эта жажда свалилась на нее внезапно, как снег на голову, и совсем задурила мозги — ей загорелось пойти туда хоть ты тресни, и казалось — нет ничего проще, чем это желание исполнить. И в мечтах ее уже обнимал серебристый свет зала, аромат хорошего табака и кофе, а на языке таяла душистая сладость фирменных пирожных. Она возьмет и сто грамм коньяку — пусть все будет точь-в-точь как тогда, когда они сидели вдвоем…
И, размечтавшись так, Алиса до того взволновалась, как будто бы в кафе ее ждал сам Петер или она собиралась сделать какой-то важный шаг. И когда в автобусе продавщица Ритма, случившаяся рядом, спросила, куда это Алиса такая едет, она не смогла ни сказать правду, ни что-то подходящее соврать, не сумела придумать ничего и только покраснела, ей-ей, как сопливая девчонка — так залилась краской, что Ритма посмеялась, уж не на свиданье ли. И она зарделась еще пуще. Получилось страшно глупо, но что же ей было делать? Не открыться же, что она едет в «Серебристый тополь» выпить сто грамм коньяку, — матерь божья, это было бы как гром среди ясного неба, и назавтра же об этом судачило бы из конца в конец все Мургале, честя ее гуленой и выпивохой: где это видано, чтобы такое упорола девка, у которой все дома? Никогда, ни в жизнь порядочная баба такого не выкинет. Но как быть, если Алисе хотелось пережить те минуты еще раз, да так хотелось, ну просто до смерти? Она не видела в этом ничего дурного, а все же, признаться, стеснялась.
И когда Алиса подошла к кафе, сердце у нее в груди прямо стучало, так что пришлось перевести дух, как после быстрого бега, хотя она шла совсем медленно, заранее вкушая удовольствие и мало-помалу входя в роль, и две десятки, которые всякий раз шелестели в сумке, когда она туда что-нибудь клала или что-то вынимала, прибавляли ей уверенности в себе. Но когда ей оставалось только протянуть руку и толкнуть задрапированную изнутри стеклянную дверь, от сильного волнения она ощутила слабость, как будто бы входила не в кафе, а к врачу в кабинет рвать зуб. Такое у нее было чувство, правда. И все же она собралась с духом, взялась за ручку и… Однако дверь не подалась, хотя за нею и мерцал свет. Тогда Алиса постучала. За тонкой сборчатой занавеской мелькнуло и скрылось чье-то лицо, и произошло это так быстро, что она не успела рассмотреть, тот ли это швейцар, который пустил тогда их с Петером, точно так же поглядев сперва через стекло: такой, видно, тут заведен порядок, чтобы в приличное место не перлись всякие бродяги и пьяные рожи.
Она ожидала, что тут же звякнет замок и дверь отворится, однако не дождалась, тогда Алиса побарабанила вновь.
На этот раз голова за стеклом показалась секунды на две и сделала отрицательный знак, но поскольку Алиса не уходила, швейцар в конце концов приоткрыл дверь и сказал в щелочку, что мест нет.
Тогда она решила ждать — ведь оно может освободиться и найтись, ей и нужно-то всего одно местечко, хотя бы где-нибудь в углу. Она стояла на крыльце и смотрела, как падают листья — они кружились в воздухе, планировали вниз и мелись по асфальту; в этой картине была какая-то грустная красота, и Алису вновь охватило прежнее чувство, будто она явилась сюда на свидание с Петером, только лихорадочного волнения больше не было и как бы позолотой вечернего солнца все обнял меланхолический покой.
Из кафе вышла компания — четверо, и Алиса хотела уж было протиснуться в дверь, однако швейцар опять преградил ей дорогу: он же сказал — мест нет. Тогда она поняла, что места для нее и не будет, и покраснела до корней волос. Сначала от такой страшной злости, что ей хотелось схватить этого дядьку за его ливрейную грудь и тряхануть как сноп, чтобы из карманов у него вылетели чаевые, а из хлипкого тела — черная душа, потому что силы у Алисы хватало и кулаки были не плоше, чем у иного парня. Но потом она покраснела еще раз, и теперь уже от стыда, поняв, что швейцар ее принял за ту еще штучку: отирается у кафе как приблудная сука — не прогнать и палкой.
И все ее горячие желанья и хотенья разом лопнули, испустили дух, как проткнутый свиной пузырь, и она сама со своими прихотями и причудами показалась себе глупой гусыней, просто набитой дурой: разве может бифштекс с запеченным картофелем, чашка кофе с фирменным пирожным и пусть даже рюмка коньяку, который отдает сивухой, воскресить прошлое, если с того дня, как они весной сидели тут с Петером, минуло полгода? А без Петера «Серебристый тополь» все равно был бы голой пустыней, и за это она, идиотка, еще хотела выложить кровные деньги!
Так думала тогда Алиса, быстро шагая от кафе к автовокзалу, но дорогой почувствовала, что ужас как охота есть, зашла в вокзальный буфет, взяла кофе со сгущенным молоком и три пирожка, видом и вкусом смахивавших на губку. Тем не менее она усердно вонзала сильные зубы в жесткую плоть пирожка и прихлебывала теплый, муторно сладкий напиток, и все убрала и умяла до последней капли, до единой крошки, и так здорово подзаправилась, к тому же за каких-то сорок девять копеек, так разогрелась и взбодрилась, что до отхода автобуса успела еще слетать до булочной, схватить кулек баранок и пачку «коровок» — гостинец для Марианны, примчалась назад, не опоздав ни на секунду, через сорок минут сошла в Мургале и ни о чем не жалела, ни на что не сетовала, не досадовала, хотя, по правде сказать, все вышло у нее шиворот-навыворот…
«Оркестр играл блюз», — наткнувшись глазами на то же место в книге, читает Алиса и невольно вслушивается в музыку из радиоприемника; стоящего в изголовье. Мягким движением ее рука гладит раскрытую страницу, как живое существо. «До чего красиво Он Ее любит!» — думает Алиса, постепенно вновь переключаясь со своей жизни на роман, а по радио издалека плывут ритмы блюза, именно блюз передает далекая станция, только Алисе это невдомек. Если бы знала, все, наверно, показалось бы ей еще прекраснее…
И в соседней комнате тоже Марианна слушает, только ей не слышен как бы усталый, как бы печальный, внутренне сладострастный блюз — Марианна слушает, как снова, то долетая сюда снаружи, то пропадая, звучат странные звуки колокола, но думать они обе думают об одном; о чем же еще можно размышлять, если не о Петере, осенним вечером, когда на дворе моросит и льет дождь, о чем еще можно думать и гадать, если не об этом всесветном бродяге, от которого почти пять месяцев нет ни слуху ни духу, и три письма уже вернулись обратно, и кто знает, не вернется ли и четвертое.
Но разве это впервые? Ой нет, нет, не впервые. Разве не так же было, когда Петер ушел в море? Так же. И когда забрался чуть не на край света — на Сахалин? Тоже. И когда на Колыме оженился… Господи! Они с Алисой успели его чуть не похоронить и оплакать: ну все, погиб и не знай где сложил свою головушку! И вдруг в один прекрасный день — открытка, и еще с картинкой. Лучше бы уж свою фотографию прислал, да где ему, балбесу, додуматься! С одной стороны карточки какое-то озеро, сильно заросшее, и вдали не то снежные горы, не то белые-белые облака. А с другой стороны рукою Петера писано:
«Мамочка!
С Нового года я на Колыме. То, что Ты видишь, озеро Джека Лондона. Ты удивишься, почему Джека Лондона, ведь он никогда тут не был. А вышло так. Ехали на лодке по озеру геологи. И у одного книжка Джека Лондона упала за борт. Так озеру дали название. Чудно, правда? Мои дела all right. Случилось жениться еще раз. Ее зовут Татьяна. Как у Онегина!!! Передавай привет Алисе. Выдастся свободная минутка, черкну и ей.
Твой Петер».
Белая сторона открытки была исписана сплошь, так что слова про Алису были нацарапаны по самому краю и к тому же поперек.
Марианна тогда все сомневалась, показать Алисе открытку или не показать. Но как передала привет, хочешь не хочешь пришлось все же показать. Что думала Алиса, девочка? Прочитала, поглядела на картинку, плечи вздернула — словно озябла, может, оттого, что озеро выглядело таким диким, неприветливым и заросшим, а вокруг стояли редкие хмурые деревья, и вдали одиноко белели снега и виднелась стая облаков, — подняла плечи, будто поеживаясь, а сказать сказала: «Красиво, мама, правда?» Истинно так оно и было — печальная и холодная, чужая и невиданная, а все же красота…
Писал ли Петер еще оттуда? Не помнится что-то. Должно быть, нет. А следующей весточкой был, наверно, снимок, который до смерти напугал Марианну, — господи, твоя воля! — как у нее упало сердце, глядя на ту карточку. Постаревший, худющий, заморенный — не узнать! Болел, может? Опять какая беда навалилась?.. Макушка, правда, у него рано редеть стала, но здесь, на фотографии, цыплячий пух какой-то веером стоит вокруг головы. Уж не сидел ли в кутузке? Не болел ли тифом? Однако рот до ушей — улыбается, только улыбка какая-то незнакомая, одного зуба спереди нету, может, срывал с пивной бутылки крышку — сломал, а может, в драке…
Потом уж Марианна чуть не до слез смеялась над своими страхами, так как на обороте говорилось:
«Дорогая мамочка!
Хотел послать свое фото, как Ты просишь, но, честное слово, некогда все пойти щелкнуться. А на карточке снят мой напарник, звать Юханн, парень что надо. Мы вместе работаем, и живу я у него, потому что супружница дала ему отставку, а одному житье не фонтан. Я сейчас совсем от вас близко — работаю на «Океане». Рыбий жир делаем. План у нас закачаешься — 30 тонн нежирной сельди, но мы свою марку держим!
P.S. 1. Теперь уж чувствую, что скоро махну домой!!!
2. Нежирная сельдь это не какая-то тощая дохлятина, а название породы.
3. Передний зуб Юханну выбил я, да не по злобе, а…»
Дальше шло неразборчиво. Трудно было понять и адрес отправителя, но Алиса все же докопалась, и они узнали, что письмо отправлено из Эстонии, до которой действительно рукой подать.
Они стали готовиться и ждать. Алиса накупила краски и клея, кистей и мела и отремонтировала весь дом, как картинку, побелила и окрасила как настоящий маляр, замазала и зашпаклевала и отделала все любо-дорого смотреть.
Пришло еще одно письмо от Петера — он вроде уж собирается домой, готовится в дорогу, даже заявление начальству накатал и, как говорится, сидит на чемоданах. И в конце мелкими буквами приписка — не будут ли они против, если он прихватит с собой в Мургале своего напарника, который никогда не видел Латвию, того самого Юханна, против чего — да сохрани бог! — ни у Марианны, ни у Алисы возражений не было: пусть приезжает, встретят и примут как дорогого гостя, и пусть уж не взыщет, не обессудит, что у них, в Купенах, нет ничего особого, ничего такого, от чего рот разинешь, ведь здесь, в Мургале, как он, Петер, и сам хорошо знает, смотреть особенно не на что… Так они, посоветовавшись, Петеру и написали, просили все это сказать Юханну и передать сердечный привет, но это письмо вернулось обратно. Они решили, что не поняли наскоро, кое-как накарябанного Петером адреса, что письмо Петера не нашло, и Алиса на мопеде помчалась в Лаувы к Хуго Думиню, который и болтал по-эстонски, и малость разбирал по-письменному, и он подтвердил — так и есть, адрес они напутали изрядно, и, надев очки, четкими, чуть не печатными буквами вывел на конверте как оно должно быть. И письмо это действительно не вернулось, но и ответа никакого не прибыло. И прошел еще месяц. Алиса сшила себе новое платье и сделала перманент, а от Петера опять не было ни слуху ни духу, и Алиса таяла, как ущербная луна.
Тогда Марианна сказала: пусть она возьмет и напишет на его работу, и Алиса жалась и мялась, сомневалась и отнекивалась, в конце концов все же собралась — взяла и написала в рыболовное объединение «Океан», только не знала, кому послать, сперва хотела директору, но потом рассудила, что, наверно, слишком высоко берет — разве у такого большого начальника может в голове держаться целая армия рабочих, и решила, что вернее будет в отдел кадров, где о людях должны знать все. И недели через три получила ответ, что Петр Мартинович Купен в цехе по производству рыбьего жира и в объединении вообще с 17 мая сего года не работает и освобожден по собственному желанию.
А примерно в конце августа в Купены пришло письмо, написанное по-русски. Марианна с Алисой не знали, что делать и как быть, несколько дней все думали: распечатать не распечатать? Пока в конце концов не набрались духу и не вскрыли. Писал письмо Юханн, тот самый Петеров напарник, с которым они в одном цехе делали рыбий жир и с которым жили в одной комнате, когда Юханна бросила жена, тот самый Юханн, который хотел своими глазами повидать Мургале, хотя там ни одного замечательного места нет, ни памятников красивых, ни утесов, тот самый Юханн, который улыбался на снимке, показывая дырку вместо выбитого Петером зуба, хотя они — ни Марианна, ни Алиса — так и не поняли, как оно случилось и при каких обстоятельствах.
Это письмо тоже подтверждало, что с мая Петер в «Океане» не работает и у Юханна не живет, более того, оно подтверждало, что Юханн видел Петера с билетом в руках на вечерний поезд Таллин — Рига, который прибывает на конечную станцию в восемь утра и, наверное, прибыл по расписанию, только не привез Петера, а может быть, и привез — откуда им это знать, двум одиноким женщинам, где-то в Мургале, да и что они знают о нем самом, о Петере, они его только любят…
Так прошло и минуло пять месяцев, а Петер все не добрался до Купенов, хотя от Риги до Мургале всего шестьдесят семь километров — не так уж и много, если разложить на пять месяцев, даже если бы пришлось идти пешком или ползти. Но, быть может, они зря обращают свои взгляды к Риге, в ту сторону, где по вечерам красно пылает солнце и, уже закатившись, долго еще красит кумачом небо? Может быть, повторится то же, что и несколько лет назад, когда они ждали Петера из Угале, где он был на лесоразработках — вырубал просеки, а письмо получили не знай откуда, оно ехало тысячи и тысячи километров, через неоглядные просторы Сибири оно ехало и наконец прилетело из Москвы. Как обычно, оно было написано на покупной открытке — на одной стороне катил волны океан и на берегу высился маяк, а другая была густо-густо испещрена словами и кривыми, налезавшими друг на друга строчками, так что в глазах рябило еще и оттого, что самое важное Петер подчеркнул красными чернилами. И все же Алиса по буквам, по буквам все-все разобрала до последнего слова, до последней точки.
«Любимая мамочка!
Пишу тебе из Хомска. Не спутай ни с Омском, ни с Томском, потому что он на Сахалине и от Латвии до него — держись, мама! — десять тысяч километров. Вы там еще только идете кемарить, а мы уже в штаны влезаем. Работаю на переправе. Строим мост вроде бы, только плавучий. Один конец его будет у континента, другой здесь, на Сахалине… На обороте открытки — наш маяк. Научился я играть на баяне. Тут один кореш умеет татуировать. Я тоже наколол себе на груди одну картинку. Вокруг гирляндой цветики, а посередке имя. И знаешь какое? Марианна!!!
Твой Петер.
P.S. Передай привет Алисе и поцелуй за меня. А, совсем забыл, у меня родился второй сын! Назвали в честь деда — Мартином (хотя она сперва не хотела!!!). Пока! Скоро напишу».
Это «скоро» длилось год. Ну, может, и не целый год, а уж месяцев десять верных. Но тогдашнее письмо с Сахалина задурило голову обеим — и ей, и Алисе. Да и было отчего всполошиться. Оно задало им работы на несколько вечеров подряд, но и тогда они не все себе уяснили и никак не могли успокоиться. Десять тысяч километров, батюшки, на краю света! И потом эта переправа или как ее назвать, которая и на мост похожа и похожа на паром, и плавает она, и у берега держится! Ее и представить-то захочешь — голова идет кругом. А насчет новорожденного мальчонки они даже немного повздорили. Если он считается «вторым сыном» то, само собой, должен быть и первый, как же иначе, только Петер, по рассеянности наверно, забыл им сообщить об этом — они знали только про маленькую Олечку. А спор вышел оттого, что они никак не могли столковаться, от кого же у Петера может быть первый сын — от Анны или уже от Оксаны. Горячились и долдонили каждая свое, как оно всегда и бывает в споре, даже если людям и делить нечего, и кто бы ни оказался прав, это ровно ничего не меняет, пока не случилось нечто вовсе непредвиденное — Алиса вдруг всхлипнула, убежала в свою комнату и захлопнула дверь. Марианна хотела войти, утешить, сказать доброе слово, но наткнулась будто на стену — дверь была заперта! Никогда и никто ее не запирал, Марианна даже не помнила, существует ли от нее ключ, и тем не менее дверь была на замке…
И, стоя за порогом, Марианна вдруг поняла то, что пора было уразуметь давным-давно, — что обе они, это правда, Петера любят, и все-таки по-разному, каждая по-своему. Марианне было достаточно известия, что Петер жив и здоров, что у нее появился еще один внучонок, к тому же названный в честь деда Мартином, и на груди у Петера наколото ее имя.
А Алиса? Что чувствует Алиса?
Она вышла из своей комнаты очень скоро — минут через десять, много если пятнадцать, ничто не выдавало, чтобы она там плакала, и после этого она слабости ни разу не выказала. Она всегда была такой тихой, ровной, что Марианне даже иной раз приходило в голову: может быть, Алиса устала и успокоилась, может быть — изверилась? Ведь столько лет… Встретит человека, выйдет замуж — и Купены опустеют. Станет ли Марианна отговаривать? Да никогда… Молодая баба, своя жизнь должна быть; пусть уж она, старуха, пусть уж она все равно что тень Петера, его эхо, пусть уж она живет больше его жизнью, чем своей, но Алиса, девочка…
Но нет, не выходит замуж, Купены не пустеют.
Чего ждет, на что надеется? И надеется ли? Может, примирилась и живет: день и ночь — сутки прочь, и помаленьку старится? А может статься, наоборот — живет как в бреду, неистово, исступленно, от одного письма до другого, от одной встречи до другой. Бурлит и кипит как река, как водоворот — только подо льдом. Алиса, девочка…
А радио в изголовье Алисиной тахты уже не играет блюз, концерт кончился, и диктор на незнакомом языке, похоже на эстонском, читает, должно быть, известия. Скорее всего это таллинская станция, и Алиса отрывает глаза от книги и вспоминает то же самое, что Марианна, — она вспоминает, что последнее письмо от Петера было из Таллина и что с тех пор прошли долгие месяцы. До того долгие, что весну успело сменить лето, а за летом настала осень, и времени с тех пор утекло столько, что перманент уже почти совсем развился и на полу в тех местах, где больше всего ходят, сквозь коричневую краску вновь проглядывает белизна досок. Так думает Алиса, но придумать тут все равно ничего не придумаешь, и она, раз ни слова не понимает по-эстонски, тянется рукой за подушку и выключает радио. Теперь и в ее комнате слышно, как стучится в окно дождик и время от времени что-то бренчит и звякает, точно колокол, но Алиса представить себе не может, что там такое звенит и брякает. Оторвалось что-то и со звоном качается на ветру и бьется? Может, антенна, может, электропровод? Но антенну она еще позавчера прибила. И если б та дергалась, приемник хрипел бы или хотя бы потрескивал, но музыка звучала ровно и ясно. А если бы колотился провод, то мигала бы лампа, но свет горит ярко и спокойно. Так что это ни то ни другое, и пока она слушает, кажется… да, стихает и этот звук. И стоит ли вообще ломать себе голову над какими-то шумами, ведь осенний вечер в дождливую пору всегда полон всяких стуков и шорохов, хруста и шепота, треска и барабанной дроби. Но, слыша, как дождевые капли шарят по стеклу, Алиса невольно вспоминает, что крыша в стыке между двумя шиферными плитками стала сочиться и через какое-то время белый, только весной побеленный потолок протечет рыжим безобразным пятном, оно расплывется прямо над новой тахтой, как грозовая туча, и когда-нибудь в сильный дождь туча, того и гляди, прохудится, закаплет. Но что с этой проклятой щелью делать, как быть — натолкать туда замазки или паклей законопатить, — насчет этого голова у Алисы варит плохо, потому что мужское это дело, а не женское. И она думает — так-то оно так, а все же надо намотать себе на ус, что крыша не в порядке, и завтра же не забыть подняться на чердак и подставить под эту дырку таз, пока сыростью не напитался потолок. Если собраться с духом, можно бы залезть и сегодня, сейчас, хотя темнотища там такая, что сам черт сломает себе шею…
А ну ее, крышу! Все тело Алисы охватила сладкая истома, леность и расслабленность, хочется только поваляться, понежиться, почитать — про что-нибудь красивое, чего нет ни в Купенах, ни во всем Мургале; ни малейшего желания нету снимать халат… влезать в джинсы, зажигать фонарь и лазить впотьмах по сырому чердаку. Будет день и завтра, за одну ночь ничего не стрясется. Что же может случиться за одну ночь? Решительно ничего, во всяком случае ничего страшного и непоправимого, и Алиса вновь листает книгу, и глаза ее вновь скользят по буквам, строчкам и абзацам и пока безуспешно ищут место, где вчера чтение оборвалось: тяжелые веки стали слипаться, рука сама собой потянулась, сунула книгу между стеной и подушкой, а шума падения слух уже не уловил.
Алиса читает:
«Она шла мне навстречу, и я видел только ее прекрасное лицо, длинные атласные волосы и дивную фигуру: стройные ноги, тонкую талию и высокую грудь, еще настолько упругую, что она могла бы ходить без бюстгальтера и, возможно, действительно ходила. Я поймал себя на мысли, что мне хочется проверить, так ли это. В своем коротком, с глубоким вырезом, светло-жемчужном платье она выглядела экзотическим цветком или заморской птицей. Как нежная лилия, как хрупкая гербера, как ароматная орхидея — или розовый фламинго».
«Фламинго? — думает Алиса. — Это, наверно, та удивительная южная птица с розовыми крыльями, про которую мне рассказывал Петер, — тянется ее мысль дальше, и книга опять соскальзывает на одеяло. — Фла-мин-го…» — повторяет она это имя не то цветка, не то птицы, потому что и сам фламинго, как сказал Петер, не то цветок, не то птица, живой свет, как выразился он, едва раскрывшейся розы, с которым не могут сравниться даже самые красивые клумбы, и когда стаи фламинго стоят в воде, кажется, будто вода полна розовых листьев, и когда они в поисках рыбы бродят по мелководью, то наклоняются так низко, что утопляют клюв до самых глаз, а вечерами они так закручивают и заплетают свои шеи, что чудится, будто и впрямь завязывают их в узлы, а голову откидывают назад, на спину и прячут под боковые перья крыльев и стоят на одной ноге, вытянув другую вбок или назад, и так спят, — ходят как балерины и спят как факиры, рассказывал Петер, да, а когда приближается косяк летящих фламинго, кажется, будто слышен дальний раскат грома…
Алиса вздрагивает — книга, соскользнув с одеяла, падает на пол и шлепается столь неожиданно, среди полной тишины — с таким шумом и шелестом, что как тут не встрепенуться. И мысль обрывается, воспоминания развеиваются, и мнится — это с гулом, похожим на дальний раскат грома, унеслись фламинго, эти летающие клумбы, эти сказочные существа, нечто среднее между цветком и птицей, как говорил Петер, видевший их своими глазами. Довелось бы Алисе увидеть фламинго, тогда уж ей, наверно, ничего больше в жизни не надо. А так ли это? Может быть, наоборот? Может, она заразилась бы тоской Петера, его тревогой, и завтра на ферме тщетно бы ждали Алису, и стояла бы порожней машина, которая должна везти беконов на бойню, и шофер бы крыл трехэтажным матом, и свиньи визжали бы некормленые, обыкновенные хрюшки подняли бы такой гвалт, что хоть уши затыкай, рядовые подсвинки — нежно-розовые, как фламинго, если только не вывозятся в грязи по уши. А она бы, Алиса, уехала… Куда? Куда может уехать Алиса? Собралась бы с духом, сложила вещички, доехала до Раудавы и первым же автобусом воротилась назад, в Купены, где за окном весь вечер сеется грибной дождь, как пошел после обеда, зарядил, так и не может перестать и уняться, моросит и крапает, мигает и моргает, слезой бежит по черно-лаковым окнам, развозит в месиво, вражий дух, поля, так что комбайну туда и не сунуться, и людям придется, копая картошку, ползти на коленях вдоль борозды, как паломникам, богомольцам, освежает и оживляет почву в лесу, озорник этакий, чтобы смогли прободать мох бурые лбы грибов…
И снова лязгает, и снова брякает, и вновь звенит. Алиса вслушивается — ну что там такое никак не уймется? Что там сломалось, отодралось, оборвалось и качается в дождь на ветру, и болтается, и мотается, и треплется, виноватя Алису — нет, мол, нет и нет, не такая она хозяйка хутора, не такая хранительница Петерова дома, как надо бы, но ведь у Алисы только две руки и две ноги и одна голова, притом голова бабья, а в деревенском хозяйстве, пусть хоть и малом — одна корова и хрюшка и приусадебный клочок земли, без мужской сметки не обойтись.
А тому звонарю на улице и дела до Алисы нету — знай себе звонит, знай хлопает, не дает заснуть, завтра вставать в четыре, а заснуть не дает…
И то, что на дворе звякает и бренчит, слышит опять и Марианна. По кому там звонят и звонят в этот ненастный вечер — уж не по ней ли, не по Марианне ли? А разве не может быть, если тебе семьдесят четыре года и сердце бьется с перебоями и вот-вот остановится? Может, еще как может. И она лежит с открытыми глазами, ожидая, что будет, но не происходит ничего, только там, на дворе, неуемный тот непоседа не смолкает, не стихает: звонит и звонит стальным языком, звонит и звонит — динь-дон, мешает уснуть, не дает забыться дремой, но это ведь не первая бессонная ночь в жизни Марианны, да что там, какая там первая, может быть, сто первая, может, тысяча первая — кто их знает в точности, кто подсчитывал? У нее самой рождались дети, и коровы телились — и всегда ночью, потому что так, должно быть, ведется, что новая жизнь является на свет после полуночи, с началом нового дня, на рассвете. Ну и всякие хвори и немочи тоже донимают больше по ночам, и даже такая малость, как больной зуб, и тот норовит ночью так взяться, что на стенку лезешь…
Но что правда, то правда — не был Мартин бражником и забулдыгой, не приходилось ей, как женам пьяниц, поджидать муженька до утренней зари, глаз не смыкая. Может быть, за долгие-то годы и бывало что не так, случалось всякое, ведь человек не ангел, но в памяти ничего плохого не осело, нет и нет, одни хорошие воспоминания оставил ее Мартин, и жаль, что не дожил, не дождался дня, когда в его честь Мартином назвали внука. Покойный был бы так-то рад и доволен, ведь он тоже любил Петера — да и можно ли Петера не любить? — хоть и любил совсем на другой лад, чем она, Марианна. Мартин сравнивал Петера и с тем и с другим сыном: ты смотри на повадку на его — в аккурат как у Кристапа, а вот это нравится ему или по вкусу в точности как Эдгару. Мартин искал в Петере то, что в приемном сыне было общего с родными сыновьями, а Марианна — она нет.
Для нее Петер это и Кристап и Эдгар одновременно, человек неделимый сам по себе, которого можно принимать или не принимать, обожать или ненавидеть, но нельзя разъять по частям — дескать, это у него свое, это от Кристапа, а это от Эдгара. Все переплавилось воедино, как воск в свече, и ее пламя освещает и озаряет жизнь Марианны. Ведь что бы такое была ее жизнь, если бы она постоянно чего-то не ждала, на что-то не надеялась? Она бы тлела и дымилась, как старая куча гнили, и едкий чад лез бы в глаза и другим, разве не так? Человеку нужен кто-то, ради кого стоит гореть, чтобы не тлеть и не преть, как в копне мокрое сено… И хотя не Эдгар с Кристапом и не Мартин, ох нет, а этот озорник и пострел, вертопрах и сорвиголова, этот сумасброд и шатун Петер заставил Марианну провести столько ночей без сна, свою жизнь она не променяла бы ни на какую другую, и если бы она снова встала перед выбором, то, заранее зная, ах, зная до точности, сколько горестей и забот, досады и огорчений доставит ей этот разбойник, она все же снова велела бы Мартину запрягать лошадь, чтобы привезти в Купены мальчонку Евы Лукаж.
Так думает Марианна, слушая, как звонит на ветру колокол, и звонит в этот дождливый вечер, может быть, по ней, и сами собой вспоминаются и другие темные ночи, когда она так же лежала с открытыми глазами, боясь и тревожась за Петера, хотя и не всякий раз с ним на самом деле случалось что-то плохое, неладное. Чаще всего — у страха глаза велики — она додумывалась бог весть до чего и забредала в не знай какие непроходимые дебри, а потом оказывалось, что мучилась она и терзала себя понапрасну и совершенно зря, потому что Петер был жив и здоров и ни единой, можно сказать, царапины на нем не было…
Сколько тревог и забот принесло Марианне то письмо, посланное из Башкирии, боже мой, боже мой, хотя было оно жизнерадостное и бодрое, и писано не как обычно, на открытке, а на вырванном из тетради листе в клеточку.
«Любимая мамочка!
Сейчас я работаю на правом берегу реки Кадыш. Строим новую железнодорожную ветку. Рельеф — жуть! Трасса проходит через два горных перевала. Надо навести больше десяти мостов, пробить длинный тоннель!!! Вкалываю со взрывниками. Знаешь, глыбы от скал по воздуху прямо летают, честное слово! Вначале я, когда начинают рвать, прятался за поваленные деревья и отсиживался, как за бруствером. Фррр — и порода столбом кверху! Светопреставление, да и только!!! Хлопай глазами и держись! И радуйся, что кочан еще на плечах и штаны пока сухие. Но я постепенно привыкаю. Место здесь грозовое — гремит и сверкает не меньше трех раз на день. А кругом взрывчатка и детонаторы и прочее такое барахлишко, которому ничего не стоит взорваться. Но мне это теперь до лампочки, потому что привыкнуть, как говорится, можно даже к мозолям!!! У нас тут хороший мастер. Гриценко фамилия, был один раз в Риге, в санатории «Майори», мужик законный. Говорит — он не он будет, если не сделает из меня взрывника первый сорт. У меня есть хватка, и вообще у меня нервы, а не бельевая резинка, как у некоторых, говорит Гриценко. Сам он спец каких поискать. В январе, когда земля была еще мерзлая, он заложил в шурфы до семнадцати зарядов аммонита сразу. А потом трюхал по снегу как заяц и поджигал шнуры один за другим. Уффф!!! Пошло-о! И земля, снег и камни — столбом! Если продержусь здесь до зимы, попробую так и я. У меня уже будет опыт, потому что Гриценко называет меня стажером.
Хотел описать это все и Алисе, но рука отваливается, да и паста в стержне кончилась. Покажи ей мое письмо и передай от меня сердечный привет.
Твой Петер.
P.S. Вместе с этим письмом посылаю тебе 50 руб. Купи себе что-нибудь хорошее и вкусное. Ах да, развожусь с Оксаной!».
После этого письма Марианна просто не находила себе места и заснуть нечего было и думать. Свят-свят, ну куда ж это Петер забрался, чуть не в пекло, в преисподнюю, как на поле боя вылез, где кругом огонь и земля встает дыбом. Марианна предчувствовала — быть беде. И когда она заметила поблизости почтальоншу, развозившую на велосипеде телеграммы, ноги у нее стали ватные, в груди что-то оборвалось и в глазах потемнело. Ничего плохого, однако, тогда не стряслось. И через месяц пришло новое письмо — не письмо, правда, а так, поздравление Алисе с днем рождения, которое тем не менее свидетельствовало, что Петер жив и вполне здоров, он сообщал, что со взрывниками больше не работает, хотя и на том же строительстве дороги, но не у взрывников. И только тогда наконец у Марианны свалился камень с плеч и она успокоилась. Однако в другой раз материнское чутье ее все же не обмануло. Марианну вдруг охватило чувство, что с Петером что-то случилось, она лишилась покоя, ходила потерянная и ничего не могла с собой сделать, только по ночам видела Петера во сне, и он звал на помощь, и она бежала к нему, но ноги у нее заплетались, а Петер все отдалялся, звал тише, она бежала точно в беспамятстве, и сердце билось в груди и в висках, в руках и коленях. Тут Марианна просыпалась, и Петер больше не звал, а она вся дрожала и не могла унять дрожь, так как понимала, что с Петером что-то стряслось; она не знала что, но знала, что беда, и она не ошиблась.
«Горячо любимая мамуся!
Пишу тебе из больницы. Слегка огреб по уху. И очутился здесь. Доктора хотят меня малость заштопать. Не обижайся, что буквы ползут вкривь и вкось и пишу как курица лапой. Не подумай, что у меня испортился характер!!! Просто я карябаю левой рукой, так как правая в гипсе. В остальном все all right!
Целую от души вас обеих с Алисой.
Петер.
P.S. Как только врачи выпустят, сразу же рвану к вам в Купены. Снова потянуло в родные места, черт побери!!!»
Как они сокрушались — господи твоя воля! — над этим письмом! И ужасней всего — на конверте не было обратного адреса, иначе та или другая тут же помчалась бы к Петеру, хотя бы и на край света. Алиса и так и этак вертела в руках почтовый штемпель, и все же не сумела разобрать, откуда письмо отправлено. Не то из Архангельска, не то из Астрахани, а может, поди узнай, и еще откуда. И также сколько думали-гадали, что надо понимать в письме буквально и что нет. Насчет «заштопать» — значит ли это, что Петеру что-то резали и потом зашивали? И «огреб по уху» — означает ли только то, что он попал в беду и сломал руку, или же действительно что-то случилось с его ухом?
Но когда Петер наконец появился в Мургале — правда, слегка помятый и несвежий, как и водится после долгой дороги, где не то что наутюжиться негде, но и как следует вымыться, — и когда он бодрым шагом свернул просадью к хутору, сверкая, как всегда, белозубой улыбкой, тогда казалось, что все в полном порядке и на теле у него нет ни малейшего изъяна. И только потом, когда Петер снял шапку и сел, Марианна заметила перво-наперво то, что волосы у него стрижены очень коротко и на макушке сильно поредели, так что изрядная плешь светится. А потом она с ужасом увидела еще, что одно ухо у него отличается от другого, левое не такое, как правое, вроде как меньше, вроде как скручено. И Марианна даже застонала невольно, как будто ее саму пронзила острая боль. Алиса же в смятении схватилась за голову, а Петер — он только посмеялся и махнул рукой, заявив, что раны украшают мужчину, а на их расспросы сказал: однажды вечером на темной улице подвалили к нему хулиганы, их четверо, а он один, двоих он сбил с ног, третьему двинул в рожу, а четвертый сзади врезал ему по уху пивной бутылкой, и очухался Петер только в палате, откуда им после и написал.
Но в его словах была далеко не вся правда; в другой уже раз Петер Марианне с глазу на глаз признался: в больницу он попал потому, что его выкинул из лоджии «ее муж». Но и дальше дело шло совсем не так гладко, как он рассказывал. Очухаться-то он очухался, но только дня через три, и не в обыкновенной палате, а в реанимационном центре, где доктора всякими инструментами и приборами, аппаратами и машинами, в полумертвого вдыхали в него жизнь. Потом пришлось таскаться по судам. «Ее муж» заработал срок, а у «нее» будет от Петера ребенок. И когда Марианна, в крайнем замешательстве ото всей этой путаной истории, сказала, что, значит, Петеру придется на «ней» жениться, как же иначе, что ж «ей» теперь делать с грудным младенцем на руках, когда муж в тюрьме, — то Петер, почесав в затылке, ответил, что вряд ли это получится — он же не развелся с прежней Татьяной, а та развода не дает. Что, и «ее» зовут Татьяной? Да, вздохнул Петер, действительно, ее имя тоже Татьяна, ну разве это не «ирония судьбы»?
Так выразился он, глядя на Марианну такими синими и ясными глазами, что Марианна под конец не на шутку вспылила и в сердцах сказала, что Петер, этот бабник и башибузук, вполне заслужил, чтобы его, кобеля такого, как следует отделали и оттузили и что боль, которую он причинил другому, падет в конце концов на него самого, будет рвать ему сердце, потому что жизнь устроена справедливо, и причиненные другому страдания никогда не останутся без отмщения и возмездия. Так сказала ему Марианна, желая только отругать Петера, но со страхом поняла, что у нее вырвались слова чуть ли не проклятия. И Петер смиренно склонил свою светловолосую голову перед Марианной и просил ее: пусть она надает ему, отхлестает как следует, что есть силы, а Марианна видела только, что его затылок уже лысеет, и еще она видела его бедное, увечное ухо, и рука у нее не поднялась причинить Петеру хотя бы малейшую боль, только из глаз у нее градом сыпались слезы. И, вглядевшись, она увидала, что полны слез глаза и у Петера…
И глядя на голову сына, так низко, так покорно склоненную, Марианна растроганно думала, что так, как этот озорник и пострел, никто в жизни, наверно, ее не любил, и сердце ее сжалось от слез Петера, говоривших о том, что он не чувствует себя счастливым: у него есть полная свобода, которой многие так жаждут и алчут, и все-таки, все-таки, все-таки Петер несчастлив.
Он мечтает о чем-то еще. Но о чем? У него есть молодость, здоровье, красота, сила… Ничто не держит его, как путы или вожжи, как привязь или загородка. Как только вздумал — поднялся на крыльях и улетел. Побудет сколько хочет, и уйдет когда захочет — и все равно несчастлив…
Чем он не похож на других? И больше ли ему дано, чем другим, или меньше? Надо ли его ломать, чтобы стал как все? Или беречь надо, щадить, чтобы не стал как все?
Откуда это знать Марианне, старой Марианне, которая его просто любит — горюет и сердится, что он такой, и любит именно такого, какой он есть?..
А Алиса? Хотела бы и она Петера переделать? Чтобы стал как другие — полез бы на крышу, где две шиферные плитки на стыке пропускают воду, прибил и приколотил бы то, что оборвалось, и отодралось, и качается, и болтается на ветру, скрипя и звеня в бурные вечера, когда моросит дождь, помог бы нашинковать для квашенья капусты и нарубил на зиму дров, сводил бы корову к быку и в получку пропустил бы маленькую, но не налил шары, не насосался как клоп, чтобы был такой, как все, а не гонял по всему Союзу, взметая в воздух вихри земли и дробя скалы — которые, того и гляди, самому голову оторвут! — не влюблялся без памяти в женщин и потом бросал их и обманывал и не летел бы на край света, чтобы взглянуть на длинноногих птиц с розовой зарей в крыльях, которые по вечерам, перед тем как уснуть, откидывают голову на спину и узлом завязывают шею не как земные, а, ей-богу, как сказочные существа, которых и приручить нельзя, и есть нельзя, но и забыть нельзя тоже.
Хотела бы этого Алиса?
Она об этом не думает, во всяком случае сейчас Алиса над этим не ломает себе голову, а тянется за упавшей книгой, хотя лучше и разумнее было бы ее оставить, не поднимать и не читать, ведь такие романы не дают уснуть, заставляют ворочаться с боку на бок, а завтра вставать так рано, до свету надо подняться, седлать мопед и мчать в Бривниеки, чтобы без нее там чего-нибудь не напутали, не наломали дров, потому что зоотехник лопух, а заведующая молодая и неопытная, и к отправке беконов Алиса должна быть как штык. Все это так, и тем не менее она наклоняется и рукой шарит книгу, пока не находит, поднимает на постель, открывает и начинает листать. Хоть и не дело это, Алиса снова водит глазами по строчкам, и веки не тяжелеют, не слипаются, и дрожь электрическим током пробегает по жилам и нервам. Она видит себя несказанно прекрасной героиней этой книги, а героиня не спит, она не спит до утра, пьет коньяк «ОС» и потом просит бармена приготовить коктейль с ужасным названием «Кровавая Мери», героиня берет бокал в длинные, тонкие и, как сосульки, прозрачные, пальцы, каких у Алисы никогда не было и никогда не будет, держит сверкающий бокал и медленно, лениво тянет напиток через соломинку, не сводя изумительных глаз с героя, а потом они вдвоем едут на такси в роскошный и чудный особняк на окраине города, чтобы делать то, что делают мужчина с женщиной, когда они вместе пили «ОС» и потом вдобавок коктейль, а потом уехали на такси.
«Тогда она меня поцеловала. Она умела это делать как ни одна женщина. Обвив мою шею руками, она приникла ко мне всем телом. Ее губы, жаркие и влажные, нетерпеливо впились в мои, как пиявки. Ее волосы пьяняще пахли коньяком…
— Дорогой, — сказала она мне. — Ты умеешь это делать превосходно.
— Жизнь научит, девочка, — ответил я, еще крепче прижимая ее к себе.
Она откинула назад голову и смотрела мне в лицо своими загадочными миндалевидными глазами южанки.
— А что такое жизнь, дорогой?
— Это трудно объяснить. Со временем ты все это поймешь.
— Все? — спросила она.
— Все, девочка.
— И мы будем счастливы?
— Очень счастливы».
Алиса вздыхает.
«Какая правдивая книга! — думает она, поднимая от страницы взгляд. — Здесь все как в жизни… почти как в жизни, только гораздо красивей».
Алисе тоже случалось ездить на такси, но никогда чтобы так медленно, без спешки, в свое удовольствие, только слушая шелест шин и жужжанье мотора, скрип тормозов и нежные слова, которые шепчут на ухо — как прекрасной героине.
Алиса ловила такси, когда приходилось мчаться куда-нибудь сломя голову, и чаще всего на поезд, к которому она неслась и летела: ведь стоит только на него опоздать — и в Раудаве не попадешь на мургальский автобус, и тогда хоть пешком топай, если не удастся перехватить попутную машину и добраться хотя бы до поворота. Так что, сидя в такси, Алиса чаще всего вслушивалась не в свои ощущения, настроения или тешила сердце сладкими предчувствиями, а смотрела только на часы и снова на часы и еще на светофоры, которые злостно, коварно зажигали красный глаз как раз в тот миг, когда машина подъезжала к углу, и шофер вынужден был ждать, и она, естественно, тоже. И, чертыхаясь про себя и вслух, она томилась на перекрестке, тогда как секундная стрелка бежала как угорелая, транжиря ее время, и вполголоса стрекотал счетчик, пуская на ветер ее деньги. И когда Алиса в конце концов опрометью влетала в вагон, то от волнений и спешки еле переводила дух и слабо соображала, так что, по крайней мере, до Шкиротавы, а то и до Саласпилса не могла отдышаться и осознать великое счастье, что на поезд она все же не опоздала и топать пешком ей не придется; и бешеные скачки с препятствиями, когда по пути на вокзал она то и дело застревала на перекрестках, она ощущала не как наслаждение, а скорее как кошмар, вот ей-богу… Это было похоже на безумную карусель или чертово колесо, от которого кружится голова и сосет под ложечкой…
И лишь один-единственный раз Алиса ездила на такси без особой спешки, не боясь никуда опоздать, но и тот раз остался в памяти не как удовольствие, совсем нет. Автобус сломался и не пошел, и она в Раудаве взяла такси, чуть не со слезами умолила шофера — будь человеком, подбрось до Мургале: у нее были тяжелые сумки, а сверху лепил мокрый снег. И водитель, поартачившись и покапризничав, почесав в затылке и погримасничав, сказал наконец:
— Ладно, садись! Только два рубля накинешь, потому как обратно у меня пассажира не будет. Очень мне надо ради тебя выкладывать из своего кармана!
Снежная слякоть, валившая с неба как простокваша, тяжесть узлов, которая камнем оттягивала руки, все это до того довело Алису, что она готова была не только что приплатить два рубля и позволить на себя бурчать, но чуть ли не расцеловать готова была шофера в щетинистую щеку за такую его порядочность и чуткость; однако потом, в пути, когда он всю дорогу трясся как цыплячья гузка, поскольку снег залеплял ветровое стекло, когда он дергался как овечий хвост, так как на мокром асфальте колеса «Волги» заносило будто на льду, когда он фырчал, как забродившая каша, чуть ли не Алису виня во всех своих бедах и невзгодах, которые, видишь ли, на него, бедняжку, свалились, а она в то же время видела, с какой ненасытной жадностью счетчик как индюк, как прорва, пожирал ее потом и кровью заработанные денежки, Алиса просто рассвирепела. И когда она подумала, что ни за что ни про что придется выкинуть вдобавок два рубля, ей с трудом удалось совладать с собой, чтобы не остановить машину, потому что в сто раз лучше идти пешком, чем ехать с этим слюнтяем, а не мужчиной, который всю дорогу квохтал, как старая клуша… Алиса не жадина и не скряга, зачем зря говорить, а только она знает цену рублям, заработанным своими руками, и видеть не может, когда норовят поживиться за чужой счет.
Но не меньше Алиса не любит ездить и за так, на дармовщину — тогда непонятно, как себя вести и держать, что говорить, потому что в чужой машине она чувствует себя как в чужой коже, которая всегда либо велика, либо мала и никогда не бывает впору. Если еще на каком-нибудь газике, «МАЗе» или «КрАЗе» — куда ни шло, все же, так сказать, казенный транспорт, а вот в частной машине сидя, она не знает ни куда деть руки, ни как держать ноги, потому что «Волга» Мундециемов для нее слишком шикарна, там все блестит и сверкает, так что боязно что-нибудь задеть, пальцем тронуть, к тому же Ингус нарочно так разгоняется, что ветер в ушах свищет и тошнота подкатывает к горлу, а Каспарсон опять же до того умный и такой до невозможности красивый и статный, ей-богу, как киноартист, как Бруно Оя или Гунар Цилинский, а может, и еще красивей, что Алиса даже взглянуть в ту сторону, где сидит Аскольд Каспарсон, стесняется, и ничего путного сказать она не может, не умеет, молчит как рыба, и Каспарсон, наверное, считает ее глупой гусыней, и больше ничего.
О господи, куда ее увело! Как задумалась на том месте, где героиня с героем уезжают на такси в особняк среди парка пить дальше «ОС» и делать то, что полагается, когда вдвоем пьют хороший коньяк в тихом и роскошном особняке, где никто не мешает, да, как остановилась на том месте, так повело ее мысли, как сказал бы Петер, и в самом деле «по касательной». Ну к чему ей сейчас вспоминать, как и когда она ездила на такси или в машине Каспарсона, какая тут связь с этим темным осенним вечером, когда на дворе моросит и мигает дождь, гноя картошку и проращивая грибы? Никакой связи, действительно! А вообще говоря, тут нет никакой связи даже с этой чудесной книжкой, которую Алисина рука листает и листает, все не находя, не отыскав еще нужную страницу, между тем как глаза сами собой, как нарочно, натыкаются и застревают на таких строчках, которые лучше было бы, только скользнув взглядом, пропустить, не задерживаться зря и не мешкать, раз уж завтра вставать чуть свет и сломя голову мчаться в Бривниеки… Разумнее было бы… Но нет, Алисе вовсе не хочется быть слишком разумной, если ради этого надо жертвовать всем, даже нельзя почитать роман, который тебе по душе. Далеко ли она уехала на своей рассудительности и трезвости? На колхозной доске Почета красуется — это да, и улыбается как полная луна. А в остальном? В остальном, как ни крути, осталась она в девках. Никакой особой красоты в ней и в восемнадцать лет не было, разве что стройное и гибкое тело, которое помаленьку рыхлеет и тяжелеет, так что через десяток лет, того и гляди, станет грузным и неуклюжим, как у раздоенной коровы. И где же тут ум, где голова — ждать Петера и надеяться на Петера, отлично зная, что он насовсем к ней никогда не вернется. Не такая уж она круглая дура, чтобы этого не понять, хотя не раз ее называли овцой и гусыней.
Товарки на ферме и соседки пытались и пробовали ее переделать, чтобы стала как другие, как все, учили и подзуживали — плюнь ты на Петера, покажи ему фигу, оставь его с носом, не будь ты половой тряпкой, об которую намотавшийся и нашатавшийся не знай где мужик может обтереть пыльные башмаки, не ходи ты как сонная, а лови счастье, пока можно! Лови счастье? Как будто бы счастье — муха, которую можно поймать, зажать в горсти и оборвать крылышки, чтобы не улетела.
Все равно, счастье ли это Алисино или беда, но для нее существует только Петер, один Петер. И пусть из-за этого она осталась вековухой, и пусть из-за этого она сейчас не может уснуть, не может никак, ворочается и крутится, как на еловых ветках, и даже не в силах задремать, — другой судьбы, судьбы без Петера, хоть бы она сто раз была овца и гусыня, ей не нужно.
Так думает Алиса, опять невольно уходя мыслью от книги, где Она и Он вместе и где им обоим так хорошо, как может быть хорошо женщине с мужчиной, которых не связывают никакие узы и путы… как ее с Петером.
Да что она! Нашла с кем сравнивать, дуреха! Себя — с прекрасной героиней, у которой все так божественно красиво: грудь и живот, бедра и ноги, волосы и глаза, белье и платья…
«Она долго стояла под душем, потом натерла свою нежную розоватую кожу ароматным польским лосьоном. Затем надела итальянское белье-паутинку и, накинув на плечи легкий, нежно-алый французский пеньюар, остановилась перед зеркалом».
Стоп, а что такое — пеньюар? Слово как будто знакомое, только…
И вдруг Алиса догадывается, что пеньюар — да ведь это чудная такая комбинация не комбинация, халат не халат, который насквозь просвечивает и у которого весь перед нараспашку. Ну да! Ей же точно такой — светло-алый — пеньюар подарил Петер, когда возвратился из Африки: этого пустомелю Тьера, дорогие французские духи и еще пеньюар. Сперва она даже не сообразила, как его носят — надела задом наперед. И Петер смеялся чуть не до упаду. Для его удовольствия она надела снова, теперь уже правильно, зато стало видно, что у нее нет достойного белья — розовая кружевная кисея просто требовала под низ капрона или даже нейлона, Алисина же рубашка и трусы выглядели слишком грубыми и простецкими, и это несоответствие она, хоть и неискушенная по части моды, зорким женским глазом тут же уловила и, женщина есть женщина, сильно сконфузилась, чувствуя, что она смешна и пеньюар ей пристал как корове седло. Это и был первый и единственный раз, когда она вообще надевала светло-розовый пеньюар, и какое-то время спустя, когда с деньгами было туговато, Алиса отвезла его в Раудаву, в комиссионку, Тьера подарила Войцеховскому, а пеньюар продала и себе оставила только флакончик духов с надписью на иностранном языке, где из всего можно было понять одно-единственное слово, зато такое, что бабы на ферме только охали и ахали, и стонали как от боли — на этикетке черным по белому было напечатано волшебное слово «Paris».
Свинарки в один голос заявили, что Петер на этот малый пузырек ухлопал бешеные деньги, ведь французские духи ценятся на вес золота. Ни одной из них ни муж, ни хахаль ни при людях, ни украдкой парижских духов никогда не дарил, как Петер своей Алисе, ни одной из них не доводилось их даже понюхать, ведь в магазине такая бутылочка стоит пятьдесят, а то и все шестьдесят рублей, а на эти деньги можно купить приличные зимние ботинки себе или кому-то из детей пальто; никто теперь не называл Алису овцой или гусыней и не подначивал показать Петеру дулю и дать ему от ворот поворот, совсем напротив, все хаяли своих мужей — у них только винище да хоккей на уме, телевизор да бензин, а не благоверные, которых ведь положено любить и баловать, и все как одна хотели и просили побрызгать хоть чуток на них из божественного флакона, а то помрут они и не узнают, что за штука французские духи, а чем же они хуже других женщин — здоровые, работящие бабы с фермы, которые трудятся в поте лица от темна до темна и еще успевают управляться с хозяйством и своих мужичков обиходить тоже. И Алиса поняла — это действительно ни в какие ворота, если она будет сидеть на своих французских духах как собака на сене, тогда как товарки ее будут с тоски умирать по волшебному аромату.
Алиса выдернула стеклянную пробку и, сияя от счастья и пьянея от терпкой горечи, распространившейся кругом, поплескала из флакончика свинаркам на грудь их черных халатов, в то время как они стояли в кружок не дыша, с торжественными лицами. И только ограниченный и слишком сухой, практический ум мужчины мог назвать это чепухой на постном масле, всякая же настоящая женщина поняла бы Алису и сказала: да, конечно, ради таких минут стоит жить, и такие мужчины, как Петер, на земле действительно не валяются — так они тогда и сказали, колхозные свинарки.
И только один человек в тот день омрачил полное блаженство бабьего царства в Бривниеках, и уж само собой — человек мужского пола. Приехал Феликс Войцеховский и, явившись, стал дергать носом и морщиться, удивляясь, чем это у них на ферме так разит — не то затхлым силосом, не то уборной. И свинарки, хотя вообще-то редкий день пройдет, чтобы они не погрызлись и не поцапались, на удивление дружно, всем миром напали на Войцеховского, крича наперебой, что он не иначе как болеет ринитом или сапом: какой же это, прости господи, затхлый силос или, хуже того, уборная, если ему выпало счастье здесь, в Бривниеках, лично, своим носом понюхать самые настоящие французские духи, которые вот Алисе привез Петер. Однако Войцеховский скривился еще больше и, как обычно, в изысканных и малопонятных выражениях возмущенно изрек что-то насчет «цивилизованного варварства» и «потрясающего гибрида свинства с парфюмерией» и вдобавок пробубнил что-то по-французски, ну, одним словом, вконец испортил всем настроение и разозлил всех не на шутку, хотя Алису, наверное, меньше других, потому что она никогда не забывала, что как бы то ни было, а Войцеховский — отец Петера. Войцеховский же со своей стороны всегда выделял ее среди остальных, и наверняка уж не только потому, что Алиса на ферме лучшая свинарка…
Во флаконе от того раза осталась большая половина, и стоит он в шкафу за бельем, потому что Алиса духи бережет, чтобы надушиться, когда приедет Петер. Сперва она, капнув лилового раствора марганцовки, вымоется свежей водой из колодца, так как холодная лучше снимает «запах фермы», чем горячая. Потом наденет зеленое кримпленовое платье… Нет, сперва она надушится. И не так, без понятия, как в тот раз на ферме, не станет лить на одежду, а вотрет каплю в сгиб левой руки и каплю в сгиб правой руки, каплю за левое ухо и каплю за правое ухо: Феликс Войцеховский вычитал где-то, что так пользуются духами парижанки…
И может быть, это случайное совпадение, что и Марианна, старая Марианна как раз в эту минуту думает о Войцеховском, а может быть, это совсем не случайно, а вполне закономерно, ведь когда вспоминаешь Петера, невозможно, чтобы хочешь не хочешь, а на память не пришел и Войцеховский, хотя Марианне никак, ну никак не хотелось о нем вспоминать и думать, наоборот, ей хотелось о нем забыть, выбросить из головы все, что связано с Войцеховским, однако стереть из памяти былое не в ее власти. Но если все же у Марианны за ее долгую жизнь и бывали минуты, когда хотелось, чтобы какого-то человека на свете не было, так это Войцеховского, Феликса Войцеховского, и только его, хотя она, упаси бог, никогда не желала ему смерти или даже зла, больше того, не чувствовала к нему ни вражды, ни ненависти, ведь упрекнуть Войцеховского ей не в чем — его вина лишь в том, что он живет на земле, да еще тут, у нее на глазах, как вечное напоминание…
О чем?
И все же присутствие Войцеховского возмущало покой Марианны, не давая осесть мути воспоминаний. И близость Войцеховского точила ей душу, как точит мебель жучок. И она прямо чахла от ревности, прямо сохла от вечного страха, что все-таки, все-таки, все-таки когда-нибудь Войцеховский у нее Петера отнимет. И бывало, она до того истомится этими мыслями и страхами, что ни есть днем не может, ни спать ночью, точно так же, как сейчас, хотя дождь тогда и не моросил в окно, и ничто на дворе не звенело и не звонило, прогоняя зыбкий сон, хотя сердце не стучало с перебоями, точно спотыкаясь, точно останавливаясь, а рядом, в темноте и тишине, ровно дышал Мартин. Но даже то, что Мартин здесь, что он рядом, не давало надежды и уверенности, что ей не придется расстаться с Петером. Она уже потеряла Кристапа и Эдгара, терять еще было выше ее сил, потому что запас жизнестойкости каждого человека имеет свою меру, как посуда — емкость, и Марианна свою меру знала, яснее ясного понимая, что без Петера жизни ей нет и расставание с Петером для нее равносильно смерти, а может быть, и хуже смерти. И она тихонько перелезала через Мартина и в ночной темноте кралась босая в другую комнату, чтобы еще раз увериться, что Петер тут, никуда не пропал и что дурные предчувствия — только выдумки и бред. Она смотрела и слушала, как Петер спит, хотя в темноте видно почти ничего не было и слышно того меньше, потому что дети во сне очень и очень тихие, и так же спал Петер — словно не дыша. Она притрагивалась к его волосам и чувствовала, какие они мягкие и волнистые, теплые и живые, и тепло жизни кольцом лучей обнимало и Марианну.
А сколько — боже мой, боже мой! — было страху, когда Марианна однажды ночью нашла кровать Петера пустой и увидела, что мальчик вовсе и не ложился, что он сбежал, да, так и есть, удрал, да еще с голой головой и без пальто — одежда висела на крючке у дверей, висела там как укор ее и Мартина бездушию и жестокости, потому что Мартин грозился мальчишку взгреть и выдрать, а Марианна не сумела как должно Петера защитить, так как ей не хотелось ругаться с мужем и вздорить. Марианна думала, что за ночь у ее мужчин пройдет — у одного гнев и злость, а у другого выветрится кровная обида — и небо вновь, как после грозы, прояснится; однако ночью Петер удрал с хутора, как из какой-нибудь темницы, не сказав ни словечка и даже не взяв пальто и шапку, как будто и одежда, как все здесь в Купенах, была зачумленная и заразная…
Ах нет, спохватилась Марианна, не совсем так дело было. То, что Петер, возможно, сбежал, пришло в голову не ей, а Мартину. Она с ее бабьим умом сразу вообразила самое худшее.
А Петер был у Войцеховского.
И Марианна с Мартином долго судили и рядили о том, что теперь уж Войцеховский, наверное, Петера заберет и не отдаст, думали и гадали, кому из них — Мартину или Марианне — идти на дом к Войцеховскому разговаривать, и что же ему такое сказать, и как все объяснить. Но, по правде говоря, думал и гадал один Мартин, так как Марианна только плакала горькими слезами, словно они тут кого отпевали и хоронили. И Мартин, покряхтев еще немного и повздыхав, тяжело и медленно поднялся, говоря — так и быть, на эту голгофу пойдет он… Так сказал покойный, она и по сей день это ясно помнит, хотя верующим никогда не был. И пошел, и привел Петера. А Марианна так никогда и не узнала, какой промеж них, двух мужчин, был разговор. И на все вопросы и расспросы Мартин только страшно морщился, как от зубной боли, и, махнув рукой, говорил — лучше бы она не спрашивала, тошно ему все это вновь ворошить и перевеивать, хотя оно и позади…
Помимо этого случая, Петер удирал из Купенов еще два раза, но один раз был пойман тут же, в конце прогона, а другой раз, голодный и продрогший, явился сам, так как Войцеховский уехал в Ригу, на какие-то курсы или семинары, квартира его была на замке, а в ветеринарном участке хозяйничала фельдшерица. Петер попросил у нее есть, но она его привечать не стала, а как следует пробрала, отчитала и отправила домой — нечего болтаться и шататься. Вернулся.
Но об этом происшествии не иначе как от той же фельдшерицы узнал Войцеховский и, приехав в Купены, спросил, как они — Мартин с Марианной — смотрят на такое предложение, чтобы один месяц, пока у него отпуск, Петер бы пожил у него. Марианна скрепя сердце согласилась. Язык у нее не повернулся отказать Войцеховскому. Два дня металась она по опустевшему дому, не находя себе места, а на третий день утром видит, как прогоном размашисто шагает к дому Петер. Погостить пришел? Нет, насовсем. Как же так? Убежал… тут лучше.
Возможно, ей следовало поругать Петера и наладить обратно, но у каждого человека есть предел возможностей, перешагнуть который он не в состоянии, и перешагнуть его не смогла и Марианна. Она только обняла Петера, прижала к себе, слушая, как бьется его сердце. И не было в мире такой силы, какая могла бы отнять у нее мальчика. Разве что отрубили бы ей руки, державшие его в объятиях, разве что тогда…
Ну а Петер? Разве она видела от него хотя бы каплю зла? Нет, никогда. Баловство и озорство, всякие фокусы — это да, а плохого нет. Разве для того увел он в школу бычка, чтобы помучить? Совсем нет. Или катался с горы на противне нарочно, чтобы изорвать штаны? Вовсе нет. И даже тогда, когда он связал друг с другом барашков и меньший удавился, и Мартин посулил Петера отлупцевать и выдрать, и тот впервые сбежал к Войцеховскому, — даже тогда в этих проказах не было ни жестокости, ни подлости, ни злобы. «Я хотел только, чтобы они пободались, — сказал потом про барашков Петер. — Я не хотел, чтобы они умерли…»
Но все это было давно, так давно — одни только мысли об этом еще кружатся, как желтые листья в омуте, и дальние отблески памяти вспыхивают зарницами, и прошлое рокочет, как уходящий гром.
И дождь идет, грибной дождь. Не сеется больше и не моросит, не крапает и не мигает, а берется по-настоящему. Как ветер подымется, как войдет в силу, как надует паруса, того и гляди как бы не хлынул ливень, как бы не зарядили дожди, а потом не настала распутица, мокрядь, без чего не пройдет ни одна осень и без чего человек бы не понял, не оценил чистую, тихую белизну зимы. Слышь, не поднялся ли ветер, не входит ли в силу, не надул ли уже паруса?..
Нет, это все тот же колокол с кладбищенского холма — льется, доносится из-за речки, из-за черемухи: динь-дон, динь-дон, звонит… Чего звонит? По ком звонит?
Сердце Марианны больно вздрагивает, будто споткнувшись о невидимое препятствие. Рот хватает воздух, руки ловят край одеяла…
— Алиса! — сухим венком шелестит крик.
Не отвечает. Не отзывается.
Да и чем тут может помочь Алиса? Алиса, девочка, когда и любимый Петер уж видится Марианне только как бледное видение.
…Она держит Петера на коленях и в ладошке у него «варит кашу».
— Сорока-ворона кашку варила, детей кормила, — читает она как заговор. — Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала… А мизинчику не дала: ты в лес не ходил, ты дров не рубил…
И вдруг видит, что в глазах у Петера стоят слезы.
— Что ты плачешь, детка?
— Мне жалко мизинчика…
А потом уже нет больше и Петера, и вокруг трепещет только тишина, в которой выплывает и странно качается другой лик — худое и серое лицо изможденного лагерника Феликса Войцеховского, полное страданий и немой боли, — колеблется и колышется, постепенно стираясь, понемногу исчезая, и тишину оглашает крик ребенка: не хочу… не хочу… не хочу… И старое сердце Марианны Купен в последний раз сжимается — от жгучей и острой жалости — и останавливается.
И только на дворе слышится; динь-дон, динь-дон, звонят по ком-то, по ком-то звонят…
«Ну честное слово, просто терпения нету», — думает Алиса, потому что этому бряцанью в самом деле нет никакого конца, наоборот, оно еще нарастает, усиливается, становится совсем нестерпимым и невозможным.
Неужто и правда придется вылезать из теплого гнезда и тащиться во двор, на дождь, чтобы только унять эту чертову вредину, одеваться и обуваться, натягивать куртку, повязывать платок и нырять в темноту и в дождь? Неужто придется все же — черт бы его побрал! — чтобы только… Слышь, не стихло ли? Могло бы уж стихнуть и угомониться — дать людям заснуть, ей-богу! Так думает Алиса, хотя виною тут не столько этот вредный звонарь, сколько нечто совсем другое — в руке у нее та самая книга, которая ей все равно что пьянице бутылка водки и, так же как бутылка водки, невинная с виду и тихая, таит в себе сладкий яд. Алиса прекрасно знает, что именно так оно и есть, и вместе с тем как только этот балабол, этот звонарь, хоть на секунду замолкнет, чтобы перевести дух, и уймется, ее глаза снова уткнутся в роман и душа вновь погрузится в красивую жизнь героя и героини, как муха в мед.
Так и есть. Едва лишь в окно опять начинают стучать и барабанить одни только капли дождя, едва лишь в комнату начинает литься один только шум и шелест, готово дело — Алисин нос уже опять в книге.
«…И только работа да темные ночи, когда ворочаешься одна с боку на бок, думаешь и вспоминаешь, потому что никак не можешь уснуть. А время идет, годы уходят безвозвратно. Еще десяток лет, и на этом красивом теле появятся первые складки. Потом еще и еще. А что останется? Одно сожаление о растраченном времени, упущенных возможностях и в одиночестве проведенных ночах».
И вдруг ее охватывает разочарование.
«Каких только глупостей не наплетут в этих романах, — думает Алиса, чувствуя, что нижнюю челюсть сводит судорогой и подступает зевота. — Началось так красиво, а потом автор что-то нагородил и напутал, — рассуждает она, так как ей очень не нравится, что герой бросает несравненную героиню. — Все шло так хорошо и гладко, все было так волшебно красиво, все было так, как и должно быть, но писатели не могут утерпеть, не могут без того, чтобы под конец не напортачить, и правы те, кто в газетах пишет, что наши романы — одна жвачка…»
Захлопнув книгу, Алиса сует ее за подушку. К утру та, конечно, опять завалится в щель между тахтой и стеной, и вечером опять придется ее доставать — отодвигать тяжелую двуспальную махину, чтобы просунуть руку, но сейчас Алисе кажется это не так важно. Придет время — и отодвинет, отсунет, ведь силы ей не занимать.
Пора, пора ложиться. И вообще, где у нее голова — канителиться так, проводить время! Если не выспится как положено, какая завтра из нее работница — как вареная будет, как рохля.
Но слышь? Опять, что ли, там бренчит и звякает? Так и есть!
И наконец до Алисы доходит, что это на дворе звенит. Ах ты, синий пустобрех! Будешь тут до рассвета греметь своей крышкой, не давать людям покоя! Нечего делать, придется все же слезать с нагретой тахты и идти во двор, угомонить этого звонаря, придется снова одеваться и обуваться, натягивать куртку и повязывать платок, как ни крутись, ничего другого не придумаешь, надо выходить в темень, где дождь, да уж не капает и не кропит, а льет и хлещет во всю мочь, с хлюпаньем и чавканьем, раскиселивая землю. И Алиса, подняв воротник, рысцой бежит через раскисший двор к молодому кленку, где на кол опрокинут синий молочный бидон с привязанной к нему крышкой, которая болтается и качается на ветру, как язык колокола, трезвоня на весь хутор. Алиса снимает бидон с кола, закрывает крышкой, и ничто больше не тревожит ночного покоя, только льет ливмя дождь и бело пузырится в лужах, и поддает, и чешет, и лупит, да и что бы это была за осень — без дождя, откуда бы тогда взяться грибам и как бы душа человека сумела постичь сверкающе-белую тишь зимы? Пропади он пропадом, этот дождь, но и без него никак нельзя, ни без нудного, обложного, ни без ливня, что тут сделаешь…
И Алиса заносит бидон в кухню, там же оставляет намокшую одежду и резиновые сапоги — чего ж зря следить, марать в комнате пол. Потом стелет постель и влезает в ночную рубашку, уж конечно, не в нежно-розовый французский пеньюар, который давным-давно загнала в комиссионке, когда в Купенах сдохла от лейкоза корова и надо было покупать новую, и не в прозрачное итальянское белье, легкое и тонкое, как нейлоновая паутинка, какого у Алисы никогда не было и, наверно, уже не будет, если Петеру вдруг опять не взбредет на ум, не приспичит сорить деньгами и делать подарки. Она надевает фланелевую, цветами по зеленому полю, ночную рубашку с завязками под шеей, мягкую, теплую, удобную и, как пишут в «Здоровье», также гигиеничную, ведь хлопчатая ткань хорошо впитывает пот и не трещит, не бьет искрами, как вся эта воздушная и дорогая синтетика, в которой спать вредно — сон от нее дырявый и нервный.
Да так оно, видно, и есть, как говорится в «Здоровье», ведь во фланелевой рубашке Алиса засыпает сразу и крепко, и сны видит хорошие, потому что бумазея не трещит и не бьет искрой, — во сне она вместе с Петером!
…и над их головами сияющая лазурь. Казалось бы, вверху должно быть солнце, однако солнца нет, светило как бы затянуто небесно-голубым шелком, сквозь который сочится и пробивается, струится и течет сверкающей рекою свет. Петер еще совсем молодой, очень молоденькая и она. У Петера еще не светится сквозь зачес кожа и светлые кудри шапкой падают на лоб, как мыльная пена. И у нее тело легкое и гибкое, как стебель водяной лилии. На руках у нее сверток, увязанный не то в шерстяную шаль, не то в скатерть, и Петер спрашивает, что там такое — не цветы ли? И она, смеясь над его недогадливостью, откидывает угол покрывала, и на них обоих смотрят живые синие глаза ребенка. Но тут, все нарастая в окрестной тишине, усиливается странный шум — не то гул, не то шелест, не то дальний рокот. Как будто надвигается гром, хотя вокруг, сколько хватает глаз, ни облачка, ни тучки, и только льется и слепит голубое сияние. И Петер говорит: сейчас она увидит, и она спрашивает: а что, что она увидит? И Петер, удивляясь ее недогадливости, говорит: стаю фламинго, что же еще, ведь сюда летят нежно-розовые фламинго, эти живые розарии, эти сказочные существа — нечто среднее между птицами и цветами, которые ходят как балерины, спят как факиры и летят как дальняя гроза. И она с замирающим сердцем и слезами счастья смотрит на горизонт, где вот-вот должен вынырнуть косяк фламинго, и этот миг — последний миг перед появлением, когда воздух уже полон гулом ожидания, — может быть, еще сказочней самого появления.
Но то, что Алисе кажется во сне взмахами крыльев фламинго, на самом деле — шум дождя над Мургале. Он льет как из ведра, и земля лопается, гремя и треща сквозь дробь капель, как по весне лед, глухо звоня, как в марте Даугава, и мох динамитом взрывают грибы и выстреливают из земли ракетами…
…А в удивительном парке, где я брожу сейчас среди бледных фигур людей, размеренно качающихся взад и вперед, взад и вперед, в этом тихом царстве, по которому я блуждаю мимо серых теней, колыхающихся с жужжаньем и шелестом, с каким шелестят, облетая, листья и жужжит цветочный пух, — здесь не осень и не зима, не весна и не лето, здесь нет ни грибного дождя и трескучих морозов, ни пробуждения весны и знойного июля, здесь нет времен года, дня или ночи, так как само время утратило ценность, значение и даже смысл. Я хожу под голыми деревьями среди цветущих роз, и мои ноги не оставляют следов на снегу, которым все здесь засыпано, как после метели. И никто — ни зверек, ни санки не оставили тут ни следа, ни колеи, и с белых крон деревьев не стряхнул снега ни ветер, ни прыгучая белка, ни севший на кончик ветки дрозд. Птицы не вьют здесь гнезд и не кладут белых и пестрых яиц, и мыши в норах не приносят голых и теплых мышат. Все тут всецело принадлежит прошлому, и нет здесь былого близкого и далекого, есть только прошлое как таковое, былое вообще, в котором судьбы смешались, как воды сбегающих в реку ручьев. Ни достаток и должность, ни возраст и даже пол здесь не играют никакой роли. Часы стоят, и купить за деньги тут ничего нельзя.
Я молча гляжу на людей, которые некогда были моими соседями в Мургале и знакомыми, и они тоже на меня смотрят, хотя меня и не видят. Я знаю о них все, но стыда от этого они не испытывают, так же как я волнения. Мое знание не дает мне ни радости, ни удовлетворения, оно ни на что не годно, как старая, давно изъятая из обращения монета. Я опоздала — и никому больше не могу быть полезна, да никому и не нужно моей помощи или жалости здесь, в этом царстве, где нельзя ошибиться, так же как и ошибку исправить.
Раньше я могла бы кого-то из этих людей предупредить и уберечь, рассеять иное заблуждение и отвести беду. Но есть ли еще во мне достаточно желания понять других? И достаточно ли отчетливо я сознаю, что убить может не только пуля или нож, колесо или вирус, инфаркт или петля, но также совесть и тоска, прошлое и растерянность, многолетняя одержимость и секундная слабость? И разве так же, как сейчас мимо этих белесых безмолвных фигур, я не проходила молча мимо чужих страданий, занятая решением глобальных проблем, тогда как со мною рядом сгорали чудеснейшие галактики, шедевры природы — людские души?..
Велдзе, например, — убийца она или жертва? И если жертва, то кто ее убил? Ингус? Туман? Или ожившее прошлое? И кто виноват в смерти Марианны? Порок сердца? Петер? Войцеховский? Или мой синий бидон? И кто в ответе за гибель Вилиса Перкона? Ритма? Автобусный парк? Случайность? Или старая контузия? Тот мир, откуда все мы сюда попали одним и тем же путем — пройдя под величавый свод арки, мир, где царят противоречия и развитие, однозначного ответа на эти вопросы не дает. С другой же стороны, в этом парке теней, где наши фигуры с жужжаньем и шелестом колышутся подобно сухому тростнику в бесцельном однообразном движении, все лишилось всякого смысла, так как изменить что-либо и переиграть все равно нельзя и горький опыт прежних ошибок тут бесполезен. Может быть, кто-то из тихих обитателей этого сада и хотел бы исправить свое прошлое, но царство это не только беспощадно, но и милосердно — никому из его подданных неведомо чувство сожаления.
Этот мир нельзя переделать, его можно только принять. Против его порядков бессмысленно восставать, всякий бунт был бы бесплоден. Здесь властвуют кротость и смирение, которые постепенно передаются и мне…
В звенящей тишине я двигаюсь среди зыбких фигур, сама не зная куда и зачем, лишь смутно подчиняясь какой-то силе, которая незаметно и мягко и вместе с тем властно несет меня, как речная стремнина несет лодку без весел, и окрестный пейзаж по обе стороны скользит мимо, как берега: недвижные деревья и зыбкие фигуры, бесцветные розы и серые камни, блеклые снега и нетронутые дорожки. Я не удивляюсь ничему — я часть этого мира. Во мне нет ни жалости, ни надежды, только тело понемногу наливается свинцовой усталостью, как будто позади у меня далекий-далекий путь и цель уже близка.
Впереди гранено высятся еще четыре стройных белесых изваяния, образуя квадратную площадку, посреди которой, сгорбленный и заметенный снегом, маячит какой-то округлый предмет. С приближением вижу, что это четыре высокие снежные туи, а нечто низкое и округлое — большой валун. Протянув руку, сметаю с него снег. В сером граните высечены мое имя, фамилия и две даты, означающие начало и конец того, что называют человеческой жизнью.
Я поняла, что и я тоже убита. Но, так же как все остальное, меня и это не взволновало и даже не тронуло, словно относилось совсем не ко мне.
УБИЙСТВО, ЗА КОТОРОЕ НЕ СУДЯТ,
ИЛИ РАССКАЗ О СЕБЕ
Мало таких, кто способен
правду сказать о другом,
но нет человека, кто сказал бы
всю правду о себе.
Рейнис Каудзит
Недаром говорится: за грехи молодости мы расплачиваемся в старости, а иногда не в старости даже, а в зрелые годы. Святая правда, и я могу это подтвердить — ведь я и сама типичная жертва грехов молодости.
А началось все так.
Вопреки рекомендациям строгой педагогики (которые тогда мне были неизвестны), в детстве я читала не только высокопробные книги, сочиненные специально для юношества (в которых и по сей день на последней странице указывается, для какой возрастной группы они предназначены), а все подряд, что удавалось выудить и раскопать на чердаках в тех усадьбах, куда я летом нанималась пастушить, так что в руки мне попадала весьма разнородная продукция человеческого мозга, начиная с Боккаччо и кончая Куртс-Малер, начиная с «Католических ведомостей» и кончая «Мужчиной и женщиной», начиная с жития святых и кончая поваренными книгами, словом, всякая всячина, полная мешанина, по которой я и проходила свои университеты и просвещала свой ум как в искусстве, так и в литературе, как в зоологии, так и в географии, как в кулинарии, так и в сексологии, без малейшего усилия заучивая заодно уйму стихов весьма разного качества, усваивая массу давно устаревших сведений и даже таких положений, которые сейчас были бы расценены как безусловно идеалистические и потому вредные, особенно для незрелой еще системы взглядов, каковая в десяти-, одиннадцатилетнем возрасте, несомненно, была и у меня. И прямо-таки макиавеллиевское коварство этих идей я могу подтвердить с полной ответственностью, так как последствия их мне пришлось испытать на собственной шкуре, больше того — в каком-то смысле можно сказать, что они были косвенной причиной моей смерти, хотя и несколько десятилетий спустя.
И если когда-нибудь в моем поведении или в поступках сквозила склонность к мистике, то корни ее надо искать именно там — на чердаках, где среди ржавых утюгов и стульев со сломанными ножками, за мотовилами и прялками, за грабелищами и нанизанными для сушки листьями махорки в таинственном полумраке стояли запечатанные паутиной пыльные сундуки, расписанные фантастическими рисунками, с волшебным содержимым, в которое я погружалась, как муха в сироп, набивая пазуху старыми книгами и журналами, а голову всякой информацией и (простите!) дрянью.
Роковым для меня, однако, стал обрывок какой-то статьи, в которой автор рассказывал о предчувствиях. Оказалось, что человек нередко чутьем угадывает, что именно принесет ему в будущем беду или даже гибель, подсознательно или сознательно боясь этого нечто, пока наконец действительно не случится то, чему случиться суждено. Специалист по предчувствиям приводил и ряд потрясающих примеров. Один индивид, скажем, испытывал постоянный страх перед некой картиной большого формата, висевшей на стене в галерее, и в конце концов это произведение искусства в тяжелой раме сорвалось и рухнуло, конечно, упомянутой жертве на голову. Другое лицо угнетал страх перед путешествием по воде каким бы то ни было транспортом. Лицо это было мужского пола, и в таком качестве его унижал в глазах женщин этот — как, по крайней мере, казалось другим — беспочвенный и смешной трепет. В стремлении себя преодолеть джентльмен согласился на прогулку на яхте. Ее исход нетрудно себе представить. Его труп прибило к берегу только на третий день.
Эта статья меня погубила.
Я стала постоянно к себе прислушиваться, стараясь уловить, от чего я испытываю особенный страх, чтобы тем самым угадать, откуда мне может грозить роковая опасность. Оказалось, однако, что дар предчувствия развит у меня недостаточно сильно. В то время я чаще всего боялась, как бы не выплыли на свет божий разные мелкие проказы, и порой мне удавалось замести следы, а порой нет — со всеми вытекающими отсюда последствиями, отнюдь не приятными, но жизни, однако, ни в коей мере не угрожавшими. Со мной ничего не случалось, и магическая власть статьи мало-помалу стала ослабевать. Так в обманчивом покое минуло примерно тринадцать лет, за которые я окончила не только среднюю школу, но и успела сдать экзамены по марксизму-ленинизму, по диалектическому и историческому материализму, то есть ни в собственных глазах, ни в глазах общества больше не считалась особой малообразованной с шаткой системой взглядов.
И когда я меньше всего этого ожидала, оно вдруг и случилось.
Меня пригласили в Союз писателей на семинар молодых авторов. Я сидела в большом зале и вместе с другими новичками слушала, как один из моих старших коллег (которого тогда назвать коллегой не то что вслух, но и втайне я не смела) очень красиво говорил о том, как следует правильно писать. Более прилежные, чем я, заносили в блокноты провозглашенные с трибуны правила, чтобы затем воспользоваться ими на практике и не попасть впросак. Я же, никогда не отличавшаяся особым усердием и старанием, тем временем осматривала зал, в котором была впервые.
И так, разглядывая большой роскошный, в шелковых обоях зал, я совершенно случайно подняла глаза вверх, к потолку и как раз над собой увидала люстру, или канделябр, или как он там называется, этот огромный светильник, который служил еще прежним хозяевам Беньяминам и весит по меньшей мере несколько центнеров, если не тонну. И эта горящая и сверкающая махина, играя блестками и переливаясь искрами, и — как мне вдруг почудилось — слегка покачиваясь, висела прямо над моей головой. Меня охватило такое чувство, что люстра вот-вот отделится от потолка, я даже слышала, как он с тихим хрустом ползет трещинами, и ни за что, никакими силами не могла отвести глаз от блестящего и грузного сооружения, которое зловеще колебалось со все большей амплитудой, короче — я смотрела не туда, куда мне следовало смотреть, и слушала не то, что следовало слушать, тем самым пропуская мимо ушей ценные и мудрые наставления, как писать правильно, и за свое ротозейство была наказана не только в тот же самый день, но и расплачивалась за него всю жизнь.
А в тот день мои творения были раскритикованы в пух и прах, и референты эзоповым языком дали понять, что в моем лице литература имеет дело со случаем безнадежным. И как раз это последнее замечание, высказанное, правда, завуалированно и со всевозможной деликатностью, чтобы вконец не подорвать оптимизма, коему надлежит обретаться в передовой девушке, зародило во мне фатальное подозрение, которое впоследствии и стало причиной моей гибели, а именно: я усомнилась, действительно ли опасность грозит мне от вполне реальных, массивных, висящих надо мной предметов и не следует ли грозное качание надо мной люстры в Союзе писателей понимать скорее символически. И чем больше я над этим думала и размышляла, тем больше склонялась к тому, что опасным тяжелым объектом, который когда-нибудь рухнет на мою голову (со всеми вытекающими отсюда последствиями), будет не что иное как литература.
В таком положении, естественно, был только один разумный выход. Чтобы избавиться от постоянной свербящей тревоги, которая гробила мою нервную систему и здоровье в целом, являющееся как-никак достоянием не только моим, но всего общества, надо было избавиться от возбудителя страха, то есть отказаться от деятельности на опасном для моей жизни и вредном для моего тела и духа литературном поприще. Однако с давних пор известно, и в ученых книгах тоже описано подробно и убедительно, сколь неприятные субъективные ощущения, а то и серьезные расстройства в организме вызывает абстиненция, или воздержание, даже при легких формах наркомании, как, например, никотинизм и алкоголизм, не говоря уже о тяжелых, таких, как морфинизм и литературная деятельность. Одним словом, после ряда безуспешных попыток я пришла к выводу, что мне недостает минимума необходимой в данном случае силы воли, без чего все усилия, направленные, так сказать, на выздоровление, обречены на провал.
Так что оставался лишь другой из двух возможных путей, который, как я сама понимала, не страхует меня от опасности целиком и полностью, а именно: поскольку литература сама по себе как явление нематериальное не может угрожать мне непосредственно, надо взвесить и учесть все сопряженные с ней факторы, которые могли бы со временем подвергнуть опасности мою жизнь. И с этой точки зрения самыми коварными казались мне прежде всего прототипы. Возможно, такое впечатление было навеяно историей литературы, которой я была напичкана и которая кишмя кишела неприятностями и распрями, публичными оскорблениями и ожесточенными тяжбами — просто крестовыми войнами, которые вели реальные и воображаемые прототипы против бедных и порой ни в чем не повинных авторов. И хотя мне не встретилось ни одного случая убийства с заранее обдуманным намерением, я не чувствовала себя стопроцентно застрахованной от злых умыслов или хотя бы фатальных случайностей.
Однако в этом смысле мне невероятно повезло. В прототипы добровольно набивались почти только «положительные герои», тогда как «мои негодяи» оказались умными и намеков не усматривали, больше того — чтобы окончательно отвести от себя подозрения, они порой хвалили мои сочинения, проявляя тем самым не только дальновидность, но и душевное благородство, оценить которое в полной мере способен только автор.
И один только раз произошел неприятный инцидент, когда с «прототипом» я встретилась на узенькой дорожке в прямом смысле слова, на тропинке, где двоим трудно разминуться, к тому же действие происходило в глубоких сумерках, почти что в темноте и он, прототип то есть, был не совсем трезвый. Я сказала «прототип», и притом дважды, но свои слова должна тут же взять обратно, поскольку он не был прототипом, по крайней мере в узком смысле слова, в каком принято его употреблять в теории литературы, хотя сам себя таковым считал, и эта неувязка грозила вызвать чувствительные осложнения, так как встреча произошла в глухом месте и притом, как уже сообщалось, на тропинке, где разойтись трудно, к тому же он был пьян в стельку, но из его присказок три мне понравились, а именно — «драчливей, чем старая овца», «одна нога в ревматизме, другая в тапочке» и «чего лапаешь, как покойник свечи?» — и я вложила их, как принято говорить, в уста своему герою Яну Булькису.
Поскольку на тропинке, как говорилось выше, разминуться было не так просто, я остановилась и, насколько возможно, отошла к краю. В этот момент он увидал, что это я, буркнул нечто среднее между «ха!» и «ага!», двинулся прямо на меня и, хотя, конечно, явно меня видел, потому что темнота была не такая уж, чтобы не видеть, еще раз спросил, действительно ли это я, чего я отрицать не стала, подтвердив, что так оно и есть, хотя его голос ничего особенно хорошего не сулил. На это он ответил, что именно меня ему и нужно и он рад, что наконец-то меня встретил. Так он сказал, но в его тоне сквозили угрожающие нотки, что заставляло сомневаться, так ли уж он в самом деле рад, как уверяет. Однако я как можно равнодушней и спокойнее спросила, чему он, собственно, радуется.
Тогда он стал кричать. Это я, я драчливее и кровожаднее, чем старая овца, это я выставила его на посмешище всему свету — на работе его теперь иначе как Яном Булькисом не зовут! Свою обвинительную речь он уснастил рядом нецензурных слов и выражений, до того самобытных, что я в своем профессиональном кретинизме, даже в этой весьма драматической ситуации, пожалела, что не захватила с собой блокнота — их записать (потом я часть из них вспомнила, но из соображений экономии дефицитной бумаги до конца жизни так и не использовала). Под конец он не без угрозы в голосе спросил, что я в своем змеином коварстве хотела сказать этой кличкой Булькис и не намек ли это на… Я поспешила объяснить, что, упаси боже, никакой это не намек и что вообще никакая это не кличка, а самая настоящая фамилия, какую носил мой школьный товарищ, с которым я училась в шестом или в седьмом классе и который, насколько мне известно, и по сей день в рот капли не берет.
Помолчав немного, он спросил, действительно ли это так — могу ли я поклясться всем, что для меня свято, и сказать, положа руку на сердце, что эти мои слова — истинная, сущая правда. Так он сказал, и в его голосе уже слышались как бы сомнения, как бы колебания. И я подтвердила: действительно я могу поклясться всем, что для меня свято, и сказать положа руку на сердце, что…
И тут произошло нечто совершенно неожиданное — он тяжело осел на тропинку, обхватил руками коленки, уронил на них голову и заплакал.
Ну ладно, сказал он, когда выплакался, он мне верит, но что же ему теперь делать, ведь после той моей пачкотни в журнале ему нет никакой жизни: в лесничестве все над ним ржут и хихикают, так что придется, хоть и не хочешь, уходить с работы, где трубил целых одиннадцать лет, но главное — его бросает жена, грозит уйти к маме и уже пакует вещички, оттого он сегодня так и набрался, с горя. И вообще ему ничего больше не остается, как взять веревку и зацепить за ближайший сук, потому что все пошло кувырком, пошло прахом, и пусть я помяну его добрым словом, потому что человек он был не злой, может, грубоватый и языку давал волю, но только не злой.
И когда я услыхала, с какой тихой отрешенностью он сказал о себе «был», то поняла, что так оставить это дело нельзя, ведь, в конце концов, это я его впутала в свои литературные хитросплетения, и потому чувствовала себя ответственной за его судьбу. Я водрузила его на ноги, и мы вдвоем отправились к его жене, которая и правда уже складывала платья в чемодан и собиралась к маме. И я вновь клялась всем, что для меня свято, и уверяла положив руку на сердце, что Булькис не имеет никакого отношения к ее мужу — мне просто понравились некоторые его присказки, которые я и позволила себе вставить (как оно и было на самом деле). Но, видя, что его жена продолжает толкать и пихать в баул платья, я просто в отчаянии, которое поймет каждый мой собрат по перу, воскликнула, что оплошности, вызвавшие нарекания и недоразумения, я готова из рассказа убрать и, когда он появится в книге, в нем больше не будет злосчастной фамилии Булькиса. Так я сказала, и лишь после этого жена стала вынимать из чемодана платья.
В книге я и в самом деле дала Яну Булькису другую фамилию, и там действительно не было выражений «драчливей, чем старая овца» и «одна нога в ревматизме, другая в тапочке», как и хлесткого речения «чего лапаешь, как покойник свечи?». Чтобы он и его жена могли убедиться, что свое обещание я сдержала, я подарила книгу с надписью им обоим (вернее сказать, троим: пока рукопись лежала в издательстве и проходила сквозь жернова типографии, у четы появился малыш). Мы стали друзьями. И все же, когда я просматриваю те места, где я своей рукой сделала вымарки, то всегда испытываю двойственные чувства: с одной стороны, чертовскую грусть и острое сожаление, как если бы я что-то разбила, что больше уж не склеить, и передо мной одни осколки, с другой же — тихую радость и даже гордость за то, что вместе с моими коллегами, которые своими романами успешно борются с алкоголизмом и резко повышают рождаемость, своей литературной деятельностью я тоже помогла сохранить хотя бы одну семью, вызволить из беды как минимум одного человека и, кто знает, может быть, косвенно способствовала появлению на свет еще одного живого существа. Так что без особого преувеличения можно сказать, что истинные или хотя бы воображаемые прототипы моих героев к моей особе в целом относились лояльно и ни прямо, ни косвенно моей крови никогда не жаждали.
Однако в такой эйфории беспечности мне посчастливилось жить не слишком-то долго, так как я стала бояться другого, а именно — критики, причем мое отношение к критике лучше всего сравнить с давними детскими чувствами, когда я отчетливо сознавала, что набедокурила, и вопрос был лишь в том, выплывет ли на свет мое прегрешение и последует ли соразмерная озорству кара, или удастся выйти сухой из воды. Но, по мере того как росло количество написанных произведений, критические тучи над моей головой тоже стали сгущаться, ибо преступление, так сказать, не может долго оставаться безнаказанным; это подтверждалось и моими предчувствиями, потому что всякий раз, когда я брала в руки периодическое издание с критической статьей, где мелькало и мое имя, я чувствовала в мускулах ног странную слабость, как будто начинался паралич, который постепенно прогрессировал, охватывая все тело и наконец точно щипцами стискивая сердце, и оно, казалось, замирало и останавливалось. Но это было обманчивое, субъективное ощущение и, честно говоря, моей жизни не угрожало.
И только однажды имели место сколько-нибудь серьезные последствия. А именно: читая статью с детальным разбором своего, так сказать, творчества, я вдруг ощутила острую боль в правой стороне грудной клетки. Сперва я приняла ее, как говорят в народе, за прострел, который должен был пройти через несколько минут, на худой конец часа через два. Однако боль не утихла ни к вечеру, ни к завтрашнему утру. Не сказать, чтобы она усиливалась или была бы совсем невыносима, но все же мешала, так как я почти вовсе не могла двигать правой рукой, а стало быть, и писать тоже. И глубокие вдохи очень мучительно отдавались в правом боку — как будто тебя сильно кололи острым предметом, из-за чего приходилось дышать мелко, поверхностно, слегка приоткрыв рот, как загнанной собаками кошке.
Впоследствии я не могла определенно сказать, долго ли меня терзало это колотье (которое затем перешло во вполне терпимую ноющую боль), для человека вообще характерно, что, очень точно замечая начало страданий, он обычно даже не улавливает момента, когда мучения кончаются. Так было и со мной. Больше того. Я даже как-то забыла об этом случае, пока однажды, года два спустя, терапевт не уловил какой-то не понравившийся ему (и мне, само собой, тоже) шум в моей грудной полости и не направил меня на рентген.
Рентгенолог, засунув меня в темную щель просвечивающего аппарата, до тех пор меня вертел, до тех пор заставлял дышать и задерживать дыхание, до тех пор расспрашивал и выпытывал, не чувствую ли я при вдохе и выдохе каких-то болей, что у меня создалось впечатление — уж не подцепила ли я не только воспаление легких, на которое было подозрение, но гораздо более тяжкую хворь и недуг, что-то вроде туберкулеза в последней стадии. И я доктору сказала: пусть он меня, ради бога, не путает, а скажет прямо и откровенно, что он в своем аппарате видит, а я обещаю при любых обстоятельствах быть мужественной. На это он ответил вопросом: не перенесла ли я в сравнительно недавнем прошлом, года два-три тому назад, тяжелую травму, скажем — не пострадала ли я в автомобильной катастрофе или, может быть, упала с большой высоты, так как у меня вот с правой стороны сломано два ребра, пятое и шестое ребро были у меня перебиты и потом срослись? По тени озабоченности в его голосе я догадалась, что ребра срослись неправильно. Сначала я никак не могла сообразить, где меня угораздило так разбиться, ведь под машину я не попадала и падать не падала, а потом вспомнила про тогдашнюю боль в грудной клетке и как раз с правой стороны и затем, уже безо всякого труда восстановив в памяти все с этим случаем связанное, призналась, что примерно два года тому назад меня основательно избили. Он сочувственно осведомился, произошло ли это публично или в домашней обстановке, имея в виду инцидент на улице или семейный скандал. И я, немного поразмыслив, с полной уверенностью ответила, что публично, потому что сделано это было в печати.
Вспомнив теорию предчувствий и стараясь выражаться по возможности научно, я спросила доктора, может ли тот факт, что в моем организме имеется два сломанных и неправильно сросшихся ребра, может ли это при известных обстоятельствах вызвать в будущем, ну, летальный исход. Он усмехнулся и сказал, что нет, он ручается головой, что летальный исход ни в коем случае это не вызовет, на этот счет я могу быть совершенно спокойна и не волноваться. Он оказался на сто процентов прав. Два ребра не только не стали причиной моей смерти, но и до последнего моего часа не доставляли мне никаких неприятностей и хлопот. Больше того — они, казалось, помогли мне выработать известный иммунитет, как если бы мне сделали прививку от критики, которая, таким образом, никак не повинна в моей гибели или в каких-то способствующих ей и ускоривших ее действиях, как не повинны и журналисты, мое столкновение с которыми осталось, можно сказать, даже без каких бы то ни было физических последствий.
Вначале я никакого страха перед журналистами не испытывала — и потому, что сама в известной мере происходила из их племени и, естественно, относилась к ним с молчаливым дружелюбием, и потому, что долгое время никакой активности, направленной против моей особы, в их действиях не усматривала.
Но со временем обстановка осложнилась. И однажды ко мне явился интервьюер. Совсем молоденький (как я потом узнала, еще практикант), однако теоретически подкованный, с вполне сложившимися взглядами и четкими представлениями о жизни писателя, специфике его работы и тайнах профессии, как и о прочих деталях, так что было видно и чувствовалось, что на филологическом факультете он получил солидную, всестороннюю подготовку, которую теперь и намеревался применить на практике осознанно, с чувством ответственности, поскольку я была первое видное лицо, у которого он брал интервью, и он этого не скрывал. Я же, признаться, умолчала, что для меня он тоже первый журналист, который меня расспрашивает; мне казалось, это уронило бы мой литературный престиж: что это за писатель, которым не интересуются журналисты! И все же, будь у него больше практики, он и сам бы без особого труда очень скоро догадался, что у меня нет никакого опыта, потому что на все вопросы я отвечала не очень связно, зато пространно и подробно, стараясь по возможности точно выразить не только свои взгляды, но и оттенки чувств. Ухо тертого газетчика тотчас безошибочно уловило бы за всем этим простодушие новичка, расслышать которое он еще не умел, и винить его за это было бы крайне несправедливо, потому что я, как говорилось выше, была у него первая, хотя и не в том смысле, в каком обычно это выражение понимают.
Из Риги он ехал так, как добираются простые смертные, то есть до Раудавы на электричке, а дальше местным автобусом, так что в Мургале прибыл уже слегка помятый, усталый, голодный и как бы немного сконфуженный тем, что от остановки вынужден идти пешком и не может подкатить к калитке на редакционном «Москвиче». Но более чем скромный наружный вид моего дома и мои выгоревшие тренировочные брюки явно подняли вновь его подорванное было самоуважение — во всяком случае, мы чувствовали себя как равный с равным.
Сначала мы вместе пообедали и он проявил отменный аппетит, что мне всегда больше нравится, чем брезгливое ковырянье в тарелке, которое свидетельствует либо о жеманстве, либо о желудочной болезни. К концу трапезы мы продвинулись настолько, что он мне вполне откровенно рассказал все, связанное с предысторией этого интервью: что никто из штатных сотрудников редакции не захотел переться в такую даль («Если бы еще к Анне Саксе!» — как заметил он), что в конце концов они чуть не перегрызлись и решили бросать жребий, что жребий ехать в Мургале вытянул он и что он все-таки об этом не жалеет. Так он закончил и улыбнулся столь симпатично и открыто, что я была просто очарована.
Но как ни хорошо нам было за обедом непринужденно болтать, все это, само собой, должно было когда-то кончиться. И он сразу посерьезнел, вынул из внутреннего кармана пиджака блокнот с заранее заготовленными вопросами, отвинтил у ручки колпачок, подтолкнул на носу дужку очков и откашлялся. Я же, внутренне напрягаясь и в то же время всеми силами стараясь скрыть свою неуверенность, мысленно давала себе клятву говорить, будь что будет, правду, только правду, одну правду — как в народном суде.
Он предложил приступить к работе, то есть к интервью, и спросил, как я на это смотрю. Я ответила утвердительно, и он, одним глазом кося в блокнот (это выглядело очень мило), задал мне первый вопрос, а именно — просил меня поделиться, как я начала писать.
Все это время я с тайным опасением готовилась к сложному и уж во всяком случае очень заковыристому вопросу (так и не сумев себе представить — какому же), и теперь заданный вопрос казался мне до того простым, насколько просто все гениальное, ведь ничего же нет легче, как рассказать то, о чем он просит, и я сказала, что первым делом взяла белый лист бумаги и подложила под него транспарант, ведь я тогда еще не умела вести строку прямо, заправила ручку чернилами, поскольку удобных шариковых ручек в то время еще не знали, а были только такие, заряжавшиеся чернилами, которые потом выпускали их в самом неподходящем месте и в непредвиденных дозах, и поэтому для начала мне необходима была и промокашка, и вот, когда все нужное я собрала, я села и начала писать.
Рассказывать о себе мне с каждой минутой нравилось все больше, однако, нечаянно подняв взгляд, я вдруг увидала, как сильно, пунцово горят у молодого журналиста уши, и поняла, что делаю что-то не то. И он подтвердил это, пояснив, что я не совсем поняла суть и смысл вопроса и что в первую очередь его интересуют стимулы творчества, а не атрибуты. Так он сказал, выбив меня из колеи, ибо так называемые стимулы творчества с процессом писания связаны весьма сложными взаимоотношениями — ведь можно писать не только на бумаге, но и в голове. Да, да, воскликнул он, именно это его больше всего занимает, то, что я обозначила, может быть, и неточным термином — писанием в голове. Как и при каких обстоятельствах это у меня началось? Теперь я почувствовала, как зарделись уши у меня, ведь таким способом — в голове — я «начинала писать» в детстве и в ранней юности, наверное, сотни раз, а мой интервьюер, что ни говори, должен был успеть на последний автобус, к тому же я не без оснований опасалась, что вопрос этот у него не единственный. Поэтому из всего, что я повидала и пережила и что впоследствии послужило мне, как он выразился, стимулом к творчеству, я лихорадочно пыталась вызвать в памяти хотя бы один связный эпизод.
И вдруг вспомнила случай в юрмальском поезде в первый, кажется, послевоенный год. В вагон вошел слепец — молодой инвалид и, медленно двигаясь по проходу между сиденьями, вполголоса стал петь песню Блантера — он пел о том, что лучше нет той поры, когда яблоня цветет, что от яблонева цвета ночь делается светлая, и лучше нету той минуты, когда милая придет, — так он пел. А за окном вагона бело клубились цветущие сады. И я тогда подумала, что он этого не видит, он может об этом только петь и что его руки никогда не обнимут женщину, потому что кепка привязана к его культям, — когда я на все это глядела и еще домыслила все остальное, во мне что-то разбилось…
В этом месте журналист меня перебил вопросом: как понимать слова «что-то разбилось»? Но я не сумела объяснить — я это чувствовала, но рассказать не могла.
Помолчав, он прокашлялся и спросил: а он, ну безрукий инвалид, он действительно пел так бесподобно, что сумел вызвать во мне душевный отклик, ощущение, что что-то разбилось? И я сказала, что нет, пел он плохо, как пел бы любой на его месте, кого постигла такая участь. Тогда ему вдруг пришло в голову: а такое нищенство разве тогда разрешалось? И я ответила, что нет, не разрешалось, отнюдь нет, что его осуждали, с ним боролись, что… И тем не менее во мне «что-то разбилось»? — с удивлением воскликнул он. Я сильно смутилась тем, что как бы поддерживала асоциальные явления, он же примирительно поинтересовался: где я использовала эту сценку, он не припомнит, чтобы в каком-нибудь из моих произведений она ему встретилась? И когда я призналась, что не использовала, он серьезно усомнился: может ли в таком случае идти речь о связи этой сценки с началом моего литературного пути и с моим творчеством вообще. Я знала точно, что связь есть, притом глубокая, но доказать это тоже никак не могла.
Так наш разговор снова зашел в тупик.
Ну ладно, наконец миролюбиво сказал он, великодушно прощая мне мое заблуждение, и предложил перейти к следующему вопросу, на что я с радостью согласилась.
Журналист, с трогательным ребячеством опять кося глазом в блокнот, сказал, что его интересует взаимосвязь творчества с характером и биографией автора, моими то есть, и добавил — так как на моем лицо, видимо, отразился испуг, — что он вовсе не собирается выведывать у меня подробности частной жизни, что это порок только буржуазных газетчиков. Успокоив меня таким образом, он зачитал вопрос: проявляются ли и в какой мере чисто человеческая ментальность и темперамент автора в его творчестве? Я не совсем его поняла. Тогда он пояснил: по моим романам и новеллам складывается впечатление, что автор — гармоничная, уравновешенная личность, и тем самым у него, как и у читателей газеты, естественно, может возникнуть…
Здесь я, наверно, совсем некстати засмеялась, так как он поднял глаза от блокнота, бросил на меня быстрый взгляд и, покраснев, спросил: может быть, он оговорился и сказал что-то смешное? О нет, воскликнула я, потому что вид у него был до того смущенный, что мне стало его жаль. Не позволит ли он мне ответить ему не прямо, а некой притчей? И он, немного подумав и поразмыслив, согласился, добавив, что я могу говорить что и как считаю нужным.
И я журналисту рассказала, как в прошлом году летом красили мою комнату. Цвет я выбрала вишневый, и мастер заверил, что мое желание вполне выполнимо, — стены комнаты будут вишневые, именно вишневые, он только должен еще уточнить и согласовать со мной тон, ведь тон может быть и холодный и теплый, и после непродолжительного обсуждения мы дружески договорились и о тоне. Когда же я через два дня вошла в комнату, стены оказались, право же, огненные — меня ослепило так, будто глаза резануло светом, и, придя немного в себя, я сказала: может быть, оно по-своему и неплохо, что в моем доме будет теперь уголок пожарной охраны, однако же, как он сам понимает, в первый момент, пока к этой мысли я еще не привыкла, я была несколько ошарашена. Он склонил голову в знак согласия: он-де меня понимает, и тон действительно вышел малость экзотичный, и мазки в самом деле могут показаться слишком яркими непривычной к резким контрастам, немного консервативной натуре, но на свете нет ничего невозможного, при желании все можно исправить, и для его кисти, кисти мастера, это сущий пустяк и не дальше как завтра я только глаза вытаращу.
И предсказание его сбылось в точности — я глаза вытаращила, что, вероятно, сделал бы любой другой на моем месте, так как стены теперь были темно-лиловые, выглядели будто обитые бархатом, и вообще комната смахивала на фамильный склеп баронов. Я бросила взгляд на мастера, и все, что я смогла из себя выдавить, уместилось в коротком междометии «хм». Мастер ответил мне тем же, то есть — бросив косой взгляд на мое лицо, он тоже сказал «хм».
Мы постояли молча, как и полагается в склепе.
Потом я спросила, что же нам теперь делать. Оживившись, он сказал, что у него неожиданно родилась идея. Я полюбопытствовала — а именно? И мастер предложил пройтись по стенам, поверху светло-зеленой краской: этот цвет мягкий, успокаивающий, и в специальной литературе говорится, что очень здоровый для глаз и для нервов. Он все больше загорался, и, когда стал вдохновенно расписывать, какие красивые и приятные сны будут мне сниться в этой комнате, какие гармоничные и уравновешенные книги буду я здесь писать, притом безо всяких усилий, я почувствовала, что загораюсь и я и сдаюсь на милость победителя.
Я сказала — будь по его, и мы ударили по рукам.
Так комната стала такой, какая она сейчас, нежно-зеленой, и этот цвет в самом деле приятен для глаз и действует успокоительно. И если я порой чего-то боюсь, так только того, что в один прекрасный день опрокинется цветочная ваза и ненароком зальет стену, отчего смешаются все три краски, или когда-то стена обдерется и сквозь спокойную зелень проглянет мрачная лиловая краска или огненная.
Журналист обвел взглядом комнату и спросил, то ли это помещение, о котором идет речь. Я подтвердила — то самое. Он со знанием дела отметил, что качество ремонта не очень высокое (и это факт), а потом, видно из опасения, не обидит ли меня его замечание, поспешил добавить, что вообще это одна из самых наболевших проблем, и не преминул отвести душу, вкратце сообщив мне о невзгодах своих родителей, у которых жуликоватый маляр вообще бросил ремонт квартиры на полпути и скрылся в неизвестном направлении.
Наш разговор протекал очень оживленно и дружески, пока молодой журналист не спохватился, что от вопроса о взаимосвязи личности писателя с творчеством мы неведомо каким путем дошли до ремонтных работ. Он смущенно смотрел на меня, и я так же взирала на него, тоже не ведая, как это произошло.
Он взглянул на часы, потом в блокнот и, откашлявшись, сказал, что следующий вопрос в известной мере связан с предыдущим, то есть — не могу ли я по возможности кратко (он, наверно, уже заторопился на автобус) сформулировать, как в меня входят внешние впечатления. И я ответила, что могу сказать это буквально в двух словах. Он глянул на меня поверх очков: то есть? Я призналась, что происходит это самым прямым путем. Однако он желал знать конкретно — как — и этим опять загнал меня в тупик, поскольку дать определение этому процессу я не умела. И, взглянув на часы еще раз и, как мне показалось, со вздохом, он сказал, что на худой конец я могу говорить и пространно, а уж он потом сам вылущит ядро, и, ободряя меня, повторил еще раз, что, само собой, я могу говорить что и как мне заблагорассудится. Я робко заикнулась: хватит ли у него терпения выслушать в виде иллюстрации еще одну маленькую сценку? Мне казалось, что при этих моих словах он вздохнул второй раз, так как эпизоды и притчи, видно, уже стали его утомлять. Но вслух он выразил готовность выслушать решительно все, что пожелают ему изложить.
И я сказала: то, что я хочу рассказать, произошло в поезде, по дороге в… На этом месте он, извинившись, деликатно меня перебил, напомнив, что про поезд он уже слышал. Я была вынуждена уточнить, что и второй случай, что сделаешь, произошел в поезде, хотя отчасти и на перроне, и может быть, даже не отчасти, а главным образом на перроне, так как в поезде сидела я, в то время как действие происходило снаружи, на перроне, так что в каком-то смысле можно сказать… Здесь он извинился еще раз, что своим замечанием меня смутил, и, проявляя похвальное терпение, просил рассказывать совершенно спокойно и не торопясь. Тогда я снова вернулась назад и начала с того места, как я сижу в вагоне и смотрю в окно, в то время как поезд подходит к перрону. На перроне, вернее — у перрона, сидит на скамейке подвыпивший человек в ожидании, надо полагать, электрички. Но человек слегка задремал, не заметил, как поезд прибыл, и проснулся только тогда, когда двери вагона уже закрылись. Он подхватывается со скамейки, но поскольку он выпивши, да еще спросонья, то двигается так неловко, что, зацепившись за что-то, падает, к тому же лицом об асфальт. Больше я ничего не видела, так как поезд тронулся и пошел. Я бы забыла об этом происшествии до следующей же станции, сказала я (и добавила, что очень прошу журналиста мне верить, и он кивнул), как вдруг почувствовала, что у меня болит нос, и так необычно болит, вышибая слезы, ну как вообще болит сильно ушибленный нос. И лишь тогда я вдруг опять вспомнила человека, упавшего па перроне. Сказав это, я немного испугалась, не последуют ли опять упреки в излишней приверженности к асоциальным типам и антиобщественным явлениям.
Однако он вдруг засмеялся, да так открыто, по-мальчишески, что сверкнули зубы и блеснули стекла очков. Неужели у меня правда болел разбитый нос того пьяницы, и к тому же прямо физически, со смехом спросил он, и я подтвердила — да, действительно болел, и притом чисто физически.
Отсмеявшись, он задумался и не то меня, не то самого себя спросил: но куда же он может вставить этот нос пьяницы, в интервью он как-то не лезет, ведь интервью пойдет в газету, в праздничный номер. Ну, ведь я сама понимаю… Я, конечно, поняла. И когда он спросил о моем отношении к критикам, я уж не отважилась рассказать про два сломанных ребра, однако, стремясь к максимальной ясности и точности, стараясь не отклоняться в сторону и ничего не напутать, я задала встречный вопрос: какую именно из двух групп критиков он имеет в виду? Он насторожился и спросил, о каких, собственно, группах идет речь. Ну, сказала я, если литературное произведение, роман например, представить себе, скажем, в виде мешка, то критики первой группы ощупывают его только снаружи. И если проблема, имеющаяся в мешке, как шило, уколет им руку, то они признают: да, проблема есть, есть. Если же она спрятана глубже, то нащупать ее, само собой, они неспособны и утверждают, что проблемы как таковой нет. Другая группа действует противоположным образом. Критики этой группы лезут в мешок ногами, завязывают его изнутри и тогда уж там копаются и шуруют. И естественно, что в такой кромешной темноте легко спутать картошину, допустим, с конским калом.
Журналист покраснел — впервые так густо, хотя за время нашего разговора краснел не раз, и что самое странное — о моем отношении к критикам ничего больше знать не пожелал, может быть почувствовав себя задетым (возможно, он тоже подвизался в литературной критике, выступая под псевдонимом), но, может быть, и весьма шокированный таким весьма неприличным выражением, как конский кал. Больше того, он перевел разговор на другую тему, поскольку его взгляды на критику, надо полагать, от моих резко отличались, к тому же ему явно не хотелось со мной вздорить, да и времени оставалось не так много.
Он помянул про научно-техническую революцию и затем спросил, что меня волнует больше всего. После такого вступления мне сразу стало ясно, какого именно ответа он от меня ждет — НТР. НТР, о которой говорят все, под конец, правда, признаваясь, что не знают, что это такое, если не считать одного критика, который уверяет, что знает. Но поскольку перед началом интервью я себе самой твердо обещала, будь что будет, невзирая ни на что, говорить только правду, я ответила, что больше всего меня волнует момент, когда умирает кто-либо из моих героев и когда меня охватывает странное чувство, что вроде бы я могу его спасти и все же — пусть он меня поймет! — все же сделать это не в силах. Он стал меня серьезно уверять, что он это понимает, впервые за время нашего разговора был даже растроган и спросил, что я в таких случаях делаю. И я сказала, что пью водку. Это его явно смутило, и он переспросил, правильно ли он меня понял. И когда я подтвердила, он несмело промолвил — только вы не обижайтесь: не оскорбляет ли в какой-то мере этот факт (он, видимо, избегал называть вещи своими именами) святость творчества. Это очень мило с его стороны, что он употребил именно эти два слова — святость творчества, хотя мне и пришлось его немножко огорчить, ибо «святость творчества» это не оскорбляло, по моим понятиям, ни в коей мере.
Пока я варила кофе, потому что оба мы утомились и организм просто требовал какого-то допинга, молодой журналист пробежал глазами свои заметки в блокноте и остался результатами, видимо, не совсем доволен, так как, попивая кофе, заметил, что в интервью, по его мнению, слишком мало конкретных фактов и вообще деловитости, и что именно в этом, как он полагает — так же, наверно, сочтут и в редакции, — главный недостаток нашей беседы. Я поинтересовалась, что можно сделать в его пользу и в пользу нашего общего детища, интервью то есть. И он просил меня и умолял «не воспарять, а держаться земли». Снисходя к этой его просьбе, я умолчала, что мои замыслы чаще всего рождаются во сне, когда я не чувствую себя запертой в трех измерениях, — умолчала, поскольку это ему, как и редакции, может показаться чистой мистикой или в лучшем случае просто враньем.
Однако вопреки добрым намерениям и моим стараниям его не разочаровать, я (как мне стало ясно только после) все же его надежд не оправдала, не ответив и на два последних вопроса так, как он (и, надо полагать, тем более редакция) от меня ожидал. Когда он, например, спросил, какие интересные встречи были у меня в самое последнее время, я рассказала не о контактах с коллегами из братских республик и только что состоявшейся читательской конференции, а с доверчивым восторгом воскликнула, что не дальше как вчера встретилась с диким кабаном. И между тем как журналист с каждой минутой все больше мрачнел (что я, заливаясь соловьем, заметила с опозданием), я подробно, с воодушевлением излагала, как произошла эта встреча: как мы сошлись, так сказать, лицом к лицу на расстоянии каких-нибудь четырех, от силы пяти метров и остолбенели, глядя друг на друга; что практически — как он может без труда вообразить — все происходило в такой близости, в какой видеть живого кабана на природе мне до сих пор никогда не приходилось, что я не только чувствовала резкую вонь, но даже видела синие огоньки в коричневых блестящих и оттого, казалось, хитрых, глазках, что мы как бы вели войну нервов и сдали нервы, все же у кабана, а не у меня — он крутанул на сто восемьдесят градусов и был таков. До меня донеслось только сопение, гул и треск веток, и в тот момент я в полной мере осознала, что это самая прекрасная встреча в моей жизни, ну если не самая прекрасная, то во всяком случае одна из прекрасных.
И только в этот миг я сделала наконец то, что надлежало сделать гораздо раньше, — я взглянула на журналиста и увидала, как сильно успело омрачиться его чело. Больше того, я поняла, что я скверная эгоистка, ради которой этот молодой энтузиаст зря ехал в такую даль из Риги в Мургале, толкался в поезде и трясся в автобусе, так как имел несчастье вытянуть в редакции жребий: разве из того, что я здесь наговорила, может выйти интервью, да еще в праздничный номер? Ни в жизнь!
Но недаром говорится: горбатого могила исправит. Разве я хоть чему-нибудь на своих ошибках научилась? Нет, не научилась. Разве я старалась что-то исправить? Да, но увы — только в теории. Ведь когда журналист задал свой последний вопрос, то есть что больше всего способствовало моему творчеству, я не догадалась назвать ни хорошие бытовые условия, ни возможность печататься, мало того — я не додумалась даже упомянуть ни одного из тех прекрасных людей, которые меня всегда бескорыстно поддерживали и которым я столь многим обязана, а сказала нечто совсем другое, а именно — собака!
Его лицо на какой-то миг просветлело, так как, очень возможно, и он тоже был любителем собак. И в то же время казалось, что в нем борются две как бы противоположные силы и он не знает, которой из них поддаться и подчиниться. И хотя (как можно было понять) мои слова он расслышал достаточно ясно, он все же переспросил, правильно ли он услыхал и действительно ли я имею в виду собаку, и я подтвердила, что так оно и есть и расслышал он совершенно точно. У него вырвался то ли невольный смешок, то ли покрякиванье. Он шевельнулся, опять подтолкнул пальцем вверх дужку очков и пожелал узнать: каким же образом, интересно, это проявляется и в чем вообще это может проявиться? И я сказала, что ни одно живое существо не принесло такой весомой части своей жизни, если можно так выразиться, на алтарь моего творчества (ему нравился высокий стиль), как пес, что он по своей охоте целыми днями лежал на голом холодном полу под письменным столом у моих ног, охраняя мой труд и мой покой, что я вместе с ним исходила сотни и тысячи километров, придумывая по дороге целые главы романов и даже целые романы, а он не мешал мне ни единым словом, в то же время внимательно и с уважением выслушивая все, что мне вздумается ему сказать. Больше того — когда работалось мне здорово и меня охватывала волшебная раскованность, которую можно назвать (если уж непременно нужен термин) творческой эйфорией, он в любое время дня и ночи готов был разделить со мной радость, и когда от восторга, похожего на хмельной угар, я вполголоса без конца твердила какую-то стихотворную строчку или до одури мурлыкала какой-нибудь простенький мотив, пес никогда не требовал, чтобы я на него дохнула. Мало того. Когда я гуляла по лесу и громко, пела что-нибудь совершенно дурацкое, вроде;
или же программное, скажем:
ему ни единого раза не пришло в голову усомниться, так ли я себя веду, как подобает: пес радостно прыгал рядом со мной на поводке, и я всякий раз могла делать что и как мне заблагорассудится, взахлеб, полной грудью вдыхая свободу и в то же время ощущая уверенность, какую дает присутствие другого живого существа, — и очень возможно, что это были счастливейшие минуты моей жизни, ну если не самые счастливые, то одни из самых счастливых…
Так я сказала, и, когда я кончила, у симпатичного деятеля глаза за стеклами очков блестели так медово и маслено, что у меня закралось подозрение, уж не пишет ли он молчком и тишком, втайне от всех, еще кое-что помимо интервью и критики. И глаза его все еще блестели, когда он попросил: нельзя ли и ему взглянуть на эту удивительную собаку. Мой пес вообще-то чужих не любит, однако журналиста не укусил и даже не зарычал, подтверждая, что он человек хороший, хотя и зря угробил день, отнял несколько часов у меня и вдобавок не скрывал, что его надежд я не оправдала. Мы с собакой проводили его на последний автобус, и он уехал.
Интервью, само собой, не появилось ни в праздничном номере газеты, ни в буднем. Не знаю, сумел ли он извлечь для себя из этого события какой-то урок, я же бесспорно приобрела некоторый опыт, то есть пришла к выводу, что журналисты, так же как женщины, всегда стремятся вылепить свою «жертву» по своему образу и подобию и что самое разумное не лишать их хотя бы иллюзий. И видимо, я не ошиблась, потому что последующие мои интервью проходили без сучка без задоринки.
Однако же, подводя итог, я с сожалением должна признать, что предчувствие меня подло обмануло, причем, надо сказать, в самый критический момент. Тогда, когда оно должно было предупредить меня об опасности, оно предательски молчало, ибо, как сказал Арвид Григулис, свою пулю не слышишь.
Свою пулю не слышала и я в ту роковую минуту, когда в секретариате Союза писателей ко мне подошла молодая светловолосая женщина, которая впоследствии, скажем так, стала причиной моей смерти, чтобы не употребить ужасное слово «убийца», никак не вяжущееся с милым нежным существом. И, подойдя, представилась, сказав, что она из музея, что собирает для экспозиции писательские рукописи и разные другие вещи и что в этой же связи хочет и желает получить кое-что и от меня. На это я ответила, что с полным пониманием отношусь к ее заданию и миссии, и тем не менее есть к этому, так сказать, одно препятствие. Она посмотрела мне в лицо и спросила: какое же? И я сказала, что пока — как она видит сама — я еще все-таки жива. Тогда она со смехом воскликнула «ах!» и добавила, что нет таких препятствий, которые нельзя преодолеть. Хотя она смеялась мягко и говорила вкрадчиво, я невольно вздрогнула, притом, наверное, заметно, так как она поспешила сказать, что я ее неверно поняла, она отнюдь не желает мне зла и, боже упаси, не посягает на мою жизнь. Ее слова надо понимать единственно в том смысле, что музей собирает материалы и у живых писателей, чтобы с течением лет ничто не пропало, не погибло и сохранилось для грядущих поколений, ведь есть несознательные индивиды, они сжигают и выбрасывают вещи, которые со временем приобретут огромную ценность. К тому же музей, учитывая большой интерес современников к личности писателей и процессу творчества, систематически и периодически проводит выставки и живых литераторов, и на ближайшей из таких выставок намечается экспонировать и меня.
Я испуганно переспросила, не превратно ли опять ее поняла, и она ответила, что отнюдь нет, я поняла ее на этот раз совершенно правильно, то есть музей хочет экспонировать и меня, другими словами — мои рукописи, письма, фотографии, личные вещи и так далее. Загнанная в угол, я призналась, что старые рукописи чаще всего бросаю в огонь, что мне кажется неудобным адресованные мне письма выставлять напоказ и что личные вещи, к сожалению, мне еще нужны самой. Мило нагнув светлую головку, она приятно улыбнулась и сказала, что в какой-то мере может понять мою — хотя и, по ее мнению, излишнюю — скромность, а я, со своей стороны, должна понять ее: у музея есть не только годовой и полугодовой, но и квартальный план, и она как научный сотрудник с этим должна считаться.
Я была готова с уважением отнестись к планам музея, если только они прямо не касались меня, в чем ей чистосердечно и призналась. Тогда она вполголоса произнесла несколько фраз, взывая не прямо ко мне, а к здравому смыслу культурного человека, и нижняя губа у нее от обиды дрожала. Она говорила о гуманности и высоких интересах литературы, стоящих надо всем мелким и личным, и эти слова, сказанные с истинным чувством и вдохновением, свидетельствовали, что в ее лице я имею дело с патриоткой и энтузиасткой, которая не отступит ни на шаг и будет сражаться за интересы литературы не на жизнь, а на смерть. Я могла проклинать судьбу, пославшую на мою голову эту сотрудницу, но не могла ею не восхищаться. И, словно учуяв, что моя твердость уже поколеблена, она обратилась теперь непосредственно ко мне, говоря, что относится к моим трудам с величайшим почтением и от меня просит только одного — чтобы я немножко уважала и ее труд. И при этих ее словах я невольно себе представила, как бы я посмотрела на человека, который чинит помехи моей работе, — да я бы считала его последним подлецом и злодеем! И мысль моя непроизвольно пошла дальше: сейчас я стою поперек дороги этой молодой энтузиастке, больше того — не даю ей развернуться, вставляю палки в колеса, хотя и вопреки своей воле и без злого умысла. И когда я дошла до этой мысли, то почувствовала, что начинаю сдаваться, она же, со своей стороны, проявив себя тонким психологом, тотчас уловила критический момент моей капитуляции и, сразу просияв, спросила, когда можно прийти за материалами.
Я сказала, что живу в Мургале и такое посещение сопряжено с некоторыми трудностями, что ее, вопреки моим расчетам, не смутило: человек энергичный и волевой, она не признавала никаких преград. Но, возможно, она опасалась, что я вновь остыну и не сдержу своего слова. Так что после легкого препирательства мы договорились, что «материалы» примерно через неделю доставлю я сама, когда приеду в Ригу по издательским делам.
С этого обещания начались мои мученья и стал быстро приближаться финал моей жизни — хотя ни в тот момент, ни в последующие дни я этого не знала и даже не подозревала, поскольку предчувствие (как я уже сказала) от роковой опасности меня не предостерегло. Правда, всю неделю за письменный стол я так и не села, однако это вынужденное безделье еще не казалось мне зловещим. Я просто без дела слонялась по дому, перебирала вещи на полках и копалась в выдвижных ящиках, развязывала пачки старых бумаг и перелистывала альбомы, глядя на лица своих близких и на свое прежнее лицо, уже чувствуя подспудно щемящую боль и что-то вроде печали расставанья, но еще не угадывая в тех ощущениях тяжелой апатии, которая так скоро охватит меня и уже не отпустит. Я искала среди своих вещей что-нибудь такое, с чем могла бы добровольно расстаться, но чем больше я их перебирала и листала, тем больше — тяжело и сладко, как ладан, — меня окутывал дым былого, который казался частью меня самой, и я не находила ничего такого, что могла бы отдать без боли, не отрывая от себя с кровью.
Под конец добралась до рукописей и начала листать успевшие пожелтеть, обтрепанные по краям и уже словно бы чужой рукой исписанные листы, хранящие не только буквы и слова, но и знаки разных мелких происшествий и маленьких невзгод, которые чужому человеку не говорят и не могут сказать ничего, во всяком случае не то, с чем это связано для меня. На одном листе еще виднелся след моей первой кошки. После нее у меня их было еще четыре, но все погибли не своей смертью, так как по народным поверьям кошек нельзя купать в реке и мыть, а я это делала. Кое-где на бумаге маячили буроватые пятна, помечая те места, где дело у меня шло туго и я прерывалась, чтобы сварить кофе. Но чаще, чем хотелось бы, я натыкалась на расплывчатые отпечатки стаканов и лап, и хотя в стаканах чаще всего был вишневый сок, чай или минеральная вода «Ессентуки-17», я поймала себя на мысли, что стороннему глазу эти круглые печати утоления жажды могут показаться подозрительными, а то и предосудительными. Я была еще жива, и мне казалось важным, что именно думают люди и будут обо мне думать (лишь потом это стало безразлично), и я начала изымать из стопки один за другим все листы, на которых виднелись какие-либо посторонние пятна, хотя посторонними они могли представляться только человеку чужому — для меня они были частью моей жизни, так как за работой я, когда была голодна, ела, а когда чувствовала жажду, пила, плакала, когда подступали слезы, рисовала на полях, а посреди листа насыпала кучку семечек — словом, делала то, что мне за столом хотелось делать, не предполагая, что свои желания и хотения, слабости и пороки мне когда-то придется выставлять напоказ.
Я отобрала сотни две сравнительно приличных листов, примерно столько, сколько входит в папку нормального размера, и отвезла сотруднице музея. Она спросила, действительно ли это все, и я сказала, что это, к сожалению, все, но она сразу нахмурилась так, что я против воли закончила фразу придаточным предложением: «…что мне пока удалось собрать». И эта часть предложения, вернее, даже не часть предложения, а одно-единственное слово, обнадеживающее пока, и стало в конечном счете, истинным началом моей гибели. Я была вынуждена пообещать привезти через неделю «дополнительные материалы».
Это, конечно, было нечестно с моей стороны, так как я решила не давать больше ничего, уверившись и за несколько дней укрепившись в этой уверенности окончательно, что у меня нет ничего, с чем бы я могла расстаться с легкой душой, так что новое обещание было продиктовано скорее отчаянием, чем искренним согласием. В гостеприимных стенах музея я больше не показывалась. Но если я надеялась с помощью такой детской уловки от сотрудницы избавиться, то я горько заблуждалась. Примерно на восьмой день после нашей последней встречи раздался телефонный звонок, междугородний из Риги, и в трубке послышался приятный мелодичный голос моей знакомой, которая любезно и все же настойчиво напомнила мне наш уговор, в мягкой форме высказав при этом упрек, что переданная мной музею рукопись оказалась недостаточно качественной, а именно — весьма неполной и фрагментарной. И так как сказать правду по телефону всегда легче, чем глядя в глаза, то я, собравшись с духом и подбирая выражения как можно деликатнее, дала понять, что не считаю больше наш договор действительным, и привела доводы, которые она со своей стороны, хоть и явным образом огорченная, сочла вполне понятными, что и притупило во мне какие бы то ни было опасения.
Я стала успокаиваться, считая, что опасность миновала. (И в этом была моя ошибка.)
Больше того — понемногу я пришла в себя и начала даже что-то ковырять за письменным столом, все больше восстанавливая душевное равновесие. Развязка, однако, была уже близка.
И однажды в первой половине дня, когда я работала в чердачной комнате, вдруг свирепо залаяла привязанная у входа собака. Поскольку дома была я одна, то, держа машинально в руке авторучку, спустилась по лестнице — узнать, кто пришел и по какому делу. Сперва я увидела у калитки оранжевые «Жигули», потом во дворе женщину в сером костюме, которая стояла, глядя на дом, должно быть не отваживаясь идти дальше из-за собаки.
То была она, но по близорукости я заметила это слишком поздно, когда отступить было уже нельзя так, чтобы это не походило на малодушное бегство. Я пошла ей навстречу. Когда настала пора поздороваться, я, наконец, увидела, что все еще держу в правой руке авторучку. Ручку заметила и она, и ее глаза — я видела это явственно — так и сверкнули. И хотя предварительно, как известно, состоялся наш не очень-то приятный разговор по телефону, она держалась непринужденно и с упреками на меня отнюдь не наскакивала, а только любезно и даже не без лукавства напомнила о моем обещании, словом, держалась и вела себя так, как положено держаться и вести себя гостье.
Я же, напротив, была никуда не годной хозяйкой. Я не только не пригласила ее, как полагалось бы, в дом, но больше того — сказала, что у меня идет ремонт и потому я не сумела ничего для нее подыскать (то была явная ложь, и она это прекрасно видела). Пусть она меня извинит, сказала я, но при таких обстоятельствах я ничем не могу быть ей полезна, хотя мне от души жаль, что такой дальний путь она проделала зря. Так я сказала, пользуясь тем, что мой тыл, как говорится, прикрывала собака.
Я заметила, что при этих моих словах ее взгляд опять упал на мою авторучку, мало того, я увидела, как расширились у нее зрачки и как они с каждой секундой ширились все больше, поглощая сероватую синь радужных оболочек, так что глаза постепенно сделались совсем черными. И когда я кончила говорить, а глаза ее потемнели настолько, что походили на два кусочка антрацита, она спросила чуть хрипловатым, задушенным голосом, как я посмотрю на ее предложение передать музею свою авторучку.
На это я ответила, что мне тогда нечем будет писать. Усмехнувшись, она спросила: разве мои материальные возможности не позволяют мне, скажем, купить новую ручку? Мои материальные возможности, как она выразилась, купить новую ручку, само собой, позволяли, но к этой я, вот беда, очень привыкла. И все же, как большинству людей, мне тоже хотелось выглядеть благородней, чем я есть на самом деле. А то еще симпатичная сотрудница может подумать, что я раба вещей, исповедую фетишизм, который в своих произведениях решительно осуждаю. И немного еще подержав ручку и в последний раз ощутив в пальцах знакомый гладкий корпус, который с течением лет, казалось, притерся именно к моей руке, я протянула ее сотруднице.
Она быстрым движением взяла ручку и затем спросила, не нужно ли мне на нее квитанцию. Квитанция мне была не нужна. Мне не нужно было больше ничего. Я повернулась и ушла в дом. Она крикнула мне вслед, что будет регулярно звонить: если найдется что-нибудь подходящее для музея, чтобы я о ней вспомнила.
Я, по-моему, ничего ей не ответила, она же свое обещание выполняла — в среднем раз в три дня, а потом ежедневно звонила мне из Риги, всякий раз извиняясь и любезно осведомляясь, не оторвала ли она меня от работы. И я говорила, что нет, что она ничуть мне не помешала, при этом я не кривила душой ни в малейшей степени просто потому, что больше не писала. Потом она спрашивала, не нашлось ли у меня что-нибудь для нее, для музея то есть, и я неизменно отвечала, что постоянно имею в виду ее пожелания и при первой же возможности так или иначе непременно смогу быть ей, музею то есть, полезной.
Потом мне надоело говорить одно и то же, и, когда опять раздалось характерное треньканье, я послала к телефону младшую дочь. Она спросила, что сказать, если звонят из музея, и я ответила первое, что пришло в голову: пусть скажет, что я сплю. А чтобы мой поступок не выглядел крайне непедагогично, я действительно отправилась в свою комнату, легла на тахту и тупо уставилась в потолок. Мне трудно сказать, сколько прошло времени, когда дочь снова вошла ко мне и сказала, что опять звонят из Риги и меня спрашивают, и я уже с полным безразличием к тому, что обо мне могут подумать, просила ответить, что я все еще сплю. Тогда дочь вошла опять со словами — из музея спрашивают, сколько еще я буду спать. У меня слабо мелькнула мысль: может быть, мне подняться, подойти к аппарату и сказать, что я отдам им свой письменный стол, так как с тех пор, как мне больше нечем писать, проблема — на чем писать — утратила всякий смысл и актуальность. Но подняться на ноги мне уже казалось трудным, да к тому же и незачем, и я велела сказать, что, сколько я просплю, неизвестно.
Поздно вечером я все же поднялась и, проходя мимо зеркала, совершенно случайно туда взглянула; лицо мое было изжелта-бледное, как старый пергамент, волосы тусклые и спутанные, как пучок искусственного волокна, глаза мутные, как у вареной рыбы, уголки губ поникли, как обвисшие усы, — то была, скорее, клоунская маска, чем лицо живого человека.
Я смотрела на свое отражение. Оно должно было меня потрясти, как-никак я ведь женщина, но я не почувствовала ничего. Мне хотелось только лежать. Я пролежала уже целые сутки, а мне хотелось лежать, только лежать. От зеркала я прошла снова к тахте — опять легла и снова уставилась в потолок. Постепенно мне стало казаться, что от потолка отделяются легкие белые пушинки и летают. Они падают, падают, и на меня тоже — я покрываюсь снегом.
Вдруг сквозь этот тихий снегопад раздался словно бы очень дальний телефонный звонок. Я догадалась, что звонят опять из музея, но ни подняться, ни сказать что-нибудь была уже не в силах и слышала только, что говорила в трубку, давясь слезами, моя дочь:
— Ее нет и не будет. Случилось то, чего вы хотели, чего добивались, — она умерла.
Я хотела крикнуть, что нет, это ошибка, я ведь не умерла, но слой снега сдавил мне грудь и стеснил дыхание. Я судорожно хваталась руками за горло, спихивала и сталкивала с груди тяжесть, но голос никак не возвращался. А надо мной по-прежнему сеялись и падали крупные белые хлопья…
— Dzień dobry, panie, dzień dobry… — вдруг где-то совсем рядом над моей головой раздалось очень знакомое лопотанье, и сквозь снежную завесу промелькнул вроде бы силуэт Тьера.
Он смотрел на меня сверху, а я глядела на него снизу. Но потом откуда-то протянулись руки — птица скрылась, и опять колыхался лишь белый полог хлопьев, в котором далеко где-то выплыли и, как фары, приближались два глаза, глядя на меня внимательно и участливо.
— Жива? Жива! — тихо и мягко сказал голос, и сквозь белесый хаос смутно проступили знакомые черты. Я мучительно пыталась восстановить в памяти, чье же это сухощавое лицо с высоким лбом мыслителя. Но и память моя бродила, застывшая, по безнадежно глубокому снегу, блуждала в тумане, ощупью пробираясь на слабый блик света где-то впереди, словно в дальнем конце длинного и темного коридора. — Не говорите! Вам не надо разговаривать…
Я и не знала, что я разговариваю или хотя бы пытаюсь что-то сказать. Горло мое по-прежнему как бы сдавлено, и я не слышу своего голоса. Однако матовое мелькание постепенно прекращается, точно метель стихает, и в знакомом и одновременно незнакомом лице я узнаю черты Войцеховского.
«Жив? Жив!» — хочется мне вскрикнуть его же словами, но сказать что-либо я не в состоянии, только пытаюсь улыбнуться, но и улыбка, наверно, получается кривая и слабая, больше похожая на гримасу от боли, чем на проблеск радости, так как в глазах Войцеховского сострадание.
— Сильная боль… — говорит он не то вопросительно, не то утвердительно, хоть боли никакой я не чувствую. — Малость забастовало сердце… Лелде нашла вас прямо у моего дома, ну а Мелания принесла сюда. Отвезти вас в больницу предлагали и Велдзе, и Каспарсон, но мы с Меланией, — он улыбнулся, — два бравых медика, мы побоялись допустить промах. Позвонили в «скорую». С минуты на минуту должна быть…
Из фантасмагории беспамятства я понемногу вновь возвращалась в действительность.
Значит, живы были также Лелде и Велдзе, и, наверное, Вилис Перкон, и Марианна тоже, Петер и Хуго Думинь — живы были все, и ничего, ровно ничего не случилось. И я почувствовала огромное облегчение. Я резко шевельнулась, и у меня вырвался стон: в меня тоже с острой и жгучей болью вливался огонь жизни.
От издателя
В ближайшие годы издательство «Лиесма» выпустит в переводе на русский язык тетралогию новых романов Регины Эзеры «Услышь свой голос».
Это самобытное по структуре произведение народной писательницы органически входит в основную проблематику ее творчества: жизнь как система и место в ней homosapiens, человека разумного. Здесь, как и во всех прошлых ее сочинениях, Р. Эзеру ведет стремление проникнуть в «тайну, имя которой — человек», она продолжает размышлять о связи человеческого существования с жизнью природы, о всеобщей взаимосвязанности в мире и непрерывности жизни. В то же время новые публикации, две первые части тетралогии — вышедшее отдельной книгой «Насилие» (1982 г.) и напечатанный в журнале «Карогс» роман «Предательство» (1982 г.) — свидетельствуют о весьма существенных переменах, происшедших в творческом развитии писательницы. Сохраняя эмоциональную образность, лиричность своей прозы и мастерство психологического анализа, Регина Эзера обращается к изучению корней социальных явлений и связей, заостряет конфликт, отношения выведенных персонажей со временем и обстоятельствами. В образах Элизы Калнынь, Юста и Агриса из первой части тетралогии во весь рост встает тема ответственности, осуждение насилия в любой его форме. Насилие над природой, нечуткость и бездушие ведут в конечном счете к насилию над человеком и человечеством, что подчеркивает автор и в публицистическом отступлении об убийстве и мотивах убийства. И безответственность в материнской любви, как показывает автор, порождает насилие, которое ведет к гибели близкого человека. Алкоголизм — тоже насилие, насилие над собой, ибо он губит человека, омрачает жизнь и разрушает семью.
Свои новые произведения Регина Эзера строит как «жанровый гибрид», где автобиографическое уживается с социально типичным, документ с вымыслом, лирическое — с драматическим и даже трагическим, где писательница сама входит в круг своих героев, разговаривает с ними как равная с равными, совершает поступки. Особенно характерно это для повествования во второй части тетралогии, «Предательстве», где образ автора — который, конечно, лишь отчасти является автопортретом, но автобиографичность которого несомненна — несет на себе главную идейную нагрузку романа. В латышской и, пожалуй, даже — в новой советской повествовательной литературе это произведение уникальное. Оно вводит нас в лабораторию писателя (мы прослеживаем создание романа, а также формирование молодого прозаика Ирены Набург), рассказывает о буднях писателя, его человеческих качествах и общественном предназначении, о творчестве как призвании, как смысле жизни и в то же время — суровом и самоотверженном повседневном, труде.
Первые два романа тетралогии дают основание говорить о новом замысле Регины Эзеры как о творческой удаче писательницы.
Бронислав Табун