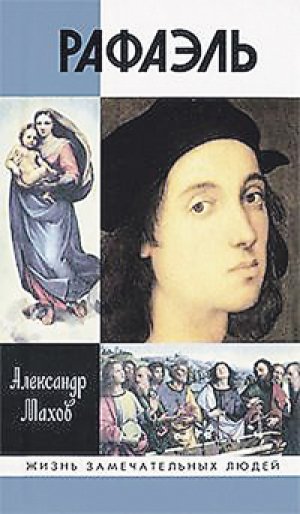
Глава I
ИСТОКИ И ВРЕМЯ РАФАЭЛЯ
Природа была щедра к Рафаэлю, и он не остался перед ней в долгу, сумев за отпущенное ему время с толком распорядиться своим дивным даром и осчастливить мир великими творениями. Но завистливая судьба пожадничала, отмерив ему всего лишь 37 лет земной жизни. Она не впервой так поступает с гениями — Моцарт, Пушкин…
Время, в которое жил и творил великий художник, принято называть Высоким Возрождением. Оно подвело черту под более чем двухвековым периодом в истории Италии, отразив глубокие перемены, затронувшие политическое устройство, экономику и, главное, сознание людей, что и явилось определяющим для дальнейшего развития национальной культуры. Один из зачинателей итальянского гуманизма Франческо Петрарка образно заметил, что в Италии творилось нечто невообразимое, когда, словно сговорившись,
Эта метафора великого поэта указывает истоки, изначально питавшие итальянское Возрождение, для которого Античность являлась образцом жизневосприятия и творчества. Всё это происходило в те времена, когда из учёной латыни постепенно вырос новый язык vulgo, несущий на себе печать живой разговорной образной речи народа. Так со временем язык Вергилия и Цицерона превратился в язык Данте и Петрарки, постоянно совершенствуясь и обогащаясь благодаря живым родникам народного словотворчества.
Термин «гуманизм» (studia humanitatis) получил широкое распространение в эпоху Возрождения, выражая саму сущность её культуры и мировоззрения как стройной системы разносторонних знаний о человеке и его месте в природе и обществе. Поначалу эта система взглядов разрабатывалась в трудах флорентийских учёных-гуманистов, основавших Платоновскую академию, где были полностью переведены на латынь и прокомментированы сочинения Аристотеля, Платона, Плотина, а также эпикурейцев, стоиков и других древних авторов. В ту переходную эпоху от средневековой схоластики к новым временам в ходе острой полемики с упирающейся и не сдающей своих позиций ортодоксальностью утверждались идеи гуманизма и переосмысливались прежние представления о природе и человеке, об отношениях между миром небесным и миром подлунным.
Именно тогда были радикально пересмотрены старые философские понятия и сформировалась новая методология изучения окружающего мира и природы самого человека. Но окончательному разрыву с ортодоксальностью мешало то, что многие пытливые умы в своих изысканиях все ещё проявляли робость. Следуя непроторённым путём, они часто спотыкались, напоминая слепцов, которые опираются, как на костыли, то на Библию, то на традицию античной мысли. Приведённое выше изречение Петрарки как нельзя лучше поясняет, сколь глубоки были культурные сдвиги, произошедшие в социальной среде и в сознании людей. Действительно, гуманизм обретал всё более народный характер, порывая со схоластикой и её бесплодным доктринёрством. В городе и деревне — повсюду люди увлечённо принялись «толковать о музах и Аполлоне», поскольку уровень грамотности был тогда уже достаточно высок. Значительно возрос интерес к печатному слову. Например, широкую известность получил «Флорентийский дневник» портного Бастьяно Ардити, пытливого наблюдателя и колоритного писателя. И таких случаев было немало в ту эпоху. Будто проснувшись после вековой спячки, люди с детским любопытством стали заново открывать для себя окружающий мир.
Это было время больших открытий. Гуманист Лоренцо Валла подверг сомнению подлинность так называемого «Дара Константина», оправдывавшего притязания Церкви на светскую власть. Вскрыв подлог, Валла выбил из рук клерикалов их главный козырь, что не замедлило вызвать небывалое брожение умов. Учёный считал, что природа — это и есть Бог, а гармония мира — первоначало самой природы. Глава Платоновской академии Марсилио Фичино в своих трудах прославлял человека, который «почти равен гению творца небесных светил». Его эстетические взгляды легли в основу поисков красоты и гармонии мира в творчестве многих мастеров Высокого Возрождения. Тогда же Джованни Пико делла Мирандола в сочинении «О достоинстве человека», опубликованном в Болонье в 1496 году, провозгласил, что именно человек — «единственная мера всех вещей». Эти три гуманиста с их глубокими философскими познаниями отвоевали у богословия, вторгшись в его проблематику, право человека на свободу, на эстетическое наслаждение и гармоничное развитие.
Если Средневековье — это эпоха сугубо теоцентрическая, то в трудах гуманистов упорно прокладывал себе путь антропоцентризм. Ещё задолго до космологической теории Коперника и Галилея в сочинении работавшего в Италии немца Николая Кузанского De Docta ignorantia («Учёное незнание») уже утверждалось, что Земля, как и любое другое небесное тело, не может быть центром Вселенной, которая вечна в своей бесконечности. В те годы, как в тигле средневековых алхимиков, перемешивались самые различные теории и взаимоисключающие друг друга взгляды в поиске смысла жизни. Именно тогда в муках рождалось новое мировоззрение, чему в значительной мере способствовало появление книгопечатания. На становление и формирование искусства Возрождения повлияли готика, художественное наследие Византии и стран Восточного Средиземноморья. Но первостепенным было влияние Античности — наследия Гомера и Вергилия.
Переломным для культуры и искусства Италии оказался 1492 год. После открытия Колумбом Нового Света произошли коренные перемены во взглядах на мироустройство и смещение традиционных морских путей из Средиземноморья в Атлантику, что пагубно сказалось на экономике итальянских городов-государств, являвшихся центрами высокоразвитой торговли, ремёсел и банковских сделок. 8 апреля 1492 года Флоренцию, эту признанную столицу гуманизма и ренессансного искусства, потрясла смерть её просвещённого правителя и одного из крёстных отцов Возрождения Лоренцо Медичи, политика и поэта, прозванного Великолепным — Magnifico. В том же злосчастном году в Риме папой был избран испанец Александр VI Борджиа, одна из самых одиозных фигур в истории папства, чьё пребывание на ватиканском престоле совпало с обрушившимися на Италию страшными бедствиями — чужеземным нашествием, засухой и чумой.
После более чем тысячелетнего средневекового обскурантизма, когда в Риме безжалостно уничтожались памятники античного искусства, презрительно называемого «варварским», когда огульно отрицалось любое проявление язычества и только чудом сохранилась и не пошла на переплавку величественная конная статуя Марка Аврелия, которую хулители всего языческого по недомыслию сочли изображением императора Константина, принявшего христианство, итальянцы словно прозрели и повсюду взялись за поиски образцов дохристианского искусства. Из небытия то и дело извлекались на белый свет античные раритеты. Изумлённым взорам римлян однажды предстали Аполлон Бельведерский, скульптурная группа Лаокоон, ватиканский торс, Венера Капитолийская и множество других изваяний и копий с древнегреческих оригиналов, в том числе с работ Лисиппа и Праксителя. Под развалинами римских терм, сооружённых в годы правления императоров Веспасиана и Тита, в подземных гротах была обнаружена великолепная настенная живопись на сюжеты античной мифологии, получившая название «гротески».
Началось повальное увлечение собиранием памятников древности. Известно, что против слепого подражания античной культуре выступал Леонардо да Винчи, высмеивая её особо рьяных поклонников, которые, «сменив Библию на античные тексты, уподобились средневековым схоластам, скрывающим своё скудоумие за высокими авторитетами». Модой на всё античное умело воспользовался юный Микеланджело — он изваял «Спящего Купидона» и, проделав над ним некую манипуляцию по старению мрамора, выдал за античное изваяние. Эта хитрая проделка наделала много шума, показав, однако, что начинающий честолюбивый скульптор не побоялся бросить дерзкий вызов античным ваятелям.
Извлечённые из-под земли статуи и элементы античного декора позволили итальянским мастерам познать доселе неведомую им гармоничную систему пропорций, главным критерием которой была порождённая природой строгая закономерность. Центральной темой искусства стал человек, изображаемый не в виде «бренного сосуда духовной влаги», что было характерно для средневековой схоластики, а как существо из плоти и крови, способное мыслить, любить и постоять за себя.
Возросшее в Италии внимание к античной философии и искусству привело к тому, что повсеместно возобладал возрождённый интерес к личности человека, его сути и земным деяниям. По мнению философа А. Ф. Лосева,2 само происхождение термина «возрождение», традиционно применяемого к эпохе XIV-XVI столетий, когда в искусстве ярко проявились две основополагающие тенденции — подражание природе и подражание древним, следует искать не где-нибудь, а в Библии. Например, в Евангелии от Иоанна (3, 3) сказано: «…если кто прежде не возрождается вновь, тот не может увидеть царствия Божия».
Искусство XV века отразило время относительного спокойствия, стабильности и стремления к гармонии, чему способствовали расцвет гуманитарных знаний, открытия науки и техники. Как писал Марсилио Фичино: «Наш век — век воистину золотой. Он возродил свободные искусства, которые уже почти погибли, — грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и древние напевы Орфеевой арфы… Во Флоренции воссиял из мрака свет платоновской мудрости, а в Германии именно в наше время были изобретены орудия для печатания книг».3 С ним полностью был согласен верный его последователь гуманист Эджидио да Витербо, который в ответном письме старшему товарищу и наставнику восклицал: «Ведь это, мой друг Марсилио, наступило царство Сатурна, золотой век, воспетый оракулами и Сивиллой!» Этому учёному предстояло сыграть немаловажную роль в судьбе Рафаэля.
Если на исходе XV века философы и астрологи были охвачены предчувствием грядущих перемен к лучшему, то наступивший XVI век прошёл под знаком бедствий и трагических потрясений, о чём трудно судить по творениям Рафаэля, словно время их не коснулось. Для этого следует обратиться к искусству его великого современника Микеланджело, вскрывшего изъяны, пороки, ложь и лицемерие своего времени. На смену демократическому правлению городских коммун к власти почти повсеместно пришли тираны и узурпаторы, восстановившие прежние феодальные порядки. Будучи раздроблена на мелкие враждующие государства, Италия так и не сумела преодолеть междоусобные распри, чтобы собраться с силами и противостоять нашествию чужеземцев. Её плодородные земли с благодатным климатом издревле являлись лакомым куском для завоевателей всех мастей.
Эпоха Высокого Возрождения продлилась недолго. В своём неравномерном развитии она познала взлёты и падения из-за раздирающих общество противоречий, а разразившийся кризис затронул не одну только экономику, но и культуру и искусство. Следует признать, что развитие цивилизации не пошло искусству на пользу. Оно стало утрачивать непосредственность и свежесть восприятия окружающего мира, а наивная образность и пылкость чувств часто подменялись холодной рассудочностью и практицизмом, что в конце концов приводило к оскудению родников поэтического вдохновения и полёта фантазии. На смену творческому горению в искусстве пришли изобретательность и лёгкость, а вдохновение стало подменяться патетикой и риторикой.
Основным и противоречивым источником, питавшим искусство Возрождения, оставалась религия, хотя в те годы истинно религиозное чувство не играло главенствующей роли, как прежде, и светским духом были насквозь пронизаны главные очаги культуры, заражённые свободомыслием. Выдвинувший теорию «религии добра» историк и философ Франческо Гвиччардини с горечью отмечал, что «слишком сильна власть этого слова — Бог — над умами глупцов», считая бесполезной любую борьбу с религией. Он ратовал прежде всего за упразднение папства — этой «шайки злодеев» с их лицемерием и алчностью, не имеющими ничего общего с проповедуемым ими христианством.4
Важнейшим центром свободомыслия и передовых идей была Флоренция. Как справедливо заметил француз Ренан, «Флоренция после Афин — город, сделавший больше всех других блага для духа человеческого. Флоренция — вместе с Афинами — матерь всякой истины и всякой красоты».5 Она была также важнейшим торгово-промышленным центром Италии, одевавшим в шелка и яркие сукна богатую Европу и Ближний Восток. Объявившийся там юный Рафаэль с головой окунулся в изучение культуры и искусства колыбели итальянского Возрождения.
Со временем центр передовой мысли и творческого поиска из Флоренции переместился в папский Рим. Однако и Венеция оставалась одним из оплотов передовой культуры и центром книгопечатания, где знаменитый типограф Альд Мануций издал почти всех итальянских, латинских и греческих авторов чуть ли не в карманном формате, применив изобретённые им новые типографские шрифты, названные в его честь aldini. Но основные события были связаны с Вечным городом — caput mundi — столицей мира, так как оттуда поступали главные заказы на художественные произведения и именно там предпринимались наибольшие усилия по объединению разрозненных земель Италии в единое национальное государство, о чём когда-то мечтал Петрарка, а вслед за ним другие светлые умы. Всё это не замедлило найти отражение в искусстве, которое стало обретать торжественно-монументальное звучание как напоминание о великом античном прошлом, когда под властью Рима находилась добрая половина мира, а итальянцы по праву считали себя, да и ныне считаются его прямыми наследниками.
На излёте XV столетия Леонардо да Винчи и Микеланджело уже успели создать в Милане и Риме свои подлинные шедевры. Судьба распорядилась так, что вначале во Флоренции, а затем в Риме одновременно сошлись пути Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Ни в чём не уступая друг другу и постоянно соперничая, все трое продолжали развивать и совершенствовать реалистические традиции своих великих предшественников Джотто, Мазаччо, Донателло и Брунеллески. В этой славной триаде гениальных творцов Рафаэль был моложе Леонардо на 31 год, а своего главного соперника Микеланджело — на восемь лет. Уже сама разница в возрасте могла бы поставить Рафаэля в зависимое положение от двух его великих современников, поскольку оба были флорентийцами и сформировались как творцы на почве богатейших художественных традиций, которыми славилась Флоренция, а Рафаэль как художник делал первые шаги в провинции, вдали от столбовых дорог развития нового ренессансного искусства. Но, к счастью, этого не произошло, и юный Рафаэль не дал зачахнуть своему таланту в глуши, заняв достойное равное место в замечательной триаде.
О легендарной эпохе и её мастерах накоплена богатейшая литература. Первым биографом Рафаэля можно считать его ровесника видного историка-гуманиста и врача Паоло Джовио. В одном из своих сочинений «Панегирик» (Elogio) он выразил мнение тогдашнего большинства, говоря об удивительной мягкости и живости таланта Рафаэля, способного усваивать всё лучшее, что есть в живописи. Способность Рафаэля воспринимать и усваивать достигнутое ранее итальянскими мастерами отметил также и Джорджо Вазари (1511-1574), художник, архитектор и историк искусства энциклопедического склада. Спустя 30 лет после ухода из жизни Леонардо и Рафаэля он выпустил свои «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Вазари широко использовал почерпнутые им данные из книги «Комментарии» Лоренцо Гиберти, из «Жизни замечательных людей» Веспазиано ди Бистуччи и сочинений других менее именитых авторов.
В первое издание «Жизнеописаний» Вазари вошло более 130 имён с подробным рассмотрением творений каждого мастера. Основное внимание было уделено доживавшему свой век в гордом одиночестве Микеланджело. С ним автор водил дружбу, хотя не раз подвергался критике с его стороны за непоследовательность во взглядах и угодничество дому Медичи, по чьей указке он часто действовал. Несмотря на отдельные недочёты, заведомый вымысел в вольном изложении фактов из жизни художников и ошибки, вскрывшиеся позднее, этот монументальный труд остаётся поныне непревзойдённым литературным памятником, позволяющим прочувствовать атмосферу великой эпохи и глубоко понять эволюцию, которую проделали итальянское изобразительное искусство и архитектура за три с лишним столетия.
В своём объёмистом труде Вазари опирался на разработанную флорентийскими гуманистами закономерность смены трёх эпох культуры: Античность, Средневековье, Возрождение. Дойдя до описания свершений Высокого Возрождения и выделив во втором издании творения мастеров венецианской школы живописи, он остановился на работах художников «новой манеры», получившей с его лёгкой руки название «маньеризм», приверженцы которой делали акцент на чрезмерной вольности и экстравагантности, на стремлении к изяществу ради самого изящества, на вычурности и неестественности поз своих героев и т. д.
Сравнивая деяния трёх великих творцов Высокого Возрождения, Вазари отдаёт явное предпочтение Микеланджело, но вынужден признать, что «природа, побеждённая Микеланджело Буонарроти, пожелала также быть побеждённой соединением искусства с чудесным характером и подарила миру Рафаэля».6 Эти слова Вазари стали ключевыми для понимания личности Рафаэля, хотя многое в нём так и осталось непостижимым и загадочным для нескольких поколений благодарных потомков, покорённых дивным искусством и безуспешно тщившихся проникнуть в его тайну.
Одним из первых читателей «Жизнеописаний» стал Микеланджело. Он был польщён, что пальму первенства в искусстве Вазари отдал ему, поставив над Леонардо и Рафаэлем, а к ним он не питал симпатии и постоянно с ними соперничал. Микеланджело высоко оценил сочинение земляка и младшего собрата по искусству, посвятив ему один из поздних сонетов и предсказав громкую славу его «Жизнеописаниям». В заключительных терцинах сонета он признаёт, сколь ничтожны и бесплодны старания любого творца тягаться с матерью-природой:
Вазари не мог знать Рафаэля, но он был знаком с учениками и друзьями мастера, от которых почерпнул немало для себя ценного, а главное, получил достоверные сведения о жизни великого творца, его характере, привязанностях и вкусах. Если данных недоставало, в ход шла богатая фантазия автора «Жизнеописаний», хотя многие его догадки оказались на удивление вполне обоснованными, что подтверждается некоторыми архивными данными, которые были тогда вне поля зрения пытливого биографа.
Творения Рафаэля, как и «Комедию» Данте, ещё при жизни авторов называли «божественными». Фигура художника обрастала мифами и легендами, укреплявшими славу его таланта, который с блеском раскрылся как в живописи, так и в архитектуре и рисунке. По складу своего дарования он был прирождённым классиком, принадлежащим к редким по натуре подлинно гармоничным личностям, в которых естественность и простота органично соединялись с непревзойдённым мастерством. Имя Рафаэля давно уже стало синонимом гениальности в искусстве, а сам он со временем превратился в неприкасаемую и вне всякой критики личность. Президент Римской академии Святого Луки художник Федерико Дзуккари в полемике с противниками классических традиций неизменно опирался на наследие Рафаэля. В 1605 году в изданной им книге «Плач по живописи» он посвятил своему кумиру такое четверостишие:
Эта оценка прочно закрепилась в сознании людей, став общепринятой истиной, что приумножило число почитателей Рафаэля. Рассказывая о своих впечатлениях от поездки по Италии, Гёте справедливо отмечал: «Люди, подобные Рафаэлю, не родятся на пустом месте, они опираются на античное искусство и всё то лучшее, что было создано до них. Если бы они не умели использовать преимущества своего времени, то о них нечего было бы говорить».9 Позднее французский историк и искусствовед И. Тэн в книге «Путешествие по Италии» поставил Рафаэля в один ряд с Фидием, Софоклом и Платоном.
Истоки творчества Рафаэля напрямую связаны с уроками античного искусства, наследием старых мастеров и творениями Леонардо и Микеланджело, особенно Леонардо, от которого он воспринял мягкую дымчатую манеру письма, получившую название sfumato. Под влиянием великого флорентийского мастера в произведениях Рафаэля заметно усилилась светотеневая моделировка. Как никто другой, он умел использовать преимущества своего времени, столь щедрого на таланты, упорно изучая удачные находки и гениальные откровения предшественников, равно как и лучшие произведения современников. В работах начального периода он показал, насколько глубоко мог вживаться в живописный строй других мастеров, оставаясь при этом самим собой. Молодой художник с таким старанием, трепетом и достоинством воплощал в своих работах любой удачный опыт, что современники источали бурные восторги перед каждой новой его картиной.
Для своего времени Рафаэль был достаточно образованным человеком, сумевшим самостоятельно пополнить свои познания во многих областях культуры, впитывая в себя как губка всё, что нужно было знать начинающему художнику, чтобы утвердиться в обществе и в мире искусства, где конкуренция была особенно сильна. В круг его друзей и знакомых входили высокоэрудированные люди, от которых он почерпнул немало сведений по истории, литературе и эстетике. Для него основополагающим оказалось пребывание во Флоренции, где он проявил себя преимущественно в станковой живописи, а в Риме, бывшем в то время главным культурным центром Италии, Рафаэль стал непревзойдённым мастером стенописи, создав монументальные фрески на мифологические, исторические и религиозные сюжеты, которые вправе соперничать с великими творениями самого Микеланджело.
Благодаря накопленным знаниям Рафаэль был принят как равный сообществом гуманистов и литераторов, найдя среди них советчиков и друзей. В их среде не утихали бурные споры по животрепещущим вопросам бытия, затронутым, например, в сочинении Валлы «О наслаждениях», рассуждениях Фичино о Платоне, комментариях Ландино к «Божественной комедии», ставших чуть ли не настольной книгой любого образованного человека, или в лирических откровениях Ариосто, Полициано, Бембо, Саннадзаро, Эквиколы, Эбрео, представлявших собой своеобразную «поэтическую философию любви», которая оказалась менее «божественной», чем у тех же Фичино или Пико делла Мирандола, зато значительно более «очеловеченной». В подражание певцу Лауры они состязались друг с другом, воспевая совершенства своих возлюбленных. Поэзия и любовь были для них синхронны как звуки одного гармоничного аккорда. Все эти сочинения тогдашних властителей дум оказали основополагающее влияние на формирование мировоззрения Рафаэля и развитие его эстетического вкуса. Ему стали близки и понятны идеи гуманистов, которых он считал единомышленниками. Все они горячо выступали за независимость и отделение культуры и искусства от мира политики и чистогана, но при этом не порывали с церковной ортодоксией. Так, неоплатоник Марсилио Фичино до конца дней своих не расставался с сутаной католического священника и выступал как истый хранитель церковных постулатов. В некотором смысле на смену устаревшим формам средневекового «рационализма» гуманисты вводили формы изощрённого фидеизма.
Многие гуманисты утверждали, что свобода и счастье каждого индивидуума — это главный оценочный критерий при анализе любого произведения искусства. Часто из их уст исходили призывы испить до дна заздравный кубок жизни сегодня и не задумываться особо о дне завтрашнем, к чему ещё недавно в одном из своих стихотворений призывал обожаемый ими Лоренцо Великолепный:
Жизнелюб Рафаэль находил время для наслаждения, но никогда не был сибаритом, и гедонизм был ему чужд. Его занимал не только день вчерашний, но и завтрашний, от которого он ждал осуществления творческих планов. В период укоренившегося индивидуализма широкое распространение получили взгляды античных эпикурейцев с их проповедью разнузданного и безудержного плотского наслаждения, возведённого в культ. Беспринципность, эгоизм и цинизм стали чуть ли не нормой поведения тогдашней интеллектуальной и творческой элиты, разъедая как ржавчина души. Именно в те годы один из высокоодарённых художников, презревший все нормы общественной морали, получил красноречивое прозвище Со́дома (от названия города Содом). Напомним также, что родоначальник современной журналистики Пьетро Аретино открыто призывал в своих писаниях следовать введённому им в оборот циничному принципу Veritas odium parit — «Правда порождает ненависть», а посему пусть миром, погрязшим во лжи, грехах и пороках, правит всепоглощающий обман, а истина пребывает в забвении. Такие взгляды укоренились в эпоху брожения умов, повсеместного преобладания пессимистических настроений и охватившего людей страха. Была утрачена уверенность в завтрашнем дне, повсюду приходили в упадок ремёсла и торговля, а большая часть земель Италии находилась под властью чужеземных захватчиков, подвергаясь грабежу, насилию и произволу.
В тот трагический период стали очевидными противоречивость и непоследовательность взглядов идеологов гуманизма, а порождённая ими культура, проделав нелёгкий путь в упорной борьбе со средневековым мракобесием, в отстаивании своих позиций и познав мучительные сомнения и страдания, связанные с историческими катаклизмами, стала всё дальше отходить от правды жизни.
Ярким примером отношения к земной жизни как некой переходной стадии к трансцендентному бытию, а эта мысль открыто провозглашалась не только с церковных амвонов, но и с университетских кафедр, может служить картина в римском дворце Барберини неизвестного ломбардского мастера начала XVI века. Вся её нижняя часть, словно в тумане, заполнена бестелесными тенями-призраками, а залитая светом верхняя половина, куда ведёт лестница Иакова с чётко прорисованными ступеньками, населена фигурами праведников во плоти и довольными своим существованием в высших эмпиреях небожителями. Следовательно, по мысли автора картины, земная жизнь — это всего лишь иллюзия наших чувств, данная нам в ощущениях.
Весьма примечательно, что в экспозицию того же музея входит знаменитая «Форнарина» кисти позднего Рафаэля. На картине его полуобнажённая возлюбленная с многообещающим взглядом чёрных, как маслины, очей преисполнена бьющей через край радости жизни и вполне откровенной плотской чувственности. Да разве можно всерьёз говорить при виде этого реалистического воплощения возбуждающей красоты обнажённого женского тела, что наша земная жизнь — это только иллюзия!
Глубокий кризис сознания ускорил закат искусства Возрождения, когда лежащий в его основе гуманизм всё более утрачивал свои позиции, а в годы начавшейся Контрреформации Церковь предприняла крестовый поход против инакомыслия, ереси и по всей Европе заполыхали костры инквизиции. Но вопреки запретам и строгим санкциям Рафаэль наряду с Леонардо и Микеланджело продолжал утверждать демократические тенденции в искусстве, опираясь на реальную действительность, глубокую веру в красоту сотворённого мира и великое назначение человека на земле.
Это был уникальный исторический период мощного взлёта творческих дерзаний, когда в Риме находились три великих итальянских творца, а также чуть не одновременно Николай Коперник, Мартин Лютер, Эразм Роттердамский, Томас Мор и Михаил Триволис, наш писатель богослов Максим Грек, то есть цвет передовой европейской мысли. Все они могли быть знакомы друг с другом, поскольку являлись не просто современниками, но и людьми почти одного поколения, одинаково дорожившими великими идеалами добра, свободы и справедливости.11 Для Рафаэля были памятны встречи с такими выдающимися личностями, как Макиавелли, Гвиччардини, Лютер и Дюрер, оставившими след в его сознании.
Стоит признать, что появление такого творца, как Рафаэль, выглядит не только закономерным, но и в некотором смысле выстраданным всем ходом развития исторического процесса с его достижениями и потерями. В нём так нуждался мир, обезумевший от фанатизма и живший во власти апокалипсических настроений.
Фигура Рафаэля представляет собой взаимообогащающее соединение искусства и гуманистической мысли. Создавая классический стиль в живописи, Рафаэль, как никто другой из современных ему художников, остро реагировал на новые веяния и духовные запросы общества. Своим творчеством он во многом определял его эстетические устремления, оказывая прямое воздействие на художественный язык не только изобразительных искусств, но и произведений гуманистической литературы, в частности на творчество Кастильоне и Бембо.
Искусство Рафаэля — это предельная ясность, простота, возвышенность духа и гармония, достигаемые благодаря виртуозному мастерству. Его творчество связано тесными узами с духовной культурой Возрождения, воплощая чувство прекрасного и радости жизни, что характерно и для деятельности Рафаэля как архитектора. Созданные в Риме по его проектам дворцы и храмы являются связующим звеном между творениями Браманте и Палладио, этих двух признанных столпов ренессансной архитектуры.
Появление в обществе столь обаятельной харизматической личности объяснялось современниками не иначе как волей Провидения. К Рафаэлю применимы слова Марка Аврелия, что «добродетель и нравственное поведение состоят в умении жить в полном согласии с природой». Подтверждением этих слов служит сама недолгая жизнь творца, лишённая громких потрясений, резких поступков или мучительных терзаний, что было так свойственно его современнику Микеланджело, чья долгая творческая жизнь — это борьба, протест, страсть, горькая ирония и резкие суждения. А вот Рафаэль — это сама гармония и красота вопреки несправедливости и повсеместно творимому на земле злу и произволу.
Жизнь Рафаэля проходила сравнительно гладко и спокойно. У него почти не было да и не могло быть врагов, хотя завистников хватало. Он ни о ком не высказывался резко и оставался верен своей натуре, понимая и ценя красоту окружающего мира. В отличие от равнодушных к женскому полу Леонардо и Микеланджело он любил женщин и был ими любим, хотя, как и два его великих собрата по искусству, так и не успел обзавестись семьёй, не желая, видимо, изменять своему кумиру — искусству, которому служил самозабвенно. Стремясь к совершенству своих творений, он совершенствовался и сам как личность и как творец. Его искусству свойственны чувство меры реального и идеального, уравновешенность рационального и эмоционального, что в своей совокупности придаёт созданным им произведениям неповторимую и ни с чем несравнимую красоту, которая притягивает и завораживает. Как отмечал Гёте, говоря об идеальном в искусстве, «истинная идеальность именно в том и заключается, что она пользуется реальными средствами для создания правды, вызывающей иллюзию действительности».12
Для придания живости и занимательности рассказу можно было бы, как это нередко делается, покопаться в биографии творца, авось да и отыщутся в ней хоть какие-то поступки или высказывания, идущие вразрез с совестью или бросающие тень на его фигуру. Но при всём желании такое, пожалуй, не сыскать. О его личной жизни мало что известно или почти ничего. Он не выставлял её напоказ, хотя сумел достичь зенита славы и его имя было на устах самых широких кругов. Оставшиеся после него письма скупы и не могут добавить что-либо существенное о их авторе, а порой способны вызвать и некоторое разочарование.
Рано став сиротой, он приучил себя сдерживать чувства и не выражать открыто свои симпатии или антипатии. Доподлинно известно, что ни в жизни, ни в искусстве Рафаэль не сделал какого-либо неверного шага и не нанёс грязного мазка, порочащего его честь, хотя, возможно, были неприятные моменты и в его жизни, о которых ему не хотелось бы вспоминать, но об этом нет никаких сведений. Нам не дано знать, бывал ли он всегда в мире со своей совестью. Всё это заслонило его искусство, в котором он полностью выразил себя.
А работал Рафаэль, как известно, легко и споро, словно играючи, дразня и будто не замечая выделенного ему судьбой времени. Эта видимая лёгкость создавала порой ложное представление о его отношении к искусству, якобы более упрощённом, нежели у Микеланджело. В отличие от него с непременными non finito, незавершёнными работами, у Рафаэля почти нет таковых. Если он уставал или терял интерес к избранной теме, то доверял ученикам довести до конца начатое, как это было в залах и лоджии Ватиканского дворца. По натуре он был щедр и великодушен, охотно делясь отпущенными ему природой богатствами с окружающими людьми. Друзья его обожали за «счастливый характер», как верно выразился Вазари, а ученики души в нём не чаяли, хотя не все заслуживали его доверие.
В первой половине 1510-х годов формируется так называемая школа Рафаэля, куда входит группа художников с общими художественными интересами и единодушным подчинением и даже преклонением перед гением молодого урбинца, возглавившего это направление. Такому объединению различных по происхождению творческих личностей способствовали прежде всего исключительная благожелательность Рафаэля, мягкость характера, щедрость и доброта его натуры. За сравнительно короткое время ему удалось гармонично развить общие стилистические принципы, определившие своеобразие римской школы живописи первой четверти XVI века, чьё влияние было ощутимым и в дальнейшем.
Можно смело утверждать, что он был воистину баловнем судьбы и вполне счастливым человеком, безраздельно преданным любимому делу. Всё давалось ему легко и без особого напряжения. Этой поразительной лёгкостью он обязан своему гению, который оберегал его от всяких потрясений. Именно таким он выглядит на известном автопортрете (Флоренция, Уффици) — уверенным в себе молодым человеком с каштановыми волосами до плеч, правильными чертами лица и завораживающим взглядом карих глаз, в которых проглядывает некая хитринка. Рафаэль ценил и любил красоту, не отказывая себе ни в дорогом убранстве жилища, ни в нарядах по последней моде. Но на приём к папе облачался в строгое платье, являя собой само воплощение скромности и смирения. Таким его можно видеть на некоторых картинах — незаметно выглядывающим из-за спин нарисованных им персонажей.
При рассмотрении совершенных по исполнению творений Рафаэля невольно подпадаешь под их обаяние и проникаешься чувством радости от встречи с прекрасным. Хочется верить, что художник сам испытывал великую радость при их создании, а такое даётся не всегда и не каждому. Трудно себе представить, как вёл себя Рафаэль в моменты творческого озарения, когда наносил быстрые мазки на картину. Об этом нет свидетельств его учеников и друзей. Чтобы вообразить такое состояние, можно было бы вспомнить, кому хоть раз посчастливилось видеть и слышать, как канадец Глен Гульд вдохновенно исполняет Баха, особенно вариации на тему Гольдберга, поражая слушателя виртуозностью исполнения и поэтически завораживающим звучанием. Возможно, в таком же порыве и с той же самоотдачей писал лучшие свои картины Рафаэль, уподобляясь чародею, раскрывающему перед нами тайны гармонии рисунка, цвета и одаривающему красотой. В такие мгновения творческого полёта он безусловно ощущал себя счастливейшим на земле человеком, а «счастье, — как говаривал Сенека, — внутри человека, а не вне его».
В творениях Рафаэля нашли наиболее полное воплощение гармония, чистота и любовь к людям, что не могло не покорять сердца тех, кто с ним близко соприкасался и заслуживал его расположение, будь то аристократы или простолюдины. Тема любви к ближнему пронизывает всё его творчество, находясь в полном согласии с гуманистическими традициями и со словами апостола Павла в Послании к коринфянам (13, 1): «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».
Первым о глубокой человечности, предельной ясности и возвышенности духа творений Рафаэля заговорил Вазари, отметив, что «картины других художников можно вполне назвать произведениями искусства, а картины Рафаэля — это сама жизнь, поскольку в его фигурах мы воочию видим и трепет живой плоти, и проявление духа, и биение жизни в самом мимолётном ощущении, словом, — оживлённость всего живого».13 Действительно, жизненность, простота и по-детски наивная непосредственность и чистота восприятия мира свойственны многим рафаэлевским творениям. Их чарующая приветливость вкупе с певучестью линий контуров поражает гармонией в полном согласии с высокой нравственностью и божественным началом. В его произведениях нет кричащих красок и резких форм. Даже при изображении исключительных характеров и положений или обыденных жизненных явлений он достигает такой многогранности и такого синтеза, в силу чего творения, порождённые его фантазией, оказываются полными смысла, но не всегда постижимого, как и сама действительность, чьи законы развития трудно поддаются объяснению.
Если оставить в стороне привычную апологетику, когда речь заходит о Рафаэле, и сравнить его с двумя гениальными современниками, нельзя не признать, что он значительно уступает по глубине интеллекта Леонардо, а тем более космическому титанизму и страстности чувств Микеланджело. Он не оставил потомкам, подобно Леонардо, тысячи рукописных страниц, содержащих глубокие мысли о живописи, природе и человеке. В сравнении с трагическими по своей сути поэтическими откровениями Микеланджело дошедшие до нас пять или шесть сонетов Рафаэля — это всего лишь дань моде времени и не более того, хотя даже в них можно видеть, насколько он искренен и чист в выражении своих чувств.
Но следует также признать, что ему не пришлось, как Леонардо, домогаться милости и покровительства королей и пап — они сами в нем нуждались и стремились заручиться его расположением и дружбой. Рафаэлю ни к чему было срываться с места и бежать без оглядки, опасаясь за свою жизнь, как такое не раз случалось с Микеланджело после очередной стычки с папой или падения республиканского правления во Флоренции. Он свободно перемещался из одного города в другой, где всюду был желанным гостем и завоёвывал всеобщую симпатию, никогда не порывая связи с родным Урбино.
Сила и неповторимость его гения в поразительном богатстве творческого воображения и до мелочей продуманной композиции с присущим ей равновесием как пластических форм, так и интервалов, в чём он был непревзойдённым мастером. Он восхищал всех, кто подпадал под обаяние его картин с их абсолютной гармонией композиции и благозвучием колорита. Как никто другой, Рафаэль умел подчинить замыслу любую ограниченную поверхность — будь то картина на дереве и на холсте или покрытая фресками стена. Под воздействием его животворной кисти всё это обретает у него характер подлинной монументальности.
Чувство формы и оптически точное видение пространства были развиты у него в совершенстве. Он глубоко усвоил законы перспективы, так как в ранней юности ему представилась счастливая возможность познакомиться с творчеством Пьеро делла Франческа и Паоло Уччелло, побывавших в его родном городе, от которых с помощью отца — придворного художника ему передалось их умение чёткого построения живописной композиции наподобие архитектуры с характерным для неё членением и ритмичным распределением поверхности, отчего написанные им фигуры обретают гармонию архитектурных форм в пространстве. Не исключено, что Рафаэль был знаком с научным трактатом о законах перспективы Пьеро делла Франческа, по которому обучалось не одно поколение живописцев. Земляк и ученик Пьеро известный математик Лука Пачоли развил эти законы, назвав их «божественной пропорцией», и с ним Рафаэль мог повстречаться во Флоренции или в Риме.
Особенно впечатляют женские образы, написанные с юношеской чувственностью, которая граничит порой с эротикой. Это вполне объяснимо, если учесть, что молодой художник испытал на себе сильное воздействие античного искусства и поэзии. Недаром же французский искусствовед А. Шастэль рассматривал творения Рафаэля в неразрывной связи с Эросом. Заметим, что Леонардо он сравнивал с Гермесом, а Микеланджело — с Сатурном.14 Если продолжить такое сравнение, то можно утверждать, что в триаде великих творцов Рафаэль олицетворяет гармонию, Леонардо — интеллект, а Микеланджело — мощь.
Сильнейшей стороной искусства Рафаэля является склонность к синтезу, в чём он был на голову выше многих, что особенно сказалось в самом капитальном его творении — фресковых росписях парадных зал, или так называемых станц, Ватиканского дворца, пронизанных духом гуманизма, идеалами свободы и земного счастья человека. Сочетание реализма и идеализации, синтез гуманистических идей и традиций Античности с постулатами христианства — это альфа и омега его искусства. Проделанный Рафаэлем путь вполне можно определить как органичное соединение высокой культуры и непревзойдённого мастерства с искренней верой или, условно говоря, сближение «Афин» с «Иерусалимом». Его стиль позволительно было бы назвать эллинизированным христианством, если бы «эллинизм» Рафаэля не был пронизан подлинно итальянским народным духом, в чём и заключается его глубокий смысл.
Вековая мечта итальянцев о создании единого национального государства осуществилась только во второй половине XIX века. Однако ещё до появления Рафаэля изобразительное искусство сумело по-своему добиться этой заветной цели. Случилось так, что чуть ли не в одночасье живописные творения венецианца Джованни Беллини, умбрийца Пьеро делла Франческа и сицилианца Антонелло да Мессина внесли свой весомый вклад в дело национального объединения людей, выражая их чувства, чаяния и настроения на языке художественных образов, который был одинаково понятен всем без исключения итальянцам, где бы они ни жили — на севере, в центре или юге Италии. Великие мастера силой искусства добивались исторически выстраданной цели без кровопролитных войн и страданий народа, к чему приводили действия политиков.
История повторилась, и в середине XIX века на долю великого Верди и других композиторов выпала та же благородная миссия способствовать силой музыки сплочению патриотических сил Италии в борьбе за создание единого государства в эпоху Рисорджименто, то есть национального Возрождения. Известно, какой сильный резонанс и всплеск патриотических чувств вызывал тот же хор Va pensiero… из «Набукко» Верди, и его пела вся Италия, встав на борьбу с врагами.
Высоко оценивая творчество Рафаэля, Гёте отмечал, что он творил всегда то, о чём другие могли только мечтать. Вслед за Гёте в литературе утвердилось мнение, что в возвышенных по духу и совершенных по форме творениях Рафаэля сказался Промысел Божий. Точно так же говорилось тогда и о Микеланджело, узревшем Бога во время работы над величественной фигурой библейского пророка Моисея.
Искусство Рафаэля словно зеркало отразило прекрасное, возведённое в абсолют. В душе художника находила живейший отклик спокойная безмятежная красота окружающей природы, а любовь к ней зародилась у него с раннего детства. Он чурался всего дурного, злого и безобразного. В отличие от двух своих гениальных современников, посвятивших немало времени кропотливому изучению анатомии человека на трупах, одна только мысль о мертвецкой приводила Рафаэля в ужас. Он полагался на собственную интуицию и советы мудрого Галена, который, как известно, ни разу не осмелился коснуться скальпелем «священного храма человеческого тела». В юности Рафаэлю довелось стать очевидцем кровопролития на родной земле, видеть боль и страдания людей, но это не нашло отражения в его произведениях. Однажды он обратился к трагической теме в картине «Положение во гроб», не принадлежащей, однако, к числу лучших его творений.
Он не познал борьбы за отстаивание своих взглядов, которые никто у него не оспаривал. Его современники отлично понимали, что чувство формы и пространства было развито у него в совершенстве, как ни у кого другого. Он обладал редкостным чутьём и знанием чудодейственных свойств красок и их секретов. Грация и покой его творений — это не тишина после бури, которую он старательно обходил стороной, а результат его глубокой убеждённости, что миром всё же правит не зло и насилие, а божественная гармония.
Жестокость, как и всё беспокойное или загадочно-мистическое, порождаемое в душе мучительными сомнениями и внутренней борьбой, не нашла места в его живописи. И что бы ни происходило в окружающем мире — войны или массовые казни, — Рафаэль хранил олимпийское спокойствие и беспристрастность. Создаётся даже впечатление, что он сознательно избегал всего жестокого, злого и неблаговидного, оберегая свою музу от пагубного влияния тёмных и неприглядных сторон жизни. Не в пример многим своим коллегам Рафаэль ни разу не обратился к теме эсхатологического конца света — «Страшного суда», глубоко веря в гармонизацию взаимоотношений человека и мира, а через понимание мира и окружающей природы в обретение человеком прежде всего гармонии духовной, и это было для него главным в искусстве.
Из сотворённого Рафаэлем удивительного мира законченности и совершенства нет выхода, словно из замкнутого круга. Он создал то, что внушил ему гений. Его последователи и восторженные почитатели, такие как французы Пуссен и Энгр, не раз пытались повторить его манеру с её поразительной певучестью контуров и вырваться из цепких объятий чарующего совершенства, внеся что-то своё в том же духе. Но любые подобные попытки оказывались бесплодны и не приводили к заслуживающим внимания результатам. Например, Энгр написал семь картин, на которых пытался изобразить себя в образе Рафаэля, сжимающего в объятиях Форнарину, но так и не добился ничего путного с этой затеей.
В любом повторе чувствуется инерция, которая несовместима с полётом воображения и горением духа. Искусство, как и сама жизнь, не терпит удовлетворённости однажды достигнутым, а особенно самолюбования и повторов. Оно никогда не стоит на месте, постоянно находясь в движении и поиске новых более выразительных средств во имя достижения дальнейших вершин в своём развитии, хотя нередко такие поиски заводят в тупик. Вырваться из замкнутого круга гармонии и совершенства Рафаэлю не хватило сил. Став пленником идеальной красоты, он перестал слышать звон весенней капели, пение птиц и замечать простейшие вещи вокруг, а окружающий мир всё более утрачивал на его картинах своё многообразие и сужался до чего-то знакомого и привычного. Со временем у художника стали проявляться признаки творческого спада и усталости, особенно остро сказавшиеся на заключительной стадии фресковых росписей в залах Ватикана, когда в движениях кисти появились скованность и монотонность, что не позволило даже ему, неутомимому труженику, продолжить поиск нового. Его искусство кончилось и началась судьба. Этой трагедии рано или поздно не смог избежать никто из великих творцов.
Глава II РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДО
Родиной Рафаэля является небольшой город Урбино, затерявшийся в горах Центральной Италии среди отрогов Апеннинского хребта. Считается, что своим названием Урбино обязан латинскому словосочетанию urbs bina — двойной город; по другим сведениям, в основе топонима лежит слово urvum — плуг. Местные краеведы пока не определились, какой версии отдать предпочтение. Но каковы бы ни были суждения, известно, что этруски и римляне испокон веку осваивали эти земли, о чём свидетельствуют останки их построек, в частности античного амфитеатра, а выросшее в долине на двух холмах поселение ещё в 46 году до н.э. получило статус города — municipium.
Согласно дошедшим до нас источникам, предки художника были родом из селения Кольбордоло неподалёку от Урбино, где его прадед по имени Пьеро, или Перуццоло, имел небольшое поместье и занимался оптовой торговлей зерном. В 1446 году тиран соседнего Римини Сигизмунд Малатеста, чей пращур хромой Джанчотто упоминается Данте и Боккаччо, напал во главе папского войска на земли урбинского герцогства, сжёг дотла Кольбордоло и другие селения в округе. Лишившись в одночасье дома, всего нажитого трудом, Перуццоло с семьёй был вынужден бежать в Урбино под защиту его крепостных стен. Обосновавшись там, он на первых порах занялся с сыном Санте мелочной торговлей, открыв москательную лавку на улице Санта-Маргарита.
Довольно распространённое в тех краях как мужское, так и женское имя Санте со временем превратилось в родовую фамилию Санти. Рафаэль латинизировал её, как было принято тогда в образованных кругах общества, и превратил в Санцио, но очень редко ею пользовался, да и не было в том никакой нужды. Достаточно было произнести одно лишь имя Рафаэль, чтобы сразу всем становилось ясно, о ком идёт речь.
После смерти Перуццоло его оборотистый сын Санте с разросшейся семьёй переехал в 1463 году в собственный дом, приобретённый за 240 дукатов на одной из центральных улиц Контрада дель Монте, круто поднимающейся на вершину холма, сплошь заросшего кедрами и каштанами. Ныне это улица Рафаэля, сохранившая свой прежний почти не тронутый временем средневековый облик. Так уж повелось, что здесь рядом с церковью Святого Франциска, украшенной ажурной колокольней, селились в основном ремесленники и торговцы — люди среднего достатка. Седловина между двумя холмами называлась Piana di Mercato, здесь располагался рынок, нынешняя площадь Республики, куда съезжались торговцы из ближайших городов и деревень.
Ниже в глубоком овраге образовалась обширная площадь Mercatale на месте бывшей строительной площадки с подъездными путями, проложенными при возведении главного дворца для герцога. Сегодня площадь отдана под стоянку автотранспорта и экскурсионных автобусов. Оттуда туристы и гости города могут подняться на лифте и оказаться в самом центре Урбино.
Менее крутой противоположный холм Поджио был облюбован высшим духовенством, знатью, местными интеллектуалами и разбогатевшей буржуазией, которая считала для себя зазорным жить бок о бок с лавочниками и ремесленниками. Это различие ощущается и по сей день, хотя Урбино несколько изменился и помолодел, став крупным учебным и научным центром с построенным в начале 60-х годов прошлого века современным университетским городком на холме Капуцинов. Теперь, куда ни глянь, всюду в городе шумная студенческая молодёжь и нескончаемые толпы разноязыких туристов, чей поток немного стихает в зимние месяцы. По прошествии веков родной город художника выглядит на удивление молодым, как молод в нашем сознании сам Рафаэль, о котором мы судим по его бессмертным творениям, а посещая Урбино, лишний раз убеждаемся, что гений родился в нужном месте.
Вероятно, дела у деда художника Санте ди Перуццоло пошли в гору, и вскоре он приобрёл соседний смежный дом. Оба строения имели общую разделительную стену брандмауэр. Однако купленный дом был ниже прежнего, так как улица Контрада дель Монте круто спускается вниз к рыночной площади, а высота строений была строго регламентирована. В нижнюю половину Санте перевёл свою мелочную лавку с выходящим прямо на улицу каменным прилавком. Среди разложенных на нём товаров предлагались на продажу кисти, краски и различные лаки, пользовавшиеся спросом.
Непривычная жизнь в городской толчее на узких кривых улочках, то лениво ползущих вверх, то стремительно обрывающихся книзу с застроенными впритык и прижатыми друг к другу домами из красного кирпича и известняка, тяготила деда. За крепостными стенами в долине, омываемой текущими с гор потоками, деловитый Санте прикупил пару земельных наделов с заливным лугом и стал сдавать их в аренду крестьянам для выпаса скота. В городе ему было тесно: он задыхался из-за нехватки простора и свежего воздуха полей, тоскуя по манящему запаху свежескошенной травы, аромату буйно цветущих по весне садов и вольному пению птиц. Его неудержимо тянуло к земле, на которой он родился, вырос и где хотел бы обрести последнее упокоение. Часто он оставлял в лавке все дела на домашних и наведывался в свои lu fora, что на маркизанском диалекте означает загородные угодья, и даже смастерил себе удобный домик, где можно было переждать жару и укрыться от непогоды.
Двое его сыновей не пошли по стопам родителя, изменив семейной традиции. Старший сын Джованни (около 1435-1494), отец Рафаэля, вначале работал в отцовской лавке. Но приобщившись к рисованию, благо краски и кисти всегда были у него под рукой, с годами обрёл известность как профессиональный живописец, открыв собственную мастерскую при доме на первом этаже. Младший сын Бартоломео пошёл по церковной стезе. Получив чин протоиерея небольшого прихода Пьеве Сан-Донато на окраине города, он жил отдельно от родителя в доме каноника. А вот две дочери Маргарита и Санта, занятые после смерти матери день-деньской по хозяйству, помогавшие отцу в лавке и верховодившие на кухне, упустили своё время и остались в девках.
В те годы Урбино ненадолго стал одним из признанных очагов культуры и своеобразным камертоном, по которому настраивались остальные города, где жизнь била ключом и не угасал интерес к искусству, что способствовало утверждению по всей Италии новых художественных тенденций и вкусов. Правителем герцогства был Федерико II да Монтефельтро, сумевший не только отстоять независимость крохотного государства от притязаний алчных соседей, но и приумножить свои богатства в ходе удачных военных кампаний, когда в молодости был кондотьером на службе у различных государств от Неаполя до Венеции и получал до 60 тысяч золотых дукатов жалованья. Не в пример своему ровеснику лихому рубаке Фортебраччо из умбрийского городка Монтоне, готовому ради наживы ввязываться в любую авантюру, ему куда милее и дороже были годы мира и созидания, нежели военные подвиги. За свои заслуги он получил в 1447 году от папского Рима мандат на независимость герцогства.
Это был смелый и волевой воин, что нашло отражение в великолепном диптихе, написанном великим умбрийским мастером Пьеро делла Франческа (Флоренция, Уффици). Вначале дан портрет Федерико да Монтефельтро, а на тыльной стороне доски — изображение его жены, некрасивой Баттисты Сфорца со скучным выражением лица. Поражает мужественный профиль полководца со сломанной переносицей как напоминание о былых ратных подвигах. На второй картине герцог восседает на триумфальной колеснице с впряжённой парой коней белой масти. Его венчает короной стоящая на запятках колесницы крылатая богиня Виктория, а у его ног восседают молодые девы, олицетворяющие разные добродетели. На оборотной стороне изображена жена герцога с книгой в руках. Её колесницу везут единороги как символ супружеской верности. На обеих картинах изображены ангелы: один указывает путь к воинской славе, другой — к домашнему очагу. Супруги движутся в разные стороны: муж — направо, жена налево.
Всё погружено в воздушную атмосферу покоя на фоне развёрнутого пейзажа холмистой Умбрии, залитой ярким светом, а над водами Тразименского озера, безмолвного свидетеля победы Ганнибала над римскими легионерами, поднялся лёгкий туман. Панорама живой природы словно запечатлена с высоты птичьего полёта. Под изображением — четверостишие на латыни:
Его известность сравнима со славой таких полководцев, как Эразмо Нарни по прозвищу Гаттамелата («Пёстрая кошка») или Бартоломео Коллеони, которым благодарные соотечественники посвятили впечатляющие бронзовые конные статуи — в Падуе работы Донателло, это первый конный монумент эпохи Возрождения, и в Венеции, отлитую Верроккьо. Над изваянием во славу воинской доблести правителя Милана трудился Леонардо да Винчи. Высота только одного коня без всадника превышала семь метров. Видевший его модель в Милане историк Паоло Джовио отметил: «В мощном разбеге тяжелодышащего коня проявились величайшее мастерство скульптора и высшее знание природы».15 Статуя, прозванная миланцами Колоссом, оказалась в буквальном смысле «колоссом на глиняных ногах», и как многие начинания великого творца, работа не была завершена.
Отстояв с оружием в руках независимость собственных владений, правитель Урбино заботился о благополучии и безопасности подданных, к которым он относился как к своим детям. Герцог по праву считался отцом своего народа, проявляя интерес к его нуждам и запросам. Горожане любили и уважали своего правителя, и им привычно было видеть его на улицах одного, без охраны, не в пример чванливым и дрожащим за свою шкуру тиранам соседних государств. Герцог любил заходить в частные дома, в мастерские и лавки; его можно было повстречать и на рыночной площади, где он справлялся о делах каждого крестьянина, терпеливо выслушивал сетования и помогал нуждающимся. При нём не было нищих ни в городе, ни в округе. По его указанию было построено несколько школ и больниц для бедняков. Он щедро одаривал достойных и сурово наказывал провинившихся. Слава о нём как мудром и просвещённом правителе вышла далеко за пределы Урбино. Недаром современники называли его «светочем Италии».
Федерико да Монтефельтро немало сделал для процветания Урбинского герцогства. На него работали известные поэты, учёные, художники и среди них знаменитый архитектор и теоретик искусства Леон Баттиста Альберти, живописцы Сандро Боттичелли и Лука Синьорелли, фламандец Джусто ди Гант, испанец Педро Берругете, занятые оформлением рабочего кабинета герцога. В разное время в Урбино побывали фламандцы Рогир ван дер Вейден и Ян ван Эйк. Они принесли с собой новую технику письма маслом, произведя настоящий переворот в живописи. Правда, Вазари утверждает, что первым применил в Италии живопись маслом сицилианец Антонелло да Мессина, работавший сначала в Венеции. Возможно, Вазари прав, поскольку, как известно, Антонелло посетил мастера ван Эйка в Брюгге под видом обычного путешественника. Пока хозяин мастерской писал картину, любознательный гость задавал вопросы и развлекал его рассказами об Италии. В результате хитрому итальянцу удалось выведать хранимый фламандцем в тайне способ приготовления красок. Вместо тусклой непрозрачной темперы фламандцы применяли краски, размешанные на льняном или ореховом масле, которые сверкали, переливаясь множеством оттенков, а вкупе с цинковыми белилами ослепляли, как выпавший снег на солнце.
Наведывались в Урбино и представители венецианской школы братья Беллини. Известно, что во время своего последнего пребывания в городе Пьеро делла Франческа остановился в доме друга Джованни Санти, считавшего его не без основания своим учителем и мудрым наставником. Среди сограждан Джованни Санти почитался как образованный человек с широким кругозором. И только отец, ставший под старость не в меру ворчливым, был им недоволен, считая художества сына ребячеством и пустой тратой времени. Несмотря на попрёки практичного Санте, не утратившего крестьянской закваски и привязанности к земле, его старший сын сумел показать себя как плодовитый художник и вскоре был приближен ко двору. Там он обрёл громкую известность и как поэт. Среди оставшихся после его кончины бумаг было найдено одно поэтическое откровение о первом знакомстве с двором Федерико да Монтефельтро:
Надо заметить, что клятву он сдержал, служа верой и правдой герцогу. Его перу среди прочего принадлежит рифмованная «Хроника жизни и деяний великого герцога Федерико да Монтефельтро», завершённая в 1489 году. В Ватиканской библиотеке хранится её рукопись (cod. Ottobon 1305), насчитывающая 224 страницы, исписанные убористым мелким почерком. Впервые она была опубликована издателем Хольтцингером в Штутгарте в 1897 году. Не обладая особыми поэтическими достоинствами, эта поэма представляет собой ценность как любопытный документ эпохи, образно и живо повествующий о знаменитых мастерах итальянского Кватроченто — искусства «четырёхсотых» годов, то есть XV века, о нравах и обычаях блистательного урбинского двора, который по праву считался в Европе одним из самых «интеллектуальных» центров ренессансной культуры. В 1474 году по случаю визита в Урбино неаполитанского короля Фердинанда Арагонского приближённый ко двору Джованни Санти сочинил и поставил интермедию «Амур перед судом Целомудрия», имевшую большой успех у публики, а автор удостоился похвалы коронованного гостя и правителя Урбино.
Герцог Федерико был известен как человек разносторонних знаний, увлекавшийся литературой и философией. В юности он получил блестящее образование в мантуанской школе для одарённой молодёжи, основанной в 1423 году замечательным педагогом Витторино да Фельтре. Это была первая в Италии светская школа, где в основу воспитания были положены гуманистические принципы всестороннего развития личности. Первостепенное значение отводилось эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, а знакомство с произведениями Гомера и Вергилия являлось первой ступенью в изучении философии и истории. Немаловажная роль отводилась физической закалке юношей, в том числе гимнастике, фехтованию и верховой езде. В жаркую пору наставник вывозил питомцев за город в своё имение на холмах Пьетоле, где родился Вергилий. Там на лоне природы он рассказывал ученикам истории о подвигах Геракла, Антея и Персея. В центре Мантуи до сих пор сохраняется как достопримечательность небольшое здание школы, называемое Casa Zoiosa — Дом Радости. Эта школа прославилась как кузница итальянской правящей элиты.
Поныне в рабочем кабинете урбинского герцога висит портрет обожаемого им учителя, написанный Джусто ди Гантом. В том же кабинете, украшенном великолепными интарсиями из кусочков ценных пород дерева по рисункам Боттичелли, находятся 14 портретов-медальонов великих философов и поэтов, что говорит об интересах и вкусах хозяина. При герцоге Федерико началось возведение грандиозного дворца на вершине холма Поджио по проекту далматинца Лучано Лаураны, мечтавшего о создании города будущего, как позднее Кампанелла будет мечтать о Городе Солнца. Сохранились его рисунки, в которых отражены смелые градостроительные идеи под влиянием новаторского искусства Пьеро делла Франческа и Паоло Уччелло, особенно их архитектурно-перспективных штудий и рисунков. После смерти супруги герцога Баттисты Сфорца в знак траура строительные работы были приостановлены и Лаурана покинул Урбино. С 1479 года завершением строительства новой резиденции герцога руководил сиенец Франческо ди Джорджо Мартини, друживший с Джованни Санти, в рукописи которого о величии дворца сказано:
Взметнувшееся над городом монументальное сооружение, построенное из местного известняка с алебастровыми прожилками цвета слоновой кости и прочного, как гранит, мелкого красноватого кирпича, поражает строгой пропорцией всех составляющих его элементов. Издали видны возвышающиеся над городом две сторожевые башенки, ставшие эмблемой Урбино. Особенно впечатляют просторный парадный внутренний двор в строгом обрамлении белокаменных колонн с аркадами и мраморными пилястрами второго этажа, висячий сад внутри дворца и фасады с резными лоджиями, откуда открывается панорама поросших лесами Апеннинских гор. О колоссальных затратах на строительство у того же Санти не без иронии говорится:
Внушительный по своим размерам дворцовый комплекс объединяет в единое архитектурное целое остальные соседние строения, что дало возможность литератору Кастильоне назвать Урбино «городом в форме дворца», где по странной иронии судьбы уроженец тех мест великий зодчий Донато ди Паскуччо д’Антонио по прозвищу Браманте (1444-1514) не нашёл себе применения, но справедливости ради следует заметить, что виной тому скорее всего был неуступчивый характер архитектора. Творение Лаураны и ди Джорджо Мартини считалось тогда самым современным дворцовым ансамблем века, и полюбоваться им в Урбино часто наведывались правители соседних княжеств и европейских государств. Монтень, посетивший Урбино во время вояжа по Италии, с восхищением отметил в путевом дневнике, что в гигантском дворце комнат и залов столько, сколько дней в году.
Весь город жил от двора и для двора, органично являя собой единое целое. При герцоге несли службу более четырёхсот придворных. Царившая во дворце праздничная атмосфера с непременными приёмами и балами, театральными мистериями и рыцарскими турнирами повлияла на воспитание вкуса юного Рафаэля, о чём свидетельствует одна из его ранних небольших картин «Сон рыцаря» (Лондон, Национальная галерея).
Поражающий поныне своим великолепием дворец не избежал злой участи, постигшей разрозненную на мелкие княжества Италию, когда расхищались и продавались за бесценок её несметные богатства. Сегодня пусты залы и салоны урбинского дворца. В них почти не осталось старинной мебели, статуй, гобеленов, редких музыкальных инструментов и прочих атрибутов дворцового убранства. Значительно сократилась когда-то богатейшая пинакотека.
Главной страстью герцога Федерико было меценатство и пополнение дворцовой библиотеки. Более пятидесяти агентов рыскали по заброшенным замкам и монастырям в поисках древних рукописей, а целый отряд специалистов-книгочеев был занят их расшифровкой; писцы трудились в скриптории, где полным ходом шла переписка древних фолиантов. Из Венеции, этой признанной столицы книгопечатания и книготорговли, в Урбино доставлялись ящики с последними новинками. Но герцог отдавал предпочтение древним рукописным книгам, украшенным живописными миниатюрами, и инкунабулам. Главным его советчиком по собиранию книг был видный историк и библиограф Пандольфо Колленуччо. Его знаменитое изречение, что «только жизнь, а не доктрина формирует любого философа», стало знаковым для учёных-гуманистов, корпевших в поисках смысла жизни над собранными герцогом Федерико древними текстами на латыни, греческом, еврейском и арабском языках.
Герцог владел латынью и греческим, читал в подлиннике любимых авторов. Известно, что в дни поста предпочтение он отдавал сочинениям Фомы Аквинского, а в скоромные дни — Аристотелю и Титу Ливию. Согласно архивным данным, на собирание книг было израсходовано 300 тысяч дукатов, сумма огромная по тем временам. Его дворцовая библиотека считалась тогда самой крупной в Европе, сюда съезжались многие учёные из разных стран поработать над редкими фолиантами. Для сравнения укажем, что личная библиотека папы Льва X насчитывала 200 томов, а библиотека Леонардо да Винчи — 100, и с ней он никогда не расставался и всюду возил за собой.
Недавно итальянский исследователь Марчелло Симонетта обнаружил зашифрованное письмо герцога Федерико да Монтефельтро папе Сиксту IV, проливающее свет на событие во Флоренции в 1478 году, получившее название заговора Пацци, когда был убит один из братьев Медичи. Заговор не удался, и чудом оставшийся в живых Лоренцо Медичи жестоко расправился с заговорщиками. Герцог Федерико да Монтефельтро оказался одним из организаторов кровопролития по воле папского Рима, недовольного независимой политикой Медичи. Трудно себе вообразить, каким было бы дальнейшее развитие Флоренции, если бы от рук убийцы пал Лоренцо Медичи, великий политический деятель, поэт, гуманист и покровитель искусства, превративший свой город в подлинную столицу итальянского Возрождения.
В 1482 году славный герцог скончался, и власть по наследству перешла к его малолетнему сыну Гвидобальдо. Пока тот рос, делами государства ведала его старшая сестра Джованна Фельтрия, бывшая замужем за Джованни делла Ровере, безраздельным хозяином земель вокруг Сенигаллии, важного порта-крепости на Адриатике. Джованна была любимицей покойного герцога, унаследовав от отца острый ум, решительность и смелость. Ей помогала в воспитании наследника жившая во дворце Эмилия Пио, вдова сводного брата Антонио, который правил крохотным государством Карпи в области Эмилия-Романья. Обе женщины приложили немало сил и старания для воспитания подрастающего правителя герцогства, наняв ему лучших учителей. По достижении восемнадцатилетнего возраста Гвидобальдо породнился с одной из старинных династий Гонзага, правящей Мантуей с XII века, где в своё время его отец получил образование. Выбор не был случайным, поскольку Мантуя, как и Урбино, была сильным независимым государством и признанным центром передовой культуры и искусства, оспаривавшей пальму первенства у самой Флоренции.
Деятельная Джованна Фельтрия сыграла решающую роль в помолвке юного брата с перезрелой и не отличавшейся особой красотой Елизаветой Гонзага. Полностью доверяя сестре, Гвидобальдо согласился отправиться с ней и её мужем в дальний путь на смотрины в Мантую, понимая, что всё делается ради интересов родного герцогства, о процветании которого так пёкся покойный отец.
При первом же знакомстве невеста не произвела особого впечатления, разве что своим ростом. «Ну и дылда», — подумал он. Зато его поразила превосходная конюшня старшего брата невесты герцога Франческо Гонзаги. Оставшееся время после соблюдения всех необходимых формальностей и подписания брачного договора жених проводил на площадке по выездке лошадей, пока с ним не случилась досадная неприятность, чуть было не сорвавшая брачную сделку. Увлекшись вольтижировкой и войдя во вкус, Гвидобальдо не справился с норовистой лошадью и вылетел из седла. От сильного удара о бортик ограждения он не смог встать на ноги — беднягу унесли с манежа на носилках. Врачи обнаружили перелом руки и рёбер, а главное — смещение нескольких шейных позвонков. Пришлось на время отложить отъезд. Незадачливый жених после помолвки вернулся домой в гипсе.
По случаю празднеств, связанных с бракосочетанием Гвидобальдо да Монтефельтро с Елизаветой Гонзага, придворный художник и поэт Джованни Санти сочинил трёхактную комедию в стихах «Спор Юноны и Дианы», разыгранную местными актёрами и музыкантами на фоне ярких декораций, расписанных самим автором. Как отмечено в городских анналах, представление началось после пышного банкета на 500 персон в девять часов вечера и закончилось глубокой ночью, вызвав бурный восторг высокопоставленных гостей, съехавшихся из разных уголков Италии. В разыгранной комедии спор вёлся между двумя богинями, олицетворяющими брак и деторождение, что было уместно на весёлом празднике в честь молодожёнов. Но забегая вперёд следует отметить, что этот союз не был счастливым и после первой брачной ночи Елизавета Гонзага обнаружила, что её более молодой супруг неспособен к зачатию, о чём вскоре зашептались в кулуарах дворца.
На свадебных торжествах побывала золовка новобрачной маркиза Изабелла д’Эсте, одна из самых влиятельных и образованных женщин эпохи Возрождения, состоявшая в переписке с известными поэтами, художниками и мыслителями. Её личным секретарём был поэт Марио Эквикола, в чьи обязанности входило придание живости и блеска эпистолярному стилю маркизы. На неё работали Леонардо да Винчи, Мантенья, Беллини, Франча, Тициан. В те праздничные дни состоялось её знакомство с Джованни Санти, который произвёл благоприятное впечатление и получил приглашение посетить Мантую для написания её портрета и портрета её мужа.
Пополняя свою богатую картинную галерею, о которой ходили легенды, маркиза как заказчица была строга, а порой привередлива, диктуя свою волю, с чем мог смириться только работавший на неё молчаливый Андреа Мантенья, не обращавший особого внимания на её причуды. Несмотря на неуживчивость и сварливый характер, он проработал полвека на правителей Мантуи, прославив их и город своим искусством.
Оценив мастерство Джованни Санти, разборчивая Изабелла д’Эсте умудрилась поначалу проглядеть его подросшего сына Рафаэля Санцио и подключилась к охоте за его картинами, когда слава урбинца достигла апогея, но было уже поздно. Многие приглашённые мастера, не выдержав её диктата и капризов, покидали Мантую. Например, Леонардо да Винчи, нарисовав вначале углём и сангиной известный профильный портрет Изабеллы д’Эсте, не смог ужиться при мантуанском дворе и покинул безутешную маркизу, несмотря на все её слёзные просьбы и заклинания остаться.
Что же касается Джованни Санти, он вошёл в круг доверенных лиц нового правителя Урбино. На него было возложено общее руководство художественным оформлением дворца, для чего он привлёк к делу давнего приятеля талантливого скульптора Амброджо Бароччи. На Санти лежала также обязанность оформления костюмированных балов и театральных феерий, в чём проявились его незаурядные способности режиссёра, декоратора и костюмера. Помимо прочего он отвечал за организацию рыцарских турниров, большим любителем которых был молодой герцог Гвидобальдо, несмотря на врождённую болезнь суставов и смещение шейных позвонков.
В 1490 году по заказу сестры правителя Джованны Фельтрия Санти написал большую картину «Благовещение» (Урбино, Дом музей Рафаэля) по случаю долгожданного рождения единственного сына Франческо Мария делла Ровере, появившегося на свет после рождения двух дочерей. В связи с шумным успехом картины на Санти посыпались другие заказы. И сколь ни была сильна конкуренция, его искусство оказалось востребованным во многих городах не только родной Анконской Марки, но и соседней Умбрии.
При жизни старого герцога Санти не раз приходилось сопровождать его в поездках, в ходе которых он смог увидеть работы многих замечательных современников, принёсших мировую славу итальянскому искусству, включая Леонардо да Винчи, Мантенья, Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Перуджино, Мелоццо да Форли, Липпи, Синьорелли, Беллини. Со многими из них он был знаком лично, а с некоторыми его связывала творческая дружба, о чём говорится в упомянутой рифмованной хронике:
Мастерская Джованни Санти обрела известность, занимая главенствующее положение среди других в городе. Обычно в таких мастерских писались не только портреты, обетные картины, алтарные образы и хоругви, но и расписывались cassoni — свадебные сундуки, неотъемлемая часть приданого невесты, и прочая мебель. Там же золотились различные предметы быта и конские сбруи. Не обошлось без помощи старого отца Санте, мастера на все руки, благодаря которому появился столярный цех по изготовлению багетных рам для картин и обрамления зеркал, основным поставщиком которых была Венеция. В мастерской производились также всевозможные поделки в стиле традиционных народных промыслов, пользовавшиеся большим спросом.
К Санти часто захаживали местные толстосумы, разбогатевшие на оптовой торговле и строительных подрядах. Эти нувориши ни в чём не хотели уступать знати и стали чуть ли не главными заказчиками предметов роскоши. Работы прибавлялось, и пришлось нанять новых подмастерьев. Так под началом Санти оказался молодой парень по имени Эванджелиста из соседнего городка Пьян ди Мелето, тут же получивший, как тогда было принято, прозвище «Пьяндимелето». Это была довольно загадочная личность, сыгравшая поначалу определённую роль в судьбе юного Рафаэля и введшая в заблуждение самого Вазари. Новый подмастерье был по натуре молчалив и не любил досужих разговоров, чем грешили товарищи по цеху. Он проявлял завидное упорство в работе, был трезвенником. На него, как посчитал хозяин мастерской, часто бывавший в разъездах по соседним городам в поисках заказов, можно было целиком положиться и доверить дело.
Добившись успеха, материального достатка и прочного положения в обществе, Санти в 1480 году женился на юной Маджии, дочери местного купца средней руки Баттисты Чарла. Их первенец умер вскоре после родов, заразившись оспой от деревенской кормилицы. Но родители недолго горевали — Маджия зачала вновь. В ночь на Страстную пятницу 28 марта 1483 года, то есть 6 апреля по новому григорианскому календарю, введённому в XVI веке, родился мальчик, наречённый при крещении Рафаэлем — именем одного из архангелов Священного Писания, исцелившего Товия.
Вопреки мнению родных муж настоял, чтобы жена сама кормила младенца, на которого он возлагал большие надежды, нутром чувствуя, что это будет самое значительное его творение в жизни, и, как вскоре выяснилось, не ошибся. Особенно ворчали две сестры-вековухи Маргарита и Санта, которые никак не могли взять в толк, что единственного их племянника кормит грудью мать, словно какая-то простолюдинка, а ведь род Санти принадлежал к числу самых уважаемых семейств в городе — недаром при крещении Рафаэля в соседней церкви Святого Франциска присутствовали герцогиня Джованна Фельтрия, сестра правителя Урбино, и другие важные особы. Сёстры Маргарита и Санта давно познали вкус городской жизни и вконец забыли, что их предки когда-то были обыкновенными деревенскими жителями.
Весна была в полном разгаре, и мир после зимних холодов и ненастья ожил и был в цвету. Счастливый отец видел в пробуждении природы доброе предзнаменование, а имя, данное сыну при крещении и означающее «целитель», вселяло радужные надежды. С нежного возраста красивый белокурый мальчик был окружён любовью и заботой родителей, деда Санте и двух тёток, живших, как сказано в рифмованной рукописи Джованни Санти, единой дружной семьёй, под крышей del nido patemo:
Каждый из домочадцев был занят своим делом с утра до вечера, и все вместе приумножали благосостояние семьи. Жизнь протекала спокойно и размеренно по раз и навсегда заведённому распорядку, который ничто не могло нарушить или изменить, настолько прочны и незыблемы были патриархальные устои и традиции, передаваемые от отца к сыну, от деда к внуку.
После вторых родов Маджия ещё больше похорошела и расцвела. Её стали приглашать с мужем, официальным художником двора, на балы и приёмы, устраиваемые во дворце, где она пополнила круг придворных дам в блистательной свите герцогини Елизаветы Гонзага.
Чтобы не ударить в грязь лицом и блюсти этикет, Санти пришлось раскошелиться на гардероб для жены. Не обошлось без помощи искусных рукодельниц сестёр Маргариты и Санты, полюбивших Маджию за добрый нрав и покладистость. Для этих целей на дом приглашался модный портной, и работы ему хватало. В составленном Санти подробном завещании среди прочего фигурирует описание жениных нарядов и упоминается парадное платье gamurra из тонкого аглицкого полотна с длинными атласными рукавами яркого кармазинного цвета и другое такое же, но уже с атласными рукавами фиолетового цвета. На упомянутом выше двойном портрете кисти Пьеро делла Франческа в таком же одеянии, но только с рукавами, сплошь расшитыми золотом, изображена жена прежнего правителя Урбино Баттиста Сфорца.
Муж не скупился на наряды и украшения для молодой жены. Её стройная фигура, лёгкая поступь и низкий грудной тембр голоса восхищали мужскую половину на званых дворцовых раутах, вызывая порой у Санти немалое беспокойство. Маджия была бесподобна на балах. Она выделялась среди всех неповторимой грацией и лёгкостью движений, особенно в старинном котильоне. Её не раз избирали королевой бала несмотря на низкое происхождение. Когда проводились благотворительные лотереи, то к Маджии на зависть остальным придворным дамам выстраивалась длинная очередь блистательных кавалеров, жаждущих получить только из её рук счастливый лотерейный билетик.
Благодаря жене, пользовавшейся успехом во дворце, Джованни Санти неожиданно для себя был повышен в должности и в течение августа-сентября 1487 года занимал весьма почётный пост приора со всеми полагающимися привилегиями. Но вскоре он почувствовал в обрадовавшем поначалу повышении что-то неладное, вызывающее недоумение. Вспомнив, как на балах и приёмах молодые ловеласы бросали на его Маджию жадные похотливые взоры, Санти добровольно отказался от высокой должности, сославшись на недомогание и загруженность по работе. Как его ни уговаривал близкий друг Франческо Буффа, дворцовый церемониймейстер и казначей, он настоял на своём. Обеспокоенный возникшими подозрениями и двусмысленными улыбками завсегдатаев дворцовых приёмов, Санти резко сократил поездки, чтобы проводить больше времени в кругу семьи с женой и сыном.
Мать Рафаэля вполне оправдывала своё редкое имя — Magia. В ней была заключена неизъяснимая магия, которая притягивала и манила при первом с ней знакомстве людей самых разных — от аристократов до простолюдинов. И для каждого у неё находились приветливое слово и обворожительная улыбка, от которой становилось теплее и радостнее на душе. Вне всякого сомнения, это поразительное свойство её натуры и природное обаяние передались сыну.
Рафаэль рос окружённый любовью и лаской. Он рано пошёл и заговорил. Взрослых умиляла в малыше его привычка одарять любого человека улыбкой. При этом он протягивал вновь вошедшему в дом игрушку или лакомство, хотя обычно маленькие дети, в которых чувство собственника проявляется довольно рано, неохотно расстаются со своими вещами и прячут их от посторонних. Удивительная приветливость и щедрость малыша поражали домашних и всех, кто переступал порог дома Санти. Маленький Рафаэль, как и его мать Маджия, оправдывал своё имя — «целитель», поднимая настроение у окружающих. Уже тогда в мальчике угадывалось что-то редкое и необычное, чему трудно было дать определение.
Рафаэль рос любознательным ребёнком, открывающим для себя мир на каждом шагу. Поутру спустившись по винтовой лестнице во внутренний дворик с колодцем, он попадал в помещение, где в печи не затухал огонь и мастеровые под присмотром деда Санте занимались золочением разных предметов, включая лошадиные сбруи и шпоры. За аркой в узкой смежной комнате пол был постоянно усеян пахучими смолистыми стружками и опилками. Это было царство плотников, где малыша всегда ждала загодя приготовленная дедом новая деревянная игрушка, затейливо раскрашенная фигурками птиц и зверюшек. Далее в двух просторных комнатах со сводчатыми потолками и большими окнами, глядящими на улицу, размещалась мастерская отца, откуда исходили непонятные запахи. Там на жаровнях готовились различные лаки, смеси и клеи для грунтовки и не утихал монотонный стук — это ученики толкли ступкой в алебастровых сосудах мел и пигменты, превращая их в мельчайший порошок, или шлифовали наждачной бумагой доски для будущих картин, добиваясь идеальной гладкости поверхности.
Пока мальчика больше привлекали подвешенные к потолку или стоящие на подоконниках клетки с птицами. Дед Санте был большим знатоком птичьего пения и учил внука распознавать голоса пернатых. Клетки были и в жилых комнатах наверху, к явному неудовольствию тёток, коим надлежало по распоряжению строгого Санте чистить клетки, давать птицам корм и питьё. Зато обе обожали кошек и никому не давали их в обиду, даже племяннику, когда он иногда гонялся за ними, шикал и отгонял от клеток с птицами.
Обычно на Благовещение горожане после молебна дружной гурьбой с хоругвями и клетками в руках поднимались на холм Монте, откуда выпускали пленниц на волю, ко всеобщей радости детворы и взрослых. Малыш Рафаэль привязался душой к деду и от него узнавал много поучительного. Когда по вечерам положение обязывало родителей бывать во Дворце на различных приёмах, дед рассказывал внуку сказки перед сном, и, слушая его спокойный голос, мальчик засыпал.
Во время наездов в свои загородные владения дед Санте иногда брал с собой смышлёного внука. В долину вела утрамбованная дорога, обсаженная по обеим сторонам пиниями.17 Это был настоящий праздник, когда перед любознательным ребёнком, росшим в городе, открывался неведомый мир живой природы с её запахами, звуками и диковинными растениями, названия которых хорошо были известны деду. Несмотря на одышку он то и дело нагибался, чтобы сорвать былинку или цветок, поясняя внуку их назначение.
— Запомни, внучек, — говорил дед, — это наша родная земля и здесь твои корни. Дорожи ими и знай, что без корней не вырастет ни одна травинка на лугу и не взрастёт ни одно деревце в лесу.
Внук запомнил наставления деда и позже подписывал свои работы Raphael urbinas. А однажды зимой, когда земля покрылась скользкой коркой льда и выпал редкий для тех мест пушистый снег, дед смастерил ему салазки, чтобы кататься с горок. Не обошлось без шишек и синяков, вызвавших причитания и охи тёток, которые посчитали подобную забаву уделом уличных мальчишек, которые не чета их племяннику из рода Санти. Они постоянно кичились близостью семейства ко двору, хотя сами ничем не отличались от соседских кумушек, занятых домашними делами и пересудами. Но уж больно велико было желание чем-то выделиться и не походить на всех остальных.
Слушая их причитания и посмеиваясь в усы, дед Санте рассказал ворчливым дочерям и внуку такую историю:
«Жила-была тень, обыкновенная и ничем не примечательная. Когда восходит солнце, она тут как тут появляется на свету. Однажды она погналась за человеком, идущим по дороге, чтобы стать непохожей на остальных своих подруг, порождаемых деревом, забором или одиноко стоящим столбом. После полудня тень стала расти и удлиняться, а ближе к закату настолько переросла человека, что непомерно возгордилась.
— Глядите все, какая я рослая! — воскликнула она. — Я выше человека! Пусть оглянется и увидит, что по сравнению со мной он неприметный карлик.
А человек шёл своим путём и не слышал болтовни хвастуньи. Как только солнце село, тени и след простыл, а человек так и не заметил исчезновения назойливой спутницы».
Выслушав притчу, тётки недоумённо пожали плечами.
— Папаша, — спросила одна из них, — а к чему вы рассказали нам эту небылицу?
— А вы пораскиньте-ка мозгами, — ответил он. — В любой притче есть намёк и кое-что поучительное для неразумных, которых так и подмывает хоть чем-то выделиться от остальных.
Дед дружил с хозяином соседней кузницы, перед которой обычно у коновязи стояли фыркающие лошади, отгоняя хвостами слепней. Здесь Санте иногда одалживал дрожки с послушной лошадью для своих загородных поездок. Он любил захаживать в кузницу с внуком, который с интересом наблюдал, как из огнедышащей печи щипцами вытаскивают раскалённые до бела болванки и сразу же окунают их в бочку с водой, а те недовольно шипят и грозно выпускают пар. Под ударами молота о наковальню веером разлетаются искры, и в руках ловких кузнецов эти железяки превращаются в сверкающие сталью мечи, шпаги или подковы. Здесь же выковывались ажурные решётки для окон, дверные кольца и молотки, настенные факелодержцы и прочие изделия самых затейливых форм. Размеренные удары молота и чёткие движения мастеровых производили на ребёнка неизгладимое впечатление. В его сознании укоренялась мысль, что любая кованая вещь в кузнице или картина в отцовской мастерской получается только благодаря умению, сноровке и терпению.
Старый Санте научил внука держать в руке молоток, исподволь прививая ему любовь к труду, о чём, будучи взрослым, Рафаэль не раз с благодарностью вспоминал. На любой житейский случай у деда Санте всегда была наготове присказка или народная притча. Однажды после посещения кузницы он рассказал Рафаэлю такую историю:
«Как-то под вечер в кузницу невзначай залетел обычный тряпичный мяч. Больно ударившись о наковальню, он жалобно запричитал:
— За что мне выдалась такая доля? Все пинают меня чем ни попадя, не оставляя в покое!
— Тебе ли жаловаться на судьбу, — промолвила в ответ наковальня. — По мне дни напролёт так бьют тяжёлым молотом, что искры сыплются из глаз.
Посетовав на свою несчастную судьбу, они решили обратиться за помощью к кузнецу, который собирался было закрыть мастерскую.
Добрый человек, — взмолились они в один голос, — ты способен творить чудеса как волшебник. Так сделай же, чтобы никто нас больше не обижал!
Выслушав их жалобу, кузнец ответил:
— У каждой вещи и любого живого существа на земле своё назначение. Разве это не чудо, когда молот бьёт по наковальне, а из бесформенного куска раскалённого железа получаются нужные людям орудия труда: серпы, косы, лопаты и заступы? Из того же куска железа можно выковать острые мечи и пики, чтобы защищаться от врагов.
Оба слушали затаив дыхание. А человек, сняв передник, вытер им руки и добавил:
— А сколько радости приносишь людям ты, такой с виду неказистый мячик. Играя с тобой, даже взрослые веселятся, как дети. Так что не сетуйте на судьбу и делайте то, к чему вы оба призваны».
Вряд ли Санте знал, что рассказанные внуку забавные истории и притчи, ставшие народными, когда-то сочинил работавший в Урбино и в соседнем Римини один мудрец по имени Леон Баттиста Альберти, писавший не только мудрёные трактаты о живописи, но и забавные истории, которые были интересны и взрослым, и детям.18 Когда деда не стало, взрослые, решившие пощадить психику впечатлительного мальчика, сообщили ему, что дед Санте, мол, уехал надолго по делам. Выполняя волю покойного, дети похоронили отца в родном Кольбордоло, где были могилы его жены и родителей. Но Рафаэль долго не мог понять, почему любимый дед уехал утром, не разбудив его и не попрощавшись. Поездки с ним на приволье, когда он узнавал от деда много нового о жизни цветов, растений и птиц, равно как и занимательные рассказы, истории и притчи навсегда остались в памяти как самые светлые воспоминания детства.
Жизнь продолжалась, и подросшего Рафаэля уже не устраивали стены родительского дома и всё сильнее манила улица, где соседские ребята на лужайке за церковью Святого Франциска играли в любимую забаву местной детворы aita — некое подобие лапты. Но присоединиться к их шумной компании он не решался, испытывая робость. Его отталкивали их крики вперемежку с грязными словцами типа cazzo, culo, coglione… В них было что-то дурное, гадкое. Он рано понял, сколь велика сила слова, способного ободрить и жестоко обидеть.
Читать он научился лет с пяти, и вскоре его отвели в школу к известному в городе учителю грамматики и словесности Франческо Вентурини, ученику великого мантуанского педагога Витторино да Фельтре. Учитель сразу обнаружил в красивом смышлёном школяре незаурядные способности вкупе с потрясающей памятью. Но нельзя сказать, что учёба давалась Рафаэлю легко. Он недолюбливал скучные уроки грамматики, особенно правописание, зато с увлечением слушал наставника, когда тот зачитывал и пояснял главы из «Истории от основания Рима» Тита Ливия, а со временем приступил к чтению и разбору отрывков из «Илиады» Гомера, «Золотого осла» Апулея, опуская некоторые скабрёзные места. Рафаэля, как и остальных ребят в классе, особенно забавляли весёлые рассказы о похождениях бравого Тримальциона из «Сатирикона» Петрония. В них было много поучительного, на что старался обратить внимание учитель, поясняя, что всё в мире взаимосвязано и ничто не проходит бесследно.
— Возьмите, к примеру, пчёл, — говорил он. — Они нас одаривают мёдом, но и жалом. Точно так же и в жизни приходится за сладкое горько расплачиваться.
Рафаэль не переставал поражать наставника своей памятью. Достаточно ему было услышать или прочитать отрывок стихотворения или прозы, как он мог почти дословно повторить услышанное или прочитанное, изумляя добряка Вентурини, но не однокашников, относившихся к нему с подозрением и недоверием, считая его выскочкой.
— Для поднятия духа, — поучал Вентурини, — почаще обращайся к Петрарке. В его дивных сонетах и канцонах перед тобой откроется мир красоты и гармонии. В стихах важны и слова, и ритм, заданный поэтом, а это всегда музыка. Не всем дано её услышать и оценить по достоинству благозвучие стиха.
Вскоре в домашней библиотечке отца появился томик Петрарки. Увлекаясь, Вентурини посвящал Рафаэля в тайны происхождения того или иного слова, поясняя его латинские или греческие корни. В такие минуты он забывал о существовании других учеников, а те только того и ждали, чтобы вволю шалить и заниматься своими делами. Однажды Вентурини, прочитав одну из басен Эзопа, дал задание изложить её письменно своими словами в тетради. Ученики засели за работу, списывая друг у друга исподтишка нужные слова и выражения.
Рафаэлю не хотелось пересказывать услышанное, тем более, что вышла загвоздка в правописании некоторых слов. Вместо ручки он взял цветные карандаши и нарисовал рыжую лису, которая с жадностью посматривает на высоко висящую гроздь винограда и облизывается. Увидев рисунок, Вентурини пришёл в восторг.
— Молодец! — воскликнул он. — Тебе удалось точно передать главную мысль басни в рисунке.
Однокашники завидовали любимчику учителя — где им было с ним тягаться! Вот на лужайке в игре с битой они показали бы этому умнику кто есть кто. Но Рафаэль сторонился и обходил их шумные сборища стороной. Его не привлекали игры на лужайке. Как-то после уроков мальчишки его подловили и слегка намяли бока.
— Впредь не будешь умничать перед учителем и зазнаваться!
Если бы не бидель, школьный сторож, заметивший неладное, неизвестно, чем бы закончилось выяснение отношений, завидев его, драчуны разбежались. Подбирая с земли высыпавшиеся из ранца грифельную дощечку с мелками, карандашами и утирая слёзы от обиды, Рафаэль не мог понять, за что однокашники на него вдруг ополчились. Он и не думал зазнаваться, когда отвечал на вопросы учителя. Мальчишки сами же просили его побольше задавать вопросов, чтобы отвлечь Вентурини, который, забыв обо всём, пускался тогда в длинные рассуждения, ничего не замечая вокруг, и можно хоть на голове ходить. На переменке Рафаэль охотно делился со всеми вкусными булочками, которыми дома ему набивали ранец перед уходом в школу, зная о его любви к сладкому.
После занятий мальчишки развлекались в школьном дворе тем, что пытались положить друг друга на лопатки. Ему была не по душе их бестолковая возня, хотя он смог бы с любым из них помериться силами, но один на один, а не с навалившимися пятью-шестью на одного — это было несправедливо и нечестно. Ему претило всякое бахвальство физической силой. Нет, он был необычным мальчуганом, сторонящимся всего грубого и показного. Он так и не научился смачно плеваться через плечо, чем бравировали однокашники, или же, вставив в рот пальцы, издавать оглушительный свист, пугая собак и прохожих.
Но с той поры, когда однажды он пришёл домой после школы с подбитым глазом и оторванным рукавом куртки, мать или кто-то из домашних стали после уроков его встречать, с чем пришлось волей-неволей смириться, чтобы не попасть снова впросак. При этом он умолял лишь об одном — держаться от него в сторонке, дабы не выглядеть в глазах однокашников посмешищем и маменькиным сынком.
Дома с ним любил заниматься отец, листая страницы Библии, полученной в дар от покойного герцога Федерико и иллюстрированной миниатюрами старых фламандских мастеров. Рафаэль с интересом разглядывал превосходные картинки, повествующие об истории сотворения человека и жизни на Земле, а отец пояснял отдельные библейские сюжеты. И это было куда более увлекательно, нежели скучные уроки катехизиса в школе с сердитым преподавателем в сутане из соседней церкви, который пребольно наказывал провинившихся линейкой.
После школы мальчик любил проводить время в отцовской мастерской. Его притягивали и манили запахи красок и растворителя. Даже вонючие клеи, которые приготовлялись из овчинных кож или рыбьих костей, плавников и чешуи на жаровнях, теперь не казались ему неприятными, как прежде. Чтобы отбить неприятный запах, в огонь бросали кусочки ладана и апельсиновые корки. Взобравшись на стремянку, он любил разглядывать стоящие на полках сотни склянок с пигментами мудрёных названий на латыни, а разбросанные всюду кисти и прочие атрибуты живописца вызывали желание самому попробовать сделать то, чем были заняты взрослые.
Так появились его первые рисунки, но он старательно прятал их от сторонних глаз, дабы не вызвать насмешек шутников-подмастерьев. У него уже неплохо получалось измельчать ступкой мел в порошок, как это делали ученики-подростки, и он научился, как и они, отмывать в скипидаре кисти. Ему стали близки и понятны многие замысловатые операции и работы, производимые в мастерской.
— А что нового в школе? — как-то спросил отец за ужином.
Рафаэль рассказал, что сегодня учитель прочитал им в классе одну забавную басню Федра в своём переводе с латыни, а затем приказал пересказать её своими словами. Ему удалось запомнить услышанное, а вот в тетради изложить басню словами было куда труднее.
— Ведь слышится одно, — оправдывался он, — а пишется-то совсем по-другому.
— О чём говорится в басне? — поинтересовалась мать, чтобы успокоить его.
— Про оленя, но у неё грустный конец.
— Так прочти, коли запомнил! — ободрил отец.
И Рафаэль повторил наизусть услышанное в школе:
Мать расцеловала сына, поражённая его проникновенным чтением звонким голоском, а отец резко встал из-за стола и ушёл к себе, сказав, что он сыт. Маджия и тётки были в недоумении, не понимая, чем он остался недоволен. Видя, как встревожились взрослые, мальчик решил их успокоить:
— Не сердитесь на папу. Ему, как и мне, стало жалко бедного олешка.
Видя возбуждение сына, Маджия провела ту ночь рядом с ним в детской. Как радовался Рафаэль, когда мать всё чаще стала проводить ночь в его комнате, напевая ему перед сном колыбельную. Она пела про уснувших птиц в саду, спящих рыб в пруду и про синее небо в звёздах.
По вечерам, когда в доме собирались гости, отец любил удивить приглашённых приготовленным им блюдом по собственному рецепту. Постоянно колдуя над красками в мастерской, чтобы добиться нужной консистенции и цвета, он перенёс своё пристрастие к составлению различных смесей на кулинарию, в чём, по мнению знающих в этом толк сестёр, стал подлинным мастером. Чтобы развлечь гостей после шумного застолья с шутливыми тостами во здравие вновь испечённого «повара», Санти просил жену спеть или сыграть что-нибудь. Рядом в большой зале стоял старинный клавикорд с красивой крышкой, сплошь инкрустированной перламутром, но Маджия часто предпочитала ему лёгкую лютню. Подобрав нужную мелодию, она принималась петь. Её бархатистое контральто было слишком сильным для домашнего пения, и поэтому ей приходилось сдерживать мощь голоса, переходя от forte на pianissimo. Рафаэлю особенно нравилась песня на слова отца:
Всякий раз, когда он слышал эту песню, она приводила его в сильное волнение. Ему было жалко бедный листочек, который оторвался от родимой ветки по воле ветра-разлучника. Когда Маджия пела, чуть прикрыв глаза, на её красивом одухотворённом лице отражалась то грусть, то тихая радость, неизменно вызывая бурный восторг гостей.
В гостеприимный дом Санти нередко захаживал их сосед весельчак Пьерантонио Вити, медик и музыкант, живший холостяком с матерью на той же улице Контрада дель Монте, но на самой вершине холма в похожем на крепость собственном доме с садом и огородом. Это был почитаемый в городе человек, получивший блестящее медицинское образование в первом в Италии Болонском университете, считавшемся тогда лучшим в Европе. Его услугами лекаря пользовался весь двор. Когда он появлялся у Санти вместе с матерью синьорой Камиллой, большой почитательницей музыки, Маджия обычно садилась за клавикорд, а Вити брал в руки флейту, и начиналось музицирование, вызывавшее восхищение слушателей.
Видимо, в такие минуты царившей в доме гармонии у Рафаэля впервые зародилось желание взяться за перо, чтобы выплеснуть на бумаге чувства, вызванные музыкой, о чём говорят первые его стихотворные опусы, написанные неуверенным почерком: «Нахлынувшие мысли неизменно / Меня манят в неведомые дали…» Его детство проходило в атмосфере гармонии чистых звуков, что вскоре не замедлило сказаться и на его первых рисунках, в которых особенно поражают плавность и чистота линий.
По воскресным дням мальчик с родителями шёл на литургию в кафедральный собор. Всякий раз его охватывало чувство гордости при виде того, как люди радостно приветствуют мать красавицу в великолепном наряде gamurra и статного седовласого отца, почтительно уступая им дорогу. А однажды родители взяли его с собой на устроенный по случаю праздника Pentecoste — Дня Святой Троицы рыцарский турнир на обширной площади перед дворцом, где были установлены трибуны для зрителей. Это было незабываемое красочное зрелище. Чтобы помериться в силе и ловкости, в турнире приняли участие представители самых титулованных семей. Их стальные латы и шлемы с разноцветными плюмажами, шпаги и пики ярко сверкали на солнце, а вкупе с разноцветными плащами рыцарей, украшенными родовыми вензелями, являли собой праздничную картину.
Турнир завершился под ликование присутствующих победой герцога Гвидобальдо, хотя, как понял Рафаэль из разговора родителей по пути домой, мать отдала предпочтение другому более ловкому рыцарю, который явно переиграл герцога, дважды выронившего копье и неуверенно державшегося в седле. Отец решительно с ней не согласился, и сын впервые, к своему удивлению, услышал, как между родителями вспыхнул неприятный спор на непривычно повышенных тонах. И хотя ему казалось, что скорее права мать, их обоих было очень жалко, и он еле сдерживался, чтобы не заплакать, крепко сжимая их руки своими ручонками.
По вечерам после ужина домашние коротали время за любимой игрой в tombolo — что-то вроде нашего лото. Ничто, казалось, не предвещало беды. Но неожиданно она постучалась в их тихий дружный дом — 7 октября 1491 года мать скоропостижно скончалась. Ей не было и тридцати. Смерть красавицы Маджии потрясла весь город и болью отозвалась во дворце. На кладбище, когда гроб опускали в могилу, рыдающий отец прижал к себе лицо сына, чтобы он не видел страшной сцены погребения. Потрясение было столь сильным, что Рафаэль лишился дара речи. Он не силах был вымолвить ни слова и в ответ на обращённые к нему вопросы взрослых невнятно мычал, молча утирая слёзы.
Напуганный неожиданной немотой восьмилетнего сына Джованни Санти покинул Урбино и отправился с мальчиком к морю в Пезаро, где у его друга скульптора Бароччи был на побережье свой дом. Там он провёл несколько дней в надежде, что к сыну вернётся речь, а перемена обстановки и вид моря помогут прийти в себя после всего пережитого и как-то успокоиться и забыться. Правда, вид бурлящего осеннего моря мало способствовал поднятию духа. Но яркое, хотя и не греющее в ту пору солнце сделало своё, и, к счастью, речь у мальчика вскоре восстановилась. Он робко стал произносить отдельные слова и строить связные фразы, что поначалу давалось нелегко.
Гуляя с сыном по побережью, отец старался отвлечь его, рассказывая забавные истории. Всё ещё не до конца веря в выздоровление сына, он иногда останавливался на полуслове:
— Рафаэль, мальчик мой, что же ты молчишь?
— Да, да, папа, я слушаю тебя, — отвечал тот.
Хотя время — лучший доктор, в сердце Рафаэля осталась незаживающая рана. Светлый образ матери навсегда запечатлелся в его памяти. Молча бродя с отцом по песчаному пляжу и прислушиваясь к плеску волн, он никак не мог тогда представить, что по возвращении в осиротевший родительский дом его ждут новые не менее жестокие испытания.
Глава III В МАСТЕРСКОЙ ОТЦА
Не успели закончиться полагающийся годичный траур и высохнуть слёзы от невосполнимой утраты, как уже 25 мая отец вторично женился на девице Бернардине, дочери золотых дел мастера Пьетро ди Парте. Скоропалительный брак не был принят домашними. На семейном совете с участием младшего брата — священника дона Бартоломео было решено бойкотировать свадьбу, о которой в городе было немало пересудов, особенно среди ближайших соседей по улице, открыто осуждавших художника Санти за то, что так скоро он забыл свою очаровательную и всеми любимую Маджию.
— Наш братец окончательно потерял голову, — горячилась Санта. — Да где это видано, чтобы мужику под шестьдесят жениться на девчонке! Ни стыда ни совести.
— Вот уж воистину, седина в голову, бес в ребро, — вторила ей Маргарита.
Во всей нашумевшей истории с женитьбой, затеянной старшим братом, обе сестры и священник дон Бартоломео увидели прямую угрозу своим правам на родительское наследство. К тому же новые родичи не пользовались в городе доброй репутацией. О них ходила молва как о людях кляузных и алчных, готовых ради выгоды пойти на всё. Но Джованни Санти не внял сетованиям сестёр, а с братом-священником у него давно были натянутые отношения, и поступил по-своему, проявив характер.
Вскоре у Рафаэля появилась родная сестра. Но с той поры родительское гнездо окончательно лишилось прежнего покоя. Между тётками, которые привыкли после смерти старого Санте верховодить в доме, и новой женой отца ссоры возникали по любому поводу. Когда дела задерживали Джованни Санти во дворце или ему нужно было отлучиться в соседний город, жизнь в доме превращалась в сущий ад, и у бедного мальчика было одно лишь желание — бежать куда подальше от криков и скандалов. Однажды он пропал на всю ночь — зарылся в копну сена в саду на вершине холма, где утром его обнаружила мать врача Вити синьора Камилла. Она и привела беглеца домой. У него зуб на зуб не попадал от холода.
— Бедная Маджия, — запричитали тётки, увидев после бессонной ночи племянника, — если бы знала она, какую жизнь её сыну уготовил наш братец, выживший из ума!
Они стояли горой за племянника, не давая его в обиду. Но с каждым днём обстановка накалялась. Споры из-за главенства в доме с бойкой на язык напористой Бернардиной не утихали. Заслышав поутру крики и бой посуды, испуганный Рафаэль прятался на чердаке. Часто ему на помощь из мастерской поднимался Пьяндимелето и, разыскав дрожащего от страха мальчугана, брал его за руку и отводил к себе вниз или к родственникам покойной матери, жившим неподалёку.
Джованни Санти так и не хватило твёрдости духа, чтобы навести в семье порядок. Его взбалмошная супруга всё более наглела, входя во вкус, и не унималась, диктуя свою волю. Однажды после очередного скандала с тётками она схватила попавшуюся ей под руку корзину с котятами и вышвырнула в окно. Оторопевших Маргариту и Санту хватил удар, и прибежавшим на крик соседям пришлось отпаивать их валерьянкой, чтобы успокоить и привести в чувство. Точно так же истеричная невестка поступила с поющими по утрам канарейками и щеглами.
— Нет покоя от этих бестий! — раскричалась она. — Они будят спозаранку мою бедную дочурку.
Бернардина открыла клетки и, размахивая метлой, выгнала всех птиц из дома. Мальчик долго по ним горевал, а тётки, как могли, пытались утешить сироту. Когда становилось совсем невмоготу, муж отсылал жену с ребёнком погостить к её родителям, чтобы она там немного поостыла, а сам с сыном уезжал из города по своим делам. Во время одной-из таких поездок ему пришлось работать в соседнем городке Кальи над фреской «Мадонна с Младенцем и святыми» в местной церкви Сан-Доменико. Он был поражён, увидев, с каким пристальным вниманием мальчуган, сжавшись в комок, следил за его работой, стараясь не упустить ни одного взмаха кисти. В память о той поездке Джованни Санти справа на фреске запечатлел в образе златокудрого ангела своего сына. Это первое сохранившееся живописное изображение отрока Рафаэля.
Не вынося брани и часто ловя на себе косые взгляды мачехи, словно он был причиной домашних ссор, мальчик привык дни напролёт проводить в отцовской мастерской за аркой внутреннего дворика. Там перед ним открывался мир, непохожий на всё, что приходилось видеть вокруг себя дома и в школе, где тоже постоянно шла борьба за верховенство между одноклассниками. Только в мастерской он находил успокоение. Особенно его занимал молчаливый Пьяндимелето, который терпеливо работал над картиной, не обращая внимания на вечно болтающих или о чём-то спорящих горластых подмастерьев. Прежде чем обмакнуть в склянку с золотой краской кисть из тонких беличьих волосков, он проводил ею по своим волосам.
— Для чего ты это делаешь? — спросил любознательный Рафаэль.
— А вот смотри сам, — предложил тот, показывая. — Стоит мне провести кистью по волосам, словно почёсывая голову, как раздаётся лёгкий треск, после чего золото так и прилипает к кисти и тогда намного сподручнее работать.
Рафаэль мог, не отрываясь, часами смотреть, как подмастерья шлифовали поверхности досок для картин, пропитывая их специальным лаком. Колдуя над досками, они производили какие-то манипуляции и втирания. Позже отец ему показал и пояснил, для чего и как всё это делается.
Особенно полезным для него было общение в мастерской с одним из молодых парней, к которому никто не обращался по имени Джироламо, а все звали «неряхой», обыгрывая его необычную для здешних мест фамилию Дженга, означающую на тосканском диалекте «неопрятную женщину». Парень был сыном пономаря одной из местных церквей и в отличие от товарищей по цеху всегда выглядел опрятно, содержа в чистоте свои кисти и другой рабочий инструмент. Даже фартук на нём на удивление не был испачкан краской, как у остальных мастеровых. Ему было лет семнадцать, и он дорожил недавно полученным званием подмастерья, проявляя в работе завидное усердие. Не в пример другим Рафаэль обращался к нему только по имени, за что тот относился к нему по-товарищески и при случае всегда готов был пособить, если что-то у мальчика не получалось.
Подмастерья привыкли видеть у себя хозяйского сына и ни в чём ему не отказывали. Они даже часто подкармливали его, поскольку на хозяйской кухне не прекращалась война между тётками и Бернардиной, одержимой борьбой за чистоту и порядок, и мальчик то и дело оставался голодным. Он поражал их своей любознательностью, усидчивостью и мог часами сидеть за любимым занятием, вооружившись цветными мелками и карандашами. Обычно Рафаэль рисовал что-нибудь своё или пытался копировать приглянувшуюся деталь на картине, стоявшую у кого-то из подмастерьев на мольберте. Однажды один из шутников неожиданно перевернул стоявшую перед ним картину тыльной стороной. Желая поддеть мальца, он предложил не без издёвки:
— А теперь, юное дарование, напряги-ка свою хвалёную память и постарайся повторить увиденное. Когда перед глазами стоит картина, копировать — дело нехитрое!
Приняв вызов, Рафаэль без особого усилия воспроизвёл в рисунке только что увиденное, не прибегая, как это делали остальные ученики, к разлиновке листа на квадраты для более точной передачи изображения. Подмастерья были поражены его удивительной зрительной памятью. После того случая ни у кого из шутников больше не появлялось желание подвергать его экзамену.
Узнав об устроенной в мастерской проверке, Джованни Санти попросил показать ему тот самый рисунок и похвалил сына за точность.
— Постоянно тренируй память, — сказал он, держа в руке листок с рисунком. — Она развивает воображение и фантазию, а без них не может существовать никакое искусство.
О курьёзном случае в мастерской узнали и тётки. Они с гордостью рассказывали соседям, как их племянник утёр нос насмешникам мастеровым. Маргарита и Санта стали вдруг живо интересоваться делами на первом этаже, узнавая новости от молчуна Пьяндимелето. Их главной заботой было подкормить сиротку-племянника и следить за чистотой его одежды и обуви.
Найдя как-то в папке рисунки отца к давнишней его работе «Благовещение», Рафаэль решил слегка поправить и чётче прорисовать пальцы рук архангела Гавриила, держащего лилии, придав жёстким контурам плавность и подчеркнув объёмность фигур. Когда Джованни Санти увидел работу сына, она потрясла его. Прежний его рисунок изменился до неузнаваемости, хотя руку к нему приложил девятилетний мальчик. Он давно понял чутьём художника, какие необыкновенные задатки заложены в сыне, и по мере сил умело их развивал и направлял. Как же он радовался, сознавая, что Рафаэль унаследовал его пристрастие к живописи!
Обычно Джованни Санти брал в руки палитру и для наглядности наносил на неё поочерёдно различные краски, показывая любознательному сыну, какими животворными свойствами обладают охра, умбра, кадмий, кармин, ляпис-лазурь, киноварь…
— А теперь смотри, как они, соприкасаясь, взаимодействуют друг с другом, порождая неожиданно новые оттенки. Всё зависит от количества пигмента, размешанного на льняном, а ещё лучше на масле, выжатом из маковых зёрен.
Рафаэль с удивлением смотрел, как прямо на глазах краски обретают то светлый, то насыщенно густой тон. Он с интересом следил за каждым движением рук отца и старался не пропустить ни слова.
— Не всякий художник, — продолжал рассказывать отец, — может позволить себе роскошь использовать ляпис-лазурь, когда расписывает небесный свод или хитон Мадонны.
Он бережно ваял, как драгоценность, баночку с дорогой краской, привезённой из заморских стран, а потому и требующей рачительного с ней обращения.
— Запомни раз и навсегда: краски не любят небрежного к ним отношения. Если будешь дорожить ими, они тебя вознаградят сторицей.
Рафаэль слушал отца как заворожённый, приходя в восторг, когда поверх тонкого слоя свинцовых белил тот проводил кистью и краски прямо на глазах начинали вдруг сверкать на свету и переливаться. Это было подлинное чудо, и ему самому так хотелось сотворить нечто подобное. Когда подмастерья гурьбой отправлялись в трактир, он любил в тиши повозиться с красками, стараясь понять их взаимодействие, постоянно рисуя что-то своё, подсказанное детской фантазией.
В свободное время Джованни Санти брал в руки потрёпанную «Книгу о живописи», написанную Ченнини, и зачитывал сыну отдельные страницы с практическими советами для работы с темперой. Автор книги подробно объяснял, как сперва бурой синопией намечается предварительный рисунок, а затем краски быстрыми мазками наносятся на свежую штукатурку стены, поверхность которой должна быть гладкой, как яичная скорлупа. Рафаэль легко усваивал услышанное, поскольку книга была написана не на учёной латыни, а на обычном vulgo, разговорном языке.
— Во времена, когда жил старина Ченнини, — пояснил отец, — о живописи маслом ничего не было известно. Он был учеником одного мастера, работавшего с великим Джотто. Но и сегодня советы Ченнино Ченнини не утратили своей пользы для желающих овладеть азами мастерства.
Для пущей наглядности он сводил Рафаэля в находившуюся неподалёку часовню или Oratorio Иоанна Крестителя, где на конкретном примере показал, сколь сложна техника фресковой живописи. Она требует необходимых навыков и знаний. В начале века эта часовня была расписана местными мастерами братьями Лоренцо и Якопо Салимбени и стала достопримечательностью Урбино как яркий пример позднеготической живописи. Сцены из жизни Крестителя до сих пор поражают тонкостью письма и завораживающим свечением красок. Как пояснил отец, такой эффект светоносности достигается нанесением на изображение лака особого приготовления, называемого sandracca.
— Этим лаком, — пояснил он, — художники пользуются с незапамятных времён. Он получается из сока обычного можжевельника, который размешивается в скипидаре или на яичном белке. Но крайне важно соблюсти пропорцию, чтобы получился лак нужной консистенции и добиться ожидаемого результата.
Заинтересовавшись настенной живописью, Рафаэль самостоятельно посетил другие Oratori — часовни в городе. От отца он научился немудрёным секретам грунтовки, а от её качества во многом зависит будущая фреска. Для подростка, мечтавшего стать художником, это была великая школа, и он испытывал огромную признательность отцу, понимая, сколь многим ему обязан. В такие счастливые моменты, когда не замечалось время и хотелось только слушать спокойный голос отца, сын готов был простить ему измену памяти обожаемой матери. Но кто знает, сколько слёз было пролито мальчиком от обиды, несправедливости и зла, так нежданно-негаданно вторгшегося в их мирный дом, где всё дышало живым напоминанием о покойной матери. С этим Рафаэль никак не мог смириться.
Отец частенько брал подросшего сына с собой во дворец, где было на что посмотреть. Он любил поводить Рафаэля по просторным светлым залам в строгом убранстве. К их оформлению пришлось и ему приложить руку, в частности, он расписал фресками малую дворцовую часовню Муз. Обращая внимание мальчика на отдельные картины, Санти на их примере старался раскрыть ему законы построения композиции и своеобразие цветового решения. В дворцовой пинакотеке было много потемневших от времени работ старых мастеров с их лаконичной повествовательностью и сакральной строгостью. Эти многофигурные композиции, называемые «историями» (historia), особенно ценил и гордился ими их собиратель Федерико да Монтефельтро, чей портрет с маленьким сыном Гвидобальдо кисти испанца Педро Берругете украшает один из залов дворца.
— Пойми, мой мальчик, — говорил отец Рафаэлю, — чтобы достигнуть мастерства в любом деле, нужно многое знать и каждодневно трудиться. Никогда не расставайся с рабочей тетрадью и отмечай в ней всё лучшее, что открывается тебе на картинах других живописцев. Это очень пригодится тебе в будущем.
Вне всякого сомнения на Рафаэля наиболее сильное впечатление произвела жемчужина дворцовой коллекции «Бичевание Христа» кисти Пьеро делла Франческа — яркий пример монументальной композиции, цель которой показать достоинство и величие человека. Эта загадочная картина, по одной из версий, связана с нераскрытой тайной. Считается, что Пьеро делла Франческа был наслышан о ней и справа от портика, где происходит бичевание, поместил трёх мужчин, один из которых по имени Оддантонио являлся братом герцога Федерико. Он погиб от руки подосланного убийцы. Были и другие версии, согласно которым Оддантонио пал жертвой семейного заговора. Вряд ли Рафаэля заинтересовала эта тёмная история. Он сторонился всего жестокого, но позднее, вспомнив о картине, написал работу на тот же поразивший его сюжет, повторив увиденную в детстве композицию.
В том же зале Санти обратил внимание сына на картину Паоло Уччелло «Чудо со святыми дарами», пояснив, почему художника называют «магом перспективы». В отличие от фламандцев, не задумывавшихся над воспроизведением пространства, оба умбрийских мастера, Пьеро делла Франческа и Уччелло, глубоко изучали вопросы перспективы и организации живописного пространства. Сравнивая различные детали картины, Санти старался показать сыну значение перспективы в живописи. Эти походы с отцом во дворец оставили глубокий след в сознании подрастающего Рафаэля.
Как-то после очередного скандала тихо и незаметно ушла из жизни тётка Маргарита, никому не дававшая в обиду любимого племянника. После смерти старшей сестры Санта сникла и замкнулась в себе. Она перестала общаться со старшим братом, высказав ему в лицо всё, что наболело на душе за последние годы, но тот в ответ только махнул рукой.
— Как же все вы мне надоели! — в сердцах молвил он и выскочил из дома.
Сталкиваясь ненароком в коридоре с женой брата, Санта спешно запиралась в своей каморке. Её перестали занимать дела в отцовской лавке, соседские новости и даже кошки, которые в одночасье куда-то запропастились все до одной после смерти кормившей их Маргариты.
— Скоро и мой черёд, — сказала Санта племяннику, — и некому будет побеспокоиться о тебе, сиротинушке.
Не стало и малютки сводной сестры, умершей от дифтерита, и в доме воцарилось полное единовластие вспыльчивой Бернардины. Её крик не был слышен разве что в мастерской, где Рафаэль проводил большую часть дня. Когда отец задерживался в поездке в другие города, он предпочитал дожидаться его возвращения у дяди по материнской линии Симоне Чарла, который старался помочь и хоть чем-то скрасить сиротство подростка. Он обожал красивого племянника, который не по годам был умён, рассудителен и полон обаяния и доброты, несмотря на все свалившиеся на его хрупкие плечи несчастья. Рафаэль любил слушать рассказы дяди о детстве Маджии и её девичьих забавах. Ему хорошо было здесь и не хотелось уходить. Холостяк дядя настойчиво предлагал племяннику пожить у него, пока домашние не утихомирятся, да и до школы от него рукой подать.
По дороге к дому Рафаэль под влиянием разговоров с дядей о матери обычно заходил на кладбище навестить её могилу, где вечный покой нарушало только пение птиц как напоминание о безвозвратно ушедших днях безмятежного детства. Только труд помогал отвлечься от грустных мыслей. Прибежав домой, он шёл в мастерскую и брался за рисунок, оттачивая чистоту линий. Не исключено, что именно после посещения кладбища появился написанный углём на мелованной бумаге первый предполагаемый «Автопортрет» (Оксфорд, Асмолеан музеум).
При взгляде на рисунок поражает несколько сонное выражение глаз изображённого русоволосого отрока, говорящее о том, что он слишком рано был пробуждён к деятельной жизни, но не ласковым зовом матери, а грубым окриком и житейскими злоключениями. Вот почему по сжатым губам подростка пробежала лёгкой тенью грусть.
В соседнем доме, где проживал одинокий гончар, появилась девочка лет тринадцати. Проходя мимо, Рафаэль видел, как красивая незнакомка, сидя у окна, расписывала незатейливым орнаментом керамические кувшины, стаканы и плошки перед их обжигом в печи во внутреннем дворике. Недавно он повстречал соседскую девочку на воскресной литургии, куда ходил по настоянию дяди дона Бартоломео и особенно тёти Санты. Его поразило, с каким благоговением незнакомка молилась перед потемневшим от времени ликом Богородицы, запалив свечу. По дороге домой они познакомились.
— Мы с отцом приехали сюда из Фано, — сказа Ла Бенедетта, так звали девочку.
В их городе вспыхнула холера, от которой погибла почти половина жителей. Похоронив мать и младшего брата, Бенедетта с отцом приехала сюда, к дяде холостяку.
— Я видел, как ты расписываешь глиняную посуду, — сказал Рафаэль. — Если хочешь, я дам тебе рисунки птиц и цветов. Они хорошо смотрятся на керамике.
Дня через два Бенедетта сообщила, что дядя и отец похвалили её работу, но она скрыла от них, кто снабдил её рисунками. Это стало их тайной, хранимой от взрослых, которые всё понимают не так, а им о многом хотелось поговорить. Их внутренние дворики разделяла невысокая кирпичная стена. Подставив лестницу, Рафаэль забирался на стену и слушал, как его подружка что-то напевает за работой. У неё был звонкий голосок, и всякий раз ему вспоминалось, как пела его мать, взяв в руки лютню, и как её чарующий голос привлекал всю округу.
В конце июля, когда от невыносимой жары и духоты нечем было дышать, а мачеха, будучи на сносях, укатила на море, где у её родителей была вилла, из Мантуи вернулся отец, куда он ездил по просьбе герцогини для написания портрета маркизы Изабеллы д’Эсте и её мужа. По-видимому, в тех гнилостных местах он подцепил болотную лихорадку или ещё какую-то хворь. Узнать отца было трудно, настолько болезнь и дорога его измотали. Бросив поклажу у порога, первым делом он зашёл в мастерскую, где выслушав подробный отчёт Пьяндимелето, бросил взгляд на лежащие на рабочем столе рисунки.
— Неужели это твоя работа? — спросил он подбежавшего к нему Рафаэля и, взяв один из листов с изображением отрока, промолвил: — А отчего такая печаль в твоих глазах? Напрасно, сын мой, жизни надо радоваться и…
Последние слова Джованни Санти произнёс почти шёпотом и, выронив из рук рисунок, потерял сознание. Если бы не стоявший рядом Пьяндимелето, он бы упал. Перепуганные подмастерья перенесли хозяина наверх и уложили в постель. Вызванный живший по соседству друг дома лекарь Пьерантонио Вити осмотрел больного, который был весь в жару и хрипел. Покачав головой, он пустил находящемуся без сознания Джованни Санти кровь, как полагалось тогда в подобных случаях, и прописал строгий постельный режим.
Едва больному чуть полегчало, он приказал немедленно послать за нотариусом и братом священником. 29 июля 1494 года под диктовку еле двигающего языком Санти было составлено завещание на латыни нотариусом Лодовико Алессандрини. Главными наследниками в нём были названы брат священник дон Бартоломео, сын Рафаэль от первого брака и чрево жены Бернардины, которое к зиме должно было разродиться. Всем наследникам была выделена определённая сумма золотых флоринов, равно как и жене Бернардине в покрытие стоимости её приданого. Ей отходил также целый перечень вещей и украшений. Особо было оговорено, что если жена будет свято и неукоснительно блюсти память мужа и сохранит своё положение вдовы, то сможет проживать в супружеском доме со всеми вытекающими отсюда правами.
Свои подписи под завещанием, заверенные нотариусом, поставили приглашённый скульптор Амброджо Бароччи, давний друг Санти, и Эванджелиста из Пьян ди Мелето, обозначенный как famulus — член семьи завещателя. Когда с процедурой было покончено, на пороге появился запыхавшийся дон Бартоломео, которому дела в приходе не позволили явиться вовремя. Оставшись один на один у постели брата, он спросил:
— К чему всё это сборище? Что ты затеял, Джованни?
— Пришла пора прощаться. Прошу, не перебивай меня, — ответил тот. — Жена себя в обиду не даст, и за неё я спокоен. — Ему трудно было говорить. Собравшись с силами, он продолжил: — Молю тебя только об одном, брат, помоги моему мальчику! Заклинаю — не оставь его в беде! Он пока совсем не приспособлен к жизни.
Через три дня, 1 августа, Джованни Санти скончался, а в конце декабря того же года Бернардина разродилась девочкой. Её нарекли Елизаветой в честь крёстной матери Елизаветы Гонзага. Герцогиня приняла живое участие в делах семьи покойного придворного художника. Не теряя зря времени, Бернардина начала заводить новые порядки на правах полновластной хозяйки в доме и в лавке, куда Санта не смела больше заходить, поскольку там теперь делами заправляла недавно нанятая усатая грудастая молодуха.
Отныне помыкающей всеми придирчивой хозяйке никто не смел ни в чём перечить. Первым делом она решила за ненадобностью полностью освободиться от мастерской. Бернардину выводили из себя шумные подмастерья с их глупыми шуточками. К тому же эту прожорливую ораву надо было кормить, а с какой стати? Подросшего пасынка она велела пристроить учеником к какому-нибудь толковому мастеру. Однажды после завтрака она заявила:
— А почему бы не отдать Рафаэля на обучение к Перуджино? Об этом так мечтал покойный муж. Здесь мальчик ничему путному не научится у шалопаев подмастерьев и будет только бить баклуши.
Но не тут-то было. В дело вмешались дон Бартоломео и famulus Пьяндимелето, считавшие, что мастерская, пользующаяся известностью, должна продолжать работать, принося доход. Её полновластным владельцем считается ныне одиннадцатилетний Рафаэль, и его мнение в этом вопросе было решающим. Их позицию поддерживал верный друг дома Пьерантонио Вити, занимавший с 1492 по 1499 год почётную должность гонфалоньера Урбино, наделённого немалыми правами. В их лице талантливый отрок нашёл верных защитников, что вселяло уверенность в свои силы и желание совершенствовать мастерство.
Недавно в городе объявился младший брат гонфалоньера Тимотео Вити, острослов и балагур, прекрасно играющий на лютне. Он вернулся из Болоньи, где в течение четырёх-пяти лет обучался ювелирному делу и живописи под началом известного мастера Франческо Райболини по прозвищу Франча, который отметил в своём дневнике: «…сегодня в четверг 4 апреля 1495 года меня, к великому сожалению, покинул дражайший друг Тимотео Вити, который отбыл в свой родной Урбино. Да поможет ему в делах фортуна и хранит его Господь».20
Вернувшись на родину, Вити занял вакантное место организатора дворцовых увеселений, оставшееся свободным после смерти Джованни Санти. Он блестяще играл на многих музыкальных инструментах и обладал сильным голосом. Его музыкальные вечера обрели широкую известность. Тимотео Вити стал для юного Рафаэля старшим товарищем по искусству, а со временем его верным последователем, причем настолько рьяным, что искусствоведы нередко приписывали ему некоторые ранние произведения Рафаэля.
С его появлением в городе обрела бо́льшую живость работа в мастерской, куда Вити частенько заходил и немало порассказал о виденном им в Ферраре и Мантуе, где со своим учителем Франчей он почти год работал при дворе маркизы Изабеллы д’Эсте. Ему довелось там видеть, как Андреа Мантенья завершал свой знаменитый фресковый цикл на мифологические темы в studiolo — рабочем кабинете маркизы и росписи в Camera degli Sposi, прославившие семейство Гонзага.
Весельчак Вити, чья мастерская была по соседству, рассказал также о Перуджино, от которого маркиза Изабелла д’Эсте никак не могла добиться завершения заказанной картины на мифологический сюжет. У мастера не получалось что-то на картине, и дело кончилось размолвкой с требовательной заказчицей. А вот с венецианцем Беллини-старшим маркиза вконец рассорилась и дело чуть не дошло до суда.
Как зачарованный Рафаэль слушал рассказы старшего товарища о его впечатлениях от работ великих мастеров. Особенно поразил рассказ о Флоренции, где Вити стал очевидцем бурных драматических событий. Ему довелось побывать в переполненном до отказа флорентийском соборе Санта-Мария дель Фьоре на проповеди доминиканского монаха Савонаролы. Среди прихожан в соборе находились известные гуманисты, поэты и художники — интеллектуальная элита славного города. Грозя неминуемой карой вероотступникам, погрязшим в роскоши и разврате, неистовый доминиканец решительно потребовал изгнания из Флоренции зарвавшихся Медичи и иже с ними. Как старозаветный пророк он призвал всех к немедленному покаянию и аскезе. Под конец гневной проповеди в истеричном запале он прокричал срывающимся фальцетом, заставив всех присутствующих содрогнуться:
— Одумайтесь, христопродавцы, уймитесь! Иначе я залью водами потопа всю грешную землю!
Последние слова с угрозой были взяты им из Библии — Ессе adducam aquam diluvii super terram. Проповедь монаха ошеломила многих. Находившийся в соборе Пико делла Мирандола, по совету которого Лоренцо Великолепный пригласил доминиканского монаха во Флоренцию, побледнел и чуть не потерял сознание то ли от нервного потрясения, то ли от давки и духоты. А Микеланджело и вовсе решил бежать хоть на край света, услышав, что его покровителям Медичи грозит изгнание. Для Флоренции наступили тяжёлые времена. В умах горожан полная неразбериха и растерянность, словно в канун неминуемых бедствий.
— Доминиканец, — продолжил свой рассказ Вити, — вполне оправдывает название своего ордена Domini canis — Псы Господа. Савонарола, как верный пёс, всюду вынюхивает крамолу. Сам того не подозревая, он посеял вместо зёрен плевелы, и теперь приходится пожинать плоды самых низменных страстей, пробудившихся в людях.
Брожение началось и в умах флорентийских гуманистов, литераторов и особенно художников. Многие, и среди них Боттичелли, порывали с искусством, впав в уныние и поверив предсказаниям неистового проповедника о грядущем конце света и уготованной грешникам неминуемой каре. В городе творилось повальное безумие, и некоторые известные живописцы приняли за чистую монету утверждения Савонаролы о том, что искусство — это искус Сатаны. Они забросили в страхе кисти и палитры, сочтя написанные ими картины «богохульными», и под улюлюканье обезумевшей в фанатичном угаре толпы поволокли их в общий костёр на площади Санта-Кроче или в «костёр тщеславия», как его называли. В огне погибло множество художественных произведений с изображением томных мадонн, нередко смахивающих на возлюбленных самих художников или на городских шлюх, услугами которых не брезговали пользоваться мастера кисти.
— У меня до сих пор перед глазами, — добавил Вити, — костёр, пожиравший великолепные творения, которые превращались в пепел. Впавшие в неистовство сторонники Савонаролы устраивали на площади дикие хороводы и пляски вокруг полыхающего костра. Большего безумия трудно вообразить!
Оказавшийся свидетелем повального помешательства один венецианский купец предложил за картины, осуждённые на сожжение, выкуп в 20 тысяч золотых скудо, но его предложение было отвергнуто.
Вести о беспорядках во Флоренции дошли до Урбино и вызвали серьёзное беспокойство во дворце. Но в мастерской далёкого от политики юного Рафаэля работа шла своим чередом, если бы не злые козни мачехи. Напористая Бернардина не успокоилась и затеяла с двумя наследниками тяжбу. 31 мая 1495 года состоялось первое судебное разбирательство, на котором подростку Рафаэлю пришлось давать показания. Непривычная обстановка зала суда со стоящими у дверей стражниками с алебардами напугала мальчика. Когда судья попросил его встать, назвав «ответчиком», и строго предупредил об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, Рафаэль вконец растерялся, не понимая, чего от него хотят, и не смог вымолвить ни слова. К счастью, пришёл на выручку сидевший рядом дядя.
— Ваша честь, я протестую! — заявил дон Бартоломео, поднявшись с места. — Прошу оставить в покое моего несовершеннолетнего племянника сироту и задавать вопросы только мне.
Через несколько дней, 17 июня, состоялось второе заседание, на котором после серии препирательств с ответчиком суд обязал дона Бартоломео выделить необходимые средства на содержание истицы и её новорождённой дочери. На заседании суда побывал и другой дядя Симоне Чарла, проявивший понимание сути дела. Он даже попытался убедить шурина пойти на некоторые уступки, но дон Бартоломео ничего слушать не хотел.
Возвращаясь из зала суда, дядя Симоне, желая ободрить сникшего племянника, посоветовал:
— Не думай, Рафаэль, о дурном. Всё само собой образуется. У тебя есть любимое дело, и это самое важное. А на меня ты всегда можешь рассчитывать.
Проводив племянника до дверей, он отказался войти в дом, не желая снова сталкиваться с несговорчивым доном Бартоломео и нарываться на неприятность. На прощание он сказал племяннику:
— Знай также, что твои покойные дедушка Баттиста Чарла и бабушка Камилла оставили тебе по завещанию небольшую сумму и ею ты можешь полностью распоряжаться по своему усмотрению.
Воспользовавшись отъездом на море мачехи с ребёнком, няньками и служанками, заполонившими весь дом, Рафаэль решил наконец осуществить давно вынашиваемую идею запечатлеть образ матери на стене комнаты, именуемой большой залой, где он так любил слушать, как Маджия пела или играла на клавикорде.
Дядя дон Бартоломео после смерти брата и первого судебного разбирательства окончательно обосновался в родительском доме, прихватив с собой одну из преданных своих прихожанок, бойкую девицу по имени Перпетуа. Он вручил ей связку с ключами от дверей, шкафов и лабазов, поручив вести домашнее хозяйство и приглядеть себе в помощь двух-трёх служанок для поддержания в доме чистоты и порядка. Воспрянула духом и вышла из своего добровольного затворничества Санта. Она с радостью взялась за восстановление прежних порядков, но особая её забота была о подрастающем племяннике и его гардеробе, чтобы выглядел он достойно, как и подобает представителю рода Санти, а тем более хозяину художественной мастерской, которого могут в любой момент вызвать во дворец.
Когда Рафаэль рассказал дяде о своём желании написать фреску в большой зале, тот горячо его поддержал.
— Это твой дом, — заверил он племянника, — и ты волен поступать, как тебе заблагорассудится, а тем паче украсить стену фреской. Уверен, что твои покойные родители были бы этому рады.
Поддержка дяди ещё более укрепила Рафаэля в желании написать образ матери. Правда, в последний момент он отказался от идеи писать фреску в большой зале, где перед облюбованным им участком стены возвышалась горка со статуэтками и побрякушками мачехи. Во избежание скандала он решил ограничиться стеной перед аркой, ведущей в мастерскую. Памятуя об уроках отца и не желая прибегать к посторонней помощи, он без особого труда справился с нанесением раствора и шлифовкой известковой поверхности. Довольно быстро Рафаэль написал «Мадонну с младенцем» (102x71 сантиметр). Это его первое живописное произведение, дошедшее до нас в сохранности. В нём ещё чувствуются некоторая робость и скованность взявшегося за кисть новичка, но уже налицо удивительная гармония всех компонентов живописного слоя и, главное, поразительная для начинающего художника чистота исполнения.
Сидящая перед раскрытой книгой на аналое молодая мать погружена в чтение, нежно прижимая к груди спящего сына. Она изображена в профиль, а ребёнок — анфас. Мирно спящий младенец опёрся головкой на руку. Его голое изогнутое тельце чётко рифмуется с линией спины читающей матери, образуя мягкий овал при умело достигнутом созвучии красок. Её тёмно-синий плащ поверх розового хитона оттеняет белизну тела ребёнка. Изображение на фреске разнится с её названием из-за отсутствия нимбов и прочих атрибутов святости. На картине показана обычная сцена каждодневной жизни. На всём лежит печать умиротворённости и покоя, чего в ту пору так недоставало юному автору.
Именно таким Рафаэлю с раннего детства запомнился склонившийся над его колыбелью материнский профиль. Эта скромная работа служит ярким доказательством раннего развития Рафаэля, убедительно и зримо показывая, что в подростке пробудился гений. В настоящее время сама фреска перенесена в комнату, в которой, как принято считать, появился на свет будущий художник.
Рафаэлю захотелось показать свою работу соседской подружке. Увидев фреску, Бенедетта спросила:
— Это написал твой покойный отец? Очень красиво.
Он растерялся, не зная что ответить. Тогда стоявшая рядом Санта, полюбившая девочку сиротку, не выдержала:
— Что же ты молчишь, Рафаэль? Это его работа, голубушка Бенедетта, и никто ему не помогал. Его матушка Маджия вышла у него как живая. Царствие ей Небесное!
Долгое время картина приписывалась Джованни Санти по тонкости письма и почти фламандской точности деталей. Но проведённые в последние годы исследования отвергли это предположение. Отец Рафаэля был интересным, ищущим художником, усвоившим бесценный урок, который преподнёс ему и всей итальянской живописи Пьеро делла Франческа. С ним он впервые познакомился в 1469 году, когда прославленный умбрийский мастер прибыл в Урбино для написания упомянутого диптиха правителя герцогства с супругой и большого алтарного образа «Причастие апостолов». По просьбе заказчика, а им было всесильное монашеское братство Тела Господня, уже достигший признания Джованни Санти согласился всячески помогать приезжей знаменитости. Он не гнушался оказывать великому мастеру даже мелкие услуги, считая для себя большой честью растирать краски и подавать чистые кисти самому Пьеро делла Франческа. По непонятным причинам мастер прервал вскоре работу над заказом и картину дописывал работавший в Урбино фламандец Джусто ди Гант. Джованни Санти сохранил дружбу с Пьеро делла Франческа, которому он многим был обязан, до конца жизни.
Санти сумел вобрать в себя многое из того, чего достигло к тому времени итальянское изобразительное искусство. Но особо следует отметить его дружбу с более молодым собратом по искусству Перуджино, который покинул своего наставника Верроккьо, повздорив с ним, и по рекомендации урбинского друга оказался в мастерской Пьеро делла Франческа. Санти высоко ценил искусство Перуджино за его любовь к природе и людям Умбрии, этого удивительного островка в верхнем течении древнего Тибра, так непохожего на все другие итальянские земли.
Величайшая заслуга отца в том, что он угадал, раскрыл и развил в сыне уже в самом раннем возрасте его гениальные задатки. Благодаря ему отрок Рафаэль прошёл нелёгкую школу познания азов мастерства. Обычно на обучение этому уходило по крайней мере лет десять-двенадцать. Если бы после Санти осталась лишь одна картина «Святое собеседование» в заштатном городке Монтефьорентино близ Пезаро с профильным портретом заказчика в рыцарском облачении, как и на упомянутом двойном портрете кисти Пьеро делла Франческа, или трепетная «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» в ГМИИ имени Пушкина, попавшая туда из собрания графа Шувалова, то этого было бы вполне достаточно, чтобы считать его мастером, заслуживающим специального рассмотрения. Однако самое главное, Санти подарил миру Рафаэля, сумев взрастить в сыне гения благодаря своим недюжинным способностям терпеливого и мудрого наставника. В этом его величайшая заслуга.
К сожалению, мнение о нём Вазари как посредственном художнике возобладало и закрепилось надолго. С его оценкой был согласен такой авторитетный знаток итальянской живописи, как Стендаль, который, возможно, и не видел работ Санти. Впрочем, их не видели многие авторы, писавшие о Рафаэле. Если бы Санти не был отцом Рафаэля, его имя не сохранилось бы в истории, а это было бы несправедливо. Следует признать, насколько можно сегодня судить по весьма подпорченной временем удивительной фреске «Мадонна с Младенцем», что сын превзошёл отца как по певучести ритма линий, так и по чётко выверенной композиции и мягкому гармоничному распределению света.
Вернувшись в сентябре с моря, Бернардина выразила явное недовольство, что за время её отсутствия в доме появилось непонятно чьё изображение, и тут же закатила истерику.
— Что, вам мало места в мастерской марать стены?! — раскричалась она. — Немедленно сбить эту мазню!
Но в лице новой домоправительницы Перпетуи и двух её крепких служанок она встретила такой мощный отпор, что была вынуждена уступить поле битвы, ретироваться от греха подальше и отправилась к своим родителям. Покидая дом, Бернардина в сердцах заявила, что ноги её здесь больше не будет!
Наконец-то воцарилось долгожданное спокойствие, и домочадцы воспрянули духом. Но посрамлённая воительница, утратившая бразды правления, не собиралась сдаваться. По наущению своего отца она подала новый иск. Дело в том, что Джованни Санти, по-видимому, не доверяя до конца брату священнику, на что у него были неведомые нам причины, в самый последний момент, когда нотариус у него спросил, кого он назначает своим душеприказчиком, неожиданно назвал имя нового тестя Пьетро ди Парте, предприимчивого и оборотистого человека. А тому не терпелось отсудить у несмышлёныша-подростка Рафаэля и его дяди дона Бартоломео в пользу овдовевшей дочери и внучки Елизаветы хотя бы смежную половину дома Санти и часть загородных земельных угодий, стоимость которых за прошедшие годы значительно возросла. Для этих целей он нанял одного из лучших адвокатов в округе Пильяпоко с необычной для служителя Фемиды фамилией, означающей дословно «мало берущий». Как ни странно, эта фамилия до сих пор бытует в тех краях среди адвокатов и медиков.
Рафаэлю пришлось оставить все дела и 19 декабря 1497 года вновь предстать перед судом. Его угнетала эта тяжба, и в душе он корил дядю за неоправданное упрямство и скаредность. Споры из-за наследства между сторонами продолжались несмотря на призывы судьи прийти к полюбовному согласию. 3 июня 1499 года неуступчивый дядя с племянником опять были вызваны в суд, который потребовал от ответчика неукоснительного соблюдения всех условий завещания во избежание применения строгих санкций. Несмотря даже на вмешательство викария, дон Бартоломео никак не хотел допустить, чтобы родительское гнездо было разорено. Кроме всего прочего, он медлил с выплатой вдове брата денежной компенсации, соответствовавшей её приданому, хотя это было чётко оговорено в завещании, равно как и с выделением суммы, причитавшейся её дочери. Взамен он потребовал, чтобы сторона истца в лице Пьетро ди Парте и его дочери Бернардины Санти отказалась от всяких притязаний на часть дома по улице Контрада дель Монте и на загородные земельные угодья. Не помогло закрыть дело в пользу ответчика даже вмешательство друга дома гонфалоньера Пьерантонио Вити. Судебная инстанция согласно римскому праву не подчинялась исполнительной власти и строго блюла свою независимость, ставя превыше всего закон, перед которым все равны.
Последнее заседание суда привело к тому, что ответчик и истец окончательно перессорились, и о каком-либо согласии сторон не могло быть и речи, хотя, кроме викария, призывы к примирению исходили и из дворца. Однажды Бернардина повстречала на улице шедшего по своим делам повзрослевшего красавца пасынка.
— Ты возмужал, Рафаэль. Небось девушки глаз с тебя не сводят, — затеяла она игривый разговор. — Прошу тебя, подумай о своей сестричке Елизавете. Ведь она, как и ты, сирота.
— А сколько ей лет? — поинтересовался он.
— Да почти пять. Зашёл бы хоть разок взглянуть на неё. Как-никак, а родная кровинушка. Не забывай, она дочь твоего покойного отца.
Прощаясь, она задержала на миг его руку в своей, заглянув ему в глаза.
— Не будь жестокосердным, как твой упрямый дядя, он поступает не по-христиански.
От неё сильно пахло модными тогда духами «Пармская фиалка», и она никак не походила на «безутешную вдову», какой на суде старался её представить адвокат Пильяпоко. Да и одета она была явно не по-вдовьи — в цветастое платье с широким декольте и без рукавов. Во всём её облике было что-то кричащее, вызывающее и вульгарное. «Не понимаю, — недоумевал Рафаэль, — чем же она могла прельстить бедного отца?» Но её слова подействовали на него, и ему захотелось повидать сестричку.
О случайной встрече с мачехой он рассказал дяде и сразу же пожалел об этом. Услышав имя Бернардины, дон Бартоломео разволновался и чуть не перешёл на крик, доказывая, что ни о каком разделе имущества или уступках не может быть и речи. Он считал, что из-за ошибки, допущенной покойным братом, этот дом, стены которого хранят память рода Санти, не должен доставаться каким-то выскочкам Ди Парте, людям без роду без племени, привыкшим зариться на чужое.
— Пойми, Рафаэль, — горячился дядя, — этим людям протяни только палец, и они отхватят всю руку! Умирая, твой отец допустил непростительную оплошность. Даже не посоветовавшись со мной, он доверился кляузным людям, из чего и разгорелся весь этот сыр-бор. Разве я не прав?
Племянник потупился, храня молчание.
— Что же ты молчишь? Неужели ты оправдываешь глупость своего отца?
— Дядя, — не сдержался Рафаэль, — прошу вас впредь не отзываться дурно о моём отце!
Больше к этой теме Рафаэль не возвращался, стараясь обходить острые углы. Ему претили любые ссоры, которых в детстве он повидал немало. Все его помыслы были связаны только с живописью. В душе он лелеял мечту стать одним из первых художников Италии. Но, как справедливо заметила Бернардина, на красивого стройного юношу давно заглядывались на улице девицы, чего он не мог не замечать.
Всевидящая Перпетуа доложила дону Бартоломео, что его юный племянник в последнее время зачастил по вечерам в один дом на окраине, где его, видать, ласково привечали, и возвращается он оттуда только на рассвете. Кроме Перпетуи о вечерних прогулках Рафаэля разузнала и Бенедетта, которая стала избегать с ним встреч. Добрая старуха Санта как-то сказала племяннику, что часто застаёт соседскую девчушку в слезах, на что Рафаэль только пожал плечами.
Весть обеспокоила дядю, считавшегося опекуном юноши и несущего за него ответственность. Как бы чего не вышло! В тот же день за ужином, когда служанка ушла на кухню за очередным блюдом, он осторожно завёл разговор издалека.
— В нашем городе, дорогой племянник, пока, слава богу, даже ночью можно безбоязненно разгуливать. Но ночной дозор может узнать тебя, о чём станет известно и во дворце. А к чему тебе репутация ночного гуляки?
Неизвестно, насколько подействовало дядино предупреждение, но вскоре в рабочей тетради, которую юный Рафаэль постоянно держал при себе, появились рисунки с обнажённой натуры. Однажды их увидел в мастерской Пьяндимелето. Взяв один, стал разглядывать.
— Контуры должны быть мягче, — сказал он Рафаэлю. — Ты сам взгляни. Видишь, бедро здесь несколько скошено. Надо поправить. Никак не разберу, кто это?
— Да это Марция, дочь цирюльника с площади, — узнал натурщицу подошедший Дженга.
Рафаэль смутился и перевёл разговор на другую тему, а рисунки поспешно убрал в ящик стола.
Ему не удалось повидать сводную сестру Елизавету — девочка умерла от заражения крови. Таким образом, он стал по материнской и отцовской линиям единственным продолжателем рода Санти, хотя это обстоятельство меньше всего его интересовало. Кончилось сиротское отрочество, и он вступил в пору юности, сознавая, что предстоит проделать нелёгкий путь во имя достижения заветных целей. Поэтому бо́льшую часть времени он проводил в мастерской, где под присмотром более опытных старших товарищей Пьяндимелето, Дженги и Вити упорно оттачивал мастерство, уделяя особое внимание рисунку. Работе отдавалось столько сил, что с наступлением темноты пропадало всякое желание наведаться в домик на окраине, где его ждали, и хотелось лишь одного — хорошенько выспаться. Его не прельщало стать предметом сплетен. В маленьком городе всё тайное быстро становилось явным. Но природа брала своё. Вдоволь выспавшись, уже на следующий день, когда стемнеет, он отправлялся туда, где ему была уготована радостная встреча. А вот Бенедетта замкнулась и ушла в себя, давно не было слышно её звонкого голосочка из-за стены дворика. Она больше не заходила к Санте. Рафаэль чувствовал себя виноватым перед ней и не раз порывался объясниться. Но его всецело занимала обнажённая натура, и одна лишь мысль представить Бенедетту обнажённой казалась ему кощунственной. Он рано познал пропасть, разделяющую небесное от земного.
Когда дон Бартоломео в который уже раз заводил за обедом разговор о судьбе дома и земельных наделов, племянник отмалчивался или говорил:
— Сделайте милость, дядя, поступайте, как вы считаете нужным. Меня это нисколько не интересует. Поймите же, время всё расставит по своим местам.
Рафаэль не ошибся. После его смерти дом перешёл родственникам по материнской линии, а в 1635 году его приобрёл архитектор и инженер Муцио Одди. Жизнь нередко преподносит удивительные сюрпризы. По странному и чуть ли не мистическому совпадению архитектор был выходцем из знатного перуджинского рода Одди, представительница которого донна Леандра Одди стала заказчицей Рафаэля. Её имя связано с одним алтарным образом, который принёс большую известность молодому художнику.
Новый владелец дома Санти произвёл внутреннюю реконструкцию и установил на фасаде мемориальную доску, существующую до сих пор. В начале XIX века в Урбино побывал французский живописец Энгр и создал серию рисунков с натуры в доме Рафаэля. Его рисунки оказались полезным подспорьем для реставраторов, работавших над восстановлением прежнего облика дома Санти.
В 1847 году в левом нефе кафедрального собора Урбино была установлена мраморная статуя мальчика Рафаэля с палитрой и кистью в руках. После смены ряда владельцев бывший дом Санти выкупила в 1873 году Королевская академия имени Рафаэля на средства, собранные по подписке, в том числе и за пределами Италии, для размещения в нём материалов, связанных с жизнью и творчеством мастера. После торжеств по случаю 400-летия со дня рождения художника в 1883 году на вершине холма Монте был воздвигнут памятник Рафаэлю работы туринского скульптора Луиджи Белли. Бронзовая скульптура установлена на высоком мраморном постаменте, который украшают отлитые в бронзе аллегорические фигуры Гения и обнажённой пышнотелой красавицы, символизирующей Возрождение. Постамент дополнен двумя мраморными медальонами с изображениями учеников, работающих под началом маэстро Рафаэля.
В прошлом веке после долгих реставрационных работ интерьеры обрели свой первозданный облик, и к 500-летию со дня рождения Рафаэля в доме был открыт мемориальный музей. Его устроители приложили немало усилий и изобретательности для воспроизведения атмосферы, в которой протекали детские и юношеские годы художника. Надо отдать им должное, своей цели они достигли. Знакомство с домом и экспонатами музея позволяет почувствовать дух эпохи и прикоснуться к некоторым сторонам жизни Рафаэля. Это производит сильное впечатление. Но подлинным украшением музея является удивительная фреска «Мадонна с Младенцем», написанная мальчиком Рафаэлем, хотя в это трудно поверить, принимая во внимание возраст автора.
Тогда же на обширной площадке вокруг памятника Рафаэлю были установлены 15 мраморных бюстов видных деятелей итальянской культуры и искусства. Среди них бюсты Джованни Санти, Пьеро делла Франческа, Донато Браманте, Бальдассара Кастильоне, Торквато Тассо, но как это ни покажется странным, нет бюста Перуджино, которого принято считать единственным учителем Рафаэля. Видимо, у создателей этого мраморного ожерелья из бюстов имелись на сей счёт свои соображения, идущие вразрез с общепризнанной, но далеко не бесспорной точкой зрения относительно роли Перуджино в становлении Рафаэля как художника. Он учился у многих, в том числе и у Перуджино.
Глава IV НАЧАЛО ПУТИ НА ГРЕБНЕ ВОЙНЫ
Вернёмся к юному Рафаэлю, не успевшему ещё забронзоветь и стать легендой. Затеянной истцом судебной тяжбе не было видно конца, хотя нанятый адвокат-крючкотвор лез из кожи, цепляясь за всё новые доводы в пользу ненасытного клиента с его непомерными претензиями. Но всё обернулось крахом, и дело стало разваливаться пункт за пунктом из-за поведения сумасбродной дочери истца. По городу давно ходили слухи, что Бернардина тайно сожительствует с неким вдовцом скототорговцем, балующим её дорогими подарками. Поговаривали также, что она чуть было не отдала Богу душу после визита к деревенской повитухе. Таким образом, оказалось нарушенным одно из главных условий завещания «свято блюсти память мужа и сохранять вдовство».
В дошедшем до нас последнем протоколе судебного заседания от 13 мая 1500 года записано, что ответчик дон Бартоломео выступал pro se et nomime Raphaelis — от себя лично и от имени Рафаэля. Но о присутствии племянника в зале суда в документе не сказано ни слова, равно как и о том, чем закончилась сама тяжба. По всей вероятности, начинающий художник успел покинуть родные пенаты, поскольку в те времена ещё не была введена в судебную практику подписка о невыезде.
Время, в которое жил и творил Рафаэль, часто представляется восторженными поклонниками его гения как время «ренессансного оптимизма», с чем трудно согласиться, поскольку в те годы Италия была яблоком раздора для европейских стран и её земли были опалены огнём войны. Прав был критик В. В. Кожинов, когда писал, что «крайне узко и ошибочно представление о ренессансном искусстве как средоточии одного жизненного восторга, радостного упоения бытием. Верно другое: в ренессансном искусстве воплощается необъятная и многосторонняя полнота бытия и даже в зрелище безысходной трагедии и в образе духовного отчаяния проступает бездонность и неисчерпаемость жизни, ибо ренессансный художник видит её в целом. Именно поэтому и говорил Пушкин: “У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну”.21 В то же время следует признать, что Возрождение явилось единственной в своём роде неповторимой “культурой”, обретшей поистине эпохальную традицию. Она созревала не только во Флоренции, но и в республиканско-аристократической Венеции, при дворах Милана, Мантуи, Феррары, Урбино, Неаполя и в папском Риме. Как в кузнице Вулкана, культура Возрождения занималась переплавкой нового и старого, языческого и христианского. Из этого сплава были созданы великие художественные творения, появилось множество технических изобретений и научных открытий, в чём и заключается непреходящее значение культуры и искусства Возрождения».
Но существует и другая точка зрения значительного числа авторов, согласно которой эпоха Возрождения спровоцировала в дальнейшем историческом развитии все беды — от аморальности, эгоизма и агрессивности до откровенного прагматизма и кровавого деспотизма XX века.
Волна бед и потрясений, захлестнувшая всю Италию, не обошла стороной Урбино, где подросток Рафаэль, сам того не сознавая, оказался в эпицентре политических событий. Но нет данных о том, что он наведывался в соседние города, так как грянула война и повсеместно свирепствовала смертоносная чума. Чтобы приостановить её распространение, повсюду устанавливался строгий карантин и многие города, как и Урбино, оказались закрытыми для въезда и выезда. Год 1494-й принёс несчастье не только дому Санти, но и большинству итальянских семей. Это был «для всей Италии первый злополучный год, обернувшийся страшными бедствиями», как позднее вспоминал очевидец тех событий известный историк Гвиччардини,22 которому тогда, как и Рафаэлю, было 11 лет от роду. Не сбылись чаяния гуманистов о наступлении золотого века всеобщего благоденствия. После ряда лет засухи, недорода и частых эпидемий чумы и холеры, косивших целые города, на головы итальянцев обрушилась ещё одна напасть, похлеще, повлиявшая на всю дальнейшую судьбу Италии.
Воспользовавшись постоянными распрями между мелкими итальянскими княжествами, 24-летний французский король Карл VIII во главе многотысячного войска в начале сентября 1494 года пересёк Альпы и двинулся завоевывать Неаполитанское королевство, чтобы вернуть себе анжуйское наследство, давно оспариваемое Францией и Испанией. Перед походом король громогласно объявил о своём намерении отправиться из Неаполя морем в Палестину, чтобы изгнать турок со Святой земли и завершить великое дело, начатое когда-то крестоносцами.
Пока войско неприятеля продвигалось в обход сильного Миланского герцогства под властью Лодовико Сфорца по прозвищу Моро, жители прибрежных городов и особенно Рапалло познали все ужасы чужеземного нашествия: погромы, грабежи и насилие. В мемуарах одного из участников того похода француза Коммина можно найти такое циничное откровение: «наши не считали итальянцев за людей»,23 что позволило французам устроить на итальянской земле настоящую резню.
Двадцать первого сентября 1494 года пала столица морской республики Генуя, не выдержав осады превосходящих сил противника и мощного обстрела артиллерии. В этот злополучный день монах Савонарола выступил во Флоренции с упомянутой выше гневной проповедью. Путь для дальнейшего продвижения неприятельского войска вглубь Апеннинского полуострова был открыт. Достигнув Пьяченцы, Карл VIII направил часть войска под командованием генерала д’Обиньи в сторону восточного склона Апеннин по побережью Адриатики, а сам двинулся на юг вдоль западных отрогов хребта.
Обескураженные неожиданным вторжением итальянские княжества организовали оборонительный заслон от Ливорно до Римини и закрыли все горные перевалы, объединив разрозненные силы. Одна только Венеция, владычица Адриатики, осталась в стороне, сознавая силу своей армии и флота, способных защитить её от любых посягательств извне. Она осталась верна своему девизу: «Мы прежде всего венецианцы, а потом уж христиане». В политике ей всегда были свойственны тонкий расчёт и двойная игра, равно как умение вовремя вступать в выгодные для себя союзы.
Вероломное вторжение в Италию французского короля-католика так напугало и возмутило папу Александра VI Борджиа, что он решил пойти на неслыханный по тем временам шаг. Желая заручиться поддержкой злейшего врага христианства турецкого султана Баязида II, папа вступил с ним в тайный сговор через своё доверенное лицо посланника Боччардо. Состоялся секретный обмен письмами. Вот что писал, например, ещё летом папа султану, информируя его о намерении Французского короля отправиться из захваченного Неаполя на завоевание Греции и освобождение Палестины, живописуя, какими страшными последствиями это грозит туркам: «Во имя связывающей нас доброй подлинной дружбы мы считаем прямым своим долгом, не скрывая истинного положения вещей в сложившейся ныне обстановке, предостеречь от грозящей смертельной опасности со стороны короля Франции Карла VIII».24
В полученном папой ответном послании говорится: «Мы, Баязид Хан, великий повелитель по велению Небес двух континентов Азии и Европы, обращаемся к славному пастырю синьору Александру, ставшему по воле Провидения Высшим Понтификом Римской Церкви, со словами выражения нашей признательности и сообщаем тебе, о досточтимый Понтифик, по поводу обратившегося к Нам твоего посланца Джорджо Боччардо следующее…» В своём витиеватом, характерном для людей Востока ответе хитрый турок ничего определённого так и не сказал, хотя и не скупился на посулы оказать поддержку при возникновении военной угрозы Риму со стороны французов.
В этой откровенной по цинизму переписке папу Александра VI меньше всего волновали вопросы морали и религиозной несовместимости. Главным для него было обезопасить свою власть в Риме, державшуюся на волоске, поскольку врагов и завистников вокруг было предостаточно. Даже родная Испания стала косо на него поглядывать, ибо за два года правления им было совершено немало поступков, поразивших своим неслыханным бесстыдством весь христианский мир. Недавно часть кардиналов, как это ни прискорбно Александру VI было сознавать, среди них оказались даже земляки испанцы, образовала оппозицию, поддержанную сильными римскими кланами и другими влиятельными кругами, недовольными действиями папы иностранца, который на все ключевые посты назначал своих соплеменников, а в Ватикане обязал всех, даже обслугу, говорить по-испански. Итальянцы восприняли такое нововведение как оскорбление их национального достоинства.
В те тревожные дни вряд ли папа мог рассчитывать на поддержку ненавидевших друг друга сыновей или «племянников», как тогда было принято их официально называть. От них одна только головная боль и морока. Старший сын Цезарь Борджиа, возведённый им в сан кардинала, вскоре оставил Римскую курию ради светского титула герцога Валентино по названию пьемонтского городка Валенцы, ставшего его вотчиной, где он вытворял несусветное. В одном из внутренних дворов Ватикана старший сынок завёл моду на испанскую корриду и однажды самолично заколол шесть быков, залив кровью весь двор, что вызвало ропот придворных и обслуги. Среднего папского сына Джованни, герцога испанской Гандии, недавно подстерёг в тёмном проулке подосланный убийца, и тело его было выловлено в Тибре. Поговаривали, что к убийству причастен старший брат, во что нетрудно поверить, поскольку между братьями постоянно шла борьба за выживание и место под солнцем. Младший сын папы Джуфрэ, женатый на внебрачной дочери тирана Калабрии, предпочёл укрыться в глухом городишке Сквиллаче на берегу Ионического моря, дабы держаться подальше от ненавидевших друг друга братьев и двурушника родителя.
По части коварства под стать милой семейке была дочь папы, пресловутая Лукреция Борджиа, недавно вышедшая вторично замуж за Джованни Сфорца, правителя княжества Пезаро, связанного узами родства с урбинским двором. Её склонил к этому замужеству воинственный старший братец. Цезарь Борджиа мечтал прибрать к рукам соседние земли, управляемые хилым и безвольным Гвидобальдо да Монтефельтро, который, как он полагал, не в пример знаменитому отцу мало что смыслил в делах государственных и военных.
Предчувствуя надвигающуюся беду, молодой Гвидобальдо принял срочные меры по укреплению границ своих земель, направив туда артиллерию, являвшуюся его гордостью и надёжной защитой при возникновении любой военной опасности. В Урбино создалась напряжённая обстановка, были отменены приёмы, балы и увеселения, включая ежегодный карнавал, который обычно проводился с большой помпой.
Угроза войны сказалась и на работе мастерской Рафаэля. Заказов не предвиделось, поскольку людям было не до искусства, когда нависла серьёзная опасность. Видя, что племянник затосковал, дядя дон Бартоломео посоветовал:
— А ты сходи, мой друг, к Донато Браманте. Хоть он и дальний наш родственник, но человек с большими связями. Глядишь, чем-нибудь пособит или даст дельный совет.
Дом родственника архитектора находился на окраине Урбино. Оказалось, что знаменитый мастер давно был в Милане, где обосновался при дворе герцога Лодовико Моро. «Вот и Браманте понял, что не здесь истинное место для раскрытия своего таланта, и покинул родные края», — подумал Рафаэль. Тогда ему вспомнились лестные слова отца о Перуджино и его последней встрече с ним по дороге в Мантую. Но недавно вернувшийся оттуда скульптор Бароччи, друг покойного отца, поведал, что Перуджино покинул свой город и находится во Флоренции, где по примеру многих тамошних художников примкнул к сторонникам Савонаролы.
Тем временем политические события приняли неожиданный оборот. Потребовав свободный проход для своего войска через Папскую область с непременным обеспечением провиантом и фуражом, французский король пригрозил в случае отказа отстранить Александра VI от власти, чего настойчиво добивались 28 кардиналов, переметнувшихся на его сторону. В довершение свалившихся на папу бед Цезарь Борджиа в одном из первых сражений в Романье был взят в плен французами и оказался в незавидной роли заложника.
На пути Карла VIII стала сильная вольнолюбивая Флоренция со своими пятью оборонительными крепостями, расположенными вдоль Арно. Одна из них, Фивидзано, пала, не выдержав огня французской артиллерии. Тогда трусливый правитель Пьеро Медичи, сын Лоренцо Великолепного, помчался улаживать положение в ставку французского короля, где вступил в открытый торг, пообещав в обмен на удовлетворение некоторых своих условий открыть путь на Рим. При виде перепуганного Пьеро Медичи с трясущимися руками король отверг все выдвинутые им условия и вынудил подписать пакт, по которому французам отдавались пять крепостей на Арно и выплачивалась огромная контрибуция в размере 200 тысяч флоринов.
Узнав о предательском поведении правителя и постыдной сделке за их спиной, возмущённые флорентийские граждане, подстрекаемые Савонаролой, изгнали всех Медичи из города, объявив их вне закона и назначив крупную премию за их головы. Низложенный правитель Пьеро Медичи был вынужден бежать в Венецию, а два его младших брата Джулиано и Джованни вместе с кузеном Джулио (последние двое будущие папы Лев X и Климент VII) спешно покинули родной город в сопровождении изворотливого секретаря Бернардо Довицы. При дворе Медичи он был factotum — мастер на все руки, особенно по улаживанию щекотливых дел, впоследствии ставший всесильным кардиналом Биббьеной. Опасаясь народного возмездия, беглецы на время укрылись в умбрийском укреплённом городке Читта́ ди Кастелло в верховьях Тибра.
Таким образом, 1494 год оказался несчастливым для могущественного семейства Медичи, как и для всей Италии. На переговоры с королём флорентийцы отрядили наделённую полномочиями депутацию во главе с почётным гражданином Пьеро Каппони, который демонстративно порвал унизительный пакт, произнеся ставшую исторической фразу: «Пока вы трубите в фанфары, мы вдарим в наши колокола!» Она вызвала бурю ликования и всплеск патриотических чувств граждан, что вынудило французов пойти на уступки, отказавшись от захвата крепостей и значительно сократив размер контрибуции.
Карл VIII вступил во Флоренцию 7 ноября, но не стал в ней задерживаться на пути к своей главной цели. Ему не хотелось иметь дело с задиристыми флорентийцами, готовыми чуть что лезть на рожон и затевать драку. Но прежде чем покинуть славный город, признанную столицу ренессансного искусства, король отдал негласное распоряжение о конфискации ценных художественных произведений, в том числе в роскошном дворце Медичи, который оставили впопыхах сбежавшие хозяева, чему особенно не противились заправлявшие отныне всеми делами в городе монах Савонарола и его единомышленники. Все они ополчились на «богохульное» искусство, видя ересь и богоотступничество чуть ли не в каждом произведении живописи.
Перед походом в Италию Карл VIII затеял строительство новой королевской резиденции в Амбуазе. Из Тосканы и потянулись во Францию первые обозы, доверху гружённые награбленным, включая живопись, скульптуру, гобелены, мебель и изделия ювелирного искусства — всё, чем славилась Италия.
Рождество французы встретили в Сиене, где порезвились вволю. Оттуда с похмелья, мрачные и злые, прямиком двинулись на Рим. Легко потеснив оборону противника благодаря своей мощной артиллерии, 31 декабря в три часа пополудни Карл VIII вступил в Вечный город со своей многочисленной армией через ворота Порта дель Пополо. Подобного зрелища римлянам давно не доводилось видеть. Наслышанные о бесчинствах и грабежах французов жители забаррикадировались в домах. Редкие смельчаки вышли поглазеть на проходящие стройными рядами войска. Затем прогрохотала мощная артиллерия на конной тяге, а за ней появился во всём блеске молодой король в сопровождении кардиналов Асканио Сфорца, Джованни делла Ровере и французских вельмож в открытых пролётках. Шествие закончилось к девяти вечера при свете факелов. Эта была мощная демонстрация военной силы. Король со свитой разместился во дворце на площади Венеция.
На следующий день от перепуганного насмерть понтифика король получил согласие на беспрепятственный проход войска по территории Папской области. Вынужденный подчиниться диктату наглого короля и не желая больше иметь дело с непрошеными гостями, да ещё в самый разгар рождественских празднеств, когда в Риме царило сущее безумие, папа под шумок и вопреки дипломатическому протоколу неожиданно исчез, сославшись на недомогание. Никто не знал, где его искать. Разбежалась и вся папская канцелярия. Французскому королю ничего не оставалось, как утешиться в компании римских гетер и специально приставленной к нему папой светской львицы Джулии Фарнезе в одном из роскошных дворцов. Подождав ещё несколько дней и не получив из рук папы вожделенную инвеституру на неаполитанский трон, так как хитрый лис Александр VI словно сквозь землю провалился и не подавал признаков жизни, разгневанный король, проклиная папу и римскую камарилью, двинул войско по древней Аппиевой дороге на юг.
Опасаясь за свою судьбу, король Неаполя Альфонс II Арагонский готов был обратиться за помощью не только к туркам, но и к самому дьяволу. На поддержку папы он уже не мог больше рассчитывать, так как отношения с семейством Борджиа дали трещину после убийства его внебрачного сына Альфонса-младшего, женатого на юной дочери папы Лукреции Борджиа. Казалось, ничто не могло помешать счастью молодой красивой четы, и на тебе. Прошёл слушок, что убийство совершено не без ведома братца ветреной невестки, которая, как ныне принято говорить, сама заказала не в меру ревнивого супруга, донимавшего её своими подозрениями.
Испания не откликнулась на просьбу о помощи. Она предпочла не вмешиваться в итальянские дела, пока противники не перегрызут друг другу глотки. Король Альфонс после молебна во главе процессии прошёл по главным улицам Неаполя босой с тяжёлым крестом на плече, после чего направил сына Фердинанда в Романью, чтобы остановить продвижение французов и примкнуть с войском к отрядам под командованием Гвидобальдо да Монтефельтро и его кузена Джованни Сфорца, вновь испечённого зятя папы.
Как стало известно из отчёта о положении дел на театре военных действий, отправленного в Венецию секретарём Довици своему хозяину Пьеро Медичи, вместо несения воинской службы наследник неаполитанского престола увлёкся красавицей Катериной Гонзага, одной из внебрачных дочерей мантуанского герцога, и чуть ли не собирался предложить ей руку и сердце. В её честь закатывались пиры и устраивались турниры. Совсем потеряв голову от обольстительной красавицы, молодой повеса сильно повздорил с грозным герцогом Лодовико Моро. Тот через своего агента предложил пылкому неаполитанцу оставить в покое Катерину в обмен на кругленькую сумму отступных — две тысячи дукатов. Миланский тиран намеревался преподнести девицу в дар французскому королю, большому любителю женского пола, в знак признательности, что тот обошёл стороной его герцогство. Неизвестно, чем бы закончился постыдный торг, но начавшиеся всерьёз военные действия положили конец любовной интрижке Фердинанда, а сердцеедка Катерина Гонзага пополнила блестящую свиту Лукреции Борджиа.
Не встретив серьёзного сопротивления, 22 февраля 1495 года французы вступили в Неаполь. В течение трёх дней в городе шли торжества по случаю изгнания не особо жалуемого неаполитанцами пришлого Альфонса Арагонского, который под нажимом местной знати и намёков, полученных из Мадрида, вынужден был отречься от престола в пользу шалопая сына Фердинанда II.
Большие любители покутить и развлечься на дармовщину беззаботные неаполитанцы, верные своему извечному девизу il dolce far niente — сладостное ничегонеделание, вскоре протрезвели и стали тяготиться присутствием нечистых на руку и волочившихся за каждой юбкой незваных гостей, которые вели себя всё более нагло. Между горожанами и чужеземцами то и дело происходили стычки. Воспользовавшись дракой пьяных французов с неаполитанцами, Цезарь Борджиа бежал из-под стражи. А он являлся главной козырной картой в руках Карла VIII, чтобы оказывать давление на папу для получения обещанной инвеституры на Неаполитанское королевство.
Отсиживаясь в замке Святого Ангела, где было потайное укрытие, о котором знали доверенные лица, папа не терял понапрасну время. Уже 31 марта в Венеции была создана антифранцузская «священная» Лига. В неё вошли несколько итальянских государств. О своём вхождении в Лигу заявила королева Испании Изабелла. В стороне осталась одна лишь Флоренция, которая поставила на французов в надежде, что с их помощью ей удастся ограничить всевластие папства, своего извечного врага, а это привело к серьёзным разногласиям в стане сторонников монаха Савонаролы. У него объявился опасный противник в лице влиятельного августинского проповедника Мариано, который обливал грязью соперника доминиканца, называя его «ханжой во Христе» и обвиняя во всех смертных грехах.
Узнав об антифранцузском сговоре и боясь оказаться в западне, Карл VIII стал собираться в обратный путь, забыв об объявленном морском походе в Палестину, чтобы изгнать турок со Святой земли. Из-за эпидемии чумы в покинутых крестьянами деревнях невозможно было найти ничего съестного для солдат и фураж для лошадей. Всё было надёжно упрятано от мародёров. Начался мор и падёж гужевого скота. Скоропалительное возвращение в весеннюю распутицу, походившее скорее на бегство, оказалось куда более опасным и изнурительным, нежели недавний победоносный бросок на юг.
Папа не стал ждать появления французов и 6 апреля покинул Рим, оставив там присматривать за хозяйством исполнительного и верного секретаря — кардинала Бурхардуса, а сам отправился в Перуджу со свитой сановников под охраной тысячи швейцарских наёмников. Там к нему присоединились бежавший из плена сын Цезарь и дочь Лукреция с мужем. У въезда в город по столь торжественному случаю была воздвигнута Триумфальная арка, украшенная первыми весенними цветами, по проекту местного художника Пинтуриккьо, давно входившего в круг папских приближённых. Сорок тысяч горожан и согнанных из окрестных деревень крестьян вышли встречать пышный папский кортеж, радостно приветствуя понтифика в надежде, что он положит конец произволу местных правителей.
В ожидании вестей из Рима Александр VI не спешил покидать гостеприимную Перуджу, где ежедневно в его честь устраивались приёмы и банкеты, до коих папа-гурман был охоч. Особенно веселился Цезарь Борджиа, получивший года четыре назад образование в местном университете, а ныне прибывший сюда как герцог Валентино, чьё имя наводило ужас на несговорчивых соседей.
На время примирились в извечной борьбе за власть два местных аристократических клана Бальони и Одди, понимавшие, что это не был обычный пасторский визит, и вовсю старавшиеся выслужиться перед папой, у которого на них был зуб. В своё время на конклаве их представители не поддержали кандидатуру испанца Борджиа, и теперь папа мог припомнить им это. Три года назад семейство Бальони, узнав о возведении в сан кардинала папского «племянника», отправило ему в дар многопудовый столовый сервиз из серебра, изделие местных чеканщиков и ювелиров, который обошёлся в немалую сумму городской казне. Но отцы города привыкли ею распоряжаться по своему усмотрению.
Женщины враждебных кланов, опасаясь за жизнь сыновей, все надежды возлагали на местную прорицательницу монахиню Коломбу, способную молитвой и предсказаниями сдерживать пыл враждующих сторон. Накануне визита папы ясновидящей Коломбе удалось примирить на время оба клана. По такому знаменательному случаю из тюрьмы был выпущен на волю раскаявшийся разбойник. Те же женщины из враждующих семейств уговорили мужей устроить бал примирения в честь папской дочери красавицы Лукреции. Молодые кавалеры наперебой ухаживали за ней, рассыпаясь в комплиментах. А вот отец и сын Борджиа покамест присматривались к притихшим соперникам, прежде чем поддержать кого-либо и извлечь выгоду из опасного противостояния, готового в любой момент перерасти в кровопролитие.
Войдя в Рим, французский король нашёл город вымершим. Наслышанные о бесчинствах чужеземцев римляне спешно покинули дома и ушли в горы, где попрятались в соседних крепостях и деревнях. С идеей низложения папы тоже ничего не вышло, поскольку не удалось набрать необходимый кворум кардиналов для конклава. Дав войску немного отдохнуть после изнурительного похода, король вскоре покинул неприветливый Рим, приказав своим эмиссарам, поднаторевшим по части экспроприации, подготовить к отправке во Францию наиболее ценные художественные раритеты, изъятые из оставленных хозяевами дворцов и церквей, а сам проследовал дальше, не вняв совету кардинала Джулиано делла Ровере, ярого противника папы, двинуться прямиком на Перуджу и низложить Александра Борджиа, укрывшегося там с небольшим войском.
Карл VIII намерен был прежде дать решительный бой засевшим у горных перевалов отрядам объединившихся в анти-французскую Лигу государств и примерно их наказать за предательский сговор. 6 июля 1495 года близ селения Форново на реке Таро произошло крупное сражение. Союзники под командованием Франческо Гонзаги, супруга небезызвестной Изабеллы д’Эсте, одержали верх, разгромив французов, а их король с перепуганной свитой чуть не попал в плен. С частью уцелевшего войска он поспешил назад в Париж, оставив несколько укреплённых редутов и отрядов для прикрытия отступления.
После ухода французов папа успокоился, поскольку ничто уже не угрожало его безраздельной власти. Переметнувшиеся на сторону Карла кардиналы почти все были вынуждены вернуться к нему с повинной головой и униженно целовать туфлю. А Цезарь Борджиа ещё более укрепился во вседозволенности и безнаказанности. Его девиз был «Aut Caeser, aut nihil» — «Или Цезарь, или ничто». Он вознамерился создать сильное авторитарное государство и стать королём Италии, чего многие тогда домогались. Пока на папском престоле восседал его отец, которого он в грош не ставил и глубоко презирал за двурушничество и разврат, молодой Борджиа перешёл к решительным действиям. Ему удалось преступным путём узурпировать значительную часть земель восточного склона Апеннин, провозгласив себя Romandiolae dux — герцогом Романьи. Он пролил реки крови мирных граждан, действуя, как разъярённый бык, чьё изображение украшало фамильный герб Борджиа. При одном только появлении душегуба с отрядом головорезов и насильников жители городов и деревень покидали свои жилища, спасаясь бегством, как перед явлением Антихриста. Несговорчивых правителей, не пожелавших подчиниться диктату Цезаря Борджиа, ждал печальный исход — все они лишались своих владений и жизни.
В Урбино, где юный Рафаэль продолжал трудиться в своей мастерской, граждане со дня на день ждали такой же страшной участи. Многие собирались покинуть дома, чтобы укрыться в горных селениях. Видимо, их примеру решили последовать и соседи из гончарной мастерской, где ставни были наглухо закрыты. Дядя Симоне Чарла предложил Рафаэлю на время перебраться в его загородный дом в горах. Но племянник не принял приглашение, сочтя такой шаг преждевременным. Он продолжал верить в благополучный исход и не хотел поддаваться общей панике.
Не переставала удивлять неожиданными выкрутасами и Лукреция Борджиа, добившаяся по наущению своего братца разрыва брачных уз со вторым мужем Джованни Сфорца, который стал противиться захватнической политике воинственного шурина Цезаря Борджиа. В папском указе breve было объявлено, что брак расторгается по причине impotentia соеundi, с чем не могла смириться двадцатилетняя любвеобильная супруга. Вскоре она вновь сочеталась браком с очередным Альфонсом, на сей раз с феррарским правителем герцогом Альфонсом д’Эсте. Вся Италия потешалась над новым союзом, зная, что похотливая Лукреция не отказывала никому, кто сильно её домогался.
В архивах сохранилось подробное описание атмосферы, царившей во время бракосочетания в Ватикане. Никто из гостей на шумной свадьбе из-за боязни накликать на себя и своих близких беду не осмелился даже виду показать, что всё шито белыми нитками, а подоплёкой нового брачного союза являлся циничный политический расчёт. Благодаря этой сделке независимая Феррара становилась вассалом папского государства. Пышущая здоровьем и красотой Лукреция и её несколько потрёпанный годами новый супруг были на удивление под стать друг другу по непредсказуемости поступков и сумасбродству.
Ничто более не сдерживало зарвавшегося папского сынка. Теперь руки у него были полностью развязаны, и он подверг варварскому разграблению город Пезаро, вотчину бывшего мужа Лукреции Борджиа, где головорезы и насильники надругались над многими молодыми горожанками, особенно досталось насельницам одного из монастырей. Весть об этом потрясла соседний Урбино, и двор спешно покинул город. Герцогиня со свитой отправилась в Мантую к своей золовке Изабелле д’Эсте, а её супруг Гвидобальдо возглавил отряд на границе герцогства. Из-за обострившейся болезни позвоночника он мог передвигаться только лежа на носилках и ежедневно писал жене подробные письма о положении дел на границе и просил совета. Но однажды вместо письма мужа посыльный вручил герцогине послание-диктат.
О невероятной по своей дикости истории городские анналы стыдливо умалчивают. О ней стало известно из частных писем маркизы Изабеллы д’Эсте. Осенью 1497 года, когда Урбино оказался в полукольце вражеской блокады, герцог Гвидобальдо во время инспектирования постов на границе своих земель обманным путём был схвачен сподвижником Борджиа и таким же головорезом Паоло Орсини, который потребовал за пленника огромный выкуп. В противном случае, как было сказано в письме-ультиматуме, похитители не гарантируют, что супруга получит мужа живым. Оказавшись перед страшным выбором, герцогиня Елизавета не раздумывая распродала свои драгоценности и заложила принадлежавшие ей дворцы и земли. Но этого не хватило для выкупа. Тогда она обратилась за помощью к золовке Изабелле д’Эсте.
— Дорогая, — заявила маркиза, — ты же знаешь, какой мот твой брат Франческо. Он тратит деньги на лошадей и женщин, а мне с этим приходится мириться ради сохранения семьи.
Она ещё долго рассказывала о своих мытарствах с мужем и что только в молитвах и искусстве черпает жизненные силы, поэтому следует смириться и уповать на Божью милость, а брак с болезненным Гвидобальдо — это ошибка, никому не принёсшая счастья. Одолжить требуемую сумму золовка отказалась.
Верная супружескому долгу Елизавета взяла кредит в одном из банков под грабительский процент и сумела спасти заложника, которому в плену стало настолько худо, что он был почти при смерти. Похищение герцога было подстроено двумя головорезами, поделившими между собой крупный куш. После освобождения герцог Гвидобальдо долго не мог оправиться и прийти в себя. Почувствовав себя дома лучше, он приступил к укреплению обороны пограничных крепостей, чтобы любой ценой отстоять независимость своего государства.
Бросая жадные взгляды на намеченную жертву, коварный Борджиа демонстративно оказывал знаки внимания почти парализованному Гвидобальдо, открыто называя его «своим итальянским братом» и соратником в противостоянии оставленному французскому экспедиционному корпусу в Эмилии. Дабы доказать ему свою лояльность, он то и дело делал «брату» подарки. Из рыбачьего посёлка Чезенатико отправил не без намёка серебряный бочонок со свежими устрицами, повышающими, как принято считать, мужскую потенцию, а тем временем некоторые подкупленные им придворные приложили немало усилий, дабы склонить Елизавету Гонзага, находящуюся в Мантуе, к разводу со страдающим половым бессилием супругом. Как ни покажется странным, свою лепту в затеянную при мантуанском дворе интригу внесла просвещённая хозяйка дома маркиза Изабелла д’Эсте, чей непутёвый взбалмошный братец правитель Феррары Альфонсо д’Эсте неожиданно для всех стал новым зятем папы.
Ведя подлую двурушническую политику, Борджиа не унимался и однажды прислал своему «брату» в дар две античные скульптуры Венеры и Эроса, изъятые у кого-то из поверженных князей. Понимая издевательский смысл подношений, несчастный Гвидобальдо с трудом сдерживал себя от гнева, но пойти на разрыв с головорезом ему не хватило смелости. Его не обходил вниманием и сам папа Александр VI, который в одном из своих писем попросил «возлюбленного сына» Гвидобальдо отрядить в распоряжение предводителя папского войска несколько своих мортир для намечаемого похода против княжества Камерино, где правящее семейство Варано «совсем отбилось от рук» и игнорирует любые предписания Римской курии. Гвидобальдо не посмел ослушаться, хотя был связан узами родства с попавшим в немилость правителем пограничного крохотного государства, чья невестка юная Мария приходилась ему родной племянницей.
Флорентиец Никколо Макиавелли, один из самых светлых умов эпохи, окончательно разуверился в способности папского Рима справиться с исторически выстраданной великой задачей воссоединения разрозненных итальянских земель в единое государство. Он считал папство главным виновником ослабления и раздробленности Италии, а в самой Церкви видел причину её краха и всех бед, обрушившихся на страну. Вопреки своим гуманистическим воззрениям Макиавелли видел в лице отъявленного негодяя Борджиа прообраз сильного государя, для которого поставленная цель оправдывала любые средства во имя её достижения. Особенно удивляться тут не приходится, если принять во внимание, что в стане злодея оказался и Леонардо да Винчи, оставивший Милан и своего благодетеля Лодовико Сфорца. Теперь его познания в области инженерного искусства и возведения оборонительных укреплений оказались востребованы узурпатором Цезарем Борджиа, возомнившим себя спасителем Италии.
Эта весть многих повергла в шок, чему не мог поверить юный Рафаэль, вспоминая рассказы отца о великом Леонардо. «Как мог гений пойти в услужение к убийце?» — спрашивал он себя. Его также удивило известие о том, что в своё время Леонардо спокойно взялся за заказ правительства нарисовать висящего на виселице одного из участников заговора Пацци, точно передав складки одежды казнённого, тело которого раскачивалось на ветру. «Ведь он мог отказаться от порочащего его честь заказа», — мысленно рассуждал юный художник и, не находя ответа, отбрасывал все мысли о дурном, отвлекавшие его от работы.
Его упорству и работоспособности поражалась не только мастерская, но и близкие, беспокоившиеся за его здоровье. Несмотря на все увещевания родных сбавить темп и подумать о себе, он не изменял своей натуре и, обуреваемый честолюбивыми помыслами, торопился, словно предчувствуя, как мало ему отпущено судьбой. Он хотел успеть сделать то, к чему был призван, а потому игнорировал всё лишнее и наносное, не имевшее прямого отношения к искусству. Вопреки творимому повсеместно злу и произволу Рафаэль свято верил, что миром правит гармония, а не насилие. Эту веру он пронёс до конца своих дней.
Но свалившиеся на Италию беды не закончились. Вернувшись в Париж, Карл VIII не отказался от мысли подчинить себе Неаполитанское королевство, держа в напряжении всю Италию, где при отступлении оставил часть войск. Началась подготовка к новому походу. Но его планам не суждено было сбыться, поскольку в апреле 1498 года король неожиданно и нелепо умер: в погоне за игривой куртизанкой по тёмным коридорам строящегося дворца в Амбуазе похотливый повеса с разбегу ударился виском о дверной косяк. В этой тёмной истории много непонятного и загадочного, но узнав о ней, итальянцы вздохнули с облегчением, поскольку одним врагом стало меньше.
В отличие от покойного короля, оставившего вдовой юную Анну Бретанскую, его преемник и кузен Людовик XII поспешил пойти с Римом на мировую, чтобы получить от папы разрешение на развод с опостылевшей женой Джованной Валуа, сестрой умершего Карла. Помимо всего прочего, жена была безобразно кривобока — utrimque gibbosa — горбата спереди и сзади, как сказано в личном обращении нового короля к папе. Он решил в память покойного брата облагодетельствовать его милую вдовушку Анну, взяв её из милости себе в жёны, а заодно прибрать к рукам принадлежащую ей родовую Бретань.
Всячески ублажая папу в своих посланиях, новый французский король пообещал примерно наказать за строптивость миланского тирана Лодовико Моро, который раздражал Рим своей независимой политикой. Более того, король так расщедрился, что подарил папскому «племяннику» Цезарю Борджиа небольшое герцогство Баланс (в нынешнем департаменте Дром), что придало больший вес титулу герцога Валентино, которым честолюбивый выродок гордился. По настоятельной просьбе папы французский король женил герцога Валентино на богатой наваррской принцессе Маргарите, земли которой в качестве приданого перешли в собственность супруга.
Заручившись поддержкой папы, ставшего почти ручным, и осторожной Венеции, объявившей о своём нейтралитете, король Людовик XII осенью 1499 года неожиданно напал на Миланское герцогство и свергнул его всесильного правителя. После взятия Милана модель глиняного Колосса, созданная Леонардо да Винчи, была забавы ради избрана в качестве мишени гасконскими стрелками, и вскоре исполинская статуя Коня дала трещины и развалилась. Безвозвратно погиб великий замысел гениального творца. Если бы монумент был отлит, то судя по многочисленным дошедшим до нас рисункам Леонардо да Винчи и свидетельствам очевидцев, это творение могло бы достойно соперничать пластической красотой контура, мощными пропорциями и героической величественностью общего замысла не только с конными статуями Гаттамелаты в Падуе и Коллеони в Венеции, но и с римской статуей Марка Аврелия.
В битве под Павией преданный своими продажными военачальниками Лодовико Моро был взят в плен и отправлен в железной клетке под конвоем во Францию, где, согласно преданию, последние дни жизни пленник потратил на то, чтобы нацарапать ножичком на стене своей темницы: Infelix Sum — «Несчастный я», и вскоре от унижения и тоски умер. Не встретив особого сопротивления, французы вторично вступили в Неаполь, где пробыли недолго, натворив немало бед. Три года назад тамошний молодой король Фердинанд при таинственных обстоятельствах скоропостижно скончался, и власть в государстве перешла к его дяде престарелому Федерико, который не сумел завоевать симпатию своих подданных, чем и воспользовались французы, прибрав к рукам Неаполитанское королевство.
Зорко следя за развитием событий и не спуская глаз с вожделенных земель Апеннинского полуострова и прилегающих островов, Испания решилась наконец вмешаться в итальянские дела, чтобы успеть заполучить куш пожирнее при дележе добычи между слетевшимися стервятниками. 29 декабря 1502 года испанцы нанесли поражение войску Людовика XII на реке Гариньяно севернее Неаполя, в которой утонул вставший на сторону французов в надежде с их помощью вернуть себе власть незадачливый правитель Флоренции Пьеро Медичи.
После того как французы убрались восвояси, закрепившись на землях поверженного Миланского герцогства, Рим вновь зажил прежней праздной жизнью. Ничто уже не могло поколебать абсолютную власть папы Александра VI. Его злейший враг монах Савонарола, преданный единомышленниками и не отказавшийся под пыткой от своих взглядов, был умерщвлён, а потом сожжён на костре на площади Синьории во Флоренции 28 апреля 1498 года в тот самый день, когда испустил дух другой враг Карл VIII. Прах мятежного монаха был развеян над Арно, чтобы он не достался его фанатичным приверженцам.
Успокоилась и Испания, которая завладела плодородными землями Неаполитанского королевства, а заодно прихватила острова Сардинию и Сицилию. Её всевидящая инквизиция, выпестованная неистовым борцом с ересью Торквемадой, покамест смотрела сквозь пальцы на далеко не благочестивый образ жизни своего соплеменника на папском троне, о чьей извращённости ходили легенды. До избрания на высший церковный пост каталонец кардинал Родриго Борджиа открыто сожительствовал с римлянкой Ванноццей Каттанеи, родившей ему трёх сыновей и дочь. Став папой благодаря открытому подкупу ряда кардиналов, коим были подарены дворцы и земли, он расстался с поблёкшей Ванноццей и обзавёлся очередной любовницей красавицей Джулией из знатного рода Фарнезе. Его новая пассия обожала роскошь и была большой любительницей праздной светской жизни. Говорят, от неё у папы Борджиа тоже были дети.
Жизнь всюду входила в свою колею, словно не было чужеземного нашествия, голода и разрухи или косившей всех подряд чумы. Можно только диву даваться, как, несмотря на обрушившиеся на Италию бедствия, именно в те трагические годы на свет могли появиться преисполненные глубокой веры и божественной красоты такие творения человеческого гения, как «Тайная вечеря» Леонардо в Милане при деспоте Лодовико Моро и «Пьета» Микеланджело в Риме, где в верхах царила постыдная вакханалия.
Это одна из неразгаданных загадок, оставленная нам итальянским Возрождением, и её пока не сумели прояснить до конца историки и искусствоведы, написавшие горы книг, множество исследований и монографий, посвящённых этой славной эпохе.
Глава V ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ
До слуха подростка Рафаэля доходили вести о появившихся шедеврах в Милане и Риме. Поэтому как ни велика была нависшая над Урбино опасность из-за постоянных бандитских набегов отрядов Цезаря Борджиа на соседние земли, созревшее у него намерение повидать мир было вполне естественным. Лишившись советов и направляющей руки отца, юнец стал остро ощущать потребность не столько в опытном наставнике, сколько в новых источниках, питающих вдохновение, поскольку в Урбино они уже для него все иссякли. Как когда-то неугомонному деду Санте, так и его внуку явно не хватало простора и свежего воздуха. В родном городе Рафаэль ощущал себя птицей в клетке. Осознав, сколь пагубно для него находиться в полном отрыве от остального мира, пусть даже опалённого огнём войны, он решился наконец покинуть Урбино, хотя с каждым днём приходили всё новые тревожные вести. Для поездки у него имелись собственные заработанные средства, а также некоторая сумма, доставшаяся по наследству от родни по материнской линии.
Затеянная мачехой судебная тяжба и неуступчивость дяди ему изрядно надоели, а вызовы в суд унижали достоинство. Получив от судебного пристава предписание явиться на заседание суда 13 мая 1500 года, он наотрез отказался идти.
— Что толку мне там появляться, если от меня ничего не зависит? — заявил он в ответ на уговоры дяди. — Всё в ваших руках, дорогой дядя. А судьям скажите, что я, мол, в отъезде по срочным делам.
Вняв мольбам и причитаниям Санты, обеспокоенной отъездом племянника, дон Бартоломео настоял на том, чтобы несовершеннолетнего Рафаэля в поездке сопровождал кто-нибудь из взрослых. В начале декабря 1500 года, как явствует из архивных данных, под вечер в умбрийский городок Читта ди Кастелло прибыли два уставших путника и постучались в дом настоятеля церкви Святого Августина, где их ожидал посредник в лице местного ювелира Баттисты Флориди, незадолго до этого побывавшего в Урбино в гостях у своего друга Тимотео Вити, где, по всей видимости, познакомился и с Рафаэлем. Здесь придётся немного поправить Вазари, который в своих «Жизнеописаниях» утверждает, что Рафаэль оказался в тех местах с отцом, а в дальний путь их проводила, стоя на пороге со слезами на глазах, Маджия, ведь известно, что ни матери Рафаэля, ни отца к тому времени уже не было в живых. Но стоит отдать должное биографу, допустившему всего лишь неточность, не имеющую принципиального значения.
Действительно, Рафаэль оказался в Умбрии не один, а по настоянию дяди дона Бартоломео вместе со старшим товарищем подмастерьем Пьяндимелето. По возрасту тот вполне мог сойти за его отца. После смерти хозяина мастерской верный famulus Пьяндимелето по-отечески опекал и пестовал его подрастающего сына-сироту. Собирая материал о Рафаэле, Вазари побывал на его родине в Урбино, где застал в живых только двух сыновей Тимотео Вити, подаривших ему несколько рисунков. Он посетил также городок Читта ди Кастелло, где встречался с людьми, ещё помнившими, как впервые в их краях объявился молодой Рафаэль в сопровождении некоего лица более старшего возраста.
Зная, что французы после проигрыша битвы под Форново окончательно ретировались и покинули земли Романьи, Рафаэль неслучайно избрал этот маршрут как менее опасный и самый короткий на перепутье между Умбрией и Тосканой, где он надеялся найти работу. Дорога шла по долине вдоль русла Метауро, окаймлённой холмистой грядой, сплошь поросшей буком, ясенем и каштаном. Чтобы взобраться горными тропами до перевала Бокка Трабария, находящегося на высоте 1850 метров, через Апеннинский хребет, пришлось отказаться от лёгкой брички и нанять мулов с проводниками. Плодородные земли за перевалом издавна превратили этот край в зерновую житницу, а обилие водных источников способствовало появлению там текстильных мануфактур, приумножавших благосостояние обитателей тех земель. Недаром Плиний Младший назвал эти заповедные места райским уголком, где построил себе дом, дав ему вполне оправдывающее его имя Villa Felice.
Была ещё одна причина, объясняющая выбор Рафаэля. Городок Читта ди Кастелло считался протекторатом Урбинского герцогства. Когда-то Федерико да Монтефельтро оказал помощь тамошнему правителю Никколо Вителли, взяв его под своё покровительство и защитив от притязаний завистливых воинственных соседей. Когда там появился Рафаэль, упомянутые молодые отпрыски семейства Медичи успели покинуть тихий городок и перебраться в Болонью, оставив о себе недобрую память из-за своих капризов и спесивости.
Прибывшие незнакомцы встретились с влиятельным горожанином Андреа Барончи, бывшим приором. Недавно он приобрёл придел в церкви Святого Августина и пожелал в нём иметь над алтарём кусочек неба на грешной земле для себя и своих близких в виде достойной картины. В провинциальном городке между состоятельными семьями постоянно шло состязание. Дабы не умалить своё достоинство, каждому знатному семейству хотелось как можно богаче украсить фамильную часовню, прежде чем отойти в мир иной.
На состоявшейся встрече стороны пришли к полюбовному согласию, и уже 10 декабря в присутствии местного нотариуса Джентиле Буратто был составлен соответствующий договор на написание почти четырёхметрового алтарного образа с двумя житийными клеймами, прославляющими деяния августинского монаха праведника Николы из городка Толентино в долине реки Кьенти, сравнительно недавно причисленного Церковью к лику святых.
Это довольно сложная по композиции работа для любого начинающего живописца. Чтобы справиться с ней, требовались умение и вера в собственные силы. В свои 17 лет Рафаэль уже без труда разбирался в тонкостях, которые надлежало знать при написании алтарного образа. Сказались постоянное пребывание с детских лет в мастерской отца и рано проявившаяся в мальчике природная любознательность. Помимо обретённых знаний и усвоенных от подмастерьев профессиональных навыков, в качестве верного подспорья ему от родителя досталась книга средневекового автора Иакова Ворагинского «Золотая легенда», в которой чётко прописаны основные канонические требования, предъявляемые к живописцам, берущимся за религиозные сюжеты.
Прежде чем пригласить Рафаэля, заказчик безусловно поинтересовался размерами гонораров, выплачиваемых мастерам за подобную работу, и его выбор пал на юного живописца, о чьём незаурядном мастерстве до него дошли слухи. За прошедшие пять-шесть лет после смерти отца Рафаэль стал полновластным хозяином мастерской, обретшей известность за пределами Урбино, и, видимо, неслучайно в роли посредника выступил друг заказчика, упомянутый ювелир Флориди, хорошо знавший рынок.
По расчётам заказчика труд юного художника должен был обойтись ему значительно дешевле. В составленном договоре Рафаэль назван главным исполнителем заказа, а Пьяндимелето фигурирует в нём как socio, то есть компаньон или помощник. Это был первый договор, подписанный Рафаэлем, чем ныне по праву гордятся горожане, называющие себя на латинский манер tifemati, считая, что, оказав гостеприимство юному Рафаэлю, они тем самым отблагодарили Урбино, вставший когда-то на защиту их независимости.
По-видимому, нотариус Буратто не был силён в латыни и не стал утруждать себя описанием сюжета, как это было принято тогда, и перечислением каждого персонажа на будущей картине, что давало исполнителю куда большую свободу действия, но и возможность строить свои отношения с заказчиком на доверительной основе. Гонорар был определён в сумме 33 золотых дукатов, это примерно три тысячи современных евро, выплачиваемых тремя равными долями. На выданную при подписании договора первую сумму в 11 дукатов предстояло закупить краски, кисти и другой необходимый материал для работы. Исполнители были своекоштными художниками, и из своего кармана им надлежало также оплачивать подручных, но за жильё плата не взималась. В подписанном договоре оба названы magistri pictores, то есть мастера живописи.
Заказчик не просчитался, так как за полиптих подобного размера тот же Пинтуриккьо из соседней Перуджи запросил бы раза в четыре больше, не говоря уже о дорогостоящем избалованном заказчиками Перуджино. Видимо, Рафаэль это знал и всё же согласился на явно заниженный гонорар, задавшись целью во что бы то ни стало утвердиться на новом месте, пока свободном от серьёзной конкуренции, где имя Санцио не было ещё известно, а вездесущий Перуджино по непонятной причине не успел добраться сюда и монополизировать художественный рынок, хотя влияние его искусства ощущалось не только в родной Умбрии, но и в соседних итальянских областях.
Получив для работы помещение рядом с церковью Святого Августина, Рафаэль приступил к подготовительным рисункам. Их качество окончательно укрепило заказчика в правильности сделанного им выбора. Среди них особенно впечатляет лист, на котором Всевышний изображён в тесном трико, обтягивающем нижнюю часть тела и откровенно подчёркивающем мужское начало. Пока Рафаэль работал над рисунками, Пьяндимелето, наняв помощников, руководил подгонкой, шлифовкой и грунтовкой досок из выдержанного тополя для будущей картины и изготовлением по собственному рисунку обрамляющей её резной золочёной рамы. Нанятые молодые парни пригодились также в качестве натурщиков для многофигурной композиции.
Через девять месяцев после подписания договора работа была полностью завершена. 13 сентября 1501 года заказчик выплатил последнюю долю гонорара. Событие было отмечено весёлой пирушкой с новыми друзьями. Рафаэль услышал немало добрых слов в свой адрес и был польщён. И надо отдать ему справедливость, во время весёлого застолья он заявил, что без опытного Пьяндимелето и его помощи вряд ли смог бы один справиться с такой работой.
В канун Рождества состоялось торжественное освящение картины «Коронация св. Николы из Толентино», взбудоражившее тихий городок, который стал Рафаэлю дорог и близок. Настоятели других церквей и местная знать загорелись желанием заполучить себе молодого живописца, поразившего всех необычной свежестью и благозвучием красок. Молодым художником заинтересовался побывавший на освящении картины правитель города Вителлоццо Вителли и пригласил его во дворец для дружеской беседы. Он хорошо помнил его отца, главного художника урбинского двора.
— Я познакомился с ним, — рассказывал Вителли, — когда он вместе с герцогом Федерико побывал в наших краях. Как бы порадовался сегодня ваш родитель, увидев эту работу! Думаю, что она составит честь даже самому Перуджино, который, к великому сожалению, так и не осчастливил нас своим присутствием.
Такое сравнение для Рафаэля было высшей похвалой. Сегодня трудно судить об этой первой значительной работе Рафаэля, вызвавшей всеобщий восторг, поскольку в 1789 году сильное землетрясение, потрясшее всю Умбрию, почти полностью разрушило город и под рухнувшими перекрытиями церкви оказался расколовшийся на части деревянный алтарный образ. В том же году его обломки были куплены папой Пием VI, побывавшим на месте трагедии с пасторским визитом, но вскоре он был низложен Наполеоном и отправлен в ссылку во Францию. Собранные части расчленённого полиптиха хранились как драгоценные реликвии в ватиканских кладовых до 1849 года, а затем разошлись по разным музеям и частным владельцам.
По сохранившимся фрагментам местный живописец Костантини попытался по горячим следам воспроизвести утерянный алтарный образ. Но выполненная им работа, которую можно увидеть в картинной галерее Читта́ ди Кастелло, не в состоянии повторить Рафаэля и передать своеобразие его письма. Получилась всего лишь жалкая копия, на которой праведник с Распятием и Писанием в руках топчет поверженного крылатого Сатану.
В 1981 году был обнаружен последний недостающий фрагмент доски с головкой четвёртого ангела, попавший в Лувр на реставрацию и вызвавший в мире сенсацию, поскольку каждая картина или фрагмент, принадлежащий кисти Рафаэля, — это всегда большая редкость и удача. Наиболее яркими из сохранившихся фрагментов являются погрудное изображение ангела (Брешия, Пинакотека) и верхняя часть алтарного образа (Неаполь, музей Каподимонте). В каждом из них ощутимо влияние Перуджино, что более чем естественно, поскольку Рафаэль был знаком со многими его работами, но даже во фрагментах угадывается то новое, что семнадцатилетний художник внёс своим искусством.
Пребывание в Читта́ ди Кастелло с частыми наездами в Перуджу и другие умбрийские города оказалось для Рафаэля весьма плодотворным, о чём свидетельствуют несколько его работ в местном музее, пусть даже сильно повреждённых во время упомянутого разрушительного землетрясения. Совместно с Пьяндимелето он написал несколько хоругвей на холсте, на которые вырос спрос в разных приходах в связи с бедами, обрушившимися на Италию. Как правило, такие хоругви писались маслом по влажному холсту, чтобы краски впитались и прочнее закрепились на ткани, что требовало от исполнителя быстроты и сноровки, а Рафаэль был спор в работе.
Особенно выделяется двойная хоругвь с Распятием и сценой сотворения Евы. Несмотря на заметные раны, нанесённые страшным землетрясением и временем, изображение поражает мягким колоритом с отдельными яркими вкраплениями. Например, выделяются красный плащ Всевышнего, фиолетовая набедренная повязка на теле распятого Христа, яркие одеяния двух коленопреклонённых святых и тонко написанный весенний скалистый пейзаж с рекой. Унаследовав от отца филигранную технику, молодой художник прорисовал с почти фламандской тщательностью листву на деревьях и каждый волосок серебристой бороды Всевышнего, склонившегося над мирно спящим на земле обнажённым Адамом и незаметно извлекающего из его груди ребро.
Некоторые ранние работы свидетельствуют о том, что во время своих поездок по столь полюбившейся ему Умбрии Рафаэль посетил Борго Сансеполькро, родной городок Пьеро делла Франческа, где видел знаменитую «Мадонну Милосердия». Возможно, тогда же он написал «Бичевание» (Вашингтон, Национальная галерея) в память о славном учителе покойного отца. Когда-то одноимённая картина великого мастера произвела на него, подростка, сильное впечатление, о чём было сказано выше. Но среди специалистов нет единого мнения относительно принадлежности вашингтонской картины кисти Рафаэля.
Целиком полагаясь на деловитого Пьяндимелето, Рафаэль часто отлучался в соседнюю Перуджу, до которой было не более 50 километров по прямой равнинной дороге, а это всего лишь полдня пути. К тому же у заказчика мессира Барончи была превосходная конюшня, но молодой художник не любил одалживаться, предпочитая пользоваться более надежным и удобным средством передвижения — почтовыми перекладными. Возможно, именно в тот период, когда его имя получило известность, Рафаэль лично познакомился с Перуджино.
Вторжение чужеземных полчищ и не прекращающаяся междоусобная борьба итальянских государств никак не сказались на юноше Рафаэле. Но самые первые его шаги вызывают определённые трудности с атрибуцией и датировкой работ. Немаловажен вопрос о школе, которую прошёл начинающий художник. Здесь уместно внести некоторые принципиальные уточнения и поспорить с самим Вазари, который утверждает, что первым и единственным учителем Рафаэля был Пьетро Ваннуччи по прозвищу Перуджино (около 1445 — 1523), прошедший, как и Леонардо да Винчи, школу флорентийца Верроккьо. Это мнение Вазари прочно утвердилось в литературе и считается бесспорным, что привело к определённой путанице. Вся беда в том, что знаменитый биограф не работал с архивами, а пользовался в основном многочисленными источниками, которые ныне утрачены, или устными свидетельствами и догадками современников.
Вазари пишет, что Перуджино в те годы, когда Рафаэль делал первые шаги, находился на пике славы. Его искусство было всюду востребовано. Знаменитый мастер был вечно в разъездах, не имея ни постоянного местожительства, ни постоянной мастерской. Но сколь бы ни был велик авторитет биографа, невозможно согласиться с его категоричным утверждением, что Рафаэль попал на обучение к Перуджино мальчиком в возрасте восьми-десяти лет. В своё время в том же возрасте Перуджино покинул родной умбрийский городок Читта́ делла Пьеве и оказался в школе Верроккьо во Флоренции, где обучался бок о бок с Леонардо да Винчи. Но прежде чем к нему пришла широкая известность, он познал нужду и лишения. Вазари красочно повествует, как будущему мастеру, жившему впроголодь и ходившему чуть ли не в отрепьях, часто приходилось словно бездомному бродяге устраиваться на ночлег в телеге или в ящике на городском рынке. Лишения закалили Перуджино, сказавшись и на его грубоватом характере.
Как не бесспорно мнение Вазари, разделяемое многими исследователями, неопровержимым фактом является то, что юный Рафаэль повстречался с Перуджино, уже будучи вполне сложившимся художником с собственным видением мира и неукротимым желанием постоянно совершенствовать мастерство, не гнушаясь брать и переосмысливать всё лучшее, достигнутое к тому времени другими. Уж если говорить об «ученичестве», то уместно прежде всего вспомнить об отце Рафаэля, сыгравшем первостепенную роль в становлении сына как художника.
Настал день, когда Джованни Санти понял, что не может дать больше того, что было вложено им в подрастающего Рафаэля. Отец видел, как сын схватывает всё новое на лету и уже не довольствуется достигнутым. Набиравшему силу и страстно влюблённому в искусство подростку требовалось нечто большее. Нужен был более сильный и знающий наставник. В своей стихотворной хронике он на первое место среди известных мастеров поставил рядом Леонардо и Перуджино: pard’etade е par d’amori — равных по положению и обожанию людей. Но к Леонардо он не смог тогда обратиться, так как тот работал в Милане при дворе Лодовико Моро. Поэтому Санти решил пристроить Рафаэля к другу Перуджино, с которым, видимо, последний раз встретился и поговорил о сыне во время своей злополучной поездки в Мантую летом 1494 года. Выбор Санти был более чем закономерен. Слава друга была очень велика, и из его мастерской вышло немало даровитых художников. У самого Санти учеников как таковых не было, ибо всё его внимание было безраздельно посвящено сыну. Судьба Джованни Санти в какой-то мере напоминает судьбу Леопольда Моцарта, угадавшего в сыне гения.
Перуджино успел поработать в Риме, где его выделил папа Сикст IV, поручив ему руководство группой флорентийских и умбрийских художников, расписывавших фресками стены построенной им Сикстинской капеллы. Среди них были Боттичелли, Гирландайо, Пинтуриккьо, Росселли, Синьорелли и другие мастера. Бесспорным шедевром Перуджино является фреска «Вручение ключей». На ней изображена широкая городская площадь, заполненная множеством людей, с возвышающимся храмом Соломона, а по бокам триумфальные римские арки Тита и Константина. На переднем плане Христос вручает ключи коленопреклонённому Петру. Картина залита ярким светом, обволакивающим фигуры главных персонажей, и среди них узнаваем сам Перуджино. Глядя на его волевое лицо, становится понятно, почему Сикст IV остановил свой выбор именно на нём, а не на задумчивом поэтичном Боттичелли или на грубоватом увальне Гирландайо. Склонность Перуджино к диктату и навязыванию своей воли с годами стала проявляться сильнее, а работа в Сикстинской капелле принесла ему громкую славу.
В 1485 году за заслуги в искусстве он был избран почётным гражданином Перуджи. Через его мастерскую прошло немало учеников, чьи имена известны, так как на их количество устанавливались квоты, выдаваемые влиятельным Цехом живописцев. Во избежание неприятностей хозяева мастерских строго придерживались правил. Архивы сохранили почти все имена учеников мастерской Перуджино: Эузебио из Сан-Джорджо, Бартоломео ди Джованни, Джакомо из Перуджи, Джованни Чамбелла и самый верный ученик и последователь Джованни ди Пьетро по прозвищу Спанья. Не исключено, что Санти, обладавший определённым весом в руководстве Цеха, сумел заполучить такую квоту для малолетнего сына. Однако ни в одном архивном документе не говорится ни слова о пребывании мальчика Рафаэля в мастерской Перуджино. Да и как он мог там оказаться? Ведь после смерти отца одиннадцатилетний Рафаэль из-за судебной тяжбы, затеянной мачехой, был вынужден присутствовать на каждом судебном заседании вплоть до 13 мая 1500 года, пока не покинул Урбино в поисках работы.
Приведём один из последних примеров ошибок, которые допускаются некоторыми авторами, пишущими о Рафаэле. На состоявшейся в Урбино в апреле-июле 2009 года выставке, посвящённой раннему периоду творчества художника, была показана небольшая работа на доске. Это так называемая predella, на которой изображена сцена «Рождение Девы Марии», и вместе с другими четырьмя житийными клеймами она является составной частью большого полиптиха кисти Перуджино для церкви Санта-Мария Нуова в городе Фано.
Заказ на его написание именитый мастер получил в 1488 году, а завершил работу лишь в 1497-м. У Перуджино был непростой характер, но Вазари, который не мог его знать лично, настаивает на обратном. Известно, что у мастера нередко возникали трудности с помощниками и трения с заказчиками, чем, возможно, и объясняется почти десятилетняя задержка с завершением работы над упомянутым алтарным образом. Говорят, из-за отказа заказчика увеличить гонорар разгневанный мастер бросил начатую работу и уехал. В 1490 году в Фано побывал Джованни Санти, приступивший к написанию в левом приделе той же церкви Санта-Мария Нуова алтарной картины «Сретение», в которой сильно влияние его прославленного друга. Однако нет никаких сведений, что он побывал там с семилетним Рафаэлем, хотя известно, что ему не раз приходилось брать подросшего сына с собой, чтобы не оставлять его дома одного с мачехой.
Следует также иметь в виду, что в указанный временной отрезок, помимо Фано, Перуджино побывал в Сиене, Флоренции, Лукке и Кремоне, где его ждали новые заказы. Он редко отказывал заказчикам, сколь бы ни был перегружен делами, проявляя завидную всеядность и работоспособность. С годами его мастерская стала напоминать фабрику по изготовлению картин, по поводу которых исследователи до сих пор ломают голову над их атрибуцией. Будучи в летах, Перуджино 1 сентября 1493 года между делом выгодно женился на юной Кларе, дочери архитектора Луки Фанчелли, работавшего на мантуанское семейство Гонзага. О женитьбе имеется упоминание на одной из его картин в церкви Сан-Доменико во Фьезоле под Флоренцией, где прошло венчание и была отпразднована свадьба. Вскоре он отправил в Фано одного из помощников, дабы успокоить заказчика, выдавшего ранее аванс, и завершить работу. Но вряд ли им мог быть четырнадцатилетний Рафаэль — в таком возрасте подмастерьями не становятся.
На упомянутой доске алтарного образа, показанного на выставке в 2009 году в Урбино, одна из женских фигур с новорождённой на коленях изображена в профиль, как и на фреске «Мадонна с Младенцем», написанной отроком Рафаэлем в родительском доме. Именно это удивительное стилистическое сходство сподвигло некоторых исследователей и организаторов выставки представить «Рождение Девы Марии» как работу Рафаэля. Но остаётся загадкой, как мальчик-сирота мог оказаться в Фано? Ведь ни в одном архивном документе нет упоминания о посещении им этого городка на Адриатике, до которого от Урбино более 50 километров по дорогам, где рыскали отряды бандитов Цезаря Борджиа. Поэтому речь может идти только о предположении, хотя многое указывает на то, что каким-то совершенно неведомым образом пути юного Рафаэля пересеклись тогда с Перуджино, но никак уж не в детском возрасте, и вопрос так и остаётся без ответа.
Когда в апреле 1501 года Рафаэль впервые робко переступил порог мастерской Перуджино, которая временно располагалась тогда почти в самом центре Перуджи на улице Делициоза, мастера он не застал. Его неприветливо встретил прыщеватый Бартоломео ди Джованни, узревший в посетителе с папкой под мышкой возможного соперника. В отсутствие хозяина, который часто наведывался к жене и сыну во Флоренцию, всеми делами ведал этот завистливый подмастерье. Разговора с ним не получилось, и Рафаэль собрался было уходить, как вдруг на пороге появился сам хозяин мастерской. Услышав его имя, Перуджино воскликнул:
— Как же, мы были дружны с твоим покойным отцом! Помню, как я отговаривал его от поездки к взбалмошной маркизе в Мантую. От неё сбегали из-за её сумасбродства все художники. Не послушался, и вот что получилось. Ну а ты, молодой человек, чем порадуешь? Отец тебя нахваливал.
Рафаэль раскрыл папку и показал рисунки для почти законченного алтарного образа.
— Недурно, — сказал Перуджино, поднеся рисунок поближе к глазам, чтобы лучше разглядеть. — Побольше жёсткости. Расплывчатость и плавность линий здесь излишни, коль взялся за алтарный образ. Но Всевышнего малость приодень, иначе святые отцы голову с тебя снимут.
Вернув рисунок, Перуджино дал понять, что разговор на этом закончен, а на прощание посоветовал Рафаэлю зайти в Меняльную биржу и взглянуть на фресковые росписи.
— Там сам без лишних слов поймёшь, как нужно писать и что сегодня требуют от художника вконец зажравшиеся заказчики, — проговорил он, словно отдавая приказ.
На том и расстались. У Рафаэля осталось двойственное впечатление от визита. Было приятно, что знаменитый мастер хранит память об отце, но его высокомерие и командный тон не вызвали желания встретиться с ним снова. Он внял совету и побывал на бирже. Увиденное там его заинтересовало. Ему ещё не раз пришлось туда заглянуть с рабочей тетрадью, с которой он не расставался, памятуя о наказе отца.
Главный зал биржи в форме вытянутого прямоугольника со сводчатым потолком сплошь расписан фресками, сюжеты которых были подсказаны художнику местным учёным-гуманистом Франческо Матуранцио, большим знатоком античной мифологии. Стены от пола в рост человека обшиты деревянными панелями с искусной резьбой. В центре потолка изображение бога Солнца Аполлона, скачущего на колеснице, запряжённой четырьмя разномастными конями, а по краям несутся Юпитер, Сатурн, Марс, Венера и Меркурий, стоящие также на колесницах, которые тянут птицы и какие-то диковинные звери. Свободные места плафона украшены орнаментом из модных гротесков на золотистом фоне, искусно имитирующим мозаику. На одних стенах написаны аллегорические женские фигуры, олицетворяющие Мудрость и Правосудие, Силу и Умеренность, другие расписаны сценами из Нового Завета.
В связи с росписями Меняльной биржи высказывается предположение, что для пробы Перуджино вполне мог поручить подающему надежды юному художнику и сыну покойного друга взяться за написание одной из фресок. Конкретно указывается полукруг на одной из стен с аллегорией Силы, написанной якобы Рафаэлем в виде сидящей в кресле златокудрой красавицы с жезлом в руке. Прямых тому доказательств нет, но из архивных данных известно, что там с Перуджино работал только один помощник по имени Андреа из Ассизи, который ловко подражал манере мастера. Но о каком бы то ни было наличии в росписях биржи руки Рафаэля умалчивает даже Вазари, поэтому стоит довериться тому, что говорят архивные данные.
Памятуя о неприятном впечатлении, оставшемся от первого знакомства с мастером, Рафаэль предпочёл встречам с ним тщательное изучение его работ, которых было немало в Перудже. Возможно, тогда или несколько позже появился «Портрет Перуджино» (Рим, галерея Боргезе), который приписывается юному Рафаэлю, очень схожий с автопортретом самого Перуджино на одном пилястре левой стены в зале Меняльной биржи. Под портретом надпись: «Пьетро Перуджино, знаменитый художник, восстановивший утраченное искусство». Как позднее выяснил Рафаэль, слова принадлежали упомянутому выше Матуранцио.
Вряд ли маститый мастер согласился бы позировать новичку. Рафаэль, обладавший, как известно, феноменальной зрительной памятью, в своей работе отдал дань уважения прославленному художнику и сумел верно отразить его сложный характер. Перуджино был куда как не прост в общении, в чём Рафаэль смог убедиться при знакомстве с ним. Ему запомнились недобрый надменный взгляд и не терпящий возражения голос, который эхом ещё отзывался под сводами главного зала Меняльной биржи, куда молодой художник часто заглядывал, приезжая в Перуджу.
Долгое время эта небольшая работа считалась портретом Лютера, написанным Гольбейном, поскольку искусствоведам трудно было поверить, что делавший первые шаги в искусстве Рафаэль способен был так психологически тонко передать сущность изображённого на картине человека. В те годы Рафаэлю удалось доказать, сколь глубоко был усвоен им урок знаменитого мастера, чьё влияние зримо на работах начального периода. В качестве примера стоит сослаться на картину, названную по имени английского коллекционера и последнего владельца картины «Распятие Монд» (Лондон, Национальная галерея). Заказ на её написание был получен от банкира Доменико Гавари для фамильного склепа в церкви Сан-Доменико в Читта́ ди Кастелло. Эту работу видел Вазари, не преминувший отметить, что «распятие всякий принял бы за произведение Перуджино, если бы под ним не было подписи Рафаэля». Такое мнение высказано автором в те годы, когда посмертная слава Рафаэля была достаточно велика и он не нуждался больше в сравнении с кем бы то ни было, поскольку его неповторимая манера была сразу узнаваема и её невозможно было уже спутать ни с чем. Отстаивая свою точку зрения относительно школы, через которую прошёл молодой художник, Вазари безусловно прав, говоря о весьма заметном влиянии Перуджино на некоторых работах Рафаэля раннего периода, когда он упорно изучал опыт других мастеров и вырабатывал собственный стиль.
В отличие от подобных работ Перуджино, которые позже были высоко оценены идеологами Контрреформации за преданность постулатам католицизма и отсутствие в них светской «ереси», рафаэлевское «Распятие» — это глубокое переосмысление манеры письма старого мастера. Оно поражает мажорным звучанием и яркой цветовой палитрой вопреки избранной теме, что было абсолютной новизной, доселе неведомой итальянским живописцам, изображавшим Распятие. Даже стоящие по бокам фигуры Богоматери и Иоанна Богослова, равно как и преклонившие колени перед Распятием Иероним и Магдалина, не несут печати безутешной скорби, а их спокойные просветлённые лики созвучны мягкому типично умбрийскому развёрнутому пейзажу, напоённому прозрачным воздухом. Уже на примере этой работы и ряда других того же периода можно смело говорить не об ученичестве как таковом, а скорее о состязании, в которое со свойственным молодости задором вступил юный Рафаэль. Ведь самостоятельные шаги он проделал не где-нибудь, а на родине именитого мастера, чей авторитет в художественных кругах был чрезвычайно высок.
Берясь за написание неба на заднем плане, Рафаэль не смог уговорить скуповатого заказчика приобрести дорогостоящую ляпис-лазурь. Её пришлось заменить менее дорогим лазуритом, добываемым в штольнях Баварии, что не помешало художнику добиться глубины ясного утреннего неба. Два парящих ангела, возможно, заимствованных у отца или у Перуджино, не в пример ему полны энергии и грации.
Неизвестно, как воспринял работы молодого урбинца сам Перуджино, не терпевший соперничества ни с чьей стороны. Однако вскоре на его картинах стало сильно сказываться влияние молодого художника, сумевшего придать фигурам, написанным лёгкими мягкими мазками, куда больше одухотворённости и жизненной правды, нежели у маститого мастера.
Появление этой новой работы ещё больше упрочило положение Рафаэля как главного художника Читта́ ди Кастелло. Его добрым нравом и отзывчивостью не переставали восхищаться жители тихого милого городка, где у него появилось немало друзей, а местные дамы и девицы втайне вздыхали по красивому статному художнику, всегда со вкусом одетому и с неизменной доброй улыбкой на устах. Вновь объявившийся в городе Лука Синьорелли после знакомства с работами восходящей звезды на местном небосклоне понял, что ему уже не под силу тягаться с молодостью, и возвратился в родную Кортону.
Не застав во время одного из приездов в Перуджу мастера, который уехал куда-то по делам, Рафаэль невольно оказался очевидцем дикой расправы, учинённой семейством Бальони, одержавшим верх в смертельной схватке за власть в городе над своими извечными врагами из клана Одди. Перед большим фонтаном на соборной площади вырос лес виселиц. Вместе с другими горожанами его силой загнали на площадь. Не помогли никакие объяснения, что он приезжий и оказался здесь по делам. Помимо воли ему пришлось присутствовать на публичной казни через повешение противников режима, чтобы другим подданным было неповадно.
Возмущаться было бесполезно, и толпа безропотно ждала. Вскоре появился глава победившего семейства Гвидо Бальони с сыновьями Адриано, Асторре, братьями Филиппо, Симонетто и племянниками Джан Паоло и Грифонетто. Это были рослые люди, сколоченные из одних мускулов, с выражением самодовольства на лицах. Когда они гордо шествовали по площади к гостевой трибуне, казалось, что стадо слонов движется на водопой, сметая всё на своём пути.
Процедура казни проходила в сумрачный ветреный день. Главный городской палач, как говорили в толпе, скрылся, не пожелав участвовать в массовой казни, и из-за неумелости нанятых исполнителей этот зловещий спектакль растянулся надолго. Бедняги, приговорённые к виселице, то и дело срывались с петли. Их приходилось вторично вешать или хватать за волосы и по взмаху руки старика Бальоне рубить им головы на плахе. Один из приговорённых к смерти красивый молодой человек оттолкнул палачей, сам подошёл к плахе и положил голову под топор. Толпа в ужасе охнула.
Это зрелище произвело на Рафаэля жуткое впечатление. Всё происходящее казалось ему кошмарным сном. Неужели люди, родившиеся и живущие в окружении дивной природы, среди великолепных дворцов, сотворённых их же руками, могут быть столь жестоки? Рядом с местом казни красуется большой фонтан, над чашей которого возвышаются прекрасные мраморные изваяния работы Джованни Пизани во имя прославления жизни, а здесь те же люди лишают её своих соотечественников столь безжалостно. В действиях палачей, орудующих на сколоченном из досок помосте, словно на сцене, было что-то противоестественное и сатанинское, напоминающее безумную средневековую мистерию, которую можно видеть на старинных гравюрах.
Рафаэль вдруг почувствовал, что теряет сознание, и в этот момент люди расступились — из толпы выносили на руках молодую беременную женщину, бившуюся в истерике. Ему удалось с неимоверным усилием вырваться из кольца оцепления. Пока он бежал по узким улочками вниз, чтобы добраться до почтовой станции, у него перед глазами стояли виселицы с раскачивающимися телами на фоне зловещего свинцового неба. От всего увиденного и пережитого в тот злосчастный день на соборной площади он не сразу смог отрешиться, с трудом приходя в себя.
Вернувшись в Читта́ ди Кастелло, Рафаэль засел за работу, чтобы забыть этот ужас. Пока он рисовал на фоне ясного безоблачного неба просветлённые лики, ранним утром 2 января 1502 года в город ворвался обманным путём через крепостные ворота отряд головорезов Цезаря Борджиа. Штурмом был взят дворец правителя, не пожелавшего пойти на мировую с душегубом. На площадь силком согнали перепуганных граждан, где бедняга Вителлоццо Вителли с престарелым братом каноником были публично казнены.
На сей раз Рафаэль избежал повторения кошмара, так как перед ним и дверью встал стеной грозный Пьяндимелето.
— Хватит приключений в Перудже! — заявил он. — Пока бандиты в городе, из дома ни ногой, и не спорь со мной!
Покуражившись вволю, каратели оставили взбудораженный городок столь же неожиданно, как и появились. В городе восстановилась нормальная жизнь, но люди боялись выходить из своих домов. Из Урбино не было никаких вестей, и Рафаэль поручил Пьяндимелето наведаться в оставленную без надзора мастерскую. Прошёл месяц, но от посланца не было ни слуху ни духу. Видно, по части писания писем он был не силён. Как-то на улице Рафаэлю повстречался старый знакомый по первому контракту ювелир Флориди, недавно побывавший по делам в Урбино.
— Горожане предпочитают не выходить на улицу и отсиживаются по домам, — поведал он. — Делами в вашей мастерской заправляет молчун Пьяндимелето, а дом целиком в руках бойкой девицы Перпетуи, помыкающей всеми и самим доном Бартоломео. Есть ещё одна касающаяся вас новость — ваша взбалмошная мачеха вышла замуж.
В середине лета появились первые перепуганные беженцы. От них стали известны некоторые драматические подробности. Урбино оказался в полукольце блокады неприятеля. Под обстрелом артиллерии пала крепость Камерино, и правящее семейство Варано было полностью вырезано. Чудом удалось спастись только Марии Варано с сыном, племяннице герцога Гвидобальдо. В письме папе Цезарь Борджиа сообщил, что урбинский правитель, мол, не внял просьбе Его Святейшества и не предоставил ни одной мортиры, а посему должен быть сурово наказан за ослушание. Он заранее оправдывал причину нападения на Урбинское герцогство, чтобы присоединить его к своим владениям.
В начале июня враг вторгся на земли Урбино. Но ещё до появления первого вражеского отряда герцог Гвидобальдо укрылся в труднодоступном горном районе Монтефельтро, неподалёку от республики Сан-Марино, откуда были родом его пращуры, упоминаемые Данте:
(Ад. Песнь 27. Пер. М. Лозинского)
Предчувствуя беду, герцог взял с собой гостившего у него двенадцатилетнего племянника Франческо Мария, родители которого едва унесли ноги, когда бандиты оказались в их крепости Сенигаллия и устроили там поголовную резню. С верными провожатыми по горным тропам, минуя неприятельские посты, беглецам удалось добраться до порта-крепости Римини, правитель которой Пандолфо Малатеста сумел откупиться от злодея и помог попавшему в беду соседу, предоставив в его распоряжение судно с гребцами, которое доставило беглецов до Мареммы — обширного устья реки По. Там герцог договорился с местными рыбаками и на их баркасе отправился с племянником вверх по течению. Вскоре он смог соединиться в Мантуе со своим двором в изгнании во главе с герцогиней Елизаветой Гонзага.
Войдя в Урбино и не обнаружив во дворце герцога и его близких, Цезарь Борджиа пришёл в бешенство и приказал повесить на рыночной площади трёх влиятельных придворных и своего соглядатая, который проворонил Гвидобальдо. Бывшему гонфалоньеру Пьерантонио Вити в начавшейся суматохе удалось бежать и укрыться с престарелой матерью в загородном имении. Не повезло его младшему брату Тимотео, которого вынудили под угрозой смерти взяться за сооружение некоего подобия Триумфальной арки для торжественной встречи герцога Валентино. Горожане, собравшиеся на площади, в основном молодые парни и девушки, молча встретили лихо гарцующего на белом коне победителя. Во дворце бывших правителей захватчики устроили по такому случаю пиршество, скорее походившее на тризну по почившей в бозе независимости славного герцогства, одного из оплотов гуманизма и ренессансной культуры в Европе, теперь оказавшегося в руках отъявленного негодяя.
В самый разгар творимого беззакония в Урбино пожаловал посланец Флорентийской республики Макиавелли, чтобы лично познакомиться с предводителем папского войска и его планами по созданию единого национального государства. Тогда же в Урбино приехал и Леонардо да Винчи, чтобы встретиться со своим новым хозяином и обсудить с ним инженерные проекты. В течение месяца Леонардо подробно обследовал местную систему фортификационных сооружений. В Урбино его заинтересовал и сам дворец с богатейшей библиотекой, где он впервые познакомился с рукописью Архимеда.
Вот что 24 июня 1502 года писал из Урбино официальный посланец в своём рапорте правительству о Цезаре Борджиа: «Герцог так смел, что самое большое дело кажется ему лёгким. Стремясь к славе и новым владениям, он не даёт себе передышки, не ведает усталости и не признаёт опасностей. Он приезжает в одно место прежде, чем успеешь услышать о его отъезде из другого. Он пользуется расположением своих солдат и сумел собрать вокруг себя лучших людей Италии. Кроме того, ему постоянно сопутствует везение. Всё это вместе взятое делает герцога Валентино победоносным и страшным».25 Таков первый предварительный набросок словесного портрета знаменитого «Государя», написанного Макиавелли и принёсшего автору громкую известность после его опубликования в 1513 году.
По пути следования из Флоренции в Урбино Макиавелли и Леонардо не могли не видеть реки пролитой крови и горы трупов, которыми была устлана дорога к амбициозной цели Цезаря Борджиа. Захватив Урбино, палач и узурпатор распорядился перевезти в Рим значительную часть ценнейших рукописей, собранных Федерико да Монтефельтро, которые вошли в состав ватиканской библиотеки. Тогда-то там и оказалась упомянутая рифмованная хроника Джованни Санти. К счастью, лапы «дракона», как в народе стали называть папского сынка-выродка, не добрались до мастерской Рафаэля и не учинили в доме погром, которому подверглись многие дома горожан, особенно на противоположном холме Поджо. Увидев в том волю Провидения, дон Бартоломео заказал благодарственный молебен.
— Слава богу, — причитал он вместе с перепуганной плачущей Сантой, — что наш бедный племянник не видел этого ужаса!
На рыночной площади, которую горожане обходили стороной, всё ещё раскачивались на виселице тела.
Глава VI НА ПЕРЕПУТЬЕ
В те трагические дни, когда о возвращении на родину нельзя было и помышлять, Рафаэль познакомился с художником Бернардино ди Бетто по прозвищу Пинтуриккьо (1454-1513), что означает рисовальщик-коротышка. Одно время он работал вместе с Перуджино и считался его учеником несмотря на сравнительно небольшую разницу в возрасте. В отличие от надменного старшего товарища Пинтуриккьо был весельчаком и душой любой компании. Вскоре после знакомства он предложил Рафаэлю прокатиться вместе до Сиены, где его ждала большая работа — кардинал Пикколомини заказал ему расписать фресками книгохранилище при кафедральном соборе. В своё время оно было создано его знаменитым дядей гуманистом и литератором Энеа Сильвио Пикколомини, автором когда-то нашумевшего эротического романа на латыни De duobus amantibus historia. В течение шести лет под именем Пия II он занимал папский престол и вошёл в историю как один из самых просвещённых пастырей Римской церкви.
Рафаэль с радостью принял приглашение товарища, чтобы развеяться и отойти от грустных мыслей, вызванных трагическими событиями в родном Урбино. Да и житье в тихом гостеприимном городке Читта́ ди Кастелло наскучило, а новых заказов пока не предвиделось. Как поведал Пинтуриккьо, Микеланджело взялся изваять для Сиенского собора 15 небольших скульптур святых. Но вскоре утратив интерес, прямо заявил, что «на свет родился скульптором не для того, чтобы плодить карликов». Теперь он бьётся над укрощением огромной глыбы мрамора, лежащей на хозяйственном дворе за собором Санта-Мария дель Фьоре. От неё отказались все флорентийские ваятели, а сиенский заказ Микеланджело передал своему другу Баччо да Монтелупо.
В путь отправились поутру. Обогнув огромную чашу мрачного Тразименского озера, въехали в Тоскану с её холмами, сплошь засаженными виноградниками. Всю дорогу Пинтуриккьо потешал молодого коллегу забавными историями о быте и нравах сиенцев, людей смышлёных, оборотистых и острых на язык, которые за словом в карман не полезут. В городе появилось немало изворотливых предприимчивых людей, сумевших сколотить себе крупный капитал, и их банки успешно соперничают с банками Флоренции. Фортуна была особенно благосклонна к банкиру Агостино Киджи, чьи баснословные богатства поражали даже самое смелое воображение, и сиенцы по праву гордились своим земляком, перед которым заискивали папы и короли.
Но кроме зарабатывания денег повальным увлечением сиенцев оставались скачки или Palio. Дважды в год на центральной площади Кампо, устланной соломой вперемешку с песком, проводились состязания между семнадцатью городскими кварталами, или контрадами. Каждый квартал имел своё название типа Орёл, Пантера, Волчица, Сова, Гусеница и т. д. У всех были свои эмблемы, штандарты и фасон одежды. Для сиенцев Палио было почти культовым событием, которым жили и целый год к нему готовились, чтобы на скачках блеснуть силой и сноровкой, доказав выносливость и преданность штандарту. Особенно заботились о лошадях. Каждая команда располагала собственной конюшней, где питомцев холили, чистили и постоянно выводили в ночное на тучные заливные луга вокруг города. Большим спросом пользовались профессии конюха, шорника, кузнеца, ветеринара. И в наши дни сиенское Палио собирает многочисленных гостей, съезжающихся отовсюду и жаждущих острых ощущений. Из сиенского Палио слово «конюшня» перекочевало в современные автогонки «Формулы-1», по которым сходят с ума цивилизованные страны мира.
Рафаэль и Пинтуриккьо остановились перекусить в живописном городке Пьенца, полностью спроектированном и построенном архитектором Бернардо Росселлино по указанию папы Пия II, уроженца здешних мест. Он и переименовал его в Пиев городок, то есть Пьенца, называвшийся прежде Корсиньяно. Всё в нём было соразмерно человеку — дома, улицы и площади, где легко дышалось и ничто не подавляло. Здесь каждый чувствовал себя истинно свободным гражданином, и путникам не хотелось оттуда уезжать. Уже ближе к закату дорога резко поползла вверх.
— Ещё немного, и мы у цели, — объявил Пинтуриккьо. — Не зря тосканская поговорка гласит:
И действительно, с высоты холма открылась великолепная панорама города, раскинувшегося на трёх холмах, окрашенных в пурпур закатом с характерной башней Манджа и соборной колокольней. Над крепостными воротами находилась мраморная доска с выбитой на ней надписью на латыни с полустёршимися от времени буквами:
Сиена шире городских ворот открывает своё сердце всяк в неё входящему.
Как же это приветствие разнится с грозным предостережением Данте «Оставь надежду…» над вратами ада!
Сразу по прибытии Пинтуриккьо приступил к делу. Наслышанный о том, что молодой собрат по искусству поднаторел в рисунке, он поручил Рафаэлю подготовить несколько эскизов к фресковым росписям, посвящённым прославлению деяний Энеа Сильвио Пикколомини и предпринятых им усилий по сплочению христианского мира в жестоком противостоянии наседающему на Европу исламу. Идея не увлекла Рафаэля, но чтобы уважить Пинтуриккьо, он сделал пару набросков к первой фреске «Отъезд кардинала Капраники на Собор в Базель». На ней молодой ещё безвестный Энеа Сильвио Пикколомини в свите кардинала гарцует на белом коне.
Ради этого пришлось побывать на площади Кампо, по форме напоминающей подкову. Там творилось настоящее безумие — нужные в качестве модели лошади во время скачек по кругу подвергались всадниками жестоким истязаниям под гогот толпы. Перед самым финишем одна из лошадей пала, не выдержав напряжения и жары, а неумеха наездник принялся хлестать её кнутом по морде, пытаясь поднять на ноги. Всё было тщетно, и несчастное животное околело. Часть зрителей завопила от восторга, а другая — убивалась из-за проигрыша. Такое зрелище было не для Рафаэля, он покинул ревущую площадь, оставив Пинтуриккьо одного любоваться диким зрелищем вместе с вошедшей в неистовство публикой. Нет, туда он больше ни ногой!
Как-то за ужином у него с Пинтуриккьо зашёл разговор о его товарище Перуджино.
— На первых порах, — вспоминал тот, — с ним ещё можно было ладить, но со временем он стал невыносим из-за своего сволочного характера.
Он немного помолчал, стараясь найти подтверждение сказанному.
— Да зачем далеко ходить? Достаточно взглянуть на его автопортрет в той же Меняльной бирже, чтобы убедиться в правоте моих слов. Надеюсь, ты его видел?
— Видел, конечно, — ответил Рафаэль, — а что из того? Напрасно на него дуешься. Признайся, зависть тебя заела, вот ты и не последовал за ним.
— При чём тут зависть? — возразил Пинтуриккьо. — Если бы ты знал, как его попрёки и придирки мне осточертели! Уж я не говорю о его мелочности при расчётах за работу, которую вместе делали. Он готов был удавиться из-за каждого сольдо. Слава богу, я вовремя одумался, иначе влип бы с ним в жуткую историю и не сидел бы тут с тобой.
Если верить рассказу Пинтуриккьо, на что, кстати, намекает и Вазари, после успеха в Риме Перуджино оказался во Флоренции. Там он обзавёлся бравым помощником по имени Аулисте д’Анджело, который ловко владел не только кистью, но и кастетом. С его помощью удалось выколотить должок за выполненную работу с одного несговорчивого заказчика. Лишившись кошелька под угрозой ножа и кастета, тот обратился в суд Otto, то есть трибунал Восьмёрки, с которым шутки были плохи. Судьи узрели в поступке художника не что иное, как разбойное нападение. Говорят, что в ходе дознания мастера и его помощника, отрицавшего своё участие в ограблении, дважды вздёргивали на дыбу (по другим версиям — четырежды), чтобы выбить у обоих признание в содеянном. Приговорив к крупному штрафу, Перуджино с позором выдворили из города.
В эту историю верится с трудом, хотя известно о скупости мастера, готового ради денег пускаться во все тяжкие. Зато как щедр и великодушен был Перуджино, когда брался за палитру и кисть, создавая подлинные чудеса, а это было самым главным для влюблённого в искусство Рафаэля. Поэтому разговоры о скопидомстве мастера или сетования на его несносный характер для него ровным счётом ничего не значили.
Точно так же ему не было никакого дела до молвы, закрепившей за обосновавшимся в Сиене пьемонтским художником Джован Антонио Бацци прозвище Mattazzo — «Бесноватый» за его привязанность к животным и странные выходки, поражавшие добропорядочных граждан. В его сиенском доме, как в Ноевом ковчеге, всякой твари было по паре. Но особой любовью пользовались у него змеи и прочие гады, о чём в городе было немало пересудов. Рафаэль познакомился с ним в городке Монте Оливето неподалёку от Сиены, где в монастыре бенедиктинцев Бацци расписывал фресками стены внутреннего дворика. Ему помогал молодой местный художник Бальдассар Перуцци. Работа Джован Антонио произвела сильное впечатление, не уступив фрескам ранее побывавшего там известного мастера Луки Синьорелли. Годы юности Джован Антонио прошли в Милане, рядом с мастерской Леонардо да Винчи, который охотно делился с начинающими художниками опытом. Встречи с прославленным мастером имели для Джован Антонио основополагающее значение. В римской галерее Боргезе находится добротно выполненная им копия с утерянной картины Леонардо «Леда и лебедь».
Пинтуриккьо был знаком с Джован Антонио, но не согласился с мнением о нём Рафаэля как о тонком вдумчивом мастере.
— Да знаю я этого Бесноватого. Не зря ему дали такое прозвище. От него можно ждать всё что угодно. Не понимаю, как настоятель монастыря ещё терпит его чудачества и безобразные выходки!
В словах друга Рафаэль уловил нотки зависти, понимая, что не чуждый шутке и эпатажу Пинтуриккьо не мог терпеть соперничества более молодого коллеги, да ещё наделённого богатой фантазией и поражавшего сиенцев своими странностями. Что же касается настоятеля монастыря, то у него действительно было немало претензий к мастеру, который позволял себе излишне вольно трактовать религиозные сюжеты. Однажды он настолько осмелел, если не сказать больше, дав волю безудержной фантазии, граничащей с эротикой, что на одной из фресок, повествующей об искушении дьяволом святого Бенедикта, написал танцующих голых гетер в самых непристойных позах. Разразился скандал, и художника-балагура заставили прикрыть срамоту и закрасить похабщину. Но даже в таком несколько приглаженном виде сцена искушения святого является лучшей в созданном Джован Антонио Бацци фресковом цикле. Позднее за экстравагантным художником закрепилось другое прозвище — Содома за его дружбу с золотой молодёжью и распутство. Именно под этим весьма неблагозвучным прозвищем он вошёл в историю мировой живописи.
В библиотеке, где Рафаэль делал небольшой набросок с находившейся там античной статуи, он познакомился с приятным господином лет шестидесяти, назвавшимся Маурицио Матуранцио. Это имя ему приходилось уже слышать в Перудже, когда он заходил в Меняльную биржу взглянуть на фрески.
— Вы совершенно правы, — подтвердил Матуранцио. — По просьбе заказчика мне довелось консультировать художника, который был не силён в мифологии, в чём упрямо не желал признаться. Пришлось немало с ним повозиться, а человек он с большим самомнением.
Матуранцио рассказал, как спорилась работа на бирже, где Перуджино помогал один из его учеников по имени Андреа из Ассизи. Ему мастер доверял всецело и поручил даже написать ряд сцен на мифологические сюжеты. Ученик настолько точно копировал манеру мастера, что иногда тот терялся, будучи не в состоянии отличить руку ученика от своей. К сожалению, талантливого парня скрутила непонятная болезнь, вызвав паралич конечностей, и бедняга был вынужден навсегда расстаться с живописью.
Их встречи продолжились. Рафаэля притягивал этот целеустремлённый не по годам человек, небрежно одетый, с целым ворохом бумаг под мышкой и со сползающими с носа очками. Из бесед со знатоком истории и античной мифологии в пустом зале библиотеки, где вдоль стен были установлены леса, сколоченные для работы, он почерпнул для себя много полезного. Дни напролёт Матуранцио корпел над своими комментариями к «Метаморфозам» Овидия.
— После разграбления библиотеки в Урбино, — говорил новый знакомый, — приходится теперь наведываться сюда из Перуджи. Война смешала все карты. Слава богу, что хоть до Сиены не добрались лапы «дракона» и здесь можно спокойно поработать над манускриптами.
Вскоре Матуранцио сообщил, что часть обоза с награбленным была отбита в Романье у бандитов и спрятана в укромном месте в горах. От него Рафаэлю стало известно, что стоящая здесь скульптура, с которой он сделал рисунок, была откопана в 1462 году в предместье Рима при папе Пие II и подарена им Сиене. Судя по предварительному рисунку, хранящемуся в венецианской библиотеке Марчана, три прислужницы Венеры олицетворяют целомудрие, красоту и сладострастие. Одна из дев справа стыдливо прижимается к подруге в центре, держа в руке позолоченное яблоко, а вот что было у подруг, неизвестно, поскольку у сиенской скульптурной группы отбиты руки у двух дев. При написании картины Рафаэль уравновесил композицию, пририсовав двум остальным девам по яблоку, предназначенному в награду победителю воображаемого турнира.
Это первая его работа (Шантийи, Музей Конде), не связанная с библейской тематикой, да и сама Сиена с её свободой нравов никак не способствовала настроиться на религиозный лад. Картина прекрасна не только удивительной гармонией линий, но и тем, что верно отражает чистоту души самого художника и ту благость, которую он излучает на окружающих его людей, что не мог не почувствовать учёный Матуранцио, познакомившись с Рафаэлем. В грациозном трио обнажённых дев молодой художник проявил редкое умение настолько впечатляюще воспроизводить красоту женского тела, что у его современников, включая также первого биографа Джовио, не нашлось иного слова для определения увиденного, кроме как venustas — красота божественная, и этим всё было сказано.
Поначалу Рафаэль намеревался поместить на тыльной стороне доски с тремя грациями спящего рыцаря, но передумал и написал картину того же размера на другой доске. Получился превосходный диптих в манере фламандских живописцев с присущими им мелкими подробностями, написанными с филигранной точностью. Миловидный юнец в рыцарских доспехах забылся сном, лёжа на земле и облокотившись на щит. Во сне ему привиделись две очаровательные девы: одна слева в скромном одеянии с мечом и книгой в руке призывает рыцаря к свершению подвига и к познанию мудрости. Другая с непокрытой головой и в небесно-алом светском платье, перевитом нитками коралла, протягивает спящему цветок мирта, суля ему успех в делах любовных. Вероятно, такие сны частенько снились и самому художнику, наделённому богатым воображением, а будоражившие впечатлительную натуру девятнадцатилетнего юнца пылкие чувства давали о себе знать особенно по ночам, что более чем естественно в его возрасте.
Три фигуры изображены на фоне великолепного пейзажа с полноводной рекой, через которую перекинут мост, бедным селением, замком на скале и синеющими вдали горами. Воспроизведённая картина живой природы представляется осуществлённым сном рыцаря. В самом центре картины Рафаэль неслучайно поместил чахлое дерево, которое делит изображение по вертикали на две равные, но по смыслу диаметрально противоположные части. Тянущееся к солнцу дерево определит выбор юного рыцаря, когда он очнётся от сна. Можно также предположить, что появившийся на картине молодой лавр определил выбор самого Рафаэля, оказавшегося в смутные годы на жизненном перепутье: идти ли ему дорогой, проторённой другими художниками, переняв у них самое лучшее, или найти свой собственный путь, ведущий к славе?
В той же библиотеке Рафаэлю попалась на глаза в отдельном издании с комментариями «Ода Меценату» Горация. Его поразила в ней одна мысль латинского поэта. Говоря о разных наклонностях людей, будь то жажда победы в заезде колесниц или приверженность к возделыванию земли, Гораций довольствовался судьбой, дарованной ему задумчивой музой Полигимнией, дабы заслужить лавровый венец поэта-лирика, в чём он признаётся своему покровителю Меценату:
Об этом мечтал и Рафаэль, веря в свою судьбу.
Кроме этих двух небольших работ, выполненных в основном для себя, стоящих заказов в Сиене Рафаэль пока не нашёл. Тем временем до него доходили слухи о бурной жизни в Риме, где с уходом французов и окончанием военных действий на художников посыпались заказы. Но отправиться туда без приглашения было бы опрометчиво с его стороны. Кому он, провинциал, там нужен? Даже Пинтуриккьо затосковал, вспоминая былые дни работы в Ватикане. День Всех Святых в начале ноября друзья встретили с невесёлыми мыслями о своём житье-бытье в забытой заказчиками практичной Сиене, где под проливным дождём праздник выглядел буднично и уныло.
К ним на огонёк зашёл скульптор Баччо да Монтелупо, чья мастерская была по соседству. Получив от Микеланджело поручение, он работал по его рисункам над изваяниями святых для собора. Засидевшись, он немало рассказал о своём удачливом флорентийском друге. Рафаэля, а особенно Пинтуриккьо покоробило в изложении говорливого гостя одно весьма резкое суждение Микеланджело.
— Я не раз слышал, — рассказывал Баччо, — как он заявлял, что живопись должна быть лишена всякого украшательства, столь ценимого глупцами, и выглядеть как выжженная земля. Для него скульптура была и остаётся первейшим из искусств.
Чтобы придать ещё больший вес высказанной мысли, Баччо добавил:
— Микеланджело любит повторять, что скульптура отличается от живописи, как солнце от луны.
Они не стали оспаривать это парадоксальное суждение, поскольку на душе и без того было муторно.
Совсем иные настроения царили в тот день в Риме. Вот, например, как папский секретарь кардинал Иоганнус Бурхардус описывает в своём дневнике эту дату, шумно отмеченную нагрянувшим в Вечный город грозным герцогом Валентино, сиречь Цезарем Борджиа, в дворцовых апартаментах, расписанных бравым Пинтуриккьо:
«На половине герцога Валентино в Апостольском дворце состоялся праздничный ужин, на который были приглашены, как обычно, несколько порядочных проституток, называемых куртизанками. После обильного застолья и возлияния начались танцы под звуки оркестрика, расположившегося в соседней гостиной. Поначалу захмелевшие гости, куртизанки и даже слуги танцевали одетые, а затем в такт музыке начали быстро обнажаться, сбрасывая с себя одежды вплоть до исподнего.
Тяжёлые бронзовые канделябры с горящими свечами были убраны со стола и поставлены на пол, дабы лучше освещать наготу танцующих и рассыпанные по паркету каштаны. Смешно ползая на четвереньках среди стоящих канделябров и крутя голыми задами, куртизанки стали состязаться друг с другом в сборе рассыпанных каштанов, одновременно ублажая прямо на полу вошедших в похотливый раж пьяных самцов. Победительниц ждали богатые подарки, разложенные тут же на креслах. Арбитрами этого похабного состязания были Его Святейшество, герцог Валентино и его сестра Лукреция Борджиа, которая резвилась больше всех, подзадоривая знающих своё дело куртизанок».26
Даже представить себе трудно, что в день церковного праздника такое могло твориться в святая святых — Ватикане! Переживший пятерых понтификов педантичный немец отводил душу, не отказывая себе в удовольствии аккуратно заносить в дневник пикантные подробности из жизни папского двора, нравы которого он втайне презирал. От него стало известно, что вначале отец, а затем оба братца затащили в постель девочку Лукрецию.
Недавно кардинал переехал в собственный дом в позднеготическом стиле с пристроенной к нему башней Арджентина по латинскому названию его родного города Argentoratum (нынешний Страсбург), давшей название и близлежащей обширной римской площади. После смерти Бурхардуса его дневник был обнаружен в тайнике дома, но не был уничтожен и долго хранился в ватиканском архиве под грифом «секретно». А как известно, всё тайное со временем становится явным, тем более что сам папа Александр Борджиа был фигурой одиозной, не пользовавшейся симпатией ватиканских старожилов. Благодаря им стали достоянием гласности многие тайны папского двора.
Тот же дотошный Бурхардус не забыл отметить в своём дневнике, что 29 июня 1503 года в день апостола Петра, словно в наказание за тяжкие грехи, совершённые папой и его семейством, Рим оказался во власти разрушительного смерча с дождём и градом. Под порывами ураганного ветра рухнула часть пристройки к Апостольскому дворцу, где в это время находился папа. Обрушившиеся потолочные перекрытия придавили насмерть двух его приближённых и одного гвардейца из охраны, но сам понтифик остался цел и невредим. Он оказался в спасительной узкой нише, образованной тремя рухнувшими балками. Перепуганного папу, орущего благим матом, перемазанного в извёстке и в разодранном одеянии, пришлось оттуда вызволять, как из капкана. Во время очередной воскресной проповеди в соборе Святого Петра Александр VI воспользовался случившимся с ним как проявлением воли Господней. Однако римляне увидели в этом последнее предупреждение Небес греховоднику, и не ошиблись.
Когда папа Борджиа скончался, а умирал он долго и мучительно, все приближённые и слуги разбежались, оставив умирающего одного корчиться от нестерпимой боли. Запропастился куда-то даже папский лекарь. Как только у папы начались судороги, дворец тут же покинула его сожительница красавица Джулия Фарнезе. По городу поползли слухи, что приступ начался сразу после ужина в компании сына, который также не замедлил исчезнуть. По версии, пока окончательно не доказанной, яд предназначался для одного из гостей, приглашённых на ужин во дворец, но по ошибке слуг, плохо знавших испанский, на котором отдавались все распоряжения, отравленный кубок достался папе. Эта тёмная история вполне правдоподобна. В те времена яд широко применялся при сведении счётов. В Риме была секретная лаборатория по изготовлению различных ядов. Недаром римляне прозвали папскую отраву «напитком Борджиа».
В пятницу 18 августа 1503 года набатный колокол оповестил Вечный город о кончине папы Александра VI, но никто из кардиналов и римской знати не пришёл во дворец проститься с усопшим. Один лишь верный долгу секретарь Бурхардус, как и положено, распорядился обмыть покойного, перепачканного с ног до головы испражнениями и блевотиной, а затем облачить в папские бармы белого и кармазинного цвета и подложить ему под голову расшитую золотом подушку. От нестерпимой августовской жары труп вздулся, почернел и стал разлагаться, распространяя зловоние.
Воспользовавшись суматохой из-за подготовки к похоронам, во дворец проникла шайка бандитов, подосланных, как полагают, сказавшимся больным Цезарем Борджиа, который так и не пришёл к умирающему отцу. Оттеснив и связав опешивших гвардейцев, налётчики вынудили папского казначея открыть им бронированную дверь в хранилище с сокровищами и деньгами. Нажива превзошла ожидания грабителей, но уйти с ней им так и не удалось — сгубила алчность. Пока злоумышленники, ссорясь из-за добычи, набивали мешки, подоспела подмога и верные присяге гвардейцы закололи бандитов. Но кое-кому из них удалось спастись и рассказать об увиденных в Ватикане несметных сокровищах, накопленных папой Борджиа за десять лет правления. При нём шла открытая торговля кардинальскими и епископскими званиями; немалые средства поступали в казну и от бойкой продажи индульгенций.
В те дни не растерялась и дворцовая челядь — в осиротевших апартаментах Борджиа она растаскивала всё, что попадалось под руку. Как пишет в своём дневнике Бурхардус, «тащили хрусталь, посуду, ковры, канделябры, бельё, оставляя только неподъёмные дубовые столы, кресла и тяжёлые шпалеры на стенах». Добрались и до знаменитых ватиканских погребов с отборными винами. Распоясавшаяся прислуга устроила шумную тризну. Во время пьяного дебоша собутыльники изощрялись в непристойных выражениях. Эта дикая оргия происходила в жилых папских покоях перед настенным портретом коленопреклонённого папы Борджиа в профиль с его характерным крючковатым носом стервятника на обрюзгшем лице, выдающем человека, жившего далеко не праведной жизнью. Пожалуй, это единственное сохранившееся в Италии изображение нелюбимого итальянцами папы.
Как потом рассказывал кто-то из очевидцев пьяного сборища, один из дебоширов запустил в портрет папы бутылкой, которая, разбившись о стену, залила фреску вином, словно кровью возмездия за все пороки покойного нечестивца. Подобные бесчинства и глумления Ватикану суждено было пережить ещё раз — в злосчастные майские дни разграбления Рима ландскнехтами Карла V в 1527 году, когда во время грабежей и погромов один из вандалов нацарапал кинжалом имя Лютера на одной из фресок Рафаэля.
Под монотонные удары колокола по дороге от Апостольского дворца к собору Святого Петра потянулась траурная процессия с телом усопшего на катафалке, покрытом фиолетовым стягом с папскими вензелями. Она представляла жалкое зрелище, словно хоронили не папу римского, а какого-то безродного лавочника из народного квартала Трастевере. Неожиданно налетевший ветер поднял клубы пыли над малолюдной процессией, гася факелы в руках сопровождавших её полупьяных слуг. Завидев шествие, прохожие посылали вслед проклятия и плевались. Но на этом злоключения для покойного не закончились. Доставленный плотниками в собор гроб оказался слишком тесен, и этим бедолагам пришлось, зажимая носы от нестерпимой вони, пинками втискивать в него распухший смердящий труп. На ночь тело было оставлено в соборе под усиленной охраной во избежание возможного надругательства над ним со стороны разгорячённой толпы, собравшейся на площади.
На следующее утро состоялось отпевание. Зловоние было столь сильным, что его невозможно было заглушить окуриванием ладаном из кадильниц, а тем паче близко подойти к гробу. Заупокойная служба прошла в пустом соборе впопыхах в присутствии трёх кардиналов, секретаря Бурхардуса и нескольких певчих. Атмосфера была гнетущая, и казалось, что сам собор, погружённый в полумрак, всем своим видом выражал неприятие совершаемой под его сводами церемонии. С ним была согласна и природа, разразившись раскатами грома, пронзающими толщу соборных стен. Проливной дождь смывал с улиц и площадей накопившуюся грязь и мусор как последнее напоминание о покойном развратнике. Даже в органе, словно по наущению свыше, произошла какая-то поломка, и он после первых же аккордов замолк.
Так бесславно закрылась одна из самых позорных страниц в истории папства. Очевидцем тех бурных событий и совершённых покойным понтификом и его близкими гнусностей оказался наш монах Максим Грек, симпатизировавший Савонароле и вспоминавший позже «недостойнейшего папу Александра, испанца, превзошедшего всякого рода преступлениями и злобою любого законопреступника».27
Весть о смерти Александра VI вызвала бурную радость в Сиене, чему Рафаэль стал свидетелем. Сиенцы традиционно слыли гибеллинами и ярыми противниками папства, за что не раз отлучались от церкви. В те дни на фоне всеобщего ликования несколько необычно выглядел сникший и погрустневший Пинтуриккьо. Недавно его видели в церкви, что раньше случалось редко. Там он запалил заупокойную свечу и преклонил колено перед Распятием, но не стал исповедоваться, сказав, что не доверяет приходскому священнику, известному бабнику и бражнику.
— Знаешь, — признался он Рафаэлю, — грущу я не столько по покойному папе, от которого видел немало доброго и хорошего, сколько по дням прошедшей молодости, когда била ключом фантазия и всё мне казалось тогда под силу. Увы, те счастливые дни не вернуть!
Пинтуриккьо налил себе стакан вина и выпил, не чокаясь. В тот вечер он немало рассказал о работе в Ватикане и встречах с покойным понтификом.
— Папа был жизнелюбом — не чета некоторым нашим занудам заказчикам. Одно плохо, что изъяснялся он лишь по-испански, и мне пришлось учиться его языку. Когда я показывал ему рисунки для фресковых росписей, он подбадривал меня и советовал быть смелее, изображая обнажённых богинь. Особенно он любил пышные груди и толстые ляжки.
Видно было, что ему хотелось выговориться, вспоминая самые счастливые дни жизни, когда, получив от папы полную свободу, он расписывал зал и примыкающие к нему небольшие помещения в замке Святого Ангела, соединённом с Апостольским дворцом потайным коридором, о существовании которого знали только самые доверенные лица. В замке папа Александр обычно устраивал шумные оргии подальше от глаз всевидящей Римской курии и завистливого двора. Именно там Пинтуриккьо мог дать волю своей фантазии, изощряясь в написании откровенно эротических сцен, столь ценимых папой Борджиа. Но и ему был заказан вход в некоторые секретные помещения, где происходила расправа над неугодными лицами.
Однажды художник оказался свидетелем добровольного папского затворничества в замке в одном из тайных подземных помещений. Пинтуриккьо почти неделю не высовывал нос наружу, коротая время с прячущимся от французов испуганным папой, пока Карл VIII с войском не покинул Вечный город и двинулся на Неаполь.
— Ох и натерпелись мы тогда страху, — признался Пинтуриккьо.
Вспомнив один курьёзный случай, он оживился и впервые за весь вечер рассмеялся, расплескав вино:
— Если бы ты только видел, какой вышел со мной конфуз! Однажды, когда я писал довольно откровенно козлоногого сатира, воспылавшего страстью к пышнотелой нимфе, в зале появился папа с приближёнными. Все остолбенели, не веря своим глазам, перед незаконченной мной сценой соития. И что же ты думаешь? Вместо того чтобы пожурить меня за дерзость, папа рассмеялся и подарил вот этот перстень с топазом. Его прихвостни лишились дара речи, видя, как я надеваю на палец перстень. О таком заказчике можно только мечтать!
Захмелев, он ещё долго рассказывал, перемежая речь испанскими словами, о покладистом папе Борджиа, который вовсе не был ханжой.
— Он любил повторять один катрен из Петрония, когда приглашал меня разделить с ним трапезу. Я до сих пор помню этот стих:
Хотя у Рафаэля было иное мнение на сей счёт, он предпочёл отмолчаться, позволив товарищу излить душу. Больше они к этой теме не возвращались. Вскоре нахлынули другие бурные события и имя папы Борджиа кануло в Лету.
Когда в начале сентября пришла весть об избрании новым папой заказчика Пинтуриккьо кардинала Франческо Пикколомини, принявшего имя Пия III, Сиена окончательно сошла с ума. Однако ликование в городе продлилось недолго: через 27 дней после восшествия на престол болезненный Пий III, не выдержав сильного потрясения, скончался. На следующий же день после похорон собрался конклав, самый короткий в истории папства, который избрал 31 октября новым понтификом 62-летнего генуэзца кардинала Джулиано делла Ровере, выходца из простой семьи рыбаков, как и его дядя папа Сикст IV. Племянник отличался крутым воинственным нравом. Отдавая за него голоса, собравшиеся на конклав кардиналы, видимо, понимали, что в условиях повсеместного брожения умов, когда расшатывались устои веры, Рим нуждался в сильном волевом пастыре. Новый понтифик принял имя Юлия II в память римских кесарей, заявив тем самым о своих далекоидущих планах.
Потерпев провал на конклаве, хотя из-за кулис оказывал сильное давление на соплеменников-кардиналов, изувер Цезарь Борджиа тотчас исчез с политической сцены, опасаясь за свою жизнь. Из захваченных им преступным путем земель повсеместно изгонялись его приспешники, а кое-кто из потакавших ему политиков и учёных сложил голову на плахе. В Урбино горожане с криками «Да здравствует наш герцог Гвидобальдо!» подняли восстание против гарнизона, оставленного сынком-выродком покойного папы, и с позором изгнали захватчиков. Пожалуй, это был единственный в истории случай выступления народа в защиту своего хозяина, феодального правителя.
Первыми в Рим устремились поздравить с избранием нового папу его младший брат Джованни делла Ровере с женой и сыном Франческо Мария. Прибыл туда и герцог Гвидобальдо, поскольку Юлий II приходился ему двоюродным дядей. Говорят, что в папской приёмной незаметно появился с понурой головой Цезарь Борджиа, который слёзно умолял урбинского герцога простить ему предательство. Неизвестно, замолвил ли Гвидобальдо за него словечко перед папой, но бывший предводитель папского войска воинственный герцог Валентино объявился вскоре в Неаполе, а затем в Испании, где после тюремного заключения бесславно, как и его порфироносный родитель, окончил свои дни в 1507 году. Его похотливая сестра Лукреция, заразившись нехорошей болезнью, пережила братца на 12 лет.
В дни торжеств по случаю интронизации папы Юлия его родной брат Джованни делла Ровере получил почётный титул префекта Рима, его жену Джованну Фельтрия стали называть «префектессой». Её чрезмерно деятельная натура сразу же пришлась не по нутру новому папе, который однажды довольно резко, не стесняясь в выражениях, высказался по поводу вмешательства невестки в римские дела. Её брат и двоюродный племянник папы Гвидобальдо да Монтефельтро был назначен предводителем папского войска, хотя с трудом держался на ногах, опираясь на костыль, и 22 мая получил из рук посла английского короля Генриха VII орден Подвязки. Тогда же в Риме был официально оформлен акт усыновления бездетным урбинским герцогом своего родного племянника Франческо Мария делла Ровере. По столь знаменательному случаю подросток был пожалован орденом Святого Михаила как будущий защитник отечества.
В Урбино вернулся двор во главе с герцогиней Елизаветой Гонзага, и жизнь потекла по привычному руслу. Рафаэля потянуло домой — к родным и в свою мастерскую. Но у него были ещё неоконченные дела в Читта ди Кастелло и в Перудже. Узнав, что юный папский племянник награждён орденом Святого Михаила, Рафаэль захотел отметить это событие, в благодарность к его матери Джованне Фельтрия, не раз оказывавшей ему помощь после смерти отца. Он написал небольшую картину в духе двух предыдущих досок. Так появился на свет «Архангел Михаил» (Париж, Лувр), на которой святой воин в отчаянной схватке поражает дракона.
По всей вероятности, помимо пришедшего сообщения из Рима, сюжет картины был навеян беседами с Матуранцио и, в частности, рассуждениями учёного о неминуемом возмездии за совершённое зло и о дантовом «Аде». Он был дружен с флорентийским гуманистом Кристофоро Ландино, прославившимся своими комментариями к «Божественной комедии».
— Это было поистине счастливое незабываемое время для Флоренции, — рассказывал Матуранцио, — где под покровительством Лоренцо Великолепного в Платоновской академии собирались самые светлые умы. Но после ухода из жизни самого Лоренцо и смуты, посеянной Савонаролой, не стало Фичино, Пико делла Мирандола, Полициано, Ландино и других мыслителей и поэтов. Академия утратила былой блеск.
На картине Рафаэля справа корчатся в муках мошенники и воры, обвитые змеями, как намёк на Борджиа, умыкнувшего Урбинское герцогство; слева — окаменевшие лицемеры и лжецы. Повсюду ползают мерзопакостные твари, терзающие грешников в преисподней. Это первое и единственное обращение Рафаэля к Данте, терцины которого произвели на него ошеломляющее впечатление, и картина обрела зловещий колорит, столь несвойственный его жизнеутверждающей живописи. Каковы бы ни были повороты судьбы и житейские перипетии, Рафаэль не переносил их на свои картины и всячески чурался мрачной палитры.
Перед отъездом из Сиены Матуранцио зашёл попрощаться к Рафаэлю.
— Еду в Венецию, — радостно объявил учёный. — Там в библиотеке Марчана обнаружены неизвестные письма Овидия. Это большая удача! Сгораю от нетерпения их увидеть.
Рафаэль решил показать Матуранцио «Три грации» и «Сон рыцаря», которые никому не показывал, даже Пинтуриккьо. Ему хотелось знать его мнение, которым он дорожил. Тот долго разглядывал картины подслеповатыми глазами, то снимая, то нацепляя на нос очки.
— Что вам сказать, мой юный друг? Обе работы бесподобны. Я понимаю, что вы уже сделали для себя выбор, и тут нечего добавить, а тем паче что-то советовать. Для меня ясно только одно — философам и служителям муз следует держаться как можно дальше от политики и сильных мира сего. Поэтому на вашей картине меня прельщает, хотя в мои годы это может показаться легкомысленным? скорее дева с протянутым цветком мирта, нежели её подруга с мечом.
И он поведал историю о трагической гибели друга и коллеги библиофила Колленуччо. Тот поддерживал идею объединения итальянских земель в одно независимое государство, за которую ратовали Цезарь Борджиа и Макиавелли, но флорентийца власти пощадили — уж больно велика и значительна была фигура историка, мыслителя и литератора. А вот бедняге Колленуччо не повезло, и учёный муж был казнён в Пезаро теми, кто совсем недавно поддерживал политику узурпатора и заискивал перед ним.
— Любая великая идея, — тихо промолвил Матуранцио, словно про себя, — становится пагубной, если за её осуществление берутся грязными руками.
Но времена меняются, и благодарные граждане Пезаро увековечили память знаменитого земляка, воздвигнув ему памятник перед крепостью Rocca, построенной Лаураной, где когда-то был обезглавлен Колленуччо.
Это была их последняя встреча. Рафаэль полюбил чудаковатого Матуранцио, из бесед с которым почерпнул для себя так много ценного, поучительного, и на многое благодаря ему взглянул по-новому.
Сиена действительно открыла своё сердце Рафаэлю «шире городских ворот», как сказано при въезде в город на доске крепостной стены. Бо́льшую часть времени он проводил в мастерской Пинтуриккьо, где по вечерам собиралась молодёжь, засиживавшаяся за дружеской беседой чуть не до рассвета. На правах хозяина и старшего по возрасту руководил весёлыми посиделками Пинтуриккьо. Пока он потешал компанию своими забавными байками с присущим ему блеском и артистизмом, Рафаэль успевал сделать несколько рисунков с натуры, которые раздаривал гостям на память, и те были от них без ума. К сожалению, заказов у него ещё не было, но рука постоянно была в движении, водя карандашом по бумаге.
Его всегда забавляло, как Пинтуриккьо, несмотря на свой маленький рост и появившееся брюшко, волочился за рослыми девицами с пышными формами, отдавая им явное предпочтение перед остальными юными гостьями. Девицы всерьёз не принимали такие ухаживания, но иногда, увлекшись, Пинтуриккьо допускал вольности, распуская руки, за что, как и полагается, получал звонкую пощёчину. А он не обижался и всё обращал в шутку.
Среди гостей внимание Рафаэля привлекла одна миловидная черноокая девушка, отличавшаяся от подруг застенчивостью и естественной простотой, без тени жеманства. В её глазах он увидел затаённую печаль. Подруги звали её Джойя, но это радостное имя или прозвище не соответствовало грустному облику девушки. Ему захотелось запечатлеть её образ, но, к его немалому удивлению, она наотрез отказалась позировать, хотя все остальные гостьи мастерской так и льнули к нему, что вызывало еле скрываемое раздражение коротышки Пинтуриккьо. Пришлось даже снять отдельное помещение для работы, чтобы не злоупотреблять гостеприимством не в меру ревнивого товарища, который в последние дни стал изрядно докучать своими плоскими шутками и анекдотами не всегда кстати, а главное, не умолкающим ни на минуту жиденьким тенорком, наподобие назойливого комариного писка.
И всё же скромная гордячка не устояла перед обаянием красивого молодого художника и однажды, потупя очи, дала согласие на позирование. Она прибегала к нему поутру и после сеанса торопилась поскорее уйти. Несмотря на все старания, ему не удавалось её разговорить. На его вопросы она не могла или не хотела дать вразумительный ответ, зато терпеливо позировала, не шелохнувшись. Увлекшись красивой натурщицей, он сознательно медлил с портретом, чтобы продлить очарование тайных урывочных встреч, подобных лёгким дуновениям утреннего зефира. Но по вечерам в мастерской у Пинтуриккьо во время посиделок Джойя старалась держаться, как всегда, в тени, не показывая виду, что близко знакома с Рафаэлем.
Вскоре была закончена «Читающая Мадонна с младенцем» (Берлин, Государственный музей), часто называемая в литературе «Мадонна Солли» по имени последнего владельца. В голубом плаще, накинутом поверх красного хитона, Мадонна занята чтением, держа на коленях розовощёкого младенца, играющего с зябликом. Малыш отвлёкся на миг от забавы с птенцом и глядит с нескрываемым любопытством на книгу в руках матери. Эта небольшая работа открывает собой целую галерею бесподобных рафаэлевских мадонн, поражающих своей одухотворённостью и божественной красотой.
Когда натурщица увидела законченную картину с пухленьким младенцем на коленях матери, она побледнела и заплакала почти навзрыд. Не понимая причины расстройства, Рафаэль растерялся и старался, как мог, её утешить.
— Радость моя, Джойя, что случилось? Ты недовольна, как я тебя изобразил?
— Не говори ничего, — промолвила она, всхлипывая, — но ребёнка у меня уже никогда не будет.
Успокоившись, она впервые рассказала ему о себе. Поведала грустную, но весьма банального историю, как была брошена любимым, когда тот узнал о её беременности, и от нервного потрясения у неё произошёл выкидыш. Она потеряла много крови и чудом осталась жива. Их тайные встречи продолжались урывками. В те сладостные мгновения молодые любовники забывали обо всём на свете, целиком отдаваясь охватившему их чувству, пока однажды Пинтуриккьо не ошарашил новостью.
— Допрыгался, голубчик! — заявил он с ехидцей. — Так знай, что твоя тихоня и недотрога натурщица сожительствует со стариком Салимбени. Пока банкир-рогоносец ни о чём не догадывается, но всякое может статься. Решай сам, как из этой истории выпутаться.
В это трудно было поверить, поскольку с милой скромной девушкой у Рафаэля установились дружеские доверительные отношения, и она ни разу не обмолвилась о связи с известным в городе банкиром, которому принадлежал один из великолепных дворцов. А может быть, всё это наветы или обычный розыгрыш шутника Пинтуриккьо, который ревниво относится к его успеху у женщин? На душе было неспокойно и остался неприятный осадок, словно он совершил что-то непристойное и гадкое, о чём придётся долго сожалеть.
Однако Рафаэль решил не доискиваться истины, а тем более обижать подозрением славную Джойю. Он спешно покинул Сиену, оказавшуюся теперь для него, приезжего, небезопасной, так и оставив невыясненной историю с «банкиром-рогоносцем».
Глава VII ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ПЕРУДЖИНО
По прибытии в Перуджу Рафаэль первым делом направился в кафедральный собор взглянуть на последнюю работу Перуджино «Обручение Девы Марии» (Кан, Музей изящных искусств), о которой много было разговора как о важнейшем событии в жизни города. «Пока в Сиене я беззаботно резвился, предаваясь любовным утехам, — мысленно корил он себя, — старина Перуджино не терял попусту время». Картина была действительно хороша, но зависти у него не вызвала. Это чувство ему было чуждо. Он давно осознал, каким редкостным даром наделён природой, а потому никому никогда не завидовал и охотно делился с другими знаниями и мастерством. В то же время ему было ясно как божий день, что слепо следовать Перуджино и ему подобным сегодня, когда на дворе стоял XVI век и дули новые ветры, было бы по меньшей мере неразумно. Он следовал лишь собственному наитию, которое никогда его не подводило.
Не в силах забыть мимолётное увлечение и встречи тайком с дарившей ему столько радости девушкой, с которой не успел даже толком проститься, он испытывал перед ней вину и не раз порывался наведаться в Сиену. Но полученный заказ в Читта ди Кастелло не позволял покинуть мастерскую. Желая хоть как-то загладить свою вину, он вскоре написал по памяти повтор картины, оригинал которой был им продан некоему местному толстосуму. Эта авторская копия долгое время считалась утерянной, но в 1927 году её обнаружил в одном частном собрании молодой искусствовед Роберто Лонги, который подробно описал её в издаваемом им журнале «Парагоне».
Среди многочисленных рисунков Рафаэля сохранился набросок женской фигуры, на полях которого неразборчивым почерком написан сонет. Вряд ли Рафаэль помышлял о лаврах поэта, а тем более об издании своих стихов, хотя на этом настаивали некоторые его друзья. Да и кто в те годы не занимался стихосложением? Распростившись постепенно с учёной латынью, итальянцы охотно заговорили на живом образном народном языке с его богатством идиом и метафор. Язык обогащался и усовершенствовался благодаря великим словотворцам Данте, Петрарке и Боккаччо. Началось общее поветрие, и все, кому ни заблагорассудится, брались за перо и принимались сочинять. Писали ремесленники и священнослужители, пекари и профессора. Грешили рифмоплётством даже некоторые понтифики. Не остался в стороне и Рафаэль, отец которого был придворным живописцем и поэтом, а потому с ранних лет приучил ухо сына к ритму рифмованных слов. Но тот предпочёл оставить стихи в рукописи среди рисунков к будущим картинам, прекрасно зная цену своим поэтическим откровениям. По дошедшим до нас листам с рисунками трудно определить, кому посвящено то или иное стихотворение с неизменными авторскими правками и вариантами, хотя каждое безусловно связано с работой над определённым женским образом, пленившим воображение Рафаэля. Об этом молчит и Вазари, отметивший, сколь велик был успех творца в делах амурных.
После смерти Рафаэля часть рисунков с начертанными на полях сонетами досталась земляку и другу Тимотео Вити, сыновья которого уступили их местному аристократу Антальди, и через него листы разбрелись по частным владельцам, в том числе оказались в руках Викара, основателя известного музея в Лилле. С сыновьями Вити встречался Вазари, о чём сказано выше, но в его «Жизнеописаниях» ничего не говорится о поэтических опусах Рафаэля.
Первые попытки публикации некоторых его сонетов вызвали резко негативное отношение в Италии. Например, когда литератор Франческо Лонгена объявил в 1829 году о своём намерении опубликовать в приложении к монументальной монографии о жизни и творчестве Рафаэля, переведённой им с французского, два обнаруженных им сонета художника, он получил гневное письмо от авторитетного учёного-лингвиста, имя которого не называет, так как письмо носило сугубо частный характер.
«Умоляю вас, — писал учёный, — отбросьте в сторону мысль напечатать два сонета, являющихся украденными. Рафаэль велик сам по себе и не нуждается в чужих виршах, приписываемых ему теми, кто спекулирует на его имени. Не стоит выставлять божественного Рафаэля в обносках с чужого плеча. Подобную безвкусицу могли сочинить разве что бродячие сицилийские трубадуры. Доподлинно известно лишь одно, что различными рисунками Санцио располагал урбинский маркиз Антальди, продавший их кавалеру Викару и одному англичанину. Но никто не знает, кем написаны эти постыдные (vituperi) по мысли и языку сонеты. Так что откажитесь от этой глупой затеи».28
Анонимного пуриста особенно возмутили орфографические ошибки, недостойные «божественного Рафаэля», а также пренебрежение к сдвоенным согласным, столь типичным для итальянского языка. Во времена Рафаэля шло становление итальянского литературного языка на основе тосканского диалекта и ещё не утвердились основные правила грамматики и правописания. Даже собственное имя он писал без сдвоенных согласных вопреки принятому сегодня в Италии правописанию. Ошибки, которыми грешил Рафаэль в письмах и стихах, были свойственны многим его современникам, включая литератора и поборника стиля Кастильоне.
Нечто подобное произошло с поэтическим наследием Микеланджело, когда спустя полвека после его кончины внучатый племянник Буонарроти-младший, подвизавшийся на литературном поприще, выпустил первый сборник стихов Микеланджело. Но этот ревнитель чистоты стиля и нравов умудрился так «причесать» стихи великого деда, что они стали безлики и не вызвали интереса. Бесценные рукописи продолжали пылиться в шкафах ватиканской библиотеки и флорентийском особняке Буонарроти вплоть до середины XX века. Даже такие знатоки литературы, как Де Санктис и Кроче, отказывали Микеланджело в праве считаться поэтом. В России появился великолепный перевод Тютчева одного четверостишия Микеланджело, заставивший позднее обратить на него внимание поэтов Серебряного века, а в наши дни впервые всё его поэтическое наследие было переведено на русский.
В отличие от друзей Рафаэля, высоко ценивших его поэтические опусы, современная критика старается обойти их молчанием. Уже упоминавшийся французский искусствовед Шастель назвал его стихи «поэтическими каракулями» и пустячной шуткой гения. Но для нас важна и бесценна любая деталь и незначительная мелочь, хоть что-то говорящая о творце, жившем более пяти столетий назад. Каково бы ни было отношение к стихотворчеству художника и не вдаваясь в оценку его поэтических опусов, в которых находит отражение его удивительная личность, приведём в нашей книге впервые в русском переводе все сонеты, вышедшие из-под пера человека, чьё имя — Рафаэль. Вот один из них:
Выразив чувства пером на бумаге, он успокоился и снова обрёл душевное равновесие, твёрдо веря, что впереди ещё немало будет подобных встреч, так как мир вокруг полон очарования и красоты, нужно только уметь её распознавать и сердцем чувствовать. А такой удивительной способностью Рафаэль, как никто другой, был наделён сполна и ею дорожил. Он рано осознал своё назначение в искусстве, хранил ему верность и никогда не сходил с избранного пути, каковы бы ни были соблазны и препятствия.
Несмотря на неравнозначность и различие двух соседних городов Перуджи и Читта ди Кастелло, между ними не прекращалось соперничество, особенно при строительстве дворцов и украшении храмов. Увидев новую работу Перуджино, богач Филипп Альбиццини загорелся желанием заиметь нечто подобное в родном городке, где в церкви Святого Франциска у него был собственный придел. Вполне закономерно, что его выбор пал на Рафаэля, известного не только в Читта ди Кастелло, но и в других городах Умбрии.
Получив выгодный заказ, молодой художник решил дать собственную версию весьма распространённого евангельского сюжета, придав ему больше жизненной достоверности и выразительности, чего, по его убеждению, так недоставало, несмотря на бесспорное мастерство, картине Перуджино. Соскучившись по большой работе, Рафаэль с радостью взялся за написание своего «Обручения Девы Марии» (Милан, Брера), сознательно и с явным вызовом повторив почти слово в слово композицию картины именитого мастера. Он полностью переосмыслил сам сюжет и придал ему иное более радостное звучание.
Новой работой он хотел положить конец набившим оскомину постоянным разговорам о его ученической зависимости от Перуджино, которые ему нередко приходилось слышать из самых разных уст. Он вспомнил, как совсем недавно на одном великосветском приёме в Перудже, устроенном местным аристократом и меценатом, одна из приглашённых дам поинтересовалась, указав на него веером:
— Скажите, кто этот красивый молодой человек, стоящий в одиночестве у колонны?
— О, это ученик нашего прославленного Перуджино, — послышался ответ хозяина дома, резанувший ухо.
Возвращаясь в Читта ди Кастелло за полночь, Рафаэль корил всех и прежде всего себя самого за то, что промолчал и не нашёлся что ответить хозяину дворца и его собеседнице. Нет, пора показать всем, что он вырос из коротких штанишек и не нуждается в чьей-либо помощи, а тем паче в снисходительном к себе отношении как «школяру»!
Эта мысль не давала покоя, пока он покрывал быстрыми штрихами поверхность подготовительного картона. От напряжения угольный грифелёк то и дело обламывался. Рафаэль вовремя остановился. Ему стало не по себе. «Нет, так работать нельзя! — решительно сказал он самому себе. — Озлобленность несовместима с искусством».
Он покинул мастерскую и отправился подышать воздухом на берег Тибра, заросший ракитами и акацией. Там его внимание привлекли утки с выводками утят. Залюбовавшись их мирным плаванием, он присел на пенёк. Вдруг утки громко закрякали и захлопали крыльями, спешно уводя утят в тенистую заводь под старой развесистой ракитой — их что-то вспугнуло. Взглянув вверх, Рафаэль увидел коршуна, парящего над ракитой, но утята были недосягаемы для него. Вот она, великая сила материнской любви! Как же всё разумно в природе, не в пример людям, живущим сплошь и рядом во зле!
Прислушиваясь к мерному журчанию воды, Рафаэль подумал: «А каков он, древний Тибр, в Риме? Здесь это обычная речка, несущая свои воды в надежде встретиться с морем, а там?» При одной только мысли о Риме его охватили волнение и желание скорее приняться за дело, начать что-то творить во имя осуществления заветной мечты, которой он не изменял никогда, даже в минуты хандры, когда вдруг опускались руки и все усилия казались тщетны. Получив сильный заряд бодрости от общения с живой природой и обретя необходимый душевный настрой, он поспешил вернуться к делам в мастерской.
Тщательно подготовив деревянную поверхность из шести досок выдержанного тополя, в чём ранее целиком полагался на Пьяндимелето, Рафаэль перешёл к грунтовке. Столь деликатную операцию он не доверил двум нанятым помощникам, которые были послушны, но не опытны. Вместо цинковых белил и толчёного мела он использовал обычную жёлтую охру, размешанную на водном клейстере для получения нежной золотистой тональности основы, что должно придать особое радостное звучание самой картине. Действительно, при сравнении двух казалось бы идентичных на первый взгляд произведений сразу отмечаешь, что у молодого урбинца всё пронизано солнечным светом, а у Перуджино картина погружена в холодную мистическую атмосферу, что лишает её жизненной достоверности.
Можно было бы упрекнуть двадцатилетнего художника, что, бросая вызов старому мастеру, он пошёл лёгким путём и почти дословно повторил его работу. Был ли это сознательный шаг или такова была воля заказчика, который продиктовал свои условия? У него, вероятно, были свои претензии к Перудже и её почётному гражданину. Он сам как-то признался Рафаэлю, что недолюбливает Перуджино за жадность, высокомерие и хотел бы «утереть ему нос».
При сопоставлении этих двух «Обручений», появившихся почти одновременно, становится очевидно, как находившийся на взлёте к славе Рафаэль далеко ушёл от «учителя». Ему Рафаэль был многим обязан, равно как и другим мастерам, в чьих работах почерпнул столько поучительного и полезного, но при неизменном сохранении собственного лица.
Если же говорить о Перуджино, то это были как раз те годы, когда в руке мастера стала всё отчётливее чувствоваться усталость, что особенно бросается в глаза при сравнении последней его работы в Перудже со схожим по композиции великолепным «Вручением ключей» в Сикстинской капелле, где он, казалось, превзошёл самого себя. В отличие от своих товарищей по росписям в Сикстинской капелле он отказался от жанровой многоречивости, добившись предельной простоты и обобщённости композиции. Присущая ему религиозность выглядит иначе, чем её понимали мастера XIV века. У него это чувство выражается в слиянии человека с мирозданием, что явилось главной отличительной чертой искусства Перуджино. По сравнению с работами других известных мастеров, расписывавших стены Сикстинской капеллы, пожалуй, только фреска Перуджино «Вручение ключей» в полной мере заслуживает право соседствовать со «Страшным судом» Микеланджело на алтарной стене.
Теперь вдохновение всё реже посещало стареющего мастера и всё явственнее давала о себе знать инертность. Налицо были скудость духовной жизни и постоянные повторы однажды найденного. Он продолжал без устали писать по шаблону изящные головки, как заправский ремесленник, становясь всё более однообразным, сентиментальным и скучным. Но при всём этом нельзя не признать, сколь велики былые заслуги Перуджино, искусство которого сыграло огромную роль в выработке важнейшего элемента живописи Высокого Возрождения, называемого классическим стилем. Своими достижениями и просчётами Перуджино значительно сократил и облегчил путь поиска, который предстояло проделать Рафаэлю.
Действие на обеих картинах развёртывается на обширной площади, ограниченной капищем, имитирующим классический стиль. Персонажи переднего плана приближены к зрителю. У Перуджино они расположены на одной линии параллельно нижнему срезу картины. А Рафаэль расставил их полукругом, чем достиг куда большего ощущения световоздушной среды и глубины пространства. На его картине этой цели подчинены также восемь ступеней, ведущих в храм, и повторяющие их рисунок каменные плиты, которыми устлана площадь. Она видна как на ладони из-за смещённой вверх точки зрения.
По сравнению с аляповатым и невыразительным восьмигранником, замыкающим площадь у Перуджино, картину Рафаэля венчает изящная ротонда с лёгкой колоннадой, в которой уже угадываются многообещающие задатки будущего архитектора, заложенные в молодом живописце. Её купол служит полуциркульным завершением картины. Чтобы ни у кого не было сомнений в его авторстве, на фронтоне ротонды он начертал на латыни Raphael urbinas и поставил дату исполнения работы М DIIII.
Но самое главное, в отличие от стоящих в заданных застывших позах безмолвных персонажей Перуджино герои Рафаэля полны грации, а под их красочно написанными одеждами трепещет живая плоть. Чего стоит хотя бы робко протягиваемая Марией рука неожиданно помолодевшему статному Иосифу Обручнику! В этой сцене не происходит привычный обмен кольцами, лишь жених протягивает кольцо невесте, а отвергнутый пылкий претендент в отчаянии ломает жезл о колено. Сколько жизенности в образе пылкого юноши! Ничего подобного на картине Перуджино нет и в помине.
В центре компактной группы старый первосвященник, чуть склонивший голову набок, с любовью и нежностью поддерживает и направляет руки суженых, которые вот-вот соединятся в торжественном акте обручения. Всё внимание приковано к этому преисполненного глубокого таинства моменту, имеющему первостепенное значение и понятному только посвящённым.
Тот же первосвященник на картине Перуджино стоит неподвижно как вкопанный с безучастным взглядом, широко расставив ноги. Столь же безучастны к происходящему стоящие по бокам свидетели со стороны жениха и невесты, расположенные симметрично друг другу. У Рафаэля всё выглядит по-иному. Подруги невесты и претенденты на обручение принимают живое участие в церемонии. Каждый из них лишён ярких запоминающихся черт, но вместе они являют собой ритмично расположенную в пространстве компактную группу, едва уловимое лёгкое движение которой передано плавными волнистыми линиями одежды, наклоном головы и жестами рук. Считается, что среди пяти молодых мужчин Рафаэль изобразил и себя.
На фоне этой выразительной многофигурной сцены, полной таинства и поэзии, протекает обычная жизнь, где при встрече горожане ведут неспешный разговор, обмениваясь последними новостями, не замечая ничего особенного вокруг. Каждодневная суета и косность лишают их возможности увидеть нечто большее в обыденной жизни и приобщиться к чуду.
У Рафаэля фоном служит типично умбрийский холмистый пейзаж с ярким безоблачным небом, сулящим людям тихую радость и покой. На картине Перуджино сквозь арки и проёмы его громоздкого храма проглядывает серебристо-бледная даль с условными чахлыми деревцами. Между двумя этими работами пролегает огромная дистанция, отделяющая молодого ищущего и чуткого ко всему новому художника, пусть даже ещё приверженного старому стилю, но уже сумевшего вдохнуть новую жизнь в свои произведения, от маститого живописца, который не в силах расстаться с привычными стереотипами, и уверовавшего в своё превосходство над остальными. Совершенно очевидно, что рафаэлевское «Обручение» — это окончательный и бесповоротный отход от манеры Перуджино, а сама картина убедительно и зримо доказывает, что все утверждения об «ученичестве» Рафаэля в мастерской Перуджино можно воспринимать лишь чисто гипотетически.
После завершения работы заказчик Альбиццини устроил банкет. Первый бокал он поднял за бесспорную победу, которую одержал в открытом честном состязании молодой живописец над прославленным мастером. Но особенно радовались жители городка. Они были горды тем, что наконец-то их скромному Читта́ ди Кастелло удалось одержать верх над зазнавшейся соперницей Перуджей. Громкий успех «Обручения» слегка вскружил голову молодому художнику, который стал всеобщим любимцем. Многие граждане пытались заручиться его расположением, и Рафаэль всюду был желанным гостем.
Глава VIII ПРОЩАНИЕ С ПЕРУДЖЕЙ
Начавшийся 1504 год оказался для Рафаэля очень плодотворным. Не успел он ещё как следует отойти от напряжённой работы над «Обручением», явившимся решительной отповедью всем тем, кто считал его робкой тенью Перуджино, как через посыльного пришло приглашение посетить в удобное время Перуджу для «важного делового разговора». Отправителем письма была незнакомая ему Леандра Маддалена Одди, недавно возвратившаяся на родину из изгнания.
Как поведал ему приятель, всезнающий ювелир Флориди, юная Леандра из рода Бальони, без памяти влюбившись в красавца Симоне из враждебного клана Одди, тайно обвенчалась с ним в далёкой сельской церквушке. Это была неслыханная дерзость! За свой безумный поступок Леандра жестоко поплатилась — её любимого казнили позапрошлым летом, а она была осуждена сородичами на позорное изгнание из родного города. Только благодаря вмешательству влиятельных римских кругов молодая вдова смогла возвратиться в Перуджу и войти наконец в права законной наследницы покойного мужа.
Романтическая история несчастных влюблённых глубоко тронула и заинтересовала Рафаэля. Дорога до Перуджи была хорошо знакома, и он решил ранним утром отправиться на почтовых перекладных, чтобы за день успеть обернуться. Встреча произошла в старинном дворце на одной из главных улиц города. Чопорный дворецкий в ливрее проводил гостя через анфиладу залов в небольшую гостиную, где из-за столика ему навстречу поднялась молодая статная особа в тёмно-зелёном строгом платье. На стене за её спиной висели несколько любительских рисунков в дорогих багетных рамках. Нетрудно было догадаться, что на них изображён незабвенный супруг молодой хозяйки дворца.
— Мне посоветовала к вам обратиться, маэстро, — начала она разговор, — наша почитаемая ясновидящая монахиня Коломба, наслышанная о вас как о добром отзывчивом человеке, готовом откликнуться на просьбу ближнего.
Поскольку гость хранил молчание, донна Леандра перешла к сути дела. В память казнённого мужа она решила украсить фамильную усыпальницу алтарным образом. Слушая её, Рафаэль вдруг вновь увидел чётко запечатлевшуюся в сознании сцену массовой казни и лес виселиц. Перед ним всплыли подробности пережитого кошмара, очевидцем которого он оказался не по своей воле. Ему стало не по себе, лоб покрылся испариной, а руки стали влажными.
Если бы вы только видели, какой ужас в тот день творился на площади! — воскликнула донна Леандра, поднеся к глазам надушенный платок. — Мне тогда стало плохо, и я потеряла сознание. Как только вспомню, меня бросает в дрожь.
Рафаэль продолжал молчать, не зная, что ей сказать на это.
Я уверена, — продолжала донна Леандра, словно уговаривая художника, — что, увидев вашу картину в храме, Гвидо Бальони, мой дядя и главный виновник той трагедии, наконец покается в содеянном, если в нём осталась толика христианкой веры.
Рафаэль не стал далее испытывать терпение хозяйки дома молчанием и согласился написать алтарный образ. Его тронула слёзная мольба молодой вдовы. И хотя Рафаэль суеверным себя не считал, он был поражён указанием на него ясновидящей монахини.
Его внимание привлёк висевший рядом с рисунками небольшой портрет гуашью, и на вопрос, чья это работа, хозяйка дома зарделась как маков цвет, опустив очи.
— Недурно, очень даже недурно! — воскликнул он, поднявшись и отойдя шага на два в сторону, дабы лучше разглядеть изображение.
— Правда? Вы так считаете, маэстро?
Конечно же он так не считал, но ему хотелось сделать приятное милой вдовушке, увлекающейся от нечего делать писанием гуашью, что в последнее время стало весьма модным дамским занятием, наподобие вышивания гладью или бисером. От его слов грустное личико донны Леандры озарилось улыбкой. Но прежде чем окончательно договориться о деталях договора и гонораре, Рафаэль пожелал увидеть придел, предназначенный для установки будущего алтарного образа. Донна Леандра распорядилась подать карету, чтобы сопроводить мастера в храм.
Грандиозный готический храм XII века поразил его суровостью и строгой наготой. Официально он называется Сан-Франческо аль Прато, поскольку возведён на просторном лугу при монастыре францисканцев за сохранившейся этрусской крепостной стеной. По лугу ходили царственной походкой павлины и бегали суетливые цесарки. Среди фамильных склепов местных патрициев Рафаэль легко нашёл придел Одди, а напротив была усыпальница их заклятых врагов Бальони. Даже после смерти враждующие кланы не успокоились, зорко следя друг за другом.
Разглядывая в храме надгробия, Рафаэль почувствовал, будто на него пахнуло витающей в воздухе подозрительностью и злобой былых и нынешних времён… Первым его желанием было отказаться от заказа и бежать из храма, в котором каждый шаг отдавался зловещим эхом. Но ему вспомнился преисполненный в него веры умоляющий взгляд донны Леандры, перед которым он был не в силах устоять. Произведя нужные замеры, Рафаэль вернулся во дворец.
Сгустились сумерки, а ему ещё предстояла обратная дорога. Хозяйка дома робко предложила переночевать во дворце, отложив отъезд на утро, поскольку жива была ещё память о творимом в округе разбое отрядами пресловутого герцога Валентино. На ночлег Рафаэля устроили в гостевом крыле дворца, предложив также выбрать помещение, подходящее для предстоящей работы. Никогда в жизни ему ещё не доводилось проводить ночь в просторных дворцовых апартаментах с высоченным потолком, украшенным безвкусной росписью. Особенно его поразило широкое мягкое ложе под балдахином.
На следующее утро после завтрака появился нотариус с готовым к подписанию договором. Донна Леандра торопилась, видимо, не до конца ещё веря, что всё так удачно складывалось и, главное, что совет ясновидящей монахини Коломбы оказался верным. В распоряжение мастера была предоставлена лёгкая дорожная бричка с возницей. Договорились, что он через неделю вернётся, как только управится с делами в Читта ди Кастелло.
Удобно устроившись на мягком сиденье, Рафаэль в приподнятом настроении ехал вдоль берега лениво текущего Тибра. Ещё бы, ему предстояло проявить мастерство не где-нибудь, а в самой цитадели знаменитого Перуджино, где пришлых не очень-то жалуют! Да и условия договора значительно превосходили те, что недавно предложил ему расчётливый мессир Барончи за первый написанный им алтарный образ. Новая заказчица, по виду его ровесница, произвела на него впечатление доброго существа. Краснея и робея перед ним, она назвала более чем приемлемую сумму гонорара. Несмотря на строгий траур, чувства в ней не угасли, о чём красноречиво говорило умилительное смущение всякий раз, когда она обращалась к нему. А её очаровательная улыбка, милый пушок над верхней алой губкой и ямочки на щеках долго не давали ему заснуть на мягком широком ложе в первую ночь, проведённую во дворце.
Он быстро покончил с делами и покинул с лёгким сердцем гостеприимный городок Читта ди Кастелло, где ничто его больше не удерживало. Перед отъездом он решил вновь взглянуть на свою последнюю работу — «Обручение» в церкви Святого Франциска. Сегодня можно было бы кое-что поправить и дописать, но его ждал новый и не менее ответственный заказ.
В Перуджу Рафаэль взял с собой уже проверенных в деле двух помощников. Теперь он мог щедро с ними расплачиваться, а перед отъездом даже малость приодел, чтобы выглядели они прилично. Ему всегда претило видеть рядом неопрятно одетых людей. Такое разрешалось одному только Пьяндимелето, с которым особо не поспоришь. Для работы Рафаэль выбрал просторное помещение, подобное тому, в котором он провёл первую ночь, но с окнами, выходящими в тихий внутренний дворик, и со скупым освещением. Для жилья ему приглянулась комната с отдельным нужником, отделанным мраморными плитами — он не любил себе отказывать в удобствах. Живя и работая во дворце, не нужно будет отвлекаться на бытовые нужды, а оба помощника, которым он изрядно платил, поселились и столовались в соседнем трактире.
Работа спорилась. С наступлением сумерек парни окунались в ночную жизнь Перуджи, но ему следовать их примеру не хотелось, так как с этим городом было связано воспоминание, от которого становилось не по себе. Устав за день, Рафаэль предпочитал проводить вечера в компании милой хозяйки, которая за ужином потчевала гостя изысканными яствами и делилась с ним новостями. После совместной трапезы он вежливо откланивался и уединялся у себя с книгой «Золотая легенда».
Однажды ему послышалось лёгкое шуршание. Он подошёл со свечой к двери и открыл её — передним стояла смущённая донна Леандра с подносом в руках.
— Прислуга забыла поставить вам крюшон и свежую воду.
Забывчивость прислуги оказалась явлением чуть ли не повседневным, и всякий раз донна Леандра с робостью и умилительной улыбкой предлагала ему прохладительные напитки и сладости, от чего невозможно было отказаться. Всё это никак не сказывалось на работе — наоборот, благоприятствовало ей, повышая жизненный тонус, а стало быть, и деловой настрой. Месяца через четыре Рафаэль закончил «Венчание Девы Марии», называемое также полиптихом Одди (Ватикан, Пинакотека). В его композицию вошли три небольшие клеймы «Благовещение», «Поклонение волхвов» и «Обрезание во храме».
Первоначально Рафаэль намеревался написать Успение Богоматери, так как получение заказа совпало с христианским праздником. Поэтому в нижней части образа изображён открытый саркофаг, который обступили 12 апостолов (так у Рафаэля) с устремлёнными взорами к небу. Из саркофага тянутся вверх белые лилии как символ чистоты Девы Марии и пунцовая роза, напоминающая о страстях Господних. Однако заказчица робко попросила, чтобы на картине была показана также сцена венчания Девы Марии. Рафаэль не посмел отказать ей, но придал самой Деве сходство с милой ночной посетительницей, ставшей на время его музой. Пригодились любительские рисунки Леандры и написанный ею гуашью портрет убиенного мужа — под кистью Рафаэля он перевоплотился в одного из апостолов, стоящих у саркофага, что вызвало восторг хозяйки дворца.
В этой работе, искусственно разделённой на две части, особенно впечатляет нижняя её половина с ярко написанными фигурами сгрудившихся у саркофага апостолов, для которых позировали два помощника и приглашённые художником из города другие натурщики. В них чувствуются такая жизненная сила и достоверность, которой позавидовал бы сам Перуджино. Каждый из апостолов наделён индивидуальностью с запоминающимися чертами лица и выразительными жестами рук, а все вместе они составляют единую компактную общность людей, охваченных волнением.
В центре выделяется фигура Фомы, стоящего между Петром и Павлом. В руках он держит пояс вознёсшейся Марии, чтобы ни у кого и прежде всего у него самого не возникло сомнения в свершившемся. На его плечо накинут светлый плащ, выделяющий Фому среди стоящих рядом товарищей по вере. За их спинами простираются поросшая богатой растительностью холмистая гряда и река, несущая свои воды к морю, а за далёким горизонтом безоблачное мирное небо и вечность.
Венчающая картину контрастная сцена коронации с непременными ангелами-музыкантами и крылатыми херувимами написана при строгом соблюдении канонов, поскольку художнику хорошо было известно о набожности перуджинцев и прочно укоренившемся в их городе религиозном духе в отличие, скажем, от разгульной Сиены, прославившейся свободой нравов, не говоря уже о пронизанной насквозь светским духом Флоренции, где совсем недавно неистовый Савонарола слал проклятия на голову погрязшего в грехах распутного папы и безуспешно боролся с фарисеями и вероотступниками, чем и накликал на себя беду.
Освящение картины привело Перуджу в волнение. Храм не смог вместить всех желающих увидеть новую работу Рафаэля, имя которого обрело и здесь широкую известность. Даже из Читта ди Кастелло прибыла знать посмотреть на творение своего любимца. Представители враждующих семейств сошлись вместе перед алтарём. Всех их на время объединило и примирило искусство. Вот когда воистину оправдалось имя Рафаэля — «целитель». Вокруг него каким-то неизъяснимым удивительным образом создавалась атмосфера любви и благожелательности. Особенно были взволнованы женщины. Обмениваясь приветствиями, они обнимались и перешёптывались о чём-то своём, сокровенном. Рассказывали, что Перуджино, затаивший обиду на молодого урбинца из-за «Обручения», наотрез отказался прийти взглянуть на эту работу соперника и своим присутствием поддержать молодого коллегу, хотя особой нужды в том не было. Собравшиеся в храме наперебой источали свои восторги перед новой работой Рафаэля. На следующий день Рафаэль захотел повидаться с Перуджино. В мастерской его встретил всё тот же прыщеватый подмастерье, который заявил, что мастеру нездоровится и он никого не принимает.
Последний заказ отнял немало сил, и Рафаэль позволил себе немного развлечься. Он оказался в центре внимания местной аристократии, и чуть ли не каждый вечер ему приходилось бывать на различных приёмах, где от обилия поклонниц голова шла кругом. Зато по ночам приходилось не раз выслушивать горькие упрёки в неверности от хозяйки дома.
— Ты бесподобен, — как-то призналась она, покрывая его грудь поцелуями. — Глупая, я только теперь поняла, как неумел и груб был мой бедный Симоне. Зато он не был таким ветреником, как ты.
Его ли вина, что после недавнего кровопролития здесь появилось немало хорошеньких вдовушек, сохранивших вкус к жизни и не растративших ещё своих чувств? Несмотря на шумный успех в обществе, он оставался верен незыблемому правилу, которому постоянно следовал: делу — время, потехе — час. Никакие соблазны не могли отвлечь его от главной цели в жизни — творчества.
Недавно, приступив к работе над новыми заказами, он стал очевидцем события, всколыхнувшего весь город. В Перуджу прибыла со свитой из Рима красавица Лавиния Колонна для вступления в брак с Асторре Бальони, одним из сыновей главы всесильного клана и кузеном донны Леандры. Как полновластный хозяин города тщеславный старик Гвидо Бальони старался показать новым родичам, кичившимся знатностью старинного римского рода, что он тоже не лыком шит, а потому не скупился на организацию свадебных торжеств, в которых приняла участие добрая половина перуджинцев.
Город преобразился и помолодел. Главные улицы были украшены разноцветными гирляндами с вплетёнными в них позолоченными листочками, сверкающими на солнце. С балконов дворцов свешивались фламандские златотканые шпалеры, на площадях воздвигли арки из живых цветов, а по вечерам над городом зажигались фейерверки. Под открытым небом накрывались праздничные столы, которые ломились от яств. Вино лилось рекой, и не смолкали здравицы в честь будущих молодожёнов и особенно поразившей своей статностью и красотой невесты, чуть не ежечасно менявшей умопомрачительные наряды. Городские районы состязались друг с другом, устраивая приёмы в честь жениха с невестой. Особенно отличился район Сан-Пьетро, где местные кондитеры и кулинары превзошли всех выставленными на столы затейливо украшенными лакомствами. Перуджа веселилась до упаду дни и ночи напролёт.
В самый разгар праздника Леандра рассказала Рафаэлю, когда они вернулись домой с банкета, что местная Кассандра, ясновидящая монахиня Коломба, узрела в этом безудержном бахвальстве роскошью и безумном веселье недоброе предзнаменование. И как в воду глядела. В первую же ночь после венчания в соборе при стечении огромного количества народа произошло кровавое сведение счётов. Но на сей раз внутри самого клана Бальони, некоторые члены которого устроили заговор против главы семейства старика Гвидо, в чьих руках была чрезмерная власть над остальными.
Среди ночи в спальню к донне Леандре постучался перепуганный дворецкий и сообщил, что в соседнем дворце Бальони творится что-то невообразимое — вооружённые люди с факелами в руках окружили здание и оттуда раздаются вопли и крики о помощи. Донна Леандра и её ночной гость быстро оделись и до рассвета не могли успокоиться в ожидании страшных известий.
Утром горожанам предстала страшная картина валяющихся на улицах трупов. Всюду лужи крови, которую жадно лакали сбежавшиеся со всей округи бродячие псы. Среди стонущих раненых, взывающих о помощи, у порога своего дворца лежал Гвидо Бальони со вспоротым животом и вывалившимися наружу кишками. Заговор возглавил один из его племянников, Джан Паоло, который вознамерился взять в свои руки бразды правления кланом. К заговорщикам примкнул Грифонетто Бальони, поверивший, что один из сыновей старого Бальони является любовником его жены. Вскоре стали известны некоторые леденящие душу подробности ночной резни.
Ворвавшись в спальню к молодожёнам, заговорщики выволокли из брачного ложа голого Асторре. Один из головорезов всадил в него кинжал и, разверзнув грудь, вытащил руками ещё бьющееся сердце и впился в него зубами. Подобного каннибализма итальянская земля ещё не знала. За ночь были перебиты все намеченные жертвы. Среди заговорщиков смертельное ранение получил Грифонетто Бальони, кузен донны Леандры. В последний момент он узнал, что был подло обманут, а жена его оклеветана напрасно. Истекая кровью, он дополз до дома матери, взывая о прощении. Но гордая донна Аталанта отказалась простить истекающего кровью сына, и он умер у порога её дома. Глава заговора, изверг Джан Паоло со своими приспешниками покинул город, оставив перуджинцам позаботиться о раненых и захоронении убитых. Чудом оставшись в живых, Лавиния Колонна, овдовевшая в первую брачную ночь, в ужасе бежала со свитой из Перуджи.
В соборе на панихиде по погибшим, где побывала донна Леандра, выступил с проповедью старый архиепископ. Он призвал присутствующих к покаянию за забвение веры, гордыню и жажду власти над ближним. Заключительные аккорды органа не могли заглушить стоны и рыдания прихожан, потерявших своих родных и близких.
Рассказывая за ужином Рафаэлю о том, как прошла панихида, донна Леандра с трудом сдерживала возбуждение. Перекрестившись, она промолвила:
— Возмездие свершилось, и мой несчастный Симоне отомщён!
Эти трагические события побудили Рафаэля к отъезду из города, где ему вторично довелось стать свидетелем кошмарного кровопролития. Однако прежде надлежало завершить работу над двумя крупными заказами, за которые был выплачен солидный аванс.
В течение осени был написан многофигурный полиптих по заказу монахинь монастыря Святого Антония Падуанского, который позднее был расчленён и, словно в напоминание о трагических событиях, потрясших Перуджу, получил название «Алтарь Колонна». Его разрозненные доски осели в музеях Нью-Йорка и Лондона. Тогда же появился впечатляющий «Алтарь Ансидей» (Лондон, Национальная галерея) с Иоанном Крестителем и Николаем Мирликийским, излучающий мир и спокойствие, словно здесь не лилась кровь и не было трупов на улицах. Рафаэль написал также небольшую картину Pax Vobis («Мир вам») с погрудным изображением воскресшего Христа, благословляющего грешный мир (Брешия, Пинакотека), в котором так много зла и несправедливости.
Эти работы упрочили славу художника. Никто из живописцев в Перудже не решился бы помериться с ним силами, а её прославленный мастер и почётный гражданин в те дни находился во Флоренции. Слава за Рафаэлем ходила по пятам. Его узнавали на улицах, а приглашения на приёмы приходили чуть ли не каждый день. У него появилось немало друзей среди местной творческой молодёжи, которая тянулась к нему, заворожённая как его работами, так и самой его личностью. Молодой начинающий художник Доменико Альфани по прозвищу Менеко и чеканщик Чезаре Россетти, которого Рафаэль в письмах ласково называл Чезарино, были готовы пойти за ним хоть на край света, но в их привязанности к нему не было и тени корысти. Он также отвечал им дружбой и благожелательностью.
В тот период, отмеченный бурными событиями, Рафаэль сумел многое познать и доказать себе самому. Полученный опыт открывал перед ним новые горизонты. Он явно торопился и на всякий случай в новом договоре с монахинями монастыря Санта-Мария ди Монтелюче на написание алтарного образа также на тему «Коронация Девы Марии» при возникновении спорных вопросов указал в качестве возможного своего местонахождения Урбино, Читта́ ди Кастелло и Венецию. Ему давно хотелось побывать в славной столице Адриатики и познакомиться с венецианской школой живописи, а особенно с работами Джорджоне, о котором в последнее время много говорили. Однако в дневниках всезнающего венецианского летописца Марино Санудо-младшего, которому можно доверять, нет сведений о посещении Рафаэлем лагунного города, хотя имеется и другое мнение на сей счёт. Начатую им картину для монастыря Санта-Мария ди Монтелюче дописали позднее по его рисункам ученики — Джулио Романо и Джован Франческо Пенни.
Вскоре Рафаэлю пришлось покинуть гостеприимный дворец Одди, поскольку неожиданно донна Леандра по настоянию той же монахини Коломбы отправилась на богомолье во францисканский монастырь, расположенный у подножия горы Верна близ истоков Тибра. По-видимому, ясновидящая Коломба побывала на освящении картины «Коронация Девы Марии» в храме Сан-Франческо аль Прато и кое-что сумела там открыть для себя. При пылком расставании не обошлось без слёз раскаяния и клятвенных заверений в верности. Рыдая, безутешная Леандра то падала ниц перед Распятием, истово молясь, то вновь кидалась в объятия Рафаэля. Больше любовникам не суждено было свидеться.
Незадолго до отбытия на богомолье донна Леандра познакомила своего знаменитого постояльца с подругой по несчастью двоюродной тётей Аталантой Бальони, потерявшей во время резни единственного сына Грифонетто, названного так в честь любимого мужа Грифоне, который несколько лет назад также пал жертвой кровавой междоусобицы. Великое горе придало лицу донны Аталанты мужественную суровость и сокрытое очарование. У неё был придел в том же храме Сан-Франческо аль Прато, и ей хотелось увековечить память убиенных сына и мужа. Для Рафаэля желание матери было свято, и он пообещал подумать над её предложением.
После отъезда донны Леандры он без особого труда нашёл себе новое пристанище, так как приглашений из разных знатных домов было предостаточно. Но ему приглянулся скромный особнячок одной молоденькой вдовы местного лекаря неподалёку от популярного места прогулок перуджинцев, приходящих полюбоваться закатом со смотровой площадки, откуда с большой высоты и по сей день открывается великолепная панорама долины, окаймлённой скалистыми отрогами гор, вершины которых покрыты снежными шапками. К их крутым уступам прилепились селения, как орлиные гнёзда, а внизу в долине среди садов, виноградников и возделанных полей извиваются речушки, выплачивающие дань своими водами ненасытному Тибру, затопляющему во время таяния снегов в горах все посевы. Этот умбрийский пейзаж, пропитанный прозрачным воздухом, где, казалось, небо касалось земли, прочно запечатлелся в памяти Рафаэля. Он неизменно присутствует во многих его работах в качестве неотъемлемой части композиции, придавая особое очарование любой картине.
Пребывание в особняке милой вдовушки стало вскоре его тяготить из-за чрезмерного внимания и заботы любвеобильной хозяйки. Видимо, именно её запечатлел Рафаэль на рисунке, хранящемся в Британском музее. Он бы давно расстался с вдовушкой, если бы не волокита, затеянная монахами Камальдульского ордена. Они обратились к нему с предложением расписать фресками алтарную стену церкви Сан-Северо. Предложение пришлось не по душе Рафаэлю из-за выдвинутых жёстких требований, и он ответил отказом, собираясь окончательно покинуть город. Тогда монахи обратились к епископу Урбино монсеньору Габриэлли за содействием. После вмешательства влиятельного иерарха художнику пришлось поневоле приступить к весьма трудоёмкой работе.
Это была его первая настенная роспись, если не считать небольшую фреску в родительском доме. Главная алтарная стена насчитывала четыре метра в ширину и шесть в высоту. Сегодня судить об этой фреске затруднительно, поскольку в ходе позднейших работ по укреплению просевшего из-за частых землетрясений фундамента церкви роспись была сильно повреждена. Так, от верхней её купольной части сохранилась одна только рука Всевышнего с книгой, на которой различимы буквы альфа и омега, то есть жизнь и смерть. Взявшись с неохотой за работу, Рафаэль оставил фреску незавершённой и покинул Перуджу, но позднее был вынужден к ней вернуться и поправить образ Мадонны с Младенцем, помещённой в голубовато-золотистую нишу. Это единственная работа Рафаэля, оставшаяся в Перудже, ибо все остальные были похищены или проданы на сторону.
С фреской в церкви Сан-Северо связан один знаменательный факт, чего Рафаэль не мог себе даже вообразить. По просьбе настоятеля монастыря её дописал Перуджино, дополнив шестью фигурами святых. Он был потрясён вестью о внезапной кончине Рафаэля и незадолго до своей смерти сменил гнев на милость, простив урбинцу дерзкое соперничество. Слабеющей рукой старый мастер воздал должное безвременно ушедшему из жизни гению, гордясь им как учеником. Хочется верить, что Перуджино наконец осознал, насколько молодой коллега превзошёл его.
Прежде чем окончательно расстаться с Перуджей, Рафаэль создал один из подлинных шедевров по заказу местного аристократа Альфани делла Стаффа — это так называемая «Мадонна Конестабиле» (Петербург, Эрмитаж), пронизанная прозрачностью умбрийского воздуха, который он вбирал в себя полной грудью, любуясь красотами этого живописного края с высоты городской смотровой площадки. В этом небольшом по размеру tondo (диаметр 17,9 сантиметра) отразилась прозрачная чистота души самого автора.
Судя по рисунку из венского музея Альбертина, поначалу художник намеревался изобразить гранат в руках шаловливого Младенца, типичный жанровый мотив у многих мастеров Кватроченто, но затем заменил его книгой, на которую по диагонали устремлены взоры Матери и Сына. Как почти у всех рафаэлевских мадонн, композиция представляет собой пирамиду, вписанную в круг — тондо, чем достигаются певучесть и нежная плавность линий с их спокойным ритмом. Столь же сдержанна цветовая палитра картины по основным её составным тонам в полном согласии с круговым композиционным построением. В центре картины ярким красным пятном выделяется одеяние Мадонны, поверх которого накинут зеленовато-синий плащ. За её спиной простирается скромный пейзаж, окрашенный светлой лазурью, столь свойственной начальной осенней поре, как это тонко подмечено в одном из стихотворений Ф. И. Тютчевым, который любил осень и хорошо был знаком с её красками, в том числе и на земле Италии:
На заднем плане картины одиноко стоят обнажённые тополя, вдали вершины гор, припорошенные первым снегом. На зеркальной глади незамёрзшего озера утлый чёлн, а по голой стерне едет в неизвестность всадник. На всём печать тихой грусти. Деве Марии Рафаэль придал черты незабвенной донны Леандры, оставившей след в его сердце. Мадонна глядит в книгу, содержание которой хорошо ей известно, а потому в её взгляде затаённая печаль, ибо она знает, что ждёт Сына.
Резная рама «Мадонны Конестабиле» выполнена по рисунку Рафаэля и служит ей драгоценной оправой. Чтобы сгладить несоответствие между живописью картины и рельефностью резного обрамления, автор разместил в угловых пустотах рисованные гротески, которые плавно переводят очертания тондо в квадрат, а затем в прямоугольник рамы. Помимо пейзажа, напоминанием о Перудже служат вырезанные на раме крылатые грифоны, словно слетевшие с герба города.
Хотя шумный успех последних работ окрылил Рафаэля, он отдавал себе отчёт, что провинциальная Перуджа уже не может ему дать более того, что он успел здесь добиться. Главное, что особенно радовало, его перестали сравнивать с кем-либо, даже с Перуджино, ибо сразу узнавали свойственную ему неповторимую манеру письма. Неудержимо тянуло домой, откуда приходили вести от родных и друзей. В последнем письме дядя Симоне Чарла писал, что его заждались в Урбино и считают при дворе своим, famulus. Такой чести, писал дядя, не удостоился никто из местных живописцев — ни Вити, ни Дженга, а тем более объявившиеся в последнее время в городе пришлые художники.
Глава IX ВНОВЬ В РОДНЫХ ПЕНАТАХ
Встреча с родными была радостной и шумной. Дома ничего не изменилось, словно он никуда отсюда не уезжал. Самое главное, все были живы и здоровы, правда, дядя Бартоломео и тетка Санта заметно сдали. Девица Перпетуа была отправлена домой, так как не ужилась с полновластной хозяйкой дома Сантой, а в мастерской верный Пьяндимелето и Дженга продолжали тянуть лямку. Изредка туда забегал весельчак Вити, у которого дел было по горло — ему поручили расписать фресками личную капеллу архиепископа. Но с прижимистым прелатом приходилось спорить из-за каждого сольдо. Его старший брат Пьерантонио Вити после трагических событий лета 1502 года осунулся и ушёл в себя, не выдержав потрясений, связанных с войной и смертью единственной его опоры — матери Камиллы. Целыми днями он сидел дома, не желая никого видеть. Порой брал в руки любимую флейту, а играть на ней сил уже не было. От прежнего жизнелюба и уверенного в себе человека, чьё искусство врача ценилось в округе и особенно при дворе, не осталось и следа. Теперь за ним присматривала по-соседски и в знак былой дружбы Санта. Добрая старуха не мыслила себе существования без заботы о нуждающихся в помощи.
На следующий день Рафаэль навестил дядю Симоне, который немало ему порассказал о последних событиях в городе, а заодно деликатно спросил о финансовой стороне его дел. Договорились, что впредь племянник будет подробно информировать его о всех договорах во избежание подвоха со стороны заказчиков. Пришлось согласиться, ведь дядя заботился о его же собственном благе.
Возвращаясь от него, Рафаэль остановился на площади перед цирюльней, где было пусто и только скучающий подмастерье поправлял себе усики перед зеркалом. Войдя в лавку, он поинтересовался, как поживает дочка хозяина Марция.
— Хватился! — послышался ответ. — Да она, почитай, уж года два как замужем и живёт в Пезаро.
Встреча с детством и юностью взволновала Рафаэля. Здесь каждая улочка была связана с каким-то дорогим его сердцу воспоминанием. Проходя мимо школы, где на лужайке детвора играла в лапту, он узнал грустную весть — не стало доброго пестуна Франческо Вентурини, сердце которого не выдержало ужасного зрелища последних трагических событий. Рафаэль побывал на кладбище и молча постоял перед могилами матери и отца, остро ощутив своё одиночество в этом жестоком мире.
Так уж получилось, что его прибытие домой совпало с триумфальным возвращением из Рима герцога Гвидобальдо в сопровождении многочисленной свиты рыцарей и сановников. При торжественном въезде в Урбино на груди герцога красовалась массивная золотая цепь с медальоном, на котором был изображён покровитель ордена Подвязки святой Георгий, поражающий копьём дракона. Образ славного воина, бывшего римского центуриона, как нельзя лучше отвечал приподнятому настроению урбинцев, вновь обретших свободу и покой. Под поверженным драконом ими понимался изверг Борджиа, олицетворявший собой войну, чуму, засуху, недород, грабежи, словом, все беды и несчастья, обрушившиеся на головы итальянцев.
В блестящей свите герцога оказался известный литератор Бальдассар Кастильоне (1478-1539), с которым Рафаэль тогда познакомился. Он происходил из мелкопоместных дворян. Отец его был профессиональным военным, получившим смертельное ранение в битве при Форново, а мать Мария Алоизия Гонзага приходилась дальней родственницей мантуанским правителям и жила при дворе приживалкой. Получив университетское образование, Кастильоне пошёл по стопам отца. Однако, как он сам любил рассказывать, в первом же сражении был ранен. На самом деле ему придавил ногу на узкой горной тропе под Чезеной упавший на него мул, чрезмерно навьюченный амуницией. Из-за хромоты пришлось распроститься с военной карьерой и не расставаться с тросточкой, что придавало его статной фигуре ореол воина-героя, который он сам умело поддерживал.
Физический недостаток вынудил его перейти на дипломатическую службу, где он явно преуспел. В Милане при дворе герцога Моро ему довелось познакомиться и близко сойтись с Леонардо да Винчи и Браманте. Там к нему пришла слава поэта. Особенно широкую известность обрёл один из первых его сонетов «О, гордые холмы и славные руины», сочинённый им во время посещения Рима.
Между двумя молодыми людьми вскоре завязалась тесная дружба на основе близости миропонимания и общности эстетических вкусов. А может быть, и некого сходства характеров, кто знает? Правда, Рафаэль с иронией относился к излишней, как ему казалось, привязанности друга ко двору и заискиванию перед властью. Он считал, что истинному творцу во имя сохранения своей независимости негоже унижаться перед власть имущими, а потому ему должны быть чужды получаемые от них в виде подачки титулы и поощрения. У нового друга были иные на сей счёт взгляды.
Благодаря Кастильоне и беседам с ним об искусстве и литературе, а он был человеком начитанным, Рафаэль сумел значительно углубить и пополнить свои знания. Его поразило своей необычностью и парадоксальной прямотой одно высказывание друга, мнением которого он дорожил. Кастильоне любил повторять, что «истинное искусство — это то, которое не кажется искусством». Впоследствии Рафаэль не раз вспоминал эти слова, работая над очередной картиной, всё более убеждаясь в их правоте. Дружба между ними растянулась на многие годы. Часто они не могли обойтись друг без друга, о чём говорит их сохранившаяся переписка.
Им обоим было свойственно постоянное стремление к идеальной красоте, в чём Рафаэль открыто признаётся в одном из писем к Кастильоне: «Чтобы написать красавицу, мне надобно видеть много таких женщин… и среди них выбрать самую что ни на есть лучшую. Но так как прекрасных женщин и истинных ценителей красоты мало, то это вынуждает меня обращаться к некоторой идее, приходящей мне на ум. Но таит ли она в себе хоть какую-то художественную ценность, мне неведомо, а с меня довольно и того, что я обрёл её».30
При достижении искомого идеала художник постоянно им пользовался в качестве вдохновляющего зримого образца, который со временем обретал под его кистью полнокровную материальность, осязаемые жизненные черты и был преисполнен нескрываемой чувственности. Здесь Рафаэль как бы следует за Альберти. Этот великий учёный считал, что «следует избегать привычки некоторых глупцов, которые, будучи упоены собственным дарованием, стараются прославиться в живописи, полагаясь только на себя, не имея никакого природного образца, коему бы следовали глазом и умом. Не научившись хорошо писать, такие живописцы привыкают к собственным ошибкам».31 Не таков был Рафаэль и свои недочёты видел, стараясь впредь их не повторять.
Оказавшись дома, где каждый уголок был ему знаком, он не прекращал поиски идеала. Иногда к нему охотно присоединялся Кастильоне, который отнюдь не был пуританином и знал толк в женской красоте. Сколько дивных вечеров они провели вместе, когда Рафаэль водил друга по злачным местам своей юности!
Не пожелавший жить во дворце, новый друг поначалу воспользовался гостеприимством дома Санти. Из письма Кастильоне матери в Мантую, с которой любящий сын переписывался чуть ли не ежедневно, обращаясь то с просьбой, то за советом, известно, что он предоставил в распоряжение друга художника своё позолоченное копьё для задуманной картины. Он же с подачи герцога уговорил Рафаэля взяться за написание «Святого Георгия», покровителя Англии, предназначавшегося в дар королю Генриху VII от признательного Гвидобальдо за награждение орденом Подвязки. Этот факт красноречиво свидетельствует, как высоко ценился при дворе двадцатилетний Рафаэль.
— Не знаю, каковы ваши отношения с двором, — заявил другу Кастильоне, — но кроме вас никто здесь не в состоянии исполнить такую работу.
В дворцовой конюшне среди трёхсот породистых лошадей Рафаэлю приглянулся норовистый красавец скакун белой масти. Оставалось лишь облачить натурщика в рыцарские доспехи, подобранные с помощью знатока своего дела церемониймейстера Буффы в богатейшей дворцовой гардеробной. Вскоре «Святой Георгий и дракон» (Лондон, Национальная галерея) был готов. Поскольку впервые его работа отправлялась за рубеж, к самому английскому монарху, молодой художник обозначил своё имя на сбруе лошади, а на ленте под левым коленом всадника начертал Ноnnу — начальное слово девиза кавалеров ордена Подвязки. Получился впечатляющий образ святого Георгия на вздыбившемся белом коне, поражающего копьём дракона.
Когда герцог Гвидобальдо увидел эту картину, он остался очень доволен и заказал художнику её копию для дворцовой пинакотеки. Хотя Рафаэль не любил повторов, ослушаться он не посмел и написал ещё одного Георгия на коне (когда-то Петербург, Эрмитаж, а ныне Париж, Лувр), но без упомянутого копья, одолженного Кастильоне для первой картины, и внеся некоторые изменения в композицию. Святой воин на том же белом скакуне полон решимости. В отличие от первой картины он изображен анфас, а его шлем украшен пышным плюмажем. Ярким пятном выделяется красное седло, усиливающее блеск стальных доспехов. Высоко подняв над головой меч, воин готов сразить крылатого дракона. Напряжение настолько возрастает, что каппадокийская принцесса уже не в силах усидеть на месте. Она срывается и с развевающимися на ветру волосами в ужасе убегает, не веря в своё чудодейственное спасение.
Обе картины вызвали столь большой интерес во дворце, что Рафаэль, сам того не желая, поскольку его помыслы были направлены за пределы родного Урбино, стал придворным художником, как и его отец. Кастильоне сообщил о желании герцогини Елизаветы Гонзага позировать ему, чтобы отослать свой портрет в Мантую маркизе Изабелле д’Эсте, не раз изъявлявшей желание иметь изображение сестры мужа.
— Последнее время, — сказал Кастильоне, делясь новостями с другом, — я заметил, что герцогиню обхаживают ваши прыткие коллеги Дженга и Вити. Так что не упустите случай и поторопитесь!
Но Рафаэль не придал значения предупреждению друга. У себя дома он не опасался никакой конкуренции, отлично зная, каков подлинный вес каждого из местных живописцев. Вскоре, однако, выяснилось, что супруг герцогини был также не прочь позировать, дабы пополнить дворцовую пинакотеку своим портретом рядом с изображениями родителей.
В одном из залов дворца, выбранных художником, были написаны два портрета — Елизаветы Гонзага и Гвидобальдо да Монтефельтро (оба Флоренция, Уффици). В этом диптихе супружеской пары молодому портретисту удалось тонко передать непростые отношения, связывающие эту бездетную правящую чету, не познавшую взаимной привязанности, не говоря уже о любви. Некрасивое лицо умной 33-летней Елизаветы отражает неизбывную тоску по чувству материнства, которое ей не довелось познать.
Что же касается портрета её более молодого супруга, то это само выражение слабоволия и скрытой хвори, истачивающей червем его плоть. В отличие от своего волевого отца молодой правитель Урбино был человеком мягким и нерешительным. Он слабо разбирался в людях и обычно на руководящие должности назначал тех, кого советовала жена, игравшая роль умной и заботливой супруги-матери.
Когда оба портрета были почти готовы, в последний момент Рафаэлем вдруг овладело сомнение. А что если столь откровенный показ без прикрас подлинной сути высокопоставленных особ вызовет у них недовольство? Тогда он решил посоветоваться и показал обе работы маркизе Эмилии Пио, хорошо знавшей дворцовые обычаи и настроения правителей.
— Вы явно перестарались, мастер, — сказала она, недовольно поджав губы. — Они у вас выглядят, словно их выставили нагишом напоказ. Кому же такое понравится?
Он разволновался и, чтобы как-то смягчить впечатление, поправил кое-что и дописал в качестве фона скромный пейзаж для каждого портрета. Однако его опасения оказались напрасны. Обе картины были с благодарностью приняты, а присутствовавший на устроенном «вернисаже» Кастильоне не удержался и зачитал «экспромт» — стихотворение, вызвавшее аплодисменты придворных. Но Рафаэля оно повергло в смущение от обилия в нём слащавых слов о себе как объявившемся в наше непростое время «новом Апеллесе». Когда он передал другу высказанное мнение Эмилии Пио о портретах, Кастильоне, рассмеявшись, заметил:
— Ах ты хитрая серая мышка-норушка, вынюхивающая дворцовые новости! Знаете, а она права и узрела как раз то, чего не видят другие, ослеплённые своим дутым величием.
Полученным в дар портретом золовки осталась недовольна одна лишь привередливая маркиза д’Эсте. Да разве ей угодишь? Часто бывая по делам во дворце, Рафаэль стал понемногу разбираться в тонкостях придворного быта и замечать то, что старательно пряталось от сторонних глаз. Он заметил, как за герцогом тенью следовал некий молодой человек. Всезнающий Кастильоне рассказал, что недавно прибывшего из Вероны парня зовут Джован Андреа. Его фамилия или кличка — Браво, которую он вполне оправдывает услужливостью герцогу и добрым нравом. В архивах урбинского двора о нём нет даже упоминания, но по отзывам того же Кастильоне у скромного воспитанного юноши имелся один крупный изъян в образовании — он совсем не знал латыни и изъяснялся на обычном vulgo, грубом языке простонародья, с заметным венецианским акцентом.
По распоряжению благодетеля-герцога к нему специально приставили учителей для обучения латыни и красноречию. После первых успехов старательного парня в учёбе герцог Гвидобальдо так расщедрился, что подарил своему любимцу и верному пажу небольшой замок на холме Сассокорваро под Урбино, где любил проводить досуг вместе с Джован Андреа. Вскоре во дворце пошли разговоры о странной непонятной дружбе, и одна лишь герцогиня Елизавета не проявляла никакого интереса к частной жизни супруга, показывая всем своим видом, насколько ей безразлично присутствие ничем не проявившего себя юнца в компании мужа.
Видимо, слухи о том, что брат щедро одаривает пажа, ускорили приезд в Урбино недавно овдовевшей «префектессы» Джованны Фельтрия с подросшим сыном Франческо Мария делла Ровере, законным и единственным наследником Урбинского герцогства. Она давно питала слабость к Рафаэлю, будучи его крёстной матерью. Их встреча после долгой разлуки была тёплой и радостной. Джованна выразила ему благодарность за добрую о ней память и полученного в дар «Архангела Михаила».
Неожиданный приезд Джованны Фельтрия совпал с резким ухудшением здоровья герцога Гвидобальдо, и во дворец зачастили лекари. Всё это в свою очередь ускорило помолвку юнца Франческо Мария с двенадцатилетней Элеонорой Гонзага, дочерью маркизы Изабеллы д’Эсте. В те дни Рафаэлю были заказаны портреты жениха и невесты, и он смог поближе познакомиться с самодовольным подростком Франческо Мария, избалованным родителями и старшими сёстрами. Несмотря на возраст, он успел познать трудности и натерпеться страха, когда вместе с дядей герцогом Гвидобальдо спасался в горах от ищеек изверга Борджиа. А ныне он вдруг вознёсся, обретя известность как племянник нового папы Юлия II, чем постоянно кичился.
Рафаэлю в качестве придворного художника довелось сопровождать кортеж, направившийся в Мантую на помолвку где он успел застать в живых великого Мантенью, но вряд ли с ним встретился, поскольку престарелый мастер был нездоров и никого не принимал. Но рисуя хрупкую девочку Элеонору Гонзага в studiolo — рабочем кабинете маркизы, Рафаэль смог увидеть и оценить великолепные фресковые росписи Мантеньи, прославившие Мантую и её правителей.
По возвращении из Мантуи перед ним встала дилемма — с кого начать, поскольку к нему обратился герцог, пожелавший увидеть запечатлённым придворным художником своего обожаемого друга. Оба юнца не вызывали у Рафаэля симпатии: один — излишне развязный и надменный, другой — вялый и, как видно, себе на уме несмотря на облик скромника и тихони. Отказать двум высокопоставленным заказчикам он не посмел, и положение придворного живописца, вынужденного исполнять любую прихоть хозяев, крайне его удручало. Своими сомнениями он поделился с другом Кастильоне, который вмиг их развеял.
— И мне оба парня тоже несимпатичны, — признался он. — Так что прикажете делать? Пока правит дышащий на ладан Гвидобальдо, с его желаниями придётся считаться. Да и сопляк законный наследник ещё вам сгодится.
Рафаэль хотел было возразить, но Кастильоне остановил его:
— Вижу, как вы неравнодушны к его матушке «префектессе». Так знайте, что она дружна с гонфалоньером Флоренции, о которой вы мечтаете. Так что принимайте жизнь, какой она есть!
Скрепя сердце Рафаэль принялся за написание двух портретов, выбрав для позирования разные залы. Ему было известно, что оба юнца терпеть не могут друг друга. Бывая во дворце, он часто видел, как Франческо Мария при встрече с любимцем герцога всем своим видом выражал ему презрение, не удосуживаясь даже ответить на его поклон.
По поводу двух портретов, написанных почти одновременно, возникает ряд спорных вопросов, особенно в связи с «Портретом молодого человека с яблоком» (Флоренция, Уффици). Общепризнано, что на нём изображён юный Франческо Мария делла Ровере, с чем не просто согласиться, если сравнить саму работу с известным портретом герцога Франческо Мария делла Ровере в зрелые годы в том же флорентийском музее, написанным Тицианом. Такое сравнение неизбежно вызывает сомнения относительно лица, изображённого на портрете кисти Рафаэля, в котором никак не угадывается будущий воин.
Известно, что один из друзей Тициана уже упоминавшийся литератор Аретино познакомил художника с выгодным заказчиком — урбинским герцогом, за что получил, как положено, причитающиеся комиссионные. Поначалу Тициан написал блистательный портрет жены герцога Элеоноры Гонзага, которая когда-то девочкой позировала Рафаэлю. Затем был написан портрет её мужа. Увидев изображение герцога в латах и с жезлом военачальника в руке, Аретино не смог удержаться и разразился восторженным сонетом. Приведём его начальные строки:
В те годы герцог Франческо Мария делла Ровере находился на службе некоронованной владычицы Адриатики и был занят собиранием сил под знамёна Венеции, чтобы нанести сокрушительный удар наседающим туркам, но не успел. Как и его прославленный дед Федерико да Монтефельтро, он принимал участие в самых рискованных акциях. После того как Тициан закончил его портрет в 1538 году, герцог неожиданно скончался. Поговаривали, что он был отравлен.
Что касается женоподобного юнца на портрете Рафаэля, то в нём весьма затруднительно угадать черты будущего полководца, хотя такая метаморфоза может иметь место. Вполне правомерно было бы предположить, что на рафаэлевском портрете изображён юный друг герцога Гвидобальдо, а яблоко в его руке служит как бы косвенным подтверждением того, что молодой парень являлся причиной раздора между супругами, равно как между старшей сестрой и её слабовольным младшим братом.
Как покажут дальнейшие события, Рафаэлю всё же удалось, говоря словами Аретино, «невидимому зримость придать», разглядев в юном Франческо Мария делла Ровере черты скрытого коварства и жестокости, которые с годами в нём проявились, что позволило ему сделать блестящую военную карьеру. Хотя можно предположить и другое — что изображением юного Франческо Мария является написанный Рафаэлем примерно тогда же портрет одного надменного смазливого молодого человека (Будапешт, Музей изящных искусств), а в нём куда больше признаков будущего воина, нежели в юнце с яблоком в руке. Но пока это всего лишь трудно доказуемое предположение, нуждающееся в специальном радиографическом анализе.
Рафаэль тяготился ролью придворного живописца, и все его творческие планы были связаны с Флоренцией, откуда то и дело приходили вести, будоражившие воображение. Ведь там происходили события поистине исторического значения, когда по распоряжению правительства специальная комиссия, в которую входили Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и другие светила мира искусства, решала вопрос о месте установления в городе статуи Давида работы Микеланджело, чему придавалось значение государственной важности. А он, Рафаэль, вынужден был ублажать капризы правителей города, где жизнь протекала среди дворцовых сплетен, в скуке и лени.
В этом спящем болоте его неунывающий друг Кастильоне чувствовал себя как рыба в воде, постоянно что-то выдумывая, организуя литературные вечера, лотереи и прочие увеселения, пользующиеся успехом при дворе. Единственное, что его угнетало, — это безденежье. Рафаэль сочувствовал другу, который оказался в затруднительном положении, но в таких делах был ему не советчик. Да Кастильоне на него и не рассчитывал, давно осознав, что его молодой друг не от мира сего и живёт только интересами искусства.
В отличие от Кастильоне, искавшего своё счастье при дворе, Рафаэль давно понял, что времена Урбино прошли, а прошлым жить нельзя — всюду веют новые ветры. Подавив стеснение, он обратился за содействием к своей покровительнице Джованне Фельтрия. Несмотря на возникшие трения с грозным деверем папой Юлием II, у неё сохранились прочные связи с правительством Флорентийской республики. Вскоре в руках Рафаэля оказалось рекомендательное письмо от 1 октября 1504 года на имя пожизненного гонфалоньера Флоренции Пьеро Содерини:
«Податель сего письма художник Рафаэль из Урбино, проявивший большие способности в деле, решил провести некоторое время во Флоренции для учёбы. Его родитель был высоко мною ценим как искусный живописец, от него эти качества передались сыну, способному и воспитанному молодому человеку. Я его искренне люблю и желаю ему добиться совершенства в мастерстве. Вот почему обращаюсь к Вашему Превосходительству, насколько это в моих силах, с нижайшей просьбой оказать ему ради любви ко мне всякое содействие. Прошу Вас также учитывать, что оказанные моему подопечному любые услуги и поддержка в равной степени будут касаться и меня лично…»33
Забегая вперёд отметим, что письмо возымело действие, и во время очередного приезда домой зимой 1507 года из Флоренции Рафаэль отблагодарил свою благодетельницу Джованну Фельтрия, к которой питал нескрываемую симпатию.
Глава X КОЛЫБЕЛЬ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Когда Рафаэль впервые оказался во Флоренции, «Давид» Микеланджело уже гордо возвышался перед палаццо Веккио, где был установлен 8 сентября 1504 года. Эта дата отмечена в городских анналах как величайшее событие наступившего века, а само изваяние стало символом всей эпохи Возрождения. Утихли сами собой споры относительно местоположения замечательного творения. Успокоились и стали привыкать к обнажённой фигуре юного героя даже те, кто ещё совсем недавно забрасывал камнями перевозимую на катках и обшитую досками скульптуру по улице Проконсоле до места её назначения. Четыре дня понадобилось для доставки мраморного Гиганта, как флорентийцы окрестили скульптуру, от хозяйственного двора за собором до самой площади Синьории. Устремив гневный взор в сторону извечного врага Флоренции папского Рима, Давид с пращой олицетворяет собой защитника республиканских свобод, как бы не замечая несколько подвинутую из-за него в сторону «Юдифь» Донателло.
Первым делом Рафаэль с утра направился с рекомендательным письмом во дворец к гонфалоньеру Содерини. Оказавшись на площади Синьории, он обомлел при виде беломраморной фигуры обнажённого героя. Ничего подобного ему ещё не доводилось в жизни видеть, и он почувствовал, как мурашки побежали по спине. Возможно ли такое высечь из камня? Мог ли простой смертный сотворить подобное? В это трудно было поверить. Как рассказали ему позже друзья, глыба мрамора, добытая под Каррарой, более полувека пролежала под открытым небом и дала трещину. После первой неудачной попытки одного из скульпторов никто больше не решился браться за неё, пока на эту глыбу не обратил внимание Микеланджело. Вернувшись после триумфа из Рима, он добился от правительства Флоренции, чтобы она была передана ему.
Прочитав письмо «префектессы» Джованны Фельтрия, гонфалоньер Содерини посоветовал Рафаэлю почаще наведываться в Испанскую лоджию внутреннего двора при церкви Санта-Мария Новелла, где обычно собираются многие знаменитые люди и можно повстречать вернувшегося из странствий в родной город Леонардо да Винчи.
— Там вы почерпнёте для себя много полезного, мой друг. При любой необходимости всегда можете рассчитывать на мою поддержку, о чём я сообщу пекущейся о вас герцогине.
Выходя от Содерини, он столкнулся в приёмной с Микеланджело, с которым пока не был знаком. Облачённый в какую-то пыльную сермягу, тот без доклада прошёл в кабинет гонфалоньера.
— Вам только что повстречался вышедший от меня молодой человек, — сказал Содерини. — Прошу вас обратить на него внимание. Это художник Рафаэль из Урбино, подающий большие надежды. Мне его рекомендовала герцогиня Фельтрия, невестка папы Юлия II. Послушайте, что она о нём пишет.
И он зачитал несколько строк из письма Джованны Фельтрия.
— Тем лучше для него, — ухмыльнулся Микеланджело. — Сдаётся мне, что фаворит герцогини научился жить раньше, чем родился.
На первых порах Рафаэль поселился в доме 15 по улице Сан-Галло неподалёку от центральной городской артерии Ларга, где возвышается величественный дворец Медичи. Хозяин дома Таддео Таддеи был деловым человеком с широкими связями и слыл знатоком искусства. Он водил дружбу с Микеланджело, став обладателем его небольшого мраморного изваяния, называемого «Тондо Таддеи» (Лондон, Королевская академия). Поселившись в его доме, Рафаэль ежедневно им любовался и сделал для себя пару рисунков, поражённый энергией, исходящей от фигур Мадонны, Младенца и Крестителя.
Предприимчивому Таддеи хорошо были известны работы Рафаэля, написанные в Умбрии, поскольку его торговые конторы находились и в Перудже. Он делал ставку на своего молодого гостя, окружив его вниманием, заботой и не теряя надежды, что талантливый художник напишет и для него что-нибудь стоящее. Именно ему Рафаэль был обязан знакомством с банкирами и коммерсантами, ставшими со временем основными его заказчиками. А вот местным церковным кругам его имя ничего не говорило. Молва об алтарях, написанных им в Умбрии, пока сюда не дошла. Поэтому Рафаэль мог рассчитывать только на светскую клиентуру.
Вскоре ему стало известно, что во Флоренции живут и работают с десяток Рафаэлей. Среди них Рафаэллино дель Гарбо, Рафаэлло ди Франческо и другие с незнакомыми прозвищами и фамилиями. Флоренция в ту пору славилась не только бурно развивающимися ремёслами, торговлей и банковским делом, но и величайшим художественным наследием. Она по праву считалась главным центром всей европейской культуры, куда стремились попасть многие ценители искусства. Рафаэлю впервые довелось столкнуться с таким количеством тёзок, что поначалу его это неприятно удивило и покоробило. Но он твёрдо решил, что отныне здесь должно звучать одно только имя — Рафаэль Санцио.
Флоренция привольно раскинулась на зелёных холмах по обоим берегам спокойно несущего свои мутные воды Арно. Она покорила с первого взгляда Рафаэля своей строгой красотой и духом творческого созидания. Здесь он особенно остро ощутил неразрывную связь между городом и ландшафтом. Флорентийские зодчие черпали вдохновение у природы и учились у неё возводить величественные и крепкие, как скалы, дворцы и храмы, а у цепи тосканских холмов они позаимствовали мягкую линеарность и ясную перспективу вкупе с красотой пропорций архитектурных объёмов. Для облицовки зданий использовался необработанный камень, почти в сыром виде, а для фасадов церквей и облицовки колоколен применялись породы цветного мрамора.
Перед любым впервые оказавшимся здесь человеком Флоренция предстаёт как сложившееся веками единое архитектурное целое, поражая своей аскетической красотой и строгостью. Правда, в глаза сразу бросается одно несоответствие. Называемая городом цветов Флоренция (от ит. fiore — цветок), в гербе которой лилия, разочаровывает почти полным отсутствием зелёных насаждений, особенно в её центральной части. Культ камня вытеснил живую растительность, а сады и парки украшают лишь склоны окрестных холмов.
После тихих умбрийских городов Флоренция оглушила Рафаэля разноголосицей и шумом своих площадей. Перед его изумлённым взором предстал мир дерзновенного полёта творческой мысли. Со времён Лоренцо Великолепного во Флоренции не делали различия между горним и земным, между Данте и Гомером. Любое интересное произведение принималось и находило у горожан благожелательный отклик, становясь общим достоянием, вызывающим гордость граждан. Так повелось, что люди искусства пользовались в городе почётом и уважением, а их труд считался делом государственной важности. Любые проекты крупных гражданских и культовых сооружений, равно как и заказы на новые монументы и фресковые росписи — всё это выносилось городским правительством на обсуждение флорентийцев, обладавших чувством гражданской ответственности и высокоразвитым художественным вкусом, привитым им с детства. Им до всего было дело, и если что не так, немедленно поднималась волна общего возмущения и вспыхивали волнения, перераставшие в стычки со стражами общественного порядка.
В первые дни пребывания во Флоренции Рафаэль с трудам понимал говор флорентийцев, несколько отличный от речи маркизанцев и умбрийцев. Чтобы не выглядеть провинциалом, он быстро освоил местный диалект благодаря острому слуху и не подводившей его памяти. У него появилось немало знакомых и среди них его ровесник художник Ридольфо, сын покойного Доменико Бигорди по прозвищу Гирландайо. Через его школу прошли многие, включая Микеланджело, который, однако, не раз говорил в кругу друзей, что, работая в его мастерской, где ему «прирождённому скульптору пришлось заниматься грунтовкой и растиркой красок», он лишь потратил зря время.
— Не стоит особенно удивляться, — ответил новый товарищ на недоумённый взгляд Рафаэля. — У нас уже давно привыкли, что Микеланджело редко о ком скажет доброе слово.
Среди новых друзей был Бастьяно, племянник известных архитекторов Джулиано и Антонио Сангалло, посещавший мастерскую Перуджино и более известный под прозвищем «Аристотель» за склонность к заумным рассуждениям. Джулиано Сангалло недавно был вызван в Рим папой Юлием II для работы над проектом нового собора Святого Петра.
Вняв совету гонфалоньера, Рафаэль попросил новых друзей проводить его в Санта-Мария Новелла, где неподалёку располагались мастерские многих флорентийских художников. Там работал и Перуджино, обосновавшийся в бывшей мастерской Гиберти. Но с ним Рафаэль пока не спешил повидаться. В первую очередь он хотел познакомиться поближе с творениями мастеров местной школы живописи.
Они прошли через внутренний дворик церкви Санта-Мария Новелла и оказались в Испанской лоджии, где собралась небольшая компания и Рафаэль впервые увидел Леонардо да Винчи, беседовавшего с друзьями. Ридольфо представил новичка собравшимся, и Рафаэль сразу привлёк их внимание учтивостью и добрым взглядом. Скромно присев на край скамьи и затаив дыхание, он слушал, как Леонардо продолжил прерванный их появлением разговор, а вернее сказать монолог, ибо никто из присутствующих не осмеливался его прерывать. Речь шла об известном архитекторе и учёном Леоне Баттисте Альберти, по проекту которого были сооружены беломраморный фасад церкви Санта-Мария Новелла и величественный дворец Ручеллаи. От отца Рафаэлю было известно, что Альберти работал в Урбино и в соседнем Римини.
Словно рассуждая с самим собой, Леонардо говорил, что трактат Альберти о живописи не утратил своего значения и в наши дни, ибо служит кладезем мудрых мыслей и советов. Именно Альберти настаивал на том, что кроме мастерства современный художник должен обладать познаниями в геометрии и оптике, чтобы раскрыть тайну движения человеческого тела, отражающего состояние души, а это самое главное в живописи. Между математикой и искусством, говорил Леонардо, как и во Вселенной, существуют взаимосвязи и пропорции, определяющие божественный замысел, поскольку живопись — это та же наука и законная дочь природы. Как и философия, живопись требует от любого художника неустанного изучения окружающего мира, чтобы уметь выразить его красоту и закономерности.
Из всего услышанного тогда на Рафаэля произвели сильное впечатление слова Леонардо о том, что «живопись — это поэзия, которую видят, а поэзия — живопись, которую слышат». Впоследствии он частенько вспоминал эту фразу, случайно оброненную великим мастером, всё более убеждаясь её правоте.
В конце разговора Леонардо подошёл к Рафаэлю и сказал, что однажды побывал в его родном городе и знаком с работами его отца Джованни Санти. Ему явно пришёлся по душе этот молодой человек с каштановыми волосами до плеч, в чёрной бархатной куртке с белым воротничком и чёрном бархатном берете — таким он предстаёт на одном написанном в ту пору автопортрете, который собирался подарить кому-то из друзей. Леонардо пригласил молодого коллегу в свою мастерскую. Осчастливленный столь неожиданным лестным приглашением Рафаэль успел заметить, как по лицу одного из окруживших мастера парней, выделявшегося среди остальных пышной шевелюрой вьющихся чёрных волос, пробежала тень недовольства.
По дороге домой друзья рассказали, что этот парень приехал из Милана, зовут его Салаи, что означает «чертёнок». Он ходит в любимчиках у Леонардо и ревниво относится к каждому, кому удаётся обратить на себя внимание мастера. Вернувшись во Флоренцию после службы при миланском дворе и работы на Цезаря Борджиа, Леонардо постоянно пребывает в окружении молодых людей, отпрысков знатных семейств, позирующих ему и готовых за него пойти в огонь и воду.
— Этот Салаи, — сказал Бастьяно, — как цепной пёс, близко никого не подпускает к хозяину, боясь конкуренции, а сам как художник гроша ломаного не стоит.
Увлекшись разговором о великом художнике и его окружении, Ридольфо вдруг вспомнил одну неблаговидную историю, в которую оказался замешан юный Леонардо. Чтобы замять шумный скандал, в дело вынужден был вмешаться его отец — юрист мессир Пьеро да Винчи…
— Прошу тебя, — прервал его Рафаэль, — не продолжай! Только что мы были обласканы великим человеком. Будем же достойны его доброго к нам расположения.
С помощью друзей и самостоятельно он ежедневно знакомился с флорентийским искусством и его мастерами. Это был удивительный мир, в котором архитектура, скульптура и живопись сосуществовали в гармоничном единстве. Каждый день приносил новые откровения, заставлявшие глубоко задуматься над прежними представлениями о композиции, рисунке, колорите.
В центре города над морем красных черепичных крыш возвышается увенчанный гигантским куполом Брунеллески главный собор Санта-Мария дель Фьоре, фасад которого с мощной кирпичной кладкой в те времена ещё не был облицован мрамором, и в его наготе был определённый смысл. Казалось, что каждый флорентиец внёс свой кирпичик в общую кладку, оставив о себе память потомкам. Собор и поныне — центр общественной жизни флорентийцев, помнивших времена, когда их город-коммуна был настоящей вольницей и любой вопрос выносился на общее обсуждение, пока бразды правления не прибрали к рукам всесильные Медичи, бывшие аптекари и банкиры. После их изгнания горожане горой стояли за республику, в чём Рафаэлю не раз доводилось убеждаться в разговорах со знакомыми флорентийцами.
Впервые войдя в собор, Рафаэль поразился его суровой наготе с могучими серыми стенами. В то же время высота и стремительность сводов говорили о том, что предприимчивость и расчётливость не препятствовали широте и размаху деяний, а также дерзновенному полёту устремлений. Устойчивость, трезвость ума и свободолюбие — вот на чём зиждется могущество Флоренции, свидетельством чего и является её главный собор. В 1436 году его левую стену украсила фреска с изображением конного монумента кондотьеру Джованни Акуто, англичанину по происхождению на службе республики, кисти Паоло Уччелло и картина Доменико ди Микелино, на которой великий флорентиец Данте держит в руке раскрытую книгу — свою «Божественную комедию».
Рядом с собором вознёсшаяся к небу изящная розоватая колокольня, воздвигнутая Джотто. В те годы её ниши украшали изваяния Донателло. Наряду с колокольней аббатства и башнями над дворцами Барджелло и Синьории, она представляет собой главную вертикаль, определяющую строгий архитектурный силуэт города. Поражает ясностью замысла и конструктивной простотой стоящий перед собором приземистый восьмигранник Баптистерия, или главной флорентийской Крещальни, воздвигнутой во имя Иоанна Крестителя. До постройки собора Санта-Мария дель Фьоре Баптистерий был главным городским храмом. Он облицован белым мрамором, по которому зелёными плитами выложен геометрический узор. Но подлинной его достопримечательностью являются массивные двери, отлитые в бронзе. Первые исполнил в начале XIII века Андреа Пизано, а через 100 лет Лоренцо Гиберти, выиграв открытый конкурс, изваял другие двери, названные позднее Микеланджело «Райскими вратами». Их бронзовые рельефы с многофигурными композициями прочно запечатлелись в памяти Рафаэля. О «милом Сан Джованни» часто вспоминал в изгнании Данте, крещённый в купели Баптистерия, как и большинство его земляков флорентийцев.
Неподалёку от Баптистерия, плутая по узким улочкам, куда с трудом проникают лучи солнца, Рафаэль случайно наткнулся на древнее строение, смахивающее на крепость. Как ему пояснил случайный прохожий, в этом доме в далёком 1265 году появился на свет Данте Алигьери, с которым неблагодарная Флоренция обошлась жестоко, осудив великого поэта и гражданина на изгнание.
— А теперь наши власти, крепкие задним умом, ведут спор с Равенной, — рассказывал синьор, — требуя вернуть на родину прах поэта. Вот уж воистину, что имеем не храним, потерявши — плачем.
Этот случайный прохожий немало удивил Рафаэля, перемежая свой рассказ о Данте терцинами из «Ада». В дальнейшем ему не раз приходилось сталкиваться с флорентийцами, даже из простонародья, которые в разговоре частенько цитировали по памяти строки из «Божественной комедии», словно мятежный дух Данте был свойствен каждому из них, а любовь к прекрасному они впитали с молоком матери.
Следуя мудрому совету римлян начинать всякое дело ab ovo, то есть с яйца, Рафаэль направился в Санта-Кроче взглянуть на росписи Джотто, родоначальника итальянской живописи, который словно наделил свои фрески даром речи, благодаря чему его повествования на библейские темы до сих пор понятны и вызывают сопереживание у потомков. Он жил и работал во времена высокого религиозного подъёма, и его творчество пронизано светом, исходившим от замечательной личности Франциска Ассизского. Джотто посвятил себя художественному запечатлению жизни святого, от которого ему передались удивительная искренность, душевная простота и верность услышанному «слову». Поэт Полициано сочинил такие строки для надгробия Джотто: «Ille ego sum, per quem pictura extincta revixit» — «Я тот, через кого ожила угаснувшая живопись».
Готический храм Санта-Кроче с его деревянными потолочными балками и ровным желтоватым светом, льющимся потоком через алебастр боковых окон и пёстрые стрельчатые окна апсиды, по духу сильно отличается от главного собора с его монументальной официальностью. Санта-Кроче — это францисканский храм тихой светлой радости и утолённой печали, где последователи Франциска Ассизского несут людям завещанные им слова любви и вспомоществование. Рафаэль побывал в находящейся во внутреннем дворе храма капелле Пацци, творении Брунеллески, где увидел великолепные керамические изваяния Луки делла Роббиа и величественное «Распятие» кисти Чимабуэ. Именно в Санта-Кроче Рафаэль почувствовал, что гордая Флоренция одарила его доброй ласковой улыбкой и щедро раскрыла перед ним свои сокровища.
Приходится только сожалеть о том, что площадь перед Санта-Кроче, этот приют добра и человеколюбия, была когда-то отдана на откуп оголтелым сторонникам доминиканского монаха Савонаролы для проведения дикого шабаша и «костров тщеславия», где в безумном ослеплении уничтожались произведения искусства и книги как рассадник ереси и богоотступничества.
К счастью, флорентийцы вскоре протрезвели и постарались забыть фанатика-доминиканца, пытавшегося превратить Флоренцию из колыбели Возрождения в хмурый средневековый монастырь. Дабы совсем забыть те безумные годы, перед собором Санта-Кроче в 1830 году был сооружён памятник Данте. В те годы Италия представляла собой конгломерат враждующих мелких княжеств. К создателям и строителям памятника обратился земляк Рафаэля поэт Леопарди. В заключительных строках его канцоны выражены мысли и чаяния многих поколений итальянцев, мечтавших на протяжении веков, со времён Данте и Петрарки, о едином национальном государстве:
В наши дни на самой площади в погожие летние вечера проводятся Дантовские чтения, собирающие огромную аудиторию. При зажжённых свечах в руках зрителей звучат у подножия памятника Данте вдохновенные строки великого флорентийца в исполнении известных артистов.
Много времени Рафаэль проводил перед росписями Мазаччо в часовне Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине на другом берегу Арно, жадно впитывая в себя, переосмысливая увиденное и делая пометки в рабочей тетради. В те незабываемые часы он, вероятно, испытывал те же чувства, которые переполняли юного Микеланджело, когда он впервые увидел гениальные фрески, перевернувшие все его представления о живописи.
Мазаччо вошёл в искусство в возрасте шестнадцати-семнадцати лет, спустя столетие после Джотто. Но между этими двумя корифеями пролегает огромная дистанция. Юнец Мазаччо совершил подлинный переворот в искусстве. Глубоко прав Вазари, утверждая, что Мазаччо первому в итальянской живописи удалось осуществить прорыв к «подражанию вещам в том виде, как они есть», и что на его фресках люди наконец прочно встали на ноги. В отличие от предшественников он сумел окончательно решить проблему пространства, в котором изображённые люди, дома и деревья обретают геометрически оправданное место. Вместо размытых теней, как у Джотто, на фресках Мазаччо основными формообразующими элементами выступают свет и тень, которые придают объёмам их материальную осязаемость.
В сценах изгнания Адама и Евы из рая или крещения апостолом Петром язычников Рафаэль увидел яркий пример нового понимания художественной сущности нагого тела человека. Для Мазаччо оно не являлось лишь объектом изучения, в котором каждый мускул и сустав выписываются с педантичной точностью, словно их изображение служит пособием для изучения анатомии, как, например, в появившейся позже гравюре Антонио Поллайоло «Битва обнажённых». Рафаэль был наслышан о ней и однажды, чтобы её увидеть, специально посетил мастерскую родственника Поллайоло архитектора Кронаки.
В Адаме и Еве Мазаччо убедительно воспроизводит всю гамму переживаний своих героев. В сцене крещения одна из фигур нагого язычника точно передаёт физическое ощущение холода, а другая говорит о внутреннем его духовном перерождении в момент великого акта крещения. В наготе человеческого тела можно увидеть не только его пластическую сущность, но и нечто большее, что заставило Рафаэля глубоко задуматься, стоя перед творением Мазаччо.
В этой же церкви он увидел добротные фрески Филиппо Липпи, который видел, как Мазаччо работал в часовне Бранкаччи. Рафаэля заинтересовала не только живопись, но и личность самого Липпи, влюбившегося в одну монахиню и выкравшего её из монастыря. Вскоре на свет появился их сын Филиппино Липпи, будущий талантливый живописец. Этот неслыханный дерзкий поступок возмутил общество. Однако всё обошлось благополучно для любящей пары благодаря авторитетному вмешательству главы могущественного рода Козимо Медичи и папы Пия II Пикколомини, о деяниях которых Рафаэль был наслышан ещё в Сиене.
С историей рода бывших правителей Флоренции он познакомился в часовне дворца Медичи, расписанной фресками в 1459 году флорентийцем Беноццо Гоццоли на тему шествия волхвов к Святому семейству. Это великолепие в ярких красках с обилием позолоты прославляет все три поколения Медичи в апогее их безраздельной власти. Теперь дворец бывших хозяев города пуст и сюда заходят из любопытства только те, в ком сильна ностальгия по блистательным временам правления изгнанных тиранов.
Разглядывая фрески и делая зарисовки в тетради, Рафаэль повстречал там господина средних лет с выразительным взглядом на некрасивом скуластом лице, смахивающем на хорька, назвавшегося литератором Макиавелли. Это имя ему приходилось слышать из уст старины Матуранцио.
— Это было великое время, — сказал новый знакомый. — Видите, молодой человек, даже Медичи, слывшие просвещёнными политиками, не удержались от соблазна придать своей власти божественное начало и стали свысока смотреть на своих подданных, за что и поплатились, будучи изгнаны народом. Вот в чём корень наших бед.
Новый знакомый пояснил Рафаэлю, кто изображён на фреске, и рассказал историю каждого члена знатного семейства, добившегося безраздельного господства над Флоренцией. После той памятной встречи в пустом дворце Медичи, живо заинтересовавшей Рафаэля, от друзей ему стало известно, что умный и осторожный политик, член Совета десяти республики Никколо Макиавелли был выходцем из небогатой дворянской семьи. За свои симпатии и близость к Цезарю Борджиа он лишился высокой должности канцлера и занялся литературным трудом, который принёс ему большую известность. Рафаэль долго не мог забыть сверкающие глаза Макиавелли, когда тот рассказывал о Медичи, и ему даже захотелось написать его портрет. Макиавелли вскоре был вновь приближен к правящим кругам, получив должность военного консультанта, но встретиться с ним больше не представилась возможность.
Как-то перед Всехсвятской церковью, куда Рафаэль собирался было войти, его окликнул один знакомый, разговаривавший с неким стариком с клюкой и котомкой на плече. Когда он подошёл, знакомый представил его собеседнику:
— Это Рафаэль из Урбино, сын того самого Джованни Санти, о котором я вам говорил.
— Да, да, помню, — ответил старик и, ничего больше не сказав, пошёл своей дорогой.
— Кто это? — спросил в недоумении Рафаэль.
— Сандро Боттичелли. Старик с причудами и всех нынче чурается.
Рафаэль не поверил своим ушам. Неужели этот неряшливо одетый человек тот самый Боттичелли, о котором слагались легенды? Он был знаком с некоторыми его работами по гравюрам, и отец, рассказывая о художниках, с которыми был дружен, не раз упоминал это имя. Как время жестоко обходится с теми, кто недавно ещё был молод и полон сил!
Молодого урбинца часто можно было встретить в трапезной монастыря Санта-Аполлония, где его привлекли фрески Андреа дель Кастаньо, особенно его «Тайная вечеря», превосходная работа по силе драматизма и выразительности. Сидящие за столом апостолы изображены бесхитростными людьми из простонародья, охваченными гневом и смятением. Они потрясены услышанным только что из уст Христа. Их сильное волнение передаётся любому, кто оказывается перед этой фреской, излучающей энергию.
В отличие от Мазаччо, который всегда в своих произведениях мягок и душевно прост, Кастаньо резок и нетерпим. Каждым мазком кисти, любым поворотом изображённой фигуры или движением тела он поучает и по темпераменту уподобляется страстному проповеднику наподобие Савонаролы. Но не патетика и не суровая индивидуальность заинтересовали Рафаэля, а то, какое значение Кастаньо придавал рукам своих героев. Это не изящно изломанные хрупкие нежные руки, которые можно видеть на картинах Боттичелли. Кастаньо понимал и ценил силу и красоту рук, способных выражать любое состояние души человека. Они у него тонко прописаны, с красивыми пальцами, и постоянно в движении.
Здесь же в Санта-Аполлония Рафаэль обратил внимание на «Распятие», написанное сильными энергичными мазками. Ему вспомнилось другое «Распятие» кисти Перуджино, которое недавно он случайно обнаружил в одной из часовен. Какая разница между двумя этими работами! Его поразил старина Перуджино. Работая в чужой ему Флоренции, он вспомнил родную землю и вопреки избранной теме выразил свою тоску и привязанность к умбрийским прозрачным далям. Весенний радостный пейзаж у него занимает три четверти изображения, и на его фоне теряется одиноко стоящее Распятие. Рафаэль от души порадовался за старого мастера, который вдруг обрёл второе дыхание, выразив сыновью любовь к своей Умбрии.
В последнее время у него завязались дружеские отношения с Ридольфо Гирландайо, который не отходил от него ни на шаг, советуясь с ним по поводу своих работ. Рафаэль часто бывал в мастерской его покойного отца, где познакомился с двумя его дядями, тоже художниками, которым было далеко до их знаменитого старшего брата. О дружбе между двумя молодыми художниками свидетельствует находящийся в римской галерее Боргезе предполагаемый портрет Рафаэля с длинными волосами до плеч на фоне тосканского пейзажа кисти Ридольфо Гирландайо.
Творчество отца друга Доменико Гирландайо — это одна из ярких страниц в истории флорентийского искусства Кватроченто. Он обрёл широкую известность своими повествовательными фресковыми циклами во флорентийских церквях, на которых прихожане узнавали самих себя и прославившихся славными деяниями земляков. Так, в Троицкой церкви по заказу банкира Сассетти художник на шести фресках изложил историю жизни Франциска Ассизского, смело перенеся события из жизни святого на улицы и площади современной ему Флоренции. Вот во главе процессии именитых граждан шествует поэт Полициано, воспитатель сыновей Лоренцо Великолепного, а среди них юный Джованни Медичи, будущий папа Лев X. Замыкает процессию поэт Луиджи Пульчи, автор широко известной рыцарской поэмы «Морганте», о которой Рафаэль много слышал от школьного учителя Вентурини.
Ещё более впечатляющим циклом, осовременивающим страницы Священного Писания и приближающим рассказ к реалиям повседневной городской жизни с тонко подмеченными деталями быта, является самое большое фресковое повествование на трёх стенах хора в церкви Санта-Мария Новелла по заказу богача мецената Торнабуони, посвящённое жизни и деяниям Богоматери и Иоанна Крестителя.
Гирландайо избежал в своих работах религиозной экзальтации, характерной для его времени, когда с церковных амвонов раздавались призывы Савонаролы к аскезе и покаянию. Просторностью пространства на своих фресках и спокойным уравновешенным ритмом композиций он предвосхитил появление классического стиля Высокого Возрождения, и в этом его немалая заслуга. Придерживаясь старых дедовских правил, писал он только темперой, поэтому его работам недостаёт порой блеска масляных красок, которые уже тогда широко применялись во Флоренции, особенно после 1477 года, когда по заказу банкира Томмазо Портинари фламандец Хуго ван Дер Гус написал известный триптих, носящий имя заказчика, полюбоваться которым сбегался весь город.
Влияние североевропейских мастеров ощутил на себе не только Гирландайо, но и его ученик Филиппино Липпи. В своих циклах они оба отдают предпочтение интерьеру, что не было характерно для итальянских живописцев, повествующих о повседневной жизни обычно в открытом пространстве в силу климатических особенностей Италии, отличных от климата стран Северной Европы. Гирландайо одним из первых в Италии применил фламандские приёмы изображения замкнутого пространства, придав сдержанность и задумчивость своим персонажам.
Как-то вместе с другом Ридольфо Рафаэль посетил мастерскую архитектора Баччо д’Аньоло, немало поработавшего в родном городе. Его мастерская была одним из излюбленных мест встреч флорентийских мастеров. Там он наконец познакомился с Микеланджело, став очевидцем бурного спора из-за намечаемых работ над куполом собора Санта-Мария дель Фьоре, оставшимся незавершённым в своей декоративной части. Невзирая на лица, Микеланджело выступил с резкой отповедью тем, кто пытался приложить руку к великому творению Брунеллески, горячо настаивая на том, что купол должен быть оставлен в его первозданном виде. Любое вмешательство, пусть даже из самых добрых побуждений, нельзя расценивать иначе как неуважение к памяти великого зодчего.
— Каждый волен выражать собственные амбиции, — закончил он гневную речь, — но только сколько угодно в своих работах, а не в чужих.
Поднялся гул недовольства, но не тут-то было. В запальчивости Микеланджело никому не давал рта открыть, подавляя всех тоном, не терпящим возражения. Его поддержал один лишь Франческо Граначчи. Среди оппонентов были видные архитекторы Антонио Сангалло, Симоне Поллайоло по прозвищу Кронака, скульптор Джован Франческо Рустичи и художники Козимо Росселли, Лоренцо ди Креди, Пьеро ди Козимо и Андреа дель Сарто, чьи работы Рафаэль видел и ценил.
Микеланджело удалось наконец убедить их всех в своей правоте и склонить на сторону отстаиваемой им позиции. Но неуступчивый хозяин мастерской Баччо д’Аньоло упрямо стоял на своём. Он с жаром защищал выдвинутый им проект и в оправдание ссылался на то, что оригинальные чертежи с рисунками были утеряны попечительским советом собора или просто уничтожены в приснопамятные смутные времена, когда с церковных амвонов Савонарола призывал к покаянию и к отказу от всего мирского.
— Вы что, забыли те времена? — упорствовал Баччо. — Очухайтесь, коллеги, и вспомните, наконец, как предавалось огню всё, что могло вызвать подозрение в ереси, а теперь приходится локти кусать. Ведь погибла уйма прекрасных вещей.
Микеланджело произвёл двойственное впечатление на Рафаэля. Он вспомнил, как впервые чуть не столкнулся с ним в приёмной Содерини. Его поразили убеждённость мастера в отстаивании собственной позиции и уважение к памяти покойного Брунеллески, но вызвали неприязнь его излишняя горячность и, главное, нетерпимость к мнению других.
В этом он ещё больше утвердился, когда в Испанской лоджии стал очевидцем крупной ссоры по поводу живописи маслом между Перуджино и Микеланджело, который отрицал это нововведение как забаву для дураков, занесённую в Италию cкучными флегматичными фламандцами.
— Кому недостаёт фантазии, — заявил он, — тот и хватается за это новшество как за спасительное средство, рисуя затейливые узоры и цветочки, поскольку на что-либо серьёзное и дельное давно уже неспособен.
Перуджино принял эти слова на свой счёт и обиделся. Оба мастера не скупились на взаимные оскорбления и наговорили друг другу кучу нелицеприятного. Рассерженный Перуджино подал в суд за оскорбление прилюдно молодым соперником, назвавшим его искусство goffo, то есть аляповатым. Судебное разбирательство закончилось не в пользу старого мастера, которому не впервой было иметь дело с флорентийской Фемидой. Как это всё не похоже на то, что Рафаэль недавно здесь же увидел и услышал, впервые познакомившись с Леонардо!
Его немало позабавила последняя выходка Микеланджело, когда во время жаркого спора в мастерской того же Баччо д’Аньоло он ничтоже сумняшеся заявил, что его древний род графов Каносса превосходит знатностью бывших аптекарей изгнанных Медичи. Рафаэля покоробили тогда слова великого мастера, который, к сожалению, часто бывал одержим собственным величием, доходившим, как в данном случае, до смешного, что не делало ему чести.
Он продолжал упорно изучать флорентийское искусство и посещать мастерские, где между художниками постоянно велись споры, к которым он молча прислушивался, набираясь уму-разуму. Каждое утро, как прилежный школяр, идущий обучаться грамоте, он с кожаной папкой в руках посещал поочерёдно храмы, у всех на виду делал зарисовки в альбоме, руководствуясь собственным чутьём, и отбирал для копирования всё то, что могло оказаться в дальнейшем полезным, проявляя при этом незаурядный вкус.
Среди флорентийских собратьев по искусству была пущена в ход шутка о «пчёлке из Урбино, собирающей нектар с флорентийских цветов». Перуджино больше его не интересовал, но повстречав старого мастера на улице или в компании коллег, он неизменно подходил к нему и в знак почтения прикладывался к его руке, что не оставалось незамеченным другими художниками, особенно пожилыми, оценившими поведение молодого урбинца.
В своих хождениях по городу он как-то открыл для себя старинную церковку XII века Сан-Миньято аль Монте в тосканско-романском стиле на высоком холме за Арно, откуда Флоренция видна как на ладони. Её фасад выложен мраморными плитами белого и зелёного цветов. Столь же прост интерьер в мраморном обрамлении. Старые резчики по камню были так искусны, что вырезанные ими пожелтевшие от времени балюстрады и барельефы кажутся выполненными из слоновой кости. Здесь, вдали от шумного города Рафаэль любил проводить время, чтобы осмыслить в тиши увиденное и услышанное. Это был удивительный уголок, где камень пощадил растительность, и она буйно разрослась, обласканная солнцем. Издали приметна тихая кипарисовая роща, а сама церковка Сан-Миньято выглядит как мраморный цветок и эмблема Флоренции, олицетворяющая её строгую красоту и чистоту духа.
Однажды он забрёл в монастырь Сан-Марко, бывший оплот Савонаролы. Первое, что привлекло ею внимание, когда он оказался во внутреннем дворике обители, и заставило остановиться — не архитектура и не живопись, а величественная многовековая лиственница, образовавшая дивный шатёр над зелёным газоном, защищающим от палящих лучей. Могучее дерево до сих пор украшает внутренний дворик монастыря, превращённого ныне в музей. Как знать, может быть, это та самая лиственница, которой любовался Рафаэль. Там он познакомился с доминиканским монахом художником фра Бартоломео Делла Порта, который был лет на десять его старше. Поначалу доминиканец с недоверием отнёсся к собрату по искусству. А узнав, что посетитель из Урбино и, стало быть, маркизанец, которых во Флоренции традиционно недолюбливали и относились к ним с предубеждением, как к бывшим папским мытарям, он ещё более замкнулся. О разобщённости и внутренней вражде итальянских земель говорит грубоватая пословица: Meglio un morto in casa che marchigiano alia porta — «Лучше покойник в доме, чем маркизанец на пороге».
Видимо, жизнь немало потрепала монаха. В своё время он попал под сильное влияние Савонаролы, а после его смерти временно порвал с искусством по примеру некоторых своих коллег. Но открытая улыбка и доброжелательность Рафаэля обезоружили фра Бартоломео, на самом деле оказавшегося простым отзывчивым человеком, надевшим на себя защитную маску суровости, которая отпугивала навязчивых посетителей.
Рафаэль зачастил к нему в мастерскую при монастыре, где в одной из келий жил и работал когда-то скромный монашек Беато Анджелико, мечтавший своим искусством примирить религию с политикой в назидание разжиревшей флорентийской буржуазии — popolo grasso, чрезмерно пекущейся лишь о мирском. С той поры искусство сделало большой рывок, в чём нетрудно убедиться, если в том же монастыре Сан-Марко сравнить пронизанные духом чистой и по-детски наивной веры фрески блаженного монаха Анджелико с работами фра Бартоломео, которые впечатляют своей поразительной аскетической простотой. Частности и детали его не интересовали вовсе, так как он был художником целого. Обнажённая натура разрабатывалась им лишь в общих чертах, ибо для него важно было создать иллюзию движения. Перед ним блекли мишура светской живописи и набившее оскомину мелочное изящество живописи церковной. Его подлинная стихия — это впечатляющие мощью объёмы и размах общего движения, что Рафаэль отметил во многих заинтересовавших его работах фра Бартоломео, в частности в «Страшном суде». Но и для монаха-художника знакомство с молодым коллегой оказалось весьма плодотворным. От него он многое узнал о перспективе и работах Пьеро делла Франческа, учителя отца Рафаэля Джованни Санти. Как считает Вазари, «Рафаэль заимствовал у фра Бартоломео всё то, что считал для себя потребным и что было ему по вкусу, а именно некоторую умеренность исполнения как в рисунке, так и в колорите, и, смешивая эти приёмы с некоторыми другими, отобранными им в лучших произведениях других мастеров, он из многих манер создал единую, которая впоследствии всегда считалась его собственной манерой…».35
Вскоре они подружились, и фра Бартоломео, проникшийся доверием к любознательному урбинцу, как-то показал ему написанный им прижизненный портрет своего кумира Савонаролы (Флоренция, Музей Сан-Марко), достав его из-под груды картонов и досок, прислонённых к стене. Он тайно хранил его и опасался показывать кому-либо, так как времена изменились и при одном только упоминании имени казнённого монаха многие шарахались в сторону или даже могли донести властям.
— Это был великий проповедник, принявший воистину мученическую смерть, — сказал фра Бартоломео, показывая портрет. — История ещё воздаст ему по заслугам. Он сумел каким-то чудом спасти от огня богатейшую библиотеку, принадлежавшую Медичи, о чём многие стараются нынче не вспоминать.
Хозяин мастерской рассказал гостю, как после казни проповедника, когда политические страсти несколько улеглись, он вместе с Боттичелли и его младшим братом Симоне Филипепи тайно встретился здесь в монастыре с Доффо Спини, одним из тех, кто перед смертью допрашивал Савонаролу, преданного своими сторонниками. Вот что брат Боттичелли записал в своём дневнике 2 ноября 1499 года:
«Когда Сандро попросил рассказать ему правду о том, за какие смертные грехи преподобный был осуждён на такую позорную смерть, Доффо ответил: “Ты хочешь знать правду, Сандро? Так знай же, у него мы не обнаружили не только смертных, но вообще никаких грехов, даже самых малых”. Тогда Сандро снова его спросил: “Почему же вы так жестоко с ним расправились?” В ответ Доффо без обиняков сказал: “Если бы монах и его друзья не были умерщвлены, народ отдал бы нас им на расправу. Дело зашло слишком далеко, и мы решили, что ради нашего спасения лучше умереть ему”».36
После той памятной встречи Боттичелли сник и забросил кисти и палитру. Говорят, он не мог забыть, как, поверив призывам проповедника к аскезе и покаянию перед неминуемым светопреставлением, поддался общему безумию и собственноручно понёс свои картины на площадь Санта-Кроче, где бросил их в костёр.
— Я тоже был там и сам бросил в огонь несколько картин, — грустно промолвил фра Бартоломео. — Так поступили тогда многие мои друзья, и не мне их судить. Ныне, проходя мимо бывшего пепелища, я жестоко корю себя за малодушие, трусость и измену искусству.
Вспомнив прошлое, фра Бартоломео разволновался и долго ещё рассуждал о тех днях расправы над искусством. Он многое рассказал также о Боттичелли и его удивительной способности почти полностью отстраняться от объекта изображения.
— Главное для Сандро, — говорил он, — это выразить своё отношение к теме, что приводило нередко к небрежности рисунка и цветового решения. Важнейшим для него всегда было и до сих пор является сохранение собственного лица и неповторимость почерка.
У Рафаэля возникло желание поближе познакомиться с работами старого мастера. Некоторые он видел в церквях, но большинство из них принадлежало частным владельцам, а другие, в том числе широко известные картины «Весна», «Рождение Венеры» и «Портрет Симонетты Веспуччи», были заперты на вилле Кастелло в шести километрах от города, хозяин которой, племянник Лоренцо Великолепного, Лоренцо ди Пьерфранческо, будучи в неладах с правительством Флорентийской республики, то ли был в бегах, как и все остальные отпрыски семейства Медичи, за чьи головы был назначен солидный выкуп, то ли умер.
На выручку пришёл брат художника Симоне Филипепи.
— Сандро нездоров и никого не принимает, — сказал Симоне. — Он увлечённо работает над рисунками к «Божественной комедии», и эта работа для него как молитва. Его в такие минуты лучше не трогать.
Симоне взялся проводить Рафаэля к торговцу картинами на улице Маджо, которому была сдана на комиссию одна из последних работ Боттичелли. Это «Покинутая» (Рим, частное собрание Паллавичини). Покупателя на неё пока не нашлось, а тем временем автор испытывал нужду и дурно питался. В последнее время он так исхудал, что при встрече на улице друзья и знакомые не узнавали его в согбенном старике с клюкой и в накинутом на плечи потёртом плаще, принимая за бродягу. Существует легенда о том, как Микеланджело, повстречав однажды и не узнав старого мастера, принял его за нищего и подал милостыню. В это верится с трудом, поскольку Микеланджело филантропом никогда не был и щедростью не отличался, даже себе отказывал во многом. Зимой и летом этот «потомок графов Каносса» ходил в обносках и стоптанных сапогах, дорожа каждым заработанным сольдо. Правда, на его шее сидели престарелый отец с сожительницей, братья-бездельники и племянники, о которых он заботился как о своих детях, но на чёрный день он прикупал по сходной цене землю в округе.
Боттичелли вёл замкнутую жизнь, отказавшись от встреч даже с собратьями по искусству. Последний раз он виделся с ними, войдя в комиссию, которой правительство поручило выбрать место для установки микеланджеловского «Давида». Свою тоску и горечь он изливал в красках, берясь за кисть, если хватало сил.
Хозяин лавки снял покрывало с картины, стоящей на мольберте, и взору Рафаэля предстало одно из самых мрачных творений великого мастера, а возможно, и всей мировой живописи. В конце жизни Боттичелли осознал своё поражение, но отказался подстраиваться под новые веяния и вкусы. В нашей жизни omnia mutatur — всё меняется, но столь стремительно, что многое, считавшееся ещё вчера правильным и незыблемым, сегодня оказывается опровергнутым и отринутым той же жизнью. Старый художник растерялся перед непонятной ему новой действительностью с её чёрствостью, цинизмом и меркантилизмом, а пошатнувшаяся в нём вера во всё то, чему всю жизнь поклонялся и чем дорожил, ввергла его в бездну отчаяния, из которой он до самой кончины так и не смог выбраться.
Переживший блеск эпохи Медичи и крах Савонаролы, Боттичелли своими последними работами выразил предчувствие того, что его Флоренция утрачивает ведущую роль в искусстве и культуре. Находясь в подавленном состоянии, он создал пронзительный по силе драматизма образ несчастной босой женщины в рубище. Мы не знаем, какое наименование было дано самим автором своему детищу. Название «Покинутая» появилось в литературе позднее.
Закрыв лицо руками, героиня картины сидит на ступенях, сбросив одежду на землю, перед запертыми воротами и неприступной стеной. Отсюда как из каменного мешка нет выхода. Единственное яркое пятно картины — это кусочек голубого неба, которое робко проглядывает сквозь ощетинившиеся железными шипами ворота. Согбенная от безысходности фигура олицетворяет замурованную душу, отрешённую от божественной благодати.
Эта аллегория безысходности и угнетённости духа произвела на Рафаэля тяжёлое впечатление. Узрев в ней трагедию добродетели, отторгнутой от божественной мудрости, он вдруг почувствовал, что задыхается без живительного глотка свежего воздуха в замкнутом помещении, и, не сказав ни слова, спешно покинул картинную лавку. Её хозяин опешил при виде клиента, убегающего в панике, даже не попрощавшись.
Проходя мимо Санта-Мария Новелла, Рафаэль вспомнил совсем другие чувства и настроения, переполнявшие его после первой встречи с Леонардо, и полученный от него заряд бодрости вместе с желанием творить. Его поразили тогда тактичность великого мастера в общении с разными людьми и спокойный располагающий к себе тон голоса.
Однажды в компании местных эрудитов, любивших порассуждать, сидя на скамейках дворца Спини перед колонной Справедливости, привезённой из терм Каракаллы, Рафаэль стал свидетелем спора по поводу одной мысли Данте, высказанной им в сочинении De vulgari eloquentia («О народном красноречии»). Он с интересом слушал рассуждения учёных мужей о великом земляке. К спорящим эрудитам присоединился прогуливающийся Леонардо в сопровождении учеников, и им захотелось узнать его мнение по существу обсуждаемой темы.
— Вполне очевидно, — сказал он, — что выросший из учёной латыни новый разговорный язык, по мысли Данте, должен обогащаться за счёт имеющихся у нас диалектов. Ведь это подлинный кладезь народной мудрости, и он неисчерпаем. Меня эта мысль давно занимает.
Вскоре к группе беседующих подошёл Микеланджело. Услышав, о чём разговор, он хотел было проследовать дальше, но его остановил Леонардо:
— А вы, коллега, что думаете на сей счёт? Ведь вы считаетесь у нас знатоком Данте.
По лицу Микеланджело пробежала тень недовольства. Видимо, почувствовав, что именитый мастер решил его при всех поставить в трудное положение, он грубо ответил:
— Тебе бы, умник, не о Данте рассуждать, а подумать о миланцах, которых ты оставил с носом, так и не закончив заказанную ими конную статую.
Наступило молчание. Всем было неловко за резкий выпад Микеланджело, который, не попрощавшись, удалился. Но грубость не вывела Леонардо из равновесия. Улыбнувшись, он сказал:
— Не стоит обращать на это внимания. С нашим братом художником часто такое случается. Когда мы во власти какой-нибудь идеи, то нередко забываем о правилах хорошего тона. Кстати, о языке простонародья. Послушайте одну историю, которую мне довелось недавно услышать. Как-то друзья спросили у одного деревенского художника: «Картины у тебя бесспорно хороши, но отчего твои конопатые дети столь неказисты?» И услышали такой ответ: «Картины я пишу днём, а вот детишек делаю в потёмках».
Все весело рассмеялись, и от прежней неловкости не осталось и следа, а Рафаэль лишний раз убедился, насколько велик и мудр Леонардо. Он никого не подавлял превосходством ума и охотно делился со всеми, кто обращался к нему, знаниями и опытом. Люди тянулись к нему как к доброму волшебнику, заворожённые его одухотворённой красотой. А он был воистину красив — статен, высок, доброе лицо с правильными чертами обрамляла вьющаяся русая бородка. Позже Рафаэлю удалось запечатлеть его благородный облик на одной из римских фресок.
Как ни велика была его слава живописца и эрудита, Леонардо упорно совершенствовал свои знания и не мыслил себе жизнь без постоянного поиска, считая, что «берущийся за дело без должных знаний подобен мореплавателю, отправляющемуся в путешествие без руля и компаса». Современники, наслышанные о его увлечении наукой, считали это прихотью и корили мастера за «забвение» интересов искусства, а заказчики часто выражали недовольство несоблюдением художником сроков сдачи работы из-за чрезмерной занятости научными изысканиями. Как-то за ужином в доме Таддеи, на который были приглашены его друзья коллекционеры, Рафаэль услышал от одного из них:
— Я заплатил Леонардо солидный аванс за «Поклонение волхвов». Прошло полгода, а заказ всё ещё не выполнен.
Для любого человека, кто встречался с Леонардо, многое в нём было непостижимым и таинственным, равно как и загадочная улыбка его «Джоконды», над которой он продолжал неспешно трудиться, так как доведение до завершения всякого начинания не было его уделом и главным был процесс творчества как путь к познанию истины.
О любви Леонардо к животным, особенно к птицам, ходили легенды. Например, в недавно обнаруженном письме флорентийского купца Андреа Корсали из Индии сказано: «…жители этой далёкой сказочной страны, подобно нашему знаменитому Леонардо, не позволяют чинить животным никакого зла». Об этом хорошо были наслышаны флорентийские мальчишки, которые тащили в мастерскую к художнику бездомных собак, раненых птиц, диковинных бабочек, зная, что их всегда ждёт щедрое вознаграждение. А местные птицеловы ждали, как праздника, появления Леонардо на рынке близ Сан-Лоренцо. Не торгуясь, он платил за облюбованных им пленниц, томящихся в клетках, и тотчас выпускал на волю, любуясь, как птицы парят в небе, обретя нежданную свободу.
Стоило мастеру появиться на улице в сопровождении неизменной свиты учеников и восторженных поклонников, прохожие тут же останавливались, а люди высыпали из домов, чтобы ближе разглядеть человека, ставшего при жизни легендой. Он был предметом такого обожания и поклонения, что многие, особенно молодые люди, подражали его походке, манере говорить и одеваться.
От природы Леонардо был наделён недюжинной силой, без труда гнул подковы и стальные прутья. Ему не было равных в фехтовании, а как наездник он мог усмирить любого норовистого скакуна. Превосходно играя на лютне, которую смастерил сам в виде лошадиной головы, он любил в кругу друзей импровизировать, подбирая музыку к сочинённым им сонетам и мадригалам. К сожалению, время их не сохранило. Едва он начинал говорить, как все разом умолкали, прислушиваясь к его чарующему голосу. Его словесный портрет мог бы быть дополнен стихами его постоянного соперника Микеланджело, сочинёнными значительно позднее и обращёнными к другому лицу:
Воспользовавшись давешним приглашением, Рафаэль побывал в мастерской Леонардо, где увидел такое, что перечеркнуло многие его взгляды на живопись. Хозяин мастерской оторвался от работы, чтобы поприветствовать гостя. Чуть в сторонке один из учеников ублажал слух мастера игрой на лютне, когда тот брался за кисть. Одна из стен была сплошь занята полками с книгами и кипами бумаг. Стол перед окном был заставлен, как в лаборатории алхимика, колбами и ретортами. Из одного сосуда в виде кадильницы поднимался голубоватый дымок, распространяя терпковатый аромат хвои и лаванды.
Леонардо отложил кисть и палитру, оставшись перед мольбертом, на котором была установлена «Джоконда», или Мона Лиза. Рафаэль остановился как вкопанный перед этим чудом. Потом, очнувшись, он тряхнул головой и отступил на несколько шагов в сторону, чтобы посмотреть издали на изображение, а затем вновь приблизился. Его охватил внутренний трепет. Нечто подобное он испытал, когда на площади Синьории впервые увидел микеланджеловского «Давида». Тогда гигантская скульптура его ошеломила исполинской мощью. Здесь же было нечто другое, чему невозможно найти объяснение.
Не в силах оторвать взгляд от «Джоконды» и её глаз с поволокой, он заметил, что притаившаяся в уголках рта улыбка похожа на едва уловимую улыбку самого автора портрета, поглядывающего с хитрецой на молодого коллегу. Для Рафаэля увиденное в мастерской Леонардо явилось окном, которое доселе было предусмотрительно закрыто для итальянской живописи, равно как и для Рафаэля всякими канонами и условностями. Но сама техника леонардовского письма с плавными и едва различимыми переходами от света к тени подобно лёгкой дымке оставалась загадкой, как загадочными были выражение лица большелобой молодой женщины и скалистый пейзаж с рекой за её спиной. В самом пейзаже немало узнаваемых деталей, склоняющих к мысли, что, по всей видимости, писался он с натуры.
Нет, Рафаэль не назвал бы красавицей 24-летнюю Мону Лизу. Нос несколько длинноват на безбровом лице по тогдашней моде, когда у светских дам было принято выщипывать брови и выстригать волосы на лбу. Однако в самом облике Моны Лизы заключена такая притягательная сила, что от неё невозможно оторваться. Благодаря особому, известному только автору методу наложения краски выражение лица Джоконды постоянно меняется в зависимости от угла зрения. В нём и нега, и лукавство, а порой неприязнь. У любого, кто смотрит на портрет, создаётся впечатление, что Леонардо было достаточно погладить рукой поверхность изображения, чтобы выявить выпуклость и округлость форм. При близком и более пристальном рассмотрении можно даже разглядеть, как на шее Моны Лизы пульсирует жилка живой плоти. Это какая-то мистика, а за лёгкой прозрачной дымкой сокрыта некая неразгаданная тайна.
Рафаэль долго не мог прийти в себя. Это было как наваждение, и он гнал от себя мысли о «Джоконде», отвлекавшие от работы, а они вновь возвращались. Вот она, завораживающая новизна живописного творения, которую ранее он не видел. Ему было понятно, почему муж Моны Лизы негоциант Франческо Дзаноби дель Джокондо, женившийся в третий раз на девушке из бедной семьи и вдвое её старше, чуть с ума не спятил от ревности, как утверждает молва, когда узнал, что жена согласилась позировать художнику. Но откуда было знать бедняге-ревнивцу, что Лиза Герардини могла интересовать Леонардо да Винчи всего лишь как модель и не более того, а потому не стоило уж так страдать и убиваться. Да и самой модели вскоре наскучило позирование, так как конца работы не было видно.
Джоконда снилась Рафаэлю по ночам, и он сделал несколько набросков по памяти, в которых, как он видел, чего-то недоставало несмотря на все его старания. Тогда, взяв однажды в руки перо, он разразился сонетом. Некоторые исследователи склонны считать его апокрифом, хотя, как известно, сам сонет был обнаружен не где-нибудь, а среди бумаг и рисунков Рафаэля. Поэтому приведём его здесь как отражение чувств, охвативших художника при виде непостижимой тайны прекрасного:
Ни рисунки, ни стихи не помогли Рафаэлю познать тайну загадочной улыбки Моны Лизы.
Глава XI НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СОСТЯЗАНИЕ ВЕКА
Однажды на одном из светских приёмов Рафаэль познакомился с Аньоло Дони, успешным банкиром и меценатом, который выделялся утончённостью вкуса среди других флорентийских коллекционеров. В начале года он породнился с аристократическим семейством Строцци и заказал Микеланджело написать в качестве свадебного подарка «Святое семейство», называемое «Тондо Дони» (Флоренция, Уффици). Когда заказ был исполнен, работа вызвала недоумение у знатоков своей непривычной композицией, включая и самого заказчика, отличавшегося широтой взглядов. Когда Рафаэль увидел картину у Дони, она поразила его новизной, идущей вразрез с живописью мастеров Кватроченто, приверженных строгим канонам и традиционным композиционным схемам, но её колорит не вызвал у него особого интереса и оставил равнодушным.
Вскоре Дони заказал Рафаэлю два портрета, свой и жены, которая не оценила свадебный подарок мужа, сочтя его кощунственным. Её возмутило, что художник изобразил Мадонну, сидящей между ног Иосифа и вопреки существующим канонам с обнажёнными руками. Рафаэль с радостью взялся за работу, чтобы воплотить в красках всё то, что поразило его воображение за время пребывания во Флоренции. До сих пор у него не было здесь стоящего заказа, а тут вдруг сразу целых два портрета! Правда, Ридольфо Гирландайо предупредил его о прижимистости Дони и имевшем место конфликте при расчете за работу с Микеланджело, который решительно не согласился с заниженной ценой, предложенной заказчиком за «Святое семейство», и хотел даже оставить картину у себя. Но Рафаэль не внял предупреждению товарища и, к удивлению заказчика, легко согласился на предложенный гонорар. В момент подписания контракта его меньше всего заботила материальная сторона дела, так как голова была занята мыслями о красках, грунтовке досок из выдержанного дерева и рамах для будущих картин, а самое главное, ему необходимо было ближе присмотреться к супружеской паре, чтобы подметить особенности характеров.
Оба портрета почти одного размера появились одновременно (Флоренция, Питти). Хотя леонардовская манера письма произвела неизгладимое впечатление на Рафаэля, он решил отказаться от его sfumato. Никакой загадочности и таинственности — всё должно быть предельно просто и жизненно, и придал колориту картин радостное мажорное звучание на фоне бледно-голубого от летнего зноя неба с плывущими облаками.
Особенно впечатляет тонкой психологической глубиной проникновенный портрет мужа, умного волевого флорентийца, приумножающего своими деяниями богатство и славу родного города. В каждой детали портрета чувствуется, что художнику сама модель явно симпатична. Каштановые длинные волосы до плеч, чёрный берет и чёрный с пурпуровыми рукавами бархатный жилет с золотой застёжкой. Плотная фигура Аньоло Дони рельефно выглядит на фоне летнего дня, заключая в себе скрытую энергию, которая способна на быструю реакцию. Глаза чуть прищурены, а из полуоткрытых губ готово сорваться слово, обращённое к воображаемому собеседнику. Здесь впервые Рафаэль раскрывает живописными средствами характер портретируемого лица в его возможном общении со зрителем, что было в новинку для жанра светского портрета.
Фигуре Аньоло Дони намного уступает изображение его некрасивой жены Маддалены, избалованной капризной аристократки, считавшей, что своим согласием на позирование она уже сделала художнику большое одолжение. Её поза несколько напоминает позу Джоконды, но ей явно недостаёт присущей леонардовской героине загадочности. Нет, здесь всё предельно ясно — природу не обманешь.
На обеих картинах заметно влияние фламандской живописи, а с ней Рафаэль был достаточно хорошо знаком, особенно со знаменитым «Алтарём Портинари» Хуго ван дер Гуса из церкви Сан-Эджидио при госпитале Санта-Мария Нуова. Это влияние заметно в филигранно написанных деталях украшений Аньоло и Маддалены Дони из рубина, сапфира, изумруда и жемчуга.
Выставленные на обозрение во дворце Строцци оба портрета вместе со «Святым семейством» Микеланджело произвели подлинный фурор. На приёме по такому случаю собралась флорентийская элита, и, естественно, среди приглашённых были оба автора выставленных картин. Дня за два до приёма Рафаэль навестил Леонардо и пригласил его на представление публике двух своих работ. Поблагодарив за приглашение, мастер ответил:
— Рад за вас, мой друг. Но поскольку там будет Микеланджело, мне не хотелось бы своим присутствием портить вам праздник. Этот задира не преминет к чему-нибудь придраться и затеять скандал, чему вы сами были недавно очевидцем. Так что не обессудьте.
Другим художникам приглашение на великосветский раут не последовало. Для Рафаэля это была победа. Ещё бы, его работы выставлены рядом с картиной самого Микеланджело, о чём он не смел даже мечтать! Прибывший из Феррары дальний родственник хозяев дворца престарелый поэт Тито Веспазиано Строцци посвятил этому событию и зачитал хвалебную оду на латыни, в которой оба художника названы божественными творцами. На приёме между Микеланджело и Рафаэлем впервые состоялся разговор об искусстве, к которому с интересом прислушивались гости, обступившие стеной двух художников.
Остановившись перед портретами супругов Дони, Микеланджело оценил их добротность, но и заметное влияние в них манеры Леонардо, о котором намеренно завёл разговор, желая поставить собеседника в тупик и заставить признаться в заимствовании. Вспомнив недавнюю стычку между двумя мастерами и оставшийся неприятный осадок, Рафаэль с честью вышел из трудного положения, спокойно заявив, что приехал во Флоренцию с одной лишь целью — учиться и вбирать в себя всё лучшее у её великих творцов. Когда он заговорил, его лицо вдруг озарилось каким-то внутренним светом.
— Нельзя пренебрегать уроками великих мастеров, — убеждённо сказал он, — а тем паче бояться в этом признаться. Эти уроки не только обогащают любого молодого художника, но и помогают ему выработать собственный стиль, а это задача не из лёгких.
Видимо, почувствовав неловкость от произнесённых громких слов, он потупил взор, но в его голосе прозвучала такая неподдельная искренность, что неприязнь Микеланджело к фавориту «префектессы» стала понемногу рассеиваться, и он стал внимательно к нему присматриваться, словно впервые его увидел. А когда они подошли к «Святому семейству», не отстававший ни на шаг от них Аньоло Дони не преминул спросить Рафаэля, что думает он о картине.
— Среди всех виденных мной во Флоренции произведений эта работа самая самобытная, — прозвучал ответ. — Я считаю её основополагающей для всего дальнейшего развития живописи, в чём и заключается её великая ценность.
— Видишь, Микеле, — шутливо обратился Дони к стоящему молча Микеланджело, — ты не прогадал, и я не внакладе, став её счастливым обладателем.
На обычно строгом лице Микеланджело появилось подобие улыбки, и всем своим обликом он источал удовольствие. Никого из гостей разговор не оставил равнодушным. Дамы обступили тесным кольцом молодого красивого художника, одетого по последней моде, и засыпали вопросами. Микеланджело вскоре наскучили пустая светская болтовня и дамское щебетание вокруг, которое, кажется, льстило его молодому коллеге, и он стал откланиваться. Рафаэль с разрешения хозяйки вечера донны Маддалены хотел было его проводить до дома. Но Микеланджело отговорил его и один покинул дворец. Рафаэлю пришлось ещё долго выслушивать восторги дам и отвечать на их вопросы, пока мужская половина гостей проводила время за ломберными столами.
На приёме Рафаэль познакомился со своим ровесником Франческо Гвиччардини, занимавшим несмотря на возраст высокий пост в правительстве Флорентийской республики и обретшим известность литератора. Но взаимопонимания между молодыми людьми не получилось. При всей своей образованности и начитанности новый знакомый неприятно поразил Рафаэля резкостью суждений, что было ему всегда чуждо, особенно если речь шла об искусстве, а вопросы политики его меньше всего интересовали.
С этими двумя портретами супружеской пары Дони полвека спустя произошла любопытная история. В разгар Контрреформации и усиления активности специально созданного нового монашеского ордена иезуитов для борьбы с инакомыслием и ересью напуганный владелец портретов решил прибегнуть к уловке. На тыльной стороне обеих картин по его просьбе малоизвестным флорентийским художником по прозвищу Серумидо были написаны библейские сюжеты «Всемирный потоп» и «Ковчег Девкалиона и Пирры». Оба портрета долго провисели во дворце Строцци тыльной стороной наружу во избежание возможных неприятностей, хотя в то время слава Рафаэля была столь велика, что эта предохранительная мера оказалась излишней. Видимо, трусоватый владелец картин, обжёгшись однажды на молоке, стал дуть на воду, а может быть, с супружеской парой Дони у него были свои счёты. И всё же надо быть признательными новому хозяину двух шедевров, что у него хватило ума уберечь пусть даже таким странным способом оба портрета, да и вряд ли робкий Серумидо позволил бы себе дерзость писать поверх рафаэлевской живописи.
В связи с успехом Рафаэля не на шутку всполошилась вся завистливая художническая братия. В погожие дни ее сборища обычно проходили в садах Оричеллари, по тенистым аллеям которых когда-то разгуливали, беседуя, прославленные учёные мужи Платоновской академии.
— Никогда не думал, — сказал Кронака, — что в построенном мной дворце будет выставлена для публики слащавая парочка зазнавшихся Дони. Помню, как ещё совсем недавно этот парень таскал на спине тюки с пряжей на ткацкой фабрике, а ныне он всеми уважаемый гражданин, породнившийся с самими Строцци.
— Что и говорить, — поддержал его Баччо д’Аньоло, — поглазеть на картины слетаются, как мухи на патоку, все наши доморощенные знатоки. Их хлебом не корми, а дай посудачить об искусстве, состязаясь в красноречии.
Обычно хранящий молчание в компании и прислушивающийся к тому, что говорят другие, Андреа дель Сарто скромно заметил:
— Но портреты ведь и вправду хороши.
— Вон идёт Микеланджело! — воскликнул Рустичи. — Его и спросим, что он думает об урбинце, взбудоражившем всю Флоренцию.
Микеланджело с присущей ему прямотой заявил:
— Что бы там ни говорили, Рафаэль — это чудо природы, в чём и кроется секрет его небывалого успеха. И пока вы перемываете ему косточки, он работает не покладая рук.
— Уж не завидуешь ли ты ему? — язвительно спросил его Пьеро ди Козимо.
— Не думаю, что он хоть раз брал в руки молот каменотёса или резец скульптора. Так что делить мне с ним ровным счётом нечего, — последовал ответ.
Что и говорить, молодой урбинец одним лишь своим присутствием смутил покой и взбудоражил ареопаг старожилов, заставив их всех серьёзно призадуматься о занимаемом ими всеми месте в искусстве. Даже хвалёным фламандским мастерам не удавалось добиваться столь шумного успеха.
О Рафаэле как новом открытии заговорили во всех флорентийских салонах. Местная знать загорелась желанием во что бы то ни стало заручиться расположением молодого урбинца, особенно когда вскоре появилась ещё одна его работа «Святое семейство» (Мюнхен, Старая пинакотека) по заказу известного негоцианта Доменико Каниджани, главного заправилы делами всесильного Цеха шерстянников, от которого во многом зависели благосостояние и судьбы Флоренции. Следуя примеру Дони, Каниджани тоже возымел желание преподнести картину в дар своей избраннице Лукреции Фрескобальди к свадьбе.
«Святое семейство» Каниджани — это подлинный шедевр композиции, построенной по принципу пирамиды. В её основании две матери с играющими детьми, а вершиной служит фигура старого Иосифа, опершегося на клюку. Вся эта семейная сцена пронизана духом умиротворённости, чему способствует тонко написанный пейзаж на заднем плане с селениями на холмах, колокольнями, крепостной башней, полноводной рекой, синеющими вдали горами и резвящимися в облаках крылатыми херувимами.
По городу пошёл слух, что картины, написанные Рафаэлем, как талисман, приносят счастье и благополучие их обладателям.
— Нет, вы только посмотрите, — говорили в трактирах, — как пошли в гору дела у всех этих Дони и Каниджани, стоило им обзавестись картинами урбинца!
В мастерскую Рафаэля зачастили заказчики. Это были в основном молодые энергичные люди, сумевшие после падения авторитарного режима Медичи с толком воспользоваться благоприятными условиями, созданными в годы республиканского правления для свободного волеизъявления и развития деловых и торговых связей. Рафаэль запечатлел одного из них. Это мужской портрет (Вадуц, собрание принца Лихтенштейна) с пристальным взглядом деятельного волевого человека, полным собственного достоинства.
Тогда же появился женский портрет (Флоренция, Питти), получивший название Gravida («Беременная»). В нём отчётливо проявилось, сколь полезным для художника оказались урок, полученный у Леонардо, и его метод моделировки объёма посредством светотеневых переходов. Поражает, как художник противопоставляет цвета: жёлтый с красным вкупе с белым и чёрным. С большим мастерством написаны лицо и руки, но художник не идеализирует модель и тонко передаёт состояние женщины в канун величайшего события в её жизни. Оно вот-вот должно свершиться, что отразилось на несколько подурневшем лице, но выражающем сосредоточенность будущей матери на своём внутреннем физическом и душевном состоянии.
Изображённая на тёмно-коричневом фоне молодая женщина, приложив руку к животу, чутко прислушивается к движению вынашиваемого ею плода любви. Остальной мир для неё не существует — всё внимание на своём внутреннем состоянии. Вероятно, это жена одного из заказчиков, на отсутствие которых Рафаэль не сетовал. Хватало работы и его подмастерьям, которые дорожили своим местом у требовательного, но щедрого художника, не раз доверявшего им многие подготовительные работы по своим рисункам.
Восторги его картинами были вызваны в не меньшей степени той новизной, которую ему удавалось внести в любое своё произведение. Основные усилия были направлены им на то, чтобы избежать повторов и не быть похожим на других. Стиль Рафаэля стал узнаваем. Молодой урбинец умело учитывал запросы заказчиков. Отдавая должное новым современным требованиям, он не забывал о лучших традициях прошлого. Ему удавалось ублажать чудесным образом как поклонников нового, так и ревностных приверженцев старины. Никто не был им обижен, и все оставались довольны его работами.
Если Рафаэлю случалось стать свидетелем разговоров об искусстве в одном из художественных салонов, он внимательно выслушивал говорящих, чтобы сделать им приятное и дать высказаться, даже если они несли несусветную чушь. Одним словом, это был поистине «воспитанный и добрый молодой человек», как писала о нём в письме «префектесса» Фельтрия гонфалоньеру Содерини.
С той самой поры, как во Флоренции одновременно объявились Микеланджело и Леонардо, между их сторонниками споры не затихали, перерастая иногда в потасовки, и в этом не было ничего удивительного — такова пылкая натура флорентийцев. А вот из-за Рафаэля никому из них не взбрело бы в голову затевать драку, поскольку в том не было никакого резона. При одном лишь упоминании его имени лица озарялись доброй улыбкой и спорящие приходили к единодушию, ибо искусство Рафаэля примиряло страсти и просветляло души. Своим природным обаянием, добрым нравом, а главное, выполненными там работами он покорил гордую Флоренцию, где отныне утвердилась славная триада — Леонардо, Микеланджело и Рафаэль.
По Флоренции разнеслась весть, что гонфалоньер Содерини решил поручить Леонардо и Микеланджело расписать фресками зал Большого совета во дворце Синьории, на что казна выделила 100 тысяч золотых дукатов, сумма по тем временам огромная. Каждому мастеру отводилась отдельная стена при полной свободе в выборе темы, но обязательно посвящённой одному из эпизодов героического прошлого Флоренции. О таком заказе можно было только мечтать, и все флорентийцы жили ожиданием исхода этого события.
Леонардо раньше приступил к работе над подготовительными рисунками, пока Микеланджело был занят отгрузкой и доставкой морем в Рим добытых им блоков отборного каррарского мрамора для задуманной гробницы по заказу папы Юлия II. Приезжая на время из Каррары, он урывками работал над картоном в одном из залов дворца Синьории, предоставленном в его распоряжение благоволившим ему гонфалоньером Содерини. Но ключ от зала был в кармане у мастера, и в его отсутствие туда никто не смел заходить.
Двум великим флорентийцам предстояло вступить в состязание и прилюдно помериться силами. Хотя между ними была двадцатилетняя разница в возрасте, они ни в чём не хотели уступать друг другу в стремлении доказать своё превосходство над соперником. Один был скорее порождением великой эпохи Лоренцо Великолепного, другой — смутного времени Савонаролы. Так Рафаэль оказался очевидцем этого величайшего события, известие о котором разнеслось по всей Европе. Духом состязания и постоянного соперничества был пронизан сам воздух Флоренции, который вдыхал в себя полной грудью Рафаэль. Но он нутром понимал, что его час ещё не пробил и надобно основательно подготовиться, чтобы с полным правом самому с поднятым забралом смело вступить в состязание с двумя гигантами на безбрежной ниве искусства.
Пока оба творца поодиночке трудились над подготовительными картонами для фресковой росписи, Рафаэль вспомнил об обещании, данном когда-то Аталанте Бальони, и принялся работать над рисунками для задуманного произведения, соревнуясь с самим собой и с другими авторами картин на избранную им тему. Вскоре он вновь оказался в Перудже, где друзья помогли найти свободное помещение под мастерскую. Началась работа над большой картиной «Положение во гроб» (Рим, галерея Боргезе). С Перуджей у него так много было связано хорошего, а всё дурное он постарался вычеркнуть и забыть. Его феноменальная память обладала удивительным свойством предавать забвению любые болевые моменты и грустные воспоминания, кроме утраты матери. Память о ней никогда в нём не угасала.
На сей раз он объявился в Перудже совсем другим человеком, обладающим более широким кругозором и распрощавшимся с прежним багажом под воздействием взбудоражившей его Флоренции, её искусства и культуры, а главное, живописи Мазаччо, Леонардо, Микеланджело и других мастеров. Отныне его занимали проблемы выразительной пластики фигур в их движении, о чём красноречиво свидетельствует большая подготовительная работа, связанная с заказом Аталанты Бальони — единственного произведения, идею которого Рафаэль, всегда столь спорый в работе, непривычно долго вынашивал, меняя сам замысел и композицию в рисунке ради достижения наибольшей выразительности и динамики.
Для него это был своеобразный рубеж, который надлежало непременно преодолеть во имя достижения новых высот. Например, на одном его оксфордском рисунке тело Христа, снятое с креста, лежит на земле в окружении скорбящих учеников и рыдающих женщин. Сходную композицию Рафаэль мог видеть на картинах «Оплакивание Христа» Боттичелли в церкви Санта-Мария Маджоре и Перуджино в монастыре Санта-Кьяра. У них обоих все персонажи сгрудились в застывших позах вокруг тела Христа. Видимо, нечто подобное хотела увидеть и заказчица, оплакивающая гибель своих близких. Проникшийся сочувствием к горю Аталанты Бальони, Рафаэль первоначально хотел сделать повествовательно скорбную композицию со стоящими неподвижно персонажами.
Но после знакомства с искусством Микеланджело, с его могучими формами, страстью и драматизмом подобная статичность композиции уже не устраивала Рафаэля и он её изменил коренным образом, решительно перейдя от фигур, застывших в горестном созерцании снятого с креста тела Христа, к их движению и введению резких контрастов. Судя по результатам радиографического анализа, в процессе работы над самой картиной Рафаэль то и дело вносил правку в размещение фигур на плоскости, чтобы добиться большей их компактности и выразительности. Поэтому он отказался от прямоугольной вытянутости по вертикали, как у Боттичелли, или по горизонтали, как у Перуджино. У него получился почти квадрат, в котором композиция обретает характер одновременности происходящего и центростремительности движения. Здесь налицо все признаки классического стиля. Но выбор формата не представляется удачным, поскольку ни одно из направлений не выглядит первостепенным и внимание зрителя раздваивается.
Впервые обратившись к трагической теме, Рафаэль не изменил своей натуре ни на йоту. Действие на картине развёртывается в знойный летний день, никак не располагающий настроиться на грустный лад. В прозрачных далях на фоне синеющих гор проступают стены и башни замка Антоньола, принадлежавшего семейству Бальоне, и дорога, ведущая из Перуджи в городок Умбертиде, а справа возвышается залитая солнцем гора Голгофа с тремя высокими крестами казни, прислонённой лестницей к одному из них, что посредине, и двумя одинокими фигурами.
Главное для художника — запечатлеть на картине движение людей, несущих на белой погребальной простыне только что снятое с креста безжизненное тело Христа с запрокинутой головой и висящими, как плети, руками. С его мертвенно-бледным телом резко контрастируют яркие одежды остальных персонажей в красных, синих, зелёных и жёлтых тонах, столь непривычных для дня похорон, что вносит некий диссонанс в композицию.
Тело несут трое мужчин, напрягшись под тяжестью. Один из них, держащий ношу в головах, неуверенно пятится спиной, осторожно нащупывая ногой ступеньки перед входом в пещеру. На него приходится основная тяжесть, что видно по напряжению самой фигуры. Чтобы уступить место двум другим лицам на картине, он повернул голову под тем же углом, что и повернута голова Христа.
Усиливая контраст между жизнью и смертью, художник придал физиономии человека, несущего безжизненное тело, черты, схожие с чертами мёртвого Христа. Оба лица обращены к небу, взывая к состраданию. Первому, несущему тело, помогает не оступиться мужчина средних лет и крепкого телосложения. Возможно, это Иосиф Аримафейский, на чьей земле находилась пещера с гробницей. По другим версиям, им мог быть неожиданно помолодевший Никодим, автор апокрифического Евангелия. Из-за его плеча выглядывает любимый ученик юный Иоанн Богослов, устремивший взгляд на бездыханное тело Учителя. Подбежавшая к ним рыдающая Магдалина удерживает свисающую руку Спасителя.
Вопреки иконографическим канонам замыкает шествие молодой атлетического сложения широкоплечий человек, с трудом держа на весу нижнюю часть тела. Он несколько откинулся назад под тяжестью ноши, чем лишний раз подчёркивается материальность переносимого тела. По замыслу это должен быть сын заказчицы Грифонетто Бальони, один из участников недавней кровавой резни, ставший её жертвой. Хотя картина была заказана в память о нём, художник, оказавшийся очевидцем той трагедии, не проявил к жертве сострадания. Отразив порывистость натуры молодого Бальони, он придал его лицу в профиль с развевающимися на ветру волосами отталкивающе надменное выражение.
Справа от основной группы, несущей тело, три женщины удерживают лишившуюся чувств Богоматерь. Одна из них с обнажёнными руками, сидящая на земле и резко повернувшая вправо торс, живо напоминает неудобную позу Девы Марии из «Святого семейства» кисти Микеланджело. Нетрудно заметить, что за исключением двух мирян, несущих тело, все остальные персонажи босые, чем подчёркивается вместе с нимбами над головами их святость.
Картина явно перегружена втиснутыми в ограниченное пространство квадрата фигурами. Их руки и ноги настолько тесно переплетены, что порождают некоторое композиционное замешательство. Например, Иосиф Аримафейский, задумавшись и непонятно на кого или на что устремив отсутствующий взор, даже не заметил, как придавил ступнёй ногу Магдалине. Непонятно, как правая рука Грифонетто дотянулась до края полотнища, чтобы удержать на весу ноги Христа. Не определено и положение правой руки Магдалины. Нельзя также не заметить, что сгрудившиеся вокруг Богоматери три светловолосые женщины и Магдалина все чуть ли не на одно лицо. Бросается также в глаза, насколько динамичны фигуры троих мужчин, несущих тело, в сравнении со статичностью группы женщин справа, чем нарушается целостность композиции, и она разваливается на две неравновеликие части.
Рафаэль чрезмерно увлёкся здесь передачей динамики и пластичности фигур, и у любого, кто смотрит на картину, невольно возникает подозрение, что трагичность сюжета несколько выпала из поля зрения художника. Кроме Магдалины и Богоматери, о нём, кажется, забыли другие персонажи картины, чьи лица хотя и выражают напряжение момента, но уж никак не скорбь. Если бы не превосходно написанное тело мёртвого Христа с непривычной розовой набедренной повязкой, то на первый взгляд не очень понятна причина, по которой все эти люди собрались на лоне природы в солнечный день. Этому впечатлению способствует также яркая палитра, усиленная предзакатными лучами. На переднем плане выделяются тщательно написанные цветочки львиного зева как символ непрерывности жизни.
Заказчица Аталанта Бальони была счастлива, что наконец её мечта сбылась и удалось достойно увековечить память сына и мужа.
— Мой Грифонетто получился у вас как живой! — воскликнула она, разглядывая картину. — Он всегда был порывистым в движении. Вы это точно передали.
От неё Рафаэлю стало известно о дальнейшей судьбе её родственницы донны Леандры Маддалены Одди. И это известие он воспринял не без волнения, так как в памяти сохранились счастливые сладостные мгновения. Распродав всё своё имущество, а вырученные средства раздав беднякам, донна Леандра приняла постриг, став насельницей одного затерявшегося в горах монастыря. Исчезла и милая хозяйка особнячка близ смотровой площадки. Как рассказали соседи, вдовушка после его отъезда вторично вышла замуж за военного врача и уехала по месту службы мужа в Милан.
Готовый алтарный образ, дополненный купольной частью и житийными клеймами, в написании которых помогал местный художник и друг Альфани, был помещён в фамильной часовне Бальони напротив другого рафаэлевского алтаря Одди и торжественно освящён в Сан-Франческо аль Прато. Перуджинцы не могли нарадоваться двум великолепным алтарям. От их присутствия и свойственного обоим яркого колорита старый храм словно помолодел и утратил мрачный облик, хотя обе картины были навеяны трагическими событиями, невольным свидетелем которых оказался сам автор.
По прошествии немногим более ста лет, 19 марта 1609 года, когда имя Рафаэля гремело во всём мире, а его творения ценились на вес золота, картина «Положение во гроб» была похищена и тайком увезена в Рим, где пополнила, как стало вскоре известно, богатую коллекцию кардинала Шипиона Боргезе, племянника папы Павла V. Когда пропажа была обнаружена, в городе разразился громкий скандал. Однако вернуть украденную картину не помогли ни петиции, ни протесты, и горожанам пришлось довольствоваться копией, выполненной по распоряжению папы римского живописцем Кавалером д’Арпино. По его посредственной копии можно судить, как за одно лишь столетие итальянская палитра утратила свою сочность и яркость колорита.
Исполнив заказ, Рафаэль не стал задерживаться в Перудже, как ни просили его друзья остаться. Видимо, он осознал свою неудачу, о чём мог судить лишь сам, хотя вокруг раздавались самые лестные отзывы. Но у него было свое понятие высоты поставленной планки, до которой, как он считал, на сей раз не дотянулся, а потому им владело лишь желание — скорее взяться за новую работу и забыть о неудаче.
За исключением отмеченных выше шероховатостей и композиционных диссонансов можно ли рассматривать «Положение во гроб» как явную неудачу? Пожалуй, здесь одно очевидно, что написанию картины воспротивилась сама натура Рафаэля, не позволившая ему настроиться на трагический лад в одном из красивейших городов Италии, хотя именно там он дважды оказался очевидцем кровопролития. Нечто подобное произошло и с П. И. Чайковским, когда, находясь в Венеции, он работал над IV симфонией. Окна его гостиницы «Лондон» выходили на шумную набережную Скьявони, где песни гондольеров, голоса толпы и пароходные гудки не стихали ни днём ни ночью. Как тут настроиться на трагический лад? Праздничная атмосфера лагунного города не позволила ему подняться, как в VI Патетической симфонии, до подлинно трагедийного звучания первой части, в которой развивается тема фатума. Зато радость жизни с таким блеском выражена композитором в последней части замечательной симфонии. Десятью годами позже пребывание в суровой Флоренции оказалось более созвучным сочинению полных драматизма оперы «Пиковая дама» и «Трио памяти великого артиста».
Когда Рафаэль вернулся, то застал Флоренцию в небывалом возбуждении. Рисунки и картоны, предназначенные для росписи зала Большого совета, были выставлены по распоряжению гонфалоньера на всеобщее обозрение и обсуждение. Картон Леонардо вместе с его «Джокондой» был установлен в папском зале монастыря Санта-Мария Новелла, где он и создавался, а картон Микеланджело — во дворце Медичи.
Обе выставки пользовались огромным успехом, и флорентийцы валили туда толпами. Все они знали о взаимной неприязни двух мастеров и их соперничестве за пальму первенства в искусстве, чем в значительной мере и был вызван повышенный интерес к этому необычному событию, которое нарушило спокойное течение жизни города, посеяв между гражданами рознь. Такое могло произойти только во Флоренции, где искусство являлось неотъемлемой частью жизни её граждан, как простых ремесленников и торговцев, так и чванливой знати. На каждом перекрёстке и в любом трактире велись жаркие споры по поводу двух картонов, выставленных на обозрение.
Рафаэль побывал на выставках не один раз и сделал для себя несколько зарисовок. Ему бросилось в глаза, что молодёжь, как правило, отдаёт предпочтение картону Микеланджело, а людям постарше, которых смущает и выводит из себя неприкрытая нагота, скорее по душе картон Леонардо. Для многих начинающих и художников с именем, съехавшихся отовсюду, знакомство с выставленными рисунками прославленных мастеров явилось великой школой, о чём вспоминал Бенвенуто Челлини в своей знаменитой автобиографической книге.
На выставках Рафаэль не встретил никого из авторов. Говорили, что Микеланджело был вынужден отправиться в Рим по вызову папы, а Леонардо предпочитает избегать публичных встреч после недавней стычки с оголтелыми сторонниками своего соперника, когда ему пришлось выслушать немало горьких незаслуженных упрёков в свой адрес. Но что бы там ни говорили недоброжелатели, он не держал на них зла, приступая к осуществлению своего замысла. Но прежде предстояло тщательно подготовить вместе с верными помощниками отведённую для росписи стену в зале Большого совета дворца Синьории.
Когда однажды Рафаэль снова зашёл ради любопытства во дворец Медичи, благо он находился рядом с его домом, зал гудел как растревоженный улей. Среди собравшихся было немало знакомых художников, в том числе Андреа дель Сарто, видевший перед картоном с альбомом для зарисовок в руках ничего не замечавший вокруг, кроме рисунков Микеланджело.
— Что вы скажете, Рафаэль, — громко спросил кто-то из посетителей, — кому, по-вашему, следует отдать предпочтение?
В самом вопросе Рафаэлю послышался явный подвох, подливающий масло в огонь бесконечных споров между сторонниками и противниками двух великих мастеров. Все разом затихли и воззрились на него в ожидании услышать слово поддержки в пользу того или иного мастера. Как тут поступить и обойтись без скандала? Доверяя всецело своему вкусу, Рафаэль понимал, что по сравнению с добротной работой обожаемого им Леонардо картон Микеланджело — это своеобразный манифест нового искусства и вместе с тем открытый вызов всем прежде и ныне живущим мастерам, погрязшим в повторах и стереотипах. При одном лишь взгляде на картон Микеланджело дух захватывает от источаемой им энергии. Но больше всего его поразило безукоризненное качество рисунка двух картонов, заставившее его испытать волнение. Но он сдержал свои чувства и не моргнув глазом спокойно ответил:
— Вряд ли правомерно говорить о каком-либо предпочтении. Я считаю, что перед нами работы двух флорентийцев, которыми все мы должны гордиться, не делая никаких различий, и относиться к их работам с должным почтением.
Когда он покинул зал, кто-то промолвил:
— Ну и хитёр же этот маркизанец! Ни о ком никогда дурно не скажет.
После его ухода произошло чудо. В зале началось оживление и отпало всякое желание спорить и доказывать что-то друг другу. Рафаэлю удалось примирить всех присутствующих в зале — молодых и пожилых людей, что не всегда было под силу даже гонфалоньеру Содерини, постоянно пекущемуся о поддержании спокойствия и мира среди граждан.
По правде говоря, особых причин для споров не было, а безукоризненное качество выставленных на обозрение картонов ни у кого не вызывало сомнения. Несогласие порождала лишь трактовка выбранной художниками исторической темы. У Микеланджело купающиеся в Арно молодые парни близ Кашине под Флоренцией оказались застигнутыми врасплох неприятелем. Это один из эпизодов войны со строптивой Пизой, не пожелавшей подчиниться диктату Флоренции. На рисунке обрывистый берег и выскакивающие из воды голышом как ошпаренные молодые воины, второпях натягивающие на мокрые мускулистые тела рубахи, штаны и готовые тут же ринуться в бой. Но само сражение художника не интересовало нисколько, а потому никаких стальных лат, шлемов и прочей военной атрибутики. Главное на картоне — движение и порыв, которым охвачены обнажённые бойцы.
Совершенно по-иному решает Леонардо избранную тему, подсказанную ему, как принято считать, Макиавелли, с которым он был дружен. Леонардо обратился к эпизоду, имевшему место близ городка Ангьяри, где конница флорентийцев столкнулась с передовым отрядом миланской кавалерии. Между ними завязалась схватка за обладание боевым штандартом. Накал борьбы передаётся посредством искажённых ужасом и гневом лиц всадников и смелых ракурсов вздыбившихся лошадей, в остервенении кусающих друг друга. Всё смешалось в этом яростном вихре — кони и люди, отчаянно бьющиеся не на жизнь, а на смерть.
Рассказывают, что гонфалоньер Содерини остался очень доволен обеими работами и не чаял скорее увидеть осуществлённым замысел художников во дворце Синьории. Когда он остановился перед картоном Леонардо, долго его разглядывая, произошёл небольшой казус.
— Что и говорить, написано превосходно, — признал довольный Содерини. — Вот только одного не учёл художник. Как мне разъяснил наш консультант по военным вопросам, уважаемый историк Макиавелли, а уж ему-то можно верить, сражения как такового, по правде говоря, вовсе и не было и в стычке погиб один только воин. Бедняга вылетел из седла и был растоптан скачущими лошадьми.
Мнение Содерини заставило вволю позубоскалить флорентийских острословов, и на каждом углу можно было услышать:
— Вы слышали? Сражения-то никакого не было, и Леонардо наплёл с три короба.
Пока Микеланджело разрывался между Каррарой и Римом, где на площади Святого Петра росла гора привозимого мрамора для папской гробницы, Леонардо спокойно трудился в зале Большого совета, получая ежемесячно из казны 15 золотых дукатов, а это была значительная сумма. Известно, что мастер был щепетилен в денежных вопросах и любил точность. Как-то при получении во дворце очередной суммы, когда казначей намеревался ему выдать несколько свёртков с полушками, Леонардо брезгливо отринул их, заявив, что он не «копеечный художник». В свою рабочую тетрадь он аккуратно заносил все поступления и расходы. Следует отметить, что в отличие от него Рафаэль целиком полагался в финансовых вопросах на дядю Симоне Чарла, державшего его денежные дела под контролем, считая племянника непрактичным и легкомысленным.
Леонардо продолжил неспешно работать в зале Большого совета, применив изобретённый им новый способ росписи, который, как утверждает анонимный биограф, был им обнаружен в одном из сочинений Плиния. Старый испытанный дедовский способ письма темперой по сырой штукатурке, что требует от исполнителя завидной быстроты и сноровки, был хорошо известен Леонардо, о чём говорит его подлинный шедевр — фреска «Тайная вечеря», написанная в трапезной миланской церкви Санта-Мария делле Грацие, когда он был значительно моложе и полон сил. Но уже тогда он вовсю экспериментировал с красками. По-видимому, при работе над «Тайной вечерей» он внёс свои новшества в технологию грунтовки стены, и по прошествии сравнительно небольшого времени на фреске появились первые подозрительные трещины.
Доверившись советам Плиния, Леонардо начал писать маслом по стене, которая была загрунтована изобретённой им смесью канифоли, воска, мела, цинковых белил и льняного масла, что позволяло работать без спешки, когда нанесённый слой мастики затвердеет. Известно, что он отличался крайней медлительностью в работе. В недавно обнаруженном в Испании дневнике помечено рукой Леонардо, что 6 июня 1506 года над Флоренцией разразилась страшная гроза как предвестник несчастья. Из-за непогоды и сырости он распорядился для просушки стены с изображением битвы при Ангьяри поставить в зале горящую жаровню. Когда на следующее утро Леонардо и помощники появились во дворце, их взору предстала страшная картина — краски поплыли, а верхняя часть готовой росписи отвалилась от стены и, рассыпавшись на мелкие кусочки, валялась на полу. Поверив в метод Плиния, Леонардо, который не был силён в латыни, не заметил важной оговорки древнеримского автора, что его метод не приемлем для настенной живописи.
Это была катастрофа, и работу пришлось остановить. Леонардо был настолько огорчён и обескуражен неудачей, что решил уехать из Флоренции во избежание насмешек и злорадства недругов. Ему удалось договориться с гонфалоньером о поездке на время в Милан, оставив под залог свои сбережения в госпитале Санта-Мария Нуова, где монахи, кроме всего прочего, принимали на хранение деньги под проценты, выдавали ссуды под заклад и оформляли купчие на недвижимость, действуя, как заправские банкиры.
Ставший свидетелем этого несчастья, Рафаэль узнал, что молодые поклонники великого мастера из аристократических семейств собрали нужную сумму, чтобы внести её в качестве залога за Леонардо и дать ему возможность уехать. Но гонфалоньер Содерини не принял их пожертвования, заявив:
— Не будем обижать недоверием нашего славного мастера, ибо он заслуживает большего.
Но уже 18 августа гонфалоньер получил письмо от французского регента Шарля Амбуазского, в котором было сказано, что мессир Леонардо ещё нужен для завершения некоторых важных работ. Эту просьбу нельзя было проигнорировать, поскольку у Флоренции с Францией были давнее взаимопонимание и поддержка в вопросах, касающихся отношений с папским Римом.
Оказавшись вновь в Милане, Леонардо с горечью увидел, что его глиняная модель Коня-колосса превратилась в гору мусора, а заготовленный им для бронзовой скульптуры металл был продан французами мантуанскому герцогу Альфонсу д’Эсте для отливки мортир. Всё это болью отозвалось в сердце мастера. Узнав о смерти своего бывшего покровителя Лодовико Моро во французском плену, он сделал такую запись в одной из тетрадей: «Герцог лишился государства, имущества, свободы и не закончил ни одного из своих дел». Эти слова в некоторой степени относятся к нему самому, если бы его гений не создал «Тайную вечерю», «Джоконду» и другие живописные шедевры и если бы к ним не добавить нескончаемый перечень научных открытий, инженерных и технических решений, смелых догадок и предсказаний, касающихся всех областей знаний. А это 20 томов возрождённого Атлантического кодекса и пять томов Мадридских манускриптов, заполненных мелким почерком справа налево, страницы которых можно прочесть с помощью зеркала.
Неудача Леонардо широко обсуждалась в городе. Зайдя как-то в Сан-Марко, Рафаэль застал компанию художников, живо обсуждавших случившееся.
— Бедняга Леонардо повторил ту же ошибку, что и наш Алессо Бальдовинетти, — сказал Лоренцо ди Креди. — Помните, с каким рвением он, уподобившись средневековому. алхимику, составлял рецепты сложных смесей для грунтовки и постоянно колдовал с красками.
— Что далеко ходить, — произнёс фра Бартоломео. — Достаточно взглянуть на его работы здесь в Сан-Марко. От них мало что осталось.
— Под стать ему был Поллайоло, — добавил Пьеро ди Козимо. — Тот полностью отказался от светлой меловой или гипсовой грунтовки и использовал буро-красную.
Пьеро ди Козимо был прав. Благодаря изобретённой Поллайоло тёмной грунтовке в корне изменился подход к светотени и подбору красочных оттенков. Столь ценимая мастерами XIV века чистота локальной краски утрачивала таким образом значение, уступая место тональному колориту, создающему светлые формы из тени. Принято считать, что знаменитое сфумато Леонардо, то есть мягкая светотень, возникло благодаря техническим новшествам Поллайоло.
Слушая рассуждения коллег о смелых экспериментах с красками Бальдовинетти и Поллайоло, Рафаэль вспомнил, как в работе над «Обручением» он использовал жёлтую охру для грунтовки и не ошибся. Имя Бальдовинетти ему не раз приходилось слышать, так как оно было в большом почёте у современников покойного мастера. Через его мастерскую прошло множество талантливых художников. К сожалению, большинство из написанного им сохранилось в весьма плачевном состоянии. Дорого искусству обошлись эксперименты мастера с красками. Но даже по тому, что осталось, можно судить, сколь велик был его дар живописца, оказавший большое влияние на его младшего собрата по искусству Антонио Поллайоло. Но в отличие от него художественные проблемы занимали Бальдовинетти, если они имели хоть какую-то научную подоплёку. Вот почему он искал новые красочные сочетания и разрабатывал основы тонального колорита, подмешивая к фресковым краскам яичный желток и горячий лак, в результате чего, как и у Леонардо, фрески пожухли и частично осыпались. В этом смог убедиться заинтересовавшийся фигурой мастера Рафаэль, увидев его работы в Сан-Марко, Сан-Миньято и Санта-Аннунциата.
Рафаэля давно интересовал Поллайоло, чьи небольшие работы, прославляющие подвиги Геракла, он смог увидеть в богатой коллекции Каниджани. Для себя он сделал вывод, что своим спиритуализмом и склонностью к архаизации мастер напоминает некоторые работы Боттичелли и особенно потрясшую его «Покинутую». Поллайоло можно рассматривать как предтечу певца «второй готики» Боттичелли.
Пока в художественных кругах горячо обсуждалась неудача, постигшая великого Леонардо, над Флоренцией нависла серьёзная опасность, когда пришла весть о том, что папа Юлий II с многочисленным войском направляется в поход, чтобы навести порядок в Перудже, находившейся под давней юрисдикцией Ватикана, где самозваный правитель Пьер Паоло Бальони творил беззаконие, с чем не могла мириться Римская курия. На ватиканском престоле впервые оказался волевой и решительный воинственный пастырь, сменивший посох на меч. Оправдывая своё имя в честь римских кесарей, папа Юлий поставил перед собой цель объединить разрозненные земли в единое государство под эгидой Рима. После царившей вакханалии при папе Борджиа, когда Италия дважды подверглась чужеземному нашествию и разграблению, наступили времена созидания и военных приготовлений во имя поставленной цели.
Была ещё одна неприятная для флорентийцев новость. Среди папских приближённых особую активность проявляли принявшие участие в походе злейшие враги республики Джованни Медичи, ставший кардиналом и имеющий сильные позиции в Римской курии, и его брат Джулиано. После того как их сумасбродный старший брат Пьеро утонул в реке Гариньяно во время сражения между испанцами и французами, они всюду открыто заявляли о своей решимости вернуть себе «законную» власть над Флоренцией.
После наведения порядка в Перудже, где к папе присоединился герцог Гвидобальдо, Юлий II решил навестить племянников в Урбино, направившись туда через узкий проход в горах Фурло, прорубленный ещё древними римлянами. На въезде в город папский кортеж встречал племянник Франческо Мария делла Ровере, устроивший артиллерийский салют и фейерверк в честь дорогого гостя. С папой Юлием пожаловали Джулиано Медичи и Браманте. Поселившись во дворце, высокие гости по достоинству оценили его великолепие. А вот Браманте, затаивший, видимо, обиду на бывшего хозяина и строителя дворца, предпочёл остановиться у своих дальних родственников Санти, так как его дом давно стоял с наглухо закрытыми ставнями. Когда-то дом Санти оказал гостеприимство великому мастеру Пьеро делла Франческа. Дон Бартоломео и Санта были рады гостю, жалея лишь об одном, что не было рядом их племянника.
— Рафаэль так хотел повидаться с вами, — сказал дон Бартоломео, показывая знатному гостю рисунки племянника.
Папа Юлий пробыл два дня в Урбино, обласканный племянниками и довольный оказанным ему приёмом. Он долго осматривал парадные залы дворца. Его особенно заинтересовала портретная галерея великих мыслителей прошлого. Хворый герцог Гвидобальдо предложил поставить вместо себя во главе войска своего шурина мантуанского герцога Франческо Гонзага, отличившегося в битве с французами при Форново. Но это предложение показалось папе преждевременным и нецелесообразным, поскольку Юлию II стало известно от его осведомителей, что мантуанский герцог ведёт сепаратные переговоры с французским королём, настроенным крайне враждебно против Рима.
В поход на Болонью с папским отрядом отправился и Франческо Мария делла Ровере, горя желанием отличиться на полях сражений и доказать свою преданность папе. Юлий II вступил в Болонью в день святого Мартина 13 сентября. Въезд в город был обставлен с помпой. Во главе многочисленного отряда швейцарских гвардейцев папа на белом коне победоносно въехал в город, откуда в панике бежали прежние правители. Папский кортеж был холодно встречен горожанами, разуверившимися в возможности перемен к лучшему, да и от Рима они уже давно ничего хорошего для себя не ждали.
Как стало известно Рафаэлю из письма, полученного от болонского художника Франчи, местные интеллектуалы резко осудили папу за его помпезный въезд в город, гордыню и тщеславие, недостойные римского понтифика. Что касается простого люда, то он открыто потешался над престарелым папой Юлием со съехавшей набекрень тиарой и неуверенно державшимся в седле на старой послушной кляче, или brоссо, как её окрестили местные острословы. Всё это походило на дешёвый фарс. В своём письме Франча сообщил также печальную весть: недовольная появлением в городе папы и сбежавшими правителями толпа сожгла их дворец, где в огне погибли некоторые работы Рафаэля, написанные по заказу Бентиволья.
Обстановка во Флоренции накалилась, и притихшие на долгие годы сторонники Медичи вновь подняли голову в надежде на реванш. Их агенты распространяли по городу слухи о скором возвращении бывших правителей и неминуемой расправе над пособниками республиканского режима. Уже стали раздаваться пока вполголоса призывы к неповиновению властям. Провокаторов вылавливали и на месте жестоко наказывали. Но число их не убывало — Медичи щедро платили своим шпионам.
Немало было разговоров, особенно среди завсегдатаев пивных и трактиров, что деньги городской казны бездумно растрачиваются, когда папское войско находится в непосредственной близости от границ. Подобные разговоры велись и в аристократических кругах, где гонфалоньера Содерини открыто называли «транжирой», выдавшим солидный аванс мастерам, а те разъехались по своим делам, оставив незавершённой работу.
Пока оба мастера были в отъезде, оставленные картоны постигла печальная участь. Они были на части разрезаны и расхищены копировавшими их начинающими художниками. О картоне Микеланджело можно судить по выполненной Маркантонио Раймонди гравюре и копии, сделанной молодым художником Аристотелем Сангалло. А о работе Леонардо говорит известная луврская копия Рубенса. Это была невосполнимая потеря для искусства.
Узнав, что Микеланджело полностью занят поручениями папы и находится в Болонье, а с Леонардо в Милане ведутся переговоры о его возможном переезде во Францию, Рафаэль понял, что наконец пробил его час и путь к намеченной цели открыт. В последние дни его не покидала мысль воспользоваться представившейся счастливой возможностью и напрямую предложить свои услуги флорентийскому правительству. В его воображении уже рисовался план фресковой росписи во славу Флоренции, но без душераздирающих сцен кровопролития и искажённых ужасом лиц. Нет, он напишет радостный гимн славному городу цветов, любви, гармонии, великих идей и дерзновенных свершений человеческого гения, где царствуют музы созидания, изгнавшие ненависть и злобу. Нельзя состязаться в прославлении военных сражений, несущих людям смерть и разрушения. Задача искусства отражать гармонию и мир, а не гибель всего живого на земле.
Однажды за ужином Рафаэль поделился с друзьями своей идеей. Его особенно горячо поддержал Таддеи:
— Сейчас самое время помочь гонфалоньеру выпутаться из затруднительного положения. Содерини слишком доверился мастерам, а те обвели его вокруг пальца. Он не знает, как поступить, испытывая давление со стороны недругов и злопыхателей.
— Уверен, что только вы, Рафаэль, можете спасти положение, — сказал фра Бартоломео.
— Я слышал, — добавил Каниджани, — что рисунки разворованы и придётся начинать всё сызнова. Содерини не додумался поставить охрану, чтобы уберечь картины.
Поддержанный друзьями, Рафаэль решительно отправился на приём к гонфалоньеру. Но ему было вежливо отказано в аудиенции, так как правительство собралось на важное заседание. Он увидел переполох во дворце — по коридорам бегали курьеры с депешами, а у главного входа стояли гонцы, держа скакунов наготове, чтобы в любую минуту пуститься вскачь по приказу.
Неделю Рафаэль провёл в раздумье. А правильно ли он поступает, решив предложить свои услуги? Как на это посмотрят другие флорентийские мастера? Возможно, для многих из них такой заказ — предел мечтаний. Но овладевшая им идея запечатлеть в опустевшем зале Большого совета свою признательность и любовь к Флоренции взяла верх над вопросами этики и морали. Он решил повторить попытку и на сей раз был принят. Выслушав его предложение, гонфалоньер уклончиво ответил:
— Ваше желание, мой друг, весьма похвально. Но что вам на это сказать? Ведь оба славных мастера пока официально не заявили о своём отказе, и мы не вправе в их отсутствие что-либо решать. Поэтому придётся несколько повременить и набраться терпения.
Это не был прямой отказ, и Рафаэль понял, что ему понадобится сильная поддержка со стороны, чтобы добиться заветной цели. Обуреваемый этим желанием, он отправился в Урбино.
Глава XII ФЛОРЕНТИЙСКИЕ МАДОННЫ
Успех Рафаэля во Флоренции широко обсуждался в Урбино. По приезде домой он на следующий день отправился с визитом во дворец, где предстал перед герцогом Гвидобальдо не с пустыми руками, а преподнёс ему в дар одну из написанных во Флоренции небольших картин, получившую название «Малая Мадонна Каупер» (Вашингтон, Национальная галерея), на которой запечатлён вдали мавзолей урбинских герцогов. Рассказав о своих планах, которые вынуждают его продлить пребывание во Флоренции, Рафаэль осторожно намекнул на открывшуюся счастливую возможность получить почётный заказ на росписи во дворце Синьории, но это зависит от городских властей, и без сильной протекции ему не обойтись.
Герцог высоко оценил подарок. Его тронуло, что на картине изображена дорогая сердцу усыпальница его родителей. Несмотря на болезнь, которая изрядно его истрепала, он не раздумывая написал письмо гонфалоньеру Содерини с настоятельной просьбой при решении вопроса о росписях в зале Большого совета учесть желание взяться за эту работу его верного подданного и талантливого живописца, о чьих успехах наслышан даже папа Юлий II. Как покажет дальнейшее развитие событий, упоминание герцогом имени папы пришлось не по душе адресату и не произвело ожидаемого эффекта.
Однако в одном герцог был абсолютно прав. За время, прошедшее со дня первого договора, подписанного семнадцатилетним Рафаэлем в Умбрии, он создал более восьмидесяти больших и малых картин, которые получили высокую оценку даже в самой Флоренции, столице европейского искусства, где очень непросто добиться признания, особенно художнику со стороны.
После неудачи с многофигурной композицией в Перудже, что Рафаэль вполне осознавал, особое место в его творчестве стали занимать мадонны, покорившие своей красотой Флоренцию. Рафаэлевские мадонны — это одна из самых блистательных страниц в истории мировой живописи. Они принесли молодому художнику куда большую славу, чем все вместе взятые созданные им великолепные портреты и даже монументальные фресковые росписи в Риме, которые пользовались такой же известностью, как и росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. Стоит произнести имя Рафаэля, как в нашем сознании всплывают нежные образы его дивных задумчивых мадонн, давно ставших синонимом чего-то возвышенного и прекрасного. Они разошлись по всему свету, в том числе во множестве копий и гравюр.
Смерть обожаемой матери, потрясшая его в раннем детстве, оставила в душе неизгладимый след, что, пожалуй, и явилось основной причиной столь частого обращения Рафаэля к теме материнства, имеющей глубокие традиции в искусстве. К образу Девы Марии как небесной покровительницы или Марии-матери обращались многие итальянские живописцы и ваятели на протяжении веков, начиная от Дуччо ди Буонинсенья и Джотто до Донателло, от Пьеро делла Франческа и Боттичелли до Луки делла Роббья. Каждый из мастеров выражал в нём идеал красоты, свои стремления и чаяния. Неслучайно Леонардо да Винчи не без иронии как-то заметил, что «многие, исповедующие веру в сына, строят храмы только во имя матери».
В отличие от русского слова «Богоматерь» или «Богородица» madonna по-итальянски буквально означает «моя женщина» и определяет прародительницу всего рода человеческого. В Италии понятие «мадонна» претерпело с веками глубокую эволюцию. Её истоки следует искать в катакомбах раннехристианского искусства, поражающего наивным простодушием ликов первых святых и скорбным выражением Богоматери, нередко изображаемой в образе сошедшей к людям царицы небесной в парчовом одеянии и увенчанной короной. Её лики, выполненные в мозаике и напоминающие византийских богородиц, можно увидеть в итальянских сельских церквушках в романском стиле, называемых pieve (от лат. plebs — народ). По прошествии веков образ небесной заступницы, к которой верующие обращались напрямую со своими бедами й нуждами через головы правителей и церковных иерархов, стал обретать черты любящей матери, а слово «мать» дорого и свято для любого человека.
Поначалу первые рафаэлевские мадонны были восприняты с некоторым недоумением и даже подозрительностью, ибо традиционно живописцы Кватроченто давали погрудное изображение Богоматери с младенцем на руках. Рафаэль одним из первых стал изображать своих мадонн на фоне вполне реального пейзажа как воплощение земной телесной красоты. Вскоре он усложнил композицию и перешёл к разработке темы Святого семейства.
Все его мадонны преисполнены неповторимой дивной грации, излучая негу и покой. В дальнейшем безоблачная идиллия на его картинах уступила место более глубокому чувству материнства и нескрываемой тревоги матери за судьбу своего ребёнка, что подсказывала художнику сама жизнь с царившим в ней повсеместно злом. Но он противился ему и старался его не замечать. На его картинах появляются незнакомая ранее телесная наполненность и жизненная сила образа, его глубина и вопреки всему удивительная одухотворённость.
Вскоре во Флоренции стали появляться одна за другой, как из рога изобилия, преисполненные грации рафаэлевские мадонны, смотрящие на мир сквозь полуприкрытые ресницы и ласкающие пухленьких младенцев. Вслед за ними появилось множество копий и гравюр, которые расходились далеко за пределы Италии, принося громкую славу молодому художнику. Его творения поражали жизненной достоверностью, чистотой и свежестью красок, словно он разводил их прозрачной родниковой водой. Небольшие картины с мадоннами ласкают и радуют глаз сиянием нимбов, милыми пейзажами с деревцами и плывущими по небу облачками, в чём, надо признать, молодой урбинец недалеко ушёл от мастеров Кватроченто.
Но со временем становилось всё более очевидным, что Рафаэль явно превосходил старых флорентийских мастеров с их привязанностью к одному и тому же типу женской красоты. Даже если их мадонны принимают различные позы, на лицах остаётся всё та же застывшая маска скорби. В отличие от них Рафаэль постоянно варьирует и ищет, поэтому у него благочестивость мадонн выражена в каждом конкретном случае совершенно по-разному, а главное, все они преисполнены жизненной правды.
Столь же плодовит был и флорентиец Андреа д’Аньоло по прозвищу Сарто, года на три моложе Рафаэля. В силу своего возраста он не подвергся воздействию фанатичной истерии, развязанной Савонаролой, и писал своих мадонн, не задумываясь над их соответствием религиозным канонам. В отличие от рафаэлевских героинь мадонны Сарто — это далеко не юные нежные создания, а женщины, успевшие вкусить плоды любви. Как правило, это пышущие здоровьем и физически крепкие матроны. Женившись на молодой вдове Лукреции дель Феде и целиком подпав под её влияние, он писал своих мадонн с неё. При взгляде на них чувствуется, что они еле сдерживают страсть, порождаемую отнюдь не религиозным чувством, а в их позе бросается в глаза нетерпение натурщицы, готовой поскорее перейти от позирования к любовным утехам. Работы Сарто привлекли Рафаэля своей динамичностью и колоритом, но ближе познакомиться с автором не довелось. У него даже создалось впечатление, что художник его сторонится. Своими сомнениями он поделился с другом Ридольфо Гирландайо.
— Не обращай внимания, — ответил тот. — Андреа своим прозвищем обязан отцу портному и с детства завидовал людям более высокого происхождения. Учился он у Пьеро ди Козимо, известного нашего завистника, и от него эта черта передалась ученику, парню бесспорно талантливому, но с большими странностями.
Встречая Сарто в компании друзей или на приёмах, Рафаэль заметил, что тот предпочитал держаться в тени, не выражая своего отношения к происходящему. Многие видели причину этого в чахотке, которой был болен молодой художник, иногда надолго выпадавший из поля зрения, особенно в сырую погоду.
В отличие от Сарто, связанного с одним типажом, Рафаэль находил нужные ему модели без особого труда не только в яркой шумной уличной толпе, но и в домах флорентийской аристократии, куда давно был вхож. Всё это показывает, сколь велик был успех, который ему неизменно сопутствовал особенно у представительниц слабого пола. О его амурных делах были наслышаны многие, что вызывало зависть у менее удачливых поклонников Эроса.
Чего стоит хотя бы блистательный портрет «Дама с единорогом» (Рим, галерея Боргезе), целиком сотканный из света, напоминая манеру великого Пьеро делла Франческа. Можно предположить, что сюжет картины навеян Леонардо. Известно, что прославленный мастер был занимательным рассказчиком. Его поучительные притчи, легенды и сказки впоследствии стали народными, хотя многим до сих пор невдомёк, что сочинил их когда-то сам Леонардо да Винчи, который считал себя uomo senza lettere — человеком, не сведущим в литературе. Он никогда не прибегал к учёной латыни для изложения собственных мыслей, как было принято тогда у эрудитов, а пользовался образным народным языком. Известно, что, живя во Флоренции, великий мастер работал над составлением толкового словаря тосканского диалекта, который со временем лёг в основу итальянского литературного языка.
Эти сказки и притчи наверняка слышал Рафаэль в мастерской художника. В них было много занятного и забавного. Рафаэля заинтересовала притча о единороге и его тайной дружбе с милой скромной девушкой.38 По свидетельству бывшего директора римской галереи Боргезе Паолы делла Пергола, с которой автор этих строк когда-то был дружен, картина попала в музей в очень плохом состоянии. В конце XVII века она подверглась серьёзной переделке с добавлением накидки на плечи героини и атрибутов мученичества с неизменным пыточным колесом, благодаря чему молодая аристократка превратилась в святую Катерину, словно модель, позировавшая Рафаэлю, была наказана за вскрывшиеся грешки. Её изображение вплоть до 1927 года приписывалось то Перуджино, то Андреа Дель Сарто, пока искусствоведом Роберто Лонги не было доказано авторство Рафаэля. После тщательной реставрации в 1934 и 1958 годах под поздними наслоениями краски обнаружилось, что изображённая на картине молодая светская дама держит на коленях маленького единорога как символ верности и целомудрия. Этот мистический единорог и открытый взгляд молодой дамы, устремлённый на зрителя, придаёт всей композиции чувство загадочной двойственности. На примере этой работы можно убедиться, сколь глубоко Рафаэль изучал лики леонардовских моделей, особенно Моны Лизы. Но его поиск разнится с идеализмом Леонардо и его мистицизмом в изображении природы. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на просторный холмистый пейзаж на заднем плане открытой лоджии, залитый маревом знойного дня.
Осталось невыясненным, кто изображён на портрете в яркий солнечный день на балконе с колоннами. Стоит заметить, что Рафаэль видел на леонардовской «Джоконде» такие же обрамляющие балкон колонны, которые впоследствии были замазаны неизвестно кем и почему. При первом взгляде на портрет светловолосой зеленоокой красавицы с фривольно обнажёнными плечами не вызывает сомнения одно: молодая особа была довольно близко знакома Рафаэлю, если не сказать больше, хотя она и держит на коленях единорога, чем явно нарочито подчёркивается целомудрие модели для любого зрителя, но главным образом для доверчивого супруга.
За Рафаэлем потянулся шлейф самых восторженных отзывов, а его имя не сходило с уст. Появился даже модный мадригал о «божественном Рафаэле». К нему тянулись многие люди, знать и простолюдины, восхищаясь им, его открытостью и душевной добротой, в желании ближе с ним познакомиться.
Чтобы проследить развитие темы Мадонны, стоит начать рассмотрение с предельно простого случая, когда героиня показана полуфигурно. Это «Мадонна Грандука», названная так из-за принадлежности великому герцогу Тосканы Фердинанду III (Флоренция, Питти), хотя она предположительно писалась для урбинского герцога Гвидобальдо да Монтефельтро. Простая композиция построена по вертикали. Нетрудно заметить, что картина не лишена статичности и скованности, особенно заметной в неудобной позе ребёнка, сидящего на руках у матери и крепко уцепившегося за её шею.
Рафаэль сознавал, что во Флоренции с её богатейшими традициями нужно проявить больше выдумки, свободы и движения, и он совершил маленькое чудо при помощи нескольких мазков кисти, придав стоящей Деве Марии лёгкий наклон головы влево и заодно рифмуя линию плаща с изгибом спины Младенца, удобно сидящего у неё на руках. Благодаря этому вся композиция неожиданно оживает, обретая поразительную компактность и законченность.
Златовласая Мадонна с Младенцем на руках рельефно выступает на тёплом фоне оливкового оттенка. Её лик кажется озарённым светом изнутри. Тона голубого плаща на зеленоватой подкладке поверх алого хитона с тёмной каймой ворота и пояса мягко гармонируют с бархатистым фунтом картины. Поразительна едва различимая в уголках рта скрытая улыбка матери, наблюдающей за сыном. Малыш, тесно прижавшись к ней, с любопытством смотрит на внешний мир. Но особенно впечатляет, сколь прост и скромен, без всякой патетики, преисполненный благородства облик матери, родившей Спасителя мира.
«Мадонна Грандука» близка к флорентийской манере, и в ней скорее угадывается подлинно народное начало, нежели в условных ликах умбрийских мастеров, в том числе у целой вереницы привлекательных и чуть ли не на одно лицо мадонн, которых без устали писал Перуджино. Но всем им так недостаёт того, что присуще рафаэлевским мадоннам, а именно — внутренней наполненности и одухотворённости. «Мадонна Грандука» разительно отличается от написанных ещё в Читта́ ди Кастелло двух берлинских мадонн с невыразительным Младенцем, и даже от упоминавшейся «Мадонны Солли», появившейся в Сиене и заставившей расплакаться очаровательную натурщицу.
Нельзя не признать, насколько сильно сказались на художнике его пребывание во Флоренции и знакомство с работами тамошних мастеров. Рафаэль не был в Венеции, но сочетание применяемых им цветов, особенно красного с голубым или зелёным, очень напоминает палитру мастеров венецианской школы живописи, особенно Джорджоне и Беллини-младшего.
Немало чудес в других работах на эту тему. Например, в так называемых мадоннах Бриджуотер, Орлеанской, Темпи, Колонна и многих других художник не перестаёт варьировать, меняя положение сидящей матери и ребёнка на её руках, который тесно прижимается к материнской груди или стремится вырваться из рук, привлечённый внешним миром.
Например, в «Большой Мадонне Каупер» (Вашингтон, Национальная галерея) Богоматерь с прозрачной вуалью на голове смотрит с умилением на сына, сидящего нагишом на белой подушке. В непоседливом крепыше чувствуются вполне естественное стремление к самостоятельности и желание встать на ноги и пойти. Ему ещё боязно оторваться от матери, и он цепко ухватился ручонкой за ворот её платья, но внешний мир неудержимо манит и притягивает к себе. Колорит картины отличается мягкостью тонов и прозрачностью теней на фоне нарождающегося дня.
Совсем по-иному малыш ведёт себя в «Мадонне Темпи» (Мюнхен, Старая пинакотека). Он крепко прижимается щёчкой к лицу матери. Судя по взгляду, внешний мир привлекает его, но на руках матери ему намного покойнее. Это неразрывное единение матери и ребёнка даётся на фоне ясного безоблачного неба, не предвещающего пока трагического исхода.
«Мадонну Орлеанскую» (Шантийи, Музей Конде) Рафаэль поместил в скромном интерьере со скамьёй и полкой, высоко висящей на стене и сплошь заставленной домашней утварью. Не без умысла там же помещён апельсин. Источник дневного света закрыт тёмно-серым пологом. На его фоне особенно чётко выступает написанная сочными мазками Дева Мария, склонившая голову к ребёнку, которого держит на коленях. Она в ярко-красном хитоне и накинутом поверх голубом плаще. Лёгкий наклон головы и изгиб правой руки, нежно ласкающей ножку сына, придают всей композиции удивительную гармонию, законченность и жизненность изображения. Всё на картине предельно просто, а выписанные с любовью детали повседневного быта придают ей подлинно народный характер.
Первоначально в «Мадонне Бриджуотер» (Эдинбург, Национальная галерея) Рафаэль изобразил пейзажный фон, который, как показал проведённый в 1988 году радиографический анализ, в процессе написания картины был им по непонятной причине замазан, уступив место спокойному коричневому тону, благодаря чему изображённые на этом скромном фоне мать с сыном освещены изнутри золотистым мягким светом. — Особенно выразительна изогнутая поза проснувшегося ребёнка, который спросонья вопросительно глядит на мать.
Нельзя не видеть, как от картины к картине дети у Рафаэля обретают всё большую живость, привлекательность и естественность поведения, чего не встретишь у других художников, затрагивающих тему материнства. Приходится невольно задаться вопросом: откуда у молодого человека такая любовь и нежность к детям и знание их повадок? Они написаны им столь живо и естественно, что возникает предположение о пробудившемся в художнике чувстве отцовства. Но это всего лишь предположение, хотя и имеющее под собой почву, учитывая любвеобильную натуру художника.
Спрос на его работы рос, и Рафаэль решил ввести усложнённый вариант композиции, когда добавил фигурку ребёнка Иоанна Крестителя. Одной из первых таких картин стала «Мадонна Терранова» (Берлин, Государственный музей). Рафаэль отошёл от прямоугольной формы и вновь прибегнул к излюбленному флорентийцами тондо. Недаром Альберти считал, что круг — самая совершенная природная форма, являющаяся выражением идеи гармонии и равновесия. Вписав в него композицию, Рафаэль строит её в виде пирамиды. Вершиной служит слегка склонённая голова Мадонны, что придаёт картине ощущение лёгкого движения. Мать держит ребёнка на коленях, а в основании пирамиды слева — мальчик Креститель с тростниковым крестиком, а справа — фигурка третьего невыясненного ребёнка.
Лежащий на коленях Мадонны младенец Христос берёт из рук Иоанна Крестителя раскрученный пергаментный свиток, на котором начертано крупными буквами: Ессе Agnus Dei — «Вот Божественный Агнец» на заклание. Дева Мария, а это один из самых проникновенных её образов, созданных Рафаэлем, с тихой грустью смотрит на своего младенца, который беззаботно сжимает ручонками, как игрушку, конец свитка, в котором определена его страшная судьба. При виде раскрывшегося на её глазах контраста между наивным детским восприятием и трагической правдой жизни Мадонна одним только движением левой руки выражает своё изумление и печаль. Никакого заламывания рук или ужаса на лице, и в этом сказывается великое мастерство Рафаэля. Сдержанный колорит картины отмечен тихой грустью.
К этой серии можно отнести «Мадонну на лугу» или «Мадонну Бельведерскую» (Вена, Музей истории искусств), написанную для друга Таддеи и получившую почему-то в нашей литературе непонятное название «Мадонна в зелени», хотя зелёной растительности как таковой почти нет и вся картина покрыта розоватой дымкой. Для Таддеи было написано также «Святое семейство с ягнёнком» (Мадрид, Прадо), в котором впервые композиция асимметрична, хотя прообразом послужила вполне симметричная композиция знаменитого картона Леонардо, выставленного на обозрение в трапезной монастыря Санта-Мария Нуова. Стоящий с клюкой Иосиф и преклонившая колено Мария с любовью смотрят на белокурого мальчика Иисуса, играющего с ягнёнком. За их спинами синеющие вдали горы, река и освещённое лучами заката селение, где по дороге бредут два путника. Косяк перелётных птиц в предзакатном небе чётко рифмуется с диагональю, по которой расположились персонажи картины, что придаёт ей глубокий смысл и законченность.
Вслед за этими работами появилась целая серия вариаций на сходную тему, и каждая из написанных тогда мадонн заслуживает отдельного рассмотрения. Именно тогда было написало «Святое семейство с Иосифом безбородым» (Петербург, Эрмитаж), в котором особенно заметно сказалось влияние Леонардо, чью мастерскую Рафаэль не раз посещал. Благодаря своей феноменальной зрительной памяти он почерпнул много полезного. Например, образ Иосифа безбородого кажется вышедшим из серии физиономических рисунков Леонардо и чуть ли не карикатурных лиц беззубых стариков.
Следует упомянуть также великолепное тондо «Святое семейство под пальмой» (Эдинбург, Национальная галерея), отмеченное осенним колоритом. Не совсем понятна иконография картины, поскольку пальма обычно связана с сюжетом «Бегство в Египет» и символизирует жизнь и победу над злом. Деревянная изгородь за спиной Марии символизирует сад, hortus conclusus, а опавшие листья дуба у её ног вполне могут обозначать эмблему папского рода делла Ровере (от ит. rovere — дуб), хотя в то время Рафаэль ещё не был знаком с новым папой Юлием II и знал о нём понаслышке.
Вне всякого сомнения, лучшей из мадонн является «Мадонна с щеглёнком» (Флоренция, Уффици), подаренная Рафаэлем в 1506 году на свадьбу своему преуспевающему другу и коллекционеру Лоренцо Нази, переехавшему с красавицей женой Сандрой Каниджани в новый дворец, построенный по проекту Баччо д’Аньоло за Арно у подножия холма Сан-Джорджо.
Картина впервые была показана широкой публике на приёме, устроенном счастливыми молодожёнами, и заставила о себе говорить чуть ли не весь город.
— Когда смотришь на эту и другие работы Рафаэля, — признался друзьям счастливый обладатель картины, — право же, чертовски хочется жить и делать что-то доброе и хорошее людям!
Это мнение Нази разделяли тогда многие. С картины были сняты три высококачественные копии, которые затем разбрелись по миру. После первого показа началось настоящее паломничество во дворец. Под видом приношения поздравлений молодожёнам флорентийцы шли нескончаемой вереницей взглянуть хоть одним глазком на новое творение Рафаэля. На сей раз автор проекта дворца Баччо д’Аньоло вместе с хозяевами дома водил посетителей по залам.
— Народ вконец помешался на урбинце, — рассказывал он друзьям, собиравшимся обычно в его мастерской. — Прав был Микеланджело, когда однажды заметил, что тайна Рафаэля в нём самом. Но для меня она пока непостижима.
Непостижимость этой тайны в предельной простоте картины Рафаэля. Её композиция представляет собой пирамиду. В неё вписаны три фигуры, расположенные по схеме равностороннего треугольника с чётко уравновешенными объёмами и тонко проведёнными линиями. Колорит картины — это образец концентрации богатства тонов и полутонов на фоне типичного уже тосканского пейзажа, напоённого прозрачным воздухом и светом.
В который раз Рафаэль прибегнул к своему излюбленному приёму и несколькими лёгкими мазками приспустил плащ с левого плеча Мадонны, сидящей на камне в окружении двух детей, придав тем самым большую живость самой композиции. Поскольку картина писалась к свадьбе друга, на ней нет ничего напоминающего об уготованной изображённым юным героям трагической участи. Мадонна отвела свой взгляд от книги страшных пророчеств и с нежностью смотрит на детей, весело играющих с щеглёнком. Превосходно написан маленький Иисус, который шаловливо тянется ручкой к принесённому Крестителем птенцу, опершись на материнскую ногу. Видимо, вспомнив своё детство в отчем доме и весёлый весенний праздник Благовещения на холме Монте, когда принято выпускать из клеток птиц на волю, Рафаэль вторично (вспомним его «Мадонну Солли») обыгрывает полюбившийся ему мотив с птицей, которая привлекает внимание детишек на картине, отчего само изображение обретает жизненность и живость.
У этой картины полная драматизма история. После многодневных проливных дождей 12 ноября 1548 года громадный оползень смёл виллы и дворцы у подножия холма Сан-Джорджо. Оказавшись под руинами здания, доска (107x77,2 сантиметра) с написанной на ней «Мадонной с щеглёнком» раскололась на восемнадцать мелких кусков. Казалось, картина безвозвратно потеряна. Но разрозненные осколки все до одного были извлечены из-под обломков рухнувшего дворца, очищены и умело соединены сыном покойного друга художника Джован Баттистой Нази. Именно ему мир обязан спасением этого шедевра. Однако пребывание картины под слоем грязи и штукатурки с последующей не очень умелой реставрацией нанесло былому великолепию определённый урон. И всё же несмотря на некоторые потери и изъяны «Мадонна с щеглёнком» не перестаёт радовать поныне истинных почитателей прекрасного.
Ей, пожалуй, ни в чём не уступает «Прекрасная садовница» (Париж, Лувр), написанная по заказу сиенского негоцианта Филиппа Сергарди и позднее проданная им французскому королю Франциску I. Направляясь в Рим, Рафаэль поручил Другу Ридольфо Гирландайо дописать картину.
«Прекрасная садовница» говорит о высочайшем живописном мастерстве, достигнутом двадцатипятилетним Рафаэлем, с которым тогда во Флоренции редко кто мог сравниться, поскольку два великих флорентийца к тому времени покинули родной город. В картине всё превосходно: композиция по принципу пирамиды, гармоничное расположение трёх фигур, нежный колорит и великолепный тосканский холмистый пейзаж с озером, где сельская колокольня уравновешена деревом слева, а облака симметрично расположены над головой Мадонны. Своим названием картина обязана тонко прописанной на переднем плане лужайке со всевозможными цветами и растениями, на которой погожим деньком расположилась молодая мать с книгой и двумя милыми ребятишками.
Златокудрая Мадонна облачена в ярко-красную тунику с чёрной каймой и жёлтыми рукавами. С её правого плеча на колени ниспадает голубой плащ. Правой рукой она поддерживает упирающегося ножками на её ногу голенького мальчика Христа, который тянется рукой к закрытой книге. Рядом перед ним преклонил колено мальчик Креститель, чьё тельце прикрыто власяницей, а в руке тростниковый крест. Трудно себе представить более совершенный образ, пронизанный тихой грустью и порождающий мысли о вечных ценностях жизни.
В тот же период он написал картину «Святая Екатерина Александрийская» (Лондон, Национальная галерея). Это один из самых проникновенных женских образов Рафаэля, на сей раз изобразившего прекрасную деву — одну из первых христианских великомучениц, представшую на фоне безмятежного пейзажа с селением и водной гладью, не предвещающего жестокой расправы за веру, хотя рядом изображено орудие её пыток. Эта картина поражает возвышенностью духа и красотой героини наряду с пластическим и ритмическим богатством.
Как-то в мастерской Леонардо среди его гостей внимание Рафаэля привлёк один чудаковатый человек непонятного возраста, назвавшийся Лукой Пачоли. По дороге домой они разговорились. Новый знакомый слышал о работах Рафаэля в Умбрии и здесь во Флоренции и изъявил желание взглянуть на них. Он оказался земляком и учеником Пьеро делла Франческа. Рафаэлю было приятно, что Пачоли тепло отозвался о работах его отца. В то время учёный работал над математическим обоснованием законов перспективы своего учителя.
— Сегодня мне удалось уговорить Леонардо проиллюстрировать рисунками некоторые мои выкладки и расчёты, — с гордостью сказал Пачоли.
После той встречи с одержимым своими расчётами Пачоли, формулы которого для художника выглядели как китайские иероглифы, но поразили убеждённость и логика учёного, Рафаэль по-новому взглянул на свои работы. Но всякий раз при написании новой картины он стал испытывать внутренний разлад, и у него иногда опускались руки перед каждым заказом божественного лика. Началось настоящее поветрие среди аристократии и выбившихся в люди из низов настырных состоятельных флорентийцев, требовавших от него новых работ. Счастливые обладатели его картин, ставших для них чуть ли не оберегом, ограждающим домашний очаг от бед, устраивали пышные приёмы по случаю появления в их коллекциях очередной рафаэлевской Мадонны. В одной только Флоренции он написал их почти два десятка, и все они отличаются друг от друга замыслом и композицией, в которой героиня принимает самые различные позы с сидящим у неё на коленях или играющим на траве ребёнком. И все они не похожи и разнолики, из чего следует, что автор, оказавшийся в любовной круговерти, имел широкий выбор моделей для позирования как среди простолюдинок, так и среди аристократок.
Но разве об этом он мечтал, ублажая богатых заказчиков, а главное их любвеобильных жён? Ведь ни один флорентийский храм до сих пор не украшают его картины, и местные церковные иерархи так ни разу им и не заинтересовались. Такое невнимание не могло не вызывать беспокойства. Но сам этот факт говорит о многом. Навряд ли церковь, ещё до конца не оправившаяся от разгула фанатизма и истерии, развязанных Савонаролой, обратилась бы с заказом к обретшему широкую известность Рафаэлю, автору обворожительных мадонн, насквозь пронизанных светским духом. Поэтому его картинами могли любоваться лишь флорентийские толстосумы. А к ним он не питал особой симпатии из-за их непомерного тщеславия и бахвальства.
В этой связи стоит привести один показательный пример отношения церковных кругов к молодому художнику, чьё имя было на устах у многих ценителей прекрасного. В 1510 году по заказу местного епископата была издана в качестве путеводителя книга ныне забытого автора Франческо Альбертини д’Аконе с подробным описанием картин и изваяний во флорентийских храмах, в которой нет даже упоминания имени урбинца, прославившего своими восхитительными мадоннами Флоренцию.
Рафаэлю всё чаще стал приходить на ум мудрый совет старины Матуранцио, с которым он так любил беседовать в сиенской библиотеке, держаться подальше от власть имущих. А как обойтись без них, коль скоро именно они были главными заказчиками? Покамест от гонфалоньера Содерини, которому в надежде на благоприятный исход он вручил рекомендательное письмо герцога Гвидобальдо, не было никаких вестей. В их ожидании Рафаэль с головой ушёл в праздную жизнь флорентийской богемы. Он был радушно принят и обласкан высшим светом. Успех в обществе тешил самолюбие, хотя мысли были совсем о другом. Он в душе понимал, что, оказавшись затянутым в круговорот светской суеты, невольно изменяет своей музе, не терпящей никакой раздвоенности. Берясь за очередной заказ, он всё чаще стал ощущать, что воображение то и дело покидает его и поневоле приходится прибегать к повторам, когда рука почти механически воспроизводит однажды найденное, а голова забита мыслями об очередном приёме, на который он обещал непременно прийти. Приведём в связи с этим обнаруженный среди бумаг и рисунков Рафаэля один неоконченный сонет, говорящий о тогдашних его настроениях:
Прямым укором ему служил Микеланджело, отринувший от себя все соблазны и не терпевший суеты. Недавно он вновь объявился в городе и, как говорят, окончательно рассорился с папой. Однажды они случайно повстречались на улице Ларга перед дворцом Медичи. Вероятно, Микеланджело был памятен приём во дворце Строцци, и он необычайно радушно приветствовал коллегу. Они разговорились, и Рафаэль, делясь впечатлениями о двух выставках рисунков, осторожно спросил, когда тот намерен приступить к росписи.
— Вряд ли я за неё возьмусь, — ответил Микеланджело, — хотя гонфалоньер настаивает. Всё, что мне хотелось сказать на фреске, выражено в рисунке. Да и состязания, которого ждала вся Флоренция, так и не получилось. Мне искренне жаль беднягу Леонардо. Ему так хотелось превзойти меня, и вот что вышло. Подвели его любимая наука и разгильдяи подмастерья. Им бы только красоваться и бренчать на лютне, а не краски растирать.
Разговаривая по дороге, они оказались перед мастерской Микеланджело на улице Моцца, и тот пригласил Рафаэля зайти на минутку. Живший бирюком, он тоже иногда нуждался в общении и в добром слове. По всей видимости, до него ещё не дошла весть о визите молодого урбинца во дворец к гонфалоньеру Содерини, иначе вряд ли он пригласил бы Рафаэля к себе.
Когда они вошли в мастерскую, туда проскользнули между ног несколько кошек, заждавшихся хозяина. Предложив гостю располагаться поудобнее, Микеланджело достал из шкафа молоко и рыбу для мурлыкающих в нетерпении кошек, трущихся о его ноги. Рафаэль присел на один из колченогих табуретов и огляделся. Просторное светлое помещение поразило его своим аскетизмом и спёртым воздухом, пропахшим кислятиной. Посредине рабочий стол и некое подобие лежанки с накинутым поверх старым плащом, и больше ничего. На побелённой голой стене деревянное распятие. В одном углу вертикально стоящая небольшая глыба мрамора с едва намеченным резцом контуром какой-то фигуры; в другом — на треножнике картина или изваяние, покрытое белой тряпицей.
— Хочу показать вам одну из последних работ, — сказал хозяин мастерской и сдернул покрывало.
Перед Рафаэлем предстало небольшое мраморное тондо, называемое «Мадонна Питти» (Флоренция, Музей Барджелло). Так вот для чего Микеланджело завёл его к себе, желая показать, сколь близка и ему тема материнства. Как известно, он тоже, как Рафаэль и Леонардо, рано лишился матери. Непроизвольно перед глазами Рафаэля предстало другое тондо, которое он ежедневно видел в доме друга Таддеи. Новая работа Микеланджело его не воодушевила и показалась несколько статичной. Неприятно удивило суровое выражение лица Мадонны, в которой мало женственности, и выглядит она грубовато. Зато вызвал улыбку прекрасно изваянный прелестный младенец, облокотившийся на раскрытую книгу.
Как и полагается в подобных случаях, не обошлось без приятных слов, высказанных автору о его работе. Рафаэль огляделся, и его внимание привлекли лежащие в беспорядке на рабочем столе рисунки.
— Это эскизы для папской гробницы, — пояснил Микеланджело, показывая гостю один из них. — Но я сомневаюсь, что ими придется воспользоваться.
На вопрос Рафаэля — почему? — Микеланджело неожиданно вспылил, словно гость затронул больную струну:
— Всё из-за козней канальи Браманте, внушившего папе, что возводить гробницу — плохая примета. Да где ему, неучу, знать о египетских фараонах, которых прославили построенные для них пирамиды!
Возвращаясь домой, Рафаэль все время думал о потрясшем его воображение рисунке закованного раба, рвущего цепи с невероятным, почти титаническим усилием. «Такой творец, — подумал он, — ни перед чем не остановится и добьётся своего».
Вскоре произошло то, чего и следовало ожидать. Однажды Микеланджело вызвали во дворец Синьории, где гонфалоньер затеял разговор о необходимости, наконец, приступить к росписи. Тот упирался и отнекивался, ссылаясь на занятость и неотложные дела, связанные с папским заказом. Тогда желая его подзадорить, Содерини рассказал о последнем визите Рафаэля и его предложении взяться за росписи.
Это известие повергло Микеланджело в шок. Да как же посмел этот тихоня и скромник позариться на его работу? А он при встрече с ним так разоткровенничался!
— Я безусловно не стал обескураживать милого юношу, — продолжал Содерини, — но по выражению его лица было видно, что он сгорает от желания взяться за роспись, однако ему не было сказано ничего определённого.
— А он? — спросил нетерпеливо Микеланджело, всё еще не веря своим ушам. — Как он вёл себя?
— Вежливо настаивал, что меня умиляло. В его глазах я увидел столько мольбы и страстного желания, что, если бы речь не шла о вас и Леонардо, охотно предоставил бы ему возможность взяться за росписи.
— Ещё бы, на маркизанца всегда можно положиться, — не преминул съязвить Микеланджело.
— И не говорите. Этот молодой человек бесподобен! Не в укор вам будет сказано, он, как мне докладывали, соблюдает все условия подписанного контракта. Об этом сообщает в рекомендательном письме сам урбинский герцог, племянник папы.
Микеланджело ничего не оставалось, как, разведя руками, не без издёвки сказать на прощание:
— Это не художник, а ходячая рекомендация.
Если бы в тот раз он повстречался с Рафаэлем, неизвестно, чем бы всё кончилось. Однако вскоре Содерини получил от папы Юлия II послание с грозным требованием заставить Микеланджело вернуться к папскому двору во избежание крупных неприятностей. После долгих препирательств с гонфалоньером Микеланджело был вынужден подчиниться воле папы и покинул Флоренцию. Таким образом, вопрос о росписях в зале Большого совета дворца Синьории повис в воздухе.
Глава XIII ТАЙНА ОДНОГО ПОРТРЕТА
Где бы Рафаэль ни находился, в Перудже или во Флоренции, на Рождество он неизменно приезжал домой в Урбино, где жизнь протекала спокойно и, казалось, ничто больше не могло её нарушить. Трагические события лета 1502 года стали забываться и лишь иногда вспоминались как кошмарный сон. Но вспышка эпидемии чумы в начале весны 1506 года заставила Рафаэля отказаться от поездки домой. Не теряя надежды на получение положительного ответа от гонфалоньера на своё предложение, он взялся за написание большого алтарного образа для банкирского дома Деи, имевшего свой придел в церкви Санто-Спирито, построенной по проекту Брунеллески. Наряду с впечатляющим «Распятием» Микеланджело и нежной задумчивой «Мадонной» Филиппино Липпи там было немало достойных работ других известных мастеров Кватроченто.
Рафаэлю не терпелось помериться с ними силами и придать алтарному образу, именуемому «Мадонна под балдахином» (Флоренция, Питти), дыхание и своеобразие нового времени. Он был бесконечно рад представившейся наконец возможности украсить своим творением одну из почитаемых флорентийских церквей, где оно станет достоянием всех прихожан, а не одного только частного лица.
Работа спорилась, но, вероятно, его не покидали мысли о Риме, куда успел наведаться неугомонный Кастильоне, рассказавший в подробном письме по возвращении о затеянных папой Юлием II грандиозных преобразованиях. Ему довелось присутствовать 18 апреля 1506 года на торжественной церемонии закладки нового собора Святого Петра на месте старой базилики, воздвигнутой императором Константином и считавшейся главной святыней христианского мира после падения Византии. С присущим ему блеском Кастильоне описал, как собравшиеся кардиналы и римская знать наблюдали за процедурой закладки первого камня. Среди присутствующих было немало противников разрушения старой базилики, но разве с нынешним грозным и напористым папой поспоришь? Правда, немало поработавший в Риме Альберти давно предупреждал, что строению грозит неминуемый обвал, настолько оно обветшало и накренилось влево. Долгие годы никто не хотел прислушаться к голосу учёного. Всех собравшихся обуял страх, когда папа Юлий II решительно стал спускаться по шаткой винтовой лестнице на дно глубокого котлована, чтобы оставить там памятную монету с собственным изображением.
Из того же письма друга Рафаэль узнал, что Микеланджело, получив из казны солидный аванс, принялся за роспись фресками колоссального плафона Сикстинской капеллы. Поначалу ему помогали прибывшие из Флоренции старые друзья Граначчи и Буджардини. Но вскоре разругавшись с ними в пух и прах из-за неправильной, по его мнению, грунтовки, он отослал всех по домам и работает один в огромной капелле, куда никто не может войти. «А где же его рассуждения о живописи, как голой выжженной земле?» — припомнились ему слова из рассказа скульптора Монтелупо о Микеланджело во время их встречи в Сиене.
С мыслями о Вечном городе, которые не оставляли его, будоража воображение, Рафаэль пишет в качестве фона для алтарного образа мощную апсиду под кессонированным куполом, венчающим римский Пантеон. Он мог его видеть в изданной серии великолепных гравюр, имевших хождение во Флоренции под названием Codice Excurialensis. Это был его второй опыт архитектурной композиции, если вспомнить изящную ротонду, которая украсила площадь на картине «Обручение Девы Марии», принесшей ему большую известность.
Он настолько увлёкся тщательным воспроизведением капителей коринфских колонн, лизен и других архитектурных деталей для придания алтарю торжественной монументальности, что в сидящей на высоком резном дубовом троне Мадонне с Младенцем чувствуются некоторая растерянность и скованность. Не спасают положение и парящие над ней два мощно написанных ангела, раздвигающие тёмно-зелёный полог над троном. Но стоит им его опустить, как божественное видение тотчас исчезнет и на картине останутся только четверо святых по бокам и два ангела на переднем плане, увлечённо читающих пергаментный свиток о судьбе Младенца. Вскоре докучливость въедливого заказчика стала выводить художника из себя, и он оставил работу незавершённой, утратив к ней интерес. Это одно из немногих его non finito. Картину позже дописал местный живописец «новой манеры», как выразился Вазари, по имени Россо Фьорентино.
Из писем прочно обосновавшегося при урбинском дворе друга Кастильоне Рафаэлю были известны все последние новости. Там с большим успехом была разыграна комедия «Тирси», написанная им совместно с кузеном герцогини Чезаре Гонзагой, в декорациях Тимотео Вити. Неуёмная фантазия друга не знала предела. Единственное, что его тяготило, так это постоянная нехватка денег, и он вынужден был всячески изощряться, чтобы поправить своё материальное положение. Из казны он получал жалкие гроши, так как в связи с военными походами Юлия II Рим резко сократил жалованье предводителю папского войска урбинскому герцогу, чьи внешние долги, связанные с его выкупом из плена, не были до конца погашены.
Поскольку надежды на повышение жалованья не было, Кастильоне пришлось заложить у ростовщика прекрасное ожерелье с бриллиантами, полученное в дар от английского короля, когда по поручению герцога Гвидобальдо он посетил Лондон, где вручил Генриху VII заказанную для него у Рафаэля картину «Святой Георгий и дракон». На помощь из дома у него не было никакой надежды. Мать, с которой он постоянно советовался, склоняла его к женитьбе как единственной возможности поправить свои дела, пока молод и способен ещё нравиться женщинам.
«Хорошо Рафаэлю, который далёк от двора, — подумал он, садясь за ответное письмо матери. — Хотя он и преуспевает в делах амурных, но ни о какой женитьбе даже не помышляет». Кастильоне был прав, Рафаэль продолжал хранить верность искусству и не собирался ему изменять, несмотря на все соблазны и обхаживание его родителями состоятельных семейств, имеющих дочерей на выданье.
Перед Кастильоне встал вопрос: к кому посвататься? За пересидевшей в девках дочерью богатого аристократа Мартиненго из Брешии было обещано в качестве приданого 15 тысяч дукатов, а за одну из племянниц Медичи, веснушчатую пигалицу, всего лишь четыре тысячи, зато женитьба на ней сулила блестящие перспективы на будущее в случае, если эта милая семейка рано или поздно сумеет вернуть утраченную лет десять назад власть над Флоренцией. Такой поворот событий был вполне возможен, так как папа Юлий II стал косо поглядывать на Флоренцию, кичившуюся своей независимой политикой и открыто делающую ставку на враждебную Францию.
Чувствуя, что к нему неравнодушна сама герцогиня Елизавета, которая то и дело обращалась с вопросами по поводу той или иной прочитанной книги, он уделял ей особое внимание и подолгу засиживался с ней в библиотеке, беседуя о литературе. Его забавляло, что герцогиня краснела, словно девочка, когда, листая книгу, невзначай касалась его руки. От дворцового лекаря, с которым по вечерам он любил расслабиться за бокалом доброго вина, ему стало известно, что хворый супруг Елизаветы долго не протянет.
— Скажу вам по секрету, — разоткровенничался захмелевший эскулап, — так называемая дружба с молодым парнем Браво до добра не доведет.
В глубине души Кастильоне мечтал разом поправить все свои дела, но всякий раз, словно устыдившись, гнал от себя прочь эту мысль как недостойную аристократа и благородного человека. А она, подлая, нет-нет да и возвращалась, когда он в очередной раз оказывался на мели. Положение обязывало его постоянно быть в форме и содержать в порядке свой гардероб и обмундирование, соблюдая дворцовый этикет и не писанные им правила. Не забывал он и о своём подлинном призвании литератора, не расставаясь с пером. Но беллетристика и поэзия, увы, пока не приносили ему никакого дохода.
Жизнь при дворе нашла своё отражение в его книге диалогов «Придворный», которую Кастильоне назвал «художественным портретом Урбинского двора». Это сочинение получило общеевропейскую известность и стало любимым чтивом всех почитателей придворного этикета и аристократических традиций. Написана книга легко и живо в форме непринуждённых бесед, пересыпаемых искромётными остротами и колкими замечаниями. «Придворный» появился полтораста лет спустя после «Декамерона» Боккаччо, в котором весёлая компания молодых флорентийцев, спасаясь от смертоносной чумы, развлекалась рассказами занимательных и весьма фривольных историй из жизни различных слоёв итальянского общества.
Собеседники урбинских встреч были заняты другим. Они обсуждали одну из важных тем итальянского Возрождения — как подготовить и воспитать нового «совершенного человека» (uomo universale), наделённого острым умом и сильным волевым характером. Книга «Придворный» выдержала несколько изданий, став одной из ярких страниц в истории итальянской литературы. Эстетические воззрения Кастильоне оказали значительное влияние на творчество многих крупных мастеров итальянского Возрождения.
Беседы велись в течение четырёх промозглых мартовских вечеров 1507 года, когда Рафаэль находился во Флоренции. Местом встреч был выбран один из небольших залов урбинского дворца, называемый Veglia, то есть Бдение, с выходом на висячий сад, откуда открывался великолепный вид на заснеженные горы и долину. Весёлые посиделки перед горящим камином проходили при участии герцогини Елизаветы Гонзага, обладавшей острым умом и тонким вкусом, и близкой родственницы верной подруги маркизы Эмилии Пио.
Обе дамы не особо жаловали женское общество, отдавая предпочтение блещущим остроумием статным молодым кавалерам. Среди них выделялись Лодовико да Каносса, занимавший пост посла Урбино при папском дворе и водивший дружбу с Эразмом Роттердамским, а также обосновавшийся по приглашению герцогини при дворе поэт Пьетро Бембо, автор нашумевших «Азоланских нимф». Следует упомянуть литератора Чезаре Гонзага, родственника хозяйки дворца, и находившегося в изгнании Джулиано Медичи, сына Лоренцо Великолепного, имевшего склонность к наукам и литературе, оказавшегося в Урбино вместе со своим секретарём Бернардо Довици, будущим кардиналом Биббьеной. Было ещё несколько важных персон, отмеченных немалыми достоинствами.
В своём пространном сочинении Кастильоне тщится доказать, что жизнь при дворе — это настоящее искусство, требующее призвания и большого усердия, чтобы позволить человеку раскрыть заложенные в нём потенциальные возможности. Созданный Кастильоне образ идеального придворного лишён дурных наклонностей и привычек, а наделён знаниями, грацией и чистотой божественной любви. У такого человека всё должно быть на высоте: внешность, манера говорить, тактичность в общении с окружающими, одежда, походка… Не исключено, что, говоря об этом, Кастильоне имел в виду личность своего друга Рафаэля. Для него основополагающим являлось понятие «грациозность», заимствованное в трудах Альберти, оказавшего большое влияние на развитие теоретической мысли итальянского Возрождения. Связь между понятием «грация» у Кастильоне и работами Рафаэля более чем очевидна. У итальянского слова grazia, помимо прямого его значения «изящество», «привлекательность» или «прелесть», имеется и другое — «благодать», на чём первым стал настаивать Кастильоне, когда заходила речь об искусстве Рафаэля. В одном из своих стихотворений он пишет:
Творчество Кастильоне, как и искусство Рафаэля, строится на концепции грации, которая им обоим присуща, как, пожалуй, никакому другому литератору и художнику. Грация — это основа стиля Рафаэля, его краеугольный камень.
Но более всего собеседников в книге Кастильоне занимает любовь в самых различных её проявлениях. Один из них считает, что «любовь по определению древних мудрецов есть не что иное, как желание наслаждаться красотой». Особенно любопытны рассуждения о любви, вложенные автором в уста поэта Бембо. Его понятие об идеале женской красоты удивительным образом соответствует взглядам Рафаэля. Листая страницы книги и вчитываясь в диалоги собеседников, невольно ловишь себя на мысли, что Рафаэль незримо присутствует среди них и даже подсказывает им темы для обсуждения.
Значительное место в книге отведено разговорам о гармонии и музыке. Так, один из собеседников говорит: «Прекрасной музыкой кажется мне та, которая поётся с листа уверенно и в хорошей манере… Но прекраснее всего мне представляется пение под виолу для декламации; это придаёт столько изящества и силы впечатления словам, что просто удивительно!»40 Эта тема, как будет отмечено далее, очень интересовала Рафаэля.
Поскольку во главе вечерних бдений была герцогиня, описанию образа идеальной придворной дамы — donna delpalazzo посвящена третья книга диалогов. В ней приводится немало рассуждений собеседников о том, каково место придворной дамы в обществе, как она может влиять на создание благоприятной атмосферы и активно способствовать благородным поступкам окружающих благодаря свойственной ей скромности и благожелательности, а это почти совпадает с рафаэлевскими женскими образами.
В книге содержится немало советов, порой даже курьёзных, о том, как подобает вести себя в обществе, что совместимо с понятием достоинства и благородства человека, а что может его унизить. Например, совершенно не пристало себя показывать знатоком хотя бы игры в шахматы, иначе о тебе сложится превратное мнение как о человеке, излишне преданном этому увлечению, но во вред другим не менее достойным занятиям. Главное, во всём вести себя свободно, раскованно и с изысканной небрежностью (con la sprezzata disinvoltura). В любой обстановке следует соблюдать такт и умеренность. Даже о собственных достоинствах нужно говорить как бы вскользь, чтобы для окружающих это послужило лишним поводом поговорить о них подробнее. Что касается дам, им рекомендуется воздерживаться от резких движений, принижающих достоинство, и во всём проявлять мягкую деликатность (la molle delicatura).
Этот любопытный свод правил поведения и изящных манер завершается радостным гимном природе при описании наступившего утра:
«Открыв окна дворца, выходящие на высокую вершину горы Катри, собеседники вдруг увидели, что звёзды все до одной исчезли, кроме нежной правительницы неба Венеры, сверкающей на границе дня и ночи. На востоке уже родилась алая заря. Казалось, что от неё повеяло лёгким ветерком, наполняющим воздух пьянящей свежестью, а среди пробудившихся на соседних холмах лесов послышались нежные созвучия разом защебетавших птиц. С почтением простившись с синьорой герцогиней, все отправились по своим покоям без факелов, ибо достаточен был свет народившегося дня».41 Заключительные строки, посвящённые утренней заре, словно написаны под влиянием живописи Рафаэля, о чём он не мог знать, так как «Придворный» впервые был опубликован в 1528 году
Сочинение «Придворный», в котором описывается идиллическая картина любви и благожелательности при урбинском дворе, находится в кричащем противоречии с истинным положением вещей. Пока блестящая компания ночных сидельцев была занята беседами о благородстве, чести, красоте и платонической любви, возвышающей человека, во дворце происходило нечто такое, о чём нет сведений в местных анналах, а тем паче в книге Кастильоне.
Болезненный хозяин дворца не принимал участия в беседах у камина, считая их блажью двух дам и пустой тратой времени. К посиделкам не был допущен и его верный друг Джован Андреа по причине его низкого происхождения — к простолюдинам аристократ Кастильоне не питал симпатии. Раза два на встречах побывал юнец Франческо Мария делла Ровере, но разговорам о платонической любви он предпочитал любовь чувственную, плотскую, одаривая по ночам своим вниманием дворцовых служанок. Не исключено, что герцог догадывался о питаемых втайне чувствах его супруги к зачинщику вечерних бдений краснобаю Кастильоне. Такое не могло укрыться от глаз всевидящих придворных наушников. Герцог недолюбливал дамских угодников и велеречивых царедворцев, и ему не хотелось своим присутствием смущать их сборища, где блистала остроумием его благоверная, женщина увлекающаяся и чувственная. Ревность не мучила его сердце.
Елизавета Гонзага не могла не увлечься Кастильоне, личностью яркой и далеко не ординарной. В нём легко уживались черты гуманиста и эрудита с трезвым расчётом, эгоизмом, чёрствостью и коварством, а без таких черт характера при дворе трудно преуспеть. Ему многое удавалось благодаря своей природной одарённости. Современники не без иронии отмечали, что для Кастильоне не составляло особого труда создать образ идеального придворного, для чего достаточно было взглянуть на себя в зеркало, а уж живости пера и воображения ему не занимать. Качества осторожного и обходительного царедворца проявились в нём с блеском при дворе папы Льва X, а затем при королевском дворе в Испании, куда он был направлен послом. Где бы ни оказывался деятельный Кастильоне, он не скупился на комплименты папе, королям и влиятельным вельможам. По части лести он мог сравниться разве что с нахрапистым Аретино, сыном сапожника и шлюхи, за которым закрепилось в похвалу или в порицание прозвище «бич князей» за цинизм, двуличие и вымогательство. Узнав о смерти Кастильоне, император Карл V сказал: «Это был один из величайших caballieros мира».
Когда опасность новой вспышки чумы миновала, Рафаэль покинул Флоренцию. Но по пути домой он сделал крюк и заехал в Болонью, где его ждал Кастильоне. Казалось, в Болонью переселился весь папский двор. Успев завести нужные знакомства, его друг развил там бурную деятельность, близко сойдясь с папским легатом в Болонье, влиятельным кардиналом Франческо Алидози. Он и познакомил с ним Рафаэля. Кардинал рассказал при встрече о намечаемых работах в Риме, где уже полным ходом шло возведение нового собора Святого Петра, а папа загорелся также идеей расписать фресками, помимо Сикстинской капеллы, внутренние залы Апостольского дворца, для чего в Рим прибыла первая группа художников во главе с Перуджино.
Это известие вызвало у Рафаэля некоторое беспокойство. Его никак не прельщала перспектива работы в артели бок о бок с разными мастерами, среди которых были уже известный ему Со́дома, а также Брамантино, Лоренцо Лотто и другие. Не об этом он мечтал, думая о Риме.
— Его Святейшество полон грандиозных планов, — заявил кардинал с нескрываемой гордостью, — и скоро грядут большие перемены.
Прислушиваясь к словам кардинала, Рафаэль успел набросать карандашом его лицо. Его особенно поразил пронзительный самодовольный взгляд высокопоставленного прелата, сознающего свою первостепенную роль при дворе. Краем глаза кардинал заметил карандаш в руке одного из собеседников, и по выражению его лица было видно, что это ему явно льстило, и он постарался принять наиболее выигрышную позу.
В правительственном дворце почти каждый день устраивались приёмы в честь папы-победителя, изгнавшего из города местных тиранов Бентивольо, которые поставили на карту Венецию и просчитались. Там можно было повстречать и Микеланджело, которому, как стало известно, предусмотрительный гонфалоньер Содерини, зная крутой нрав и вспыльчивость папы, на всякий случай присвоил титул полномочного посла Флорентийской республики при Ватикане, дабы оградить сего славного гражданина от возможных неприятностей. Но из этой затеи ничего не вышло, так как вручать папе верительные грамоты по примеру вновь назначенных послов Феррары и Мантуи Микеланджело наотрез отказался, заявив, что он не шут гороховый и в Болонью прибыл не ради игры в бирюльки, а по делу. Несмотря на неприязнь к папе, ему пришлось всё же взяться за работу над бронзовой скульптурой Юлия II, которая должна была быть установлена перед главным собором Сан-Петронио, дабы напоминать горожанам, кто отныне в Болонье истинный хозяин. В помощь Микеланджело прибыла группа мастеров литейного дела.
Во дворце Рафаэль впервые увидел папу Юлия II, который показался ему уставшим стариком, измученным взваленной на плечи непосильной ношей. От него ни на шаг не отходили кардиналы и придворные, и среди них выделялся особой активностью дальний родственник Донато Браманте, с которым Рафаэль тогда впервые познакомился.
— Я слышал о ваших успехах, — сказал Браманте и, перейдя на маркизанский диалект, добавил: — Amic mie' scolta. Нас с вами ждут большие дела в Риме, и скоро вы об этом узнаете.
Слова его прозвучали столь многообещающе, что Рафаэль не сразу пришёл в себя. Перед тем как вернуться во Флоренцию, он захотел повстречаться с местным художником Франчей, о котором многое слышал ещё дома от его ученика Тимотео Вити, и с ним у него установилась переписка. Старый художник рад был встрече и показал гостю свои картины в мастерской, где Рафаэль сразу заметил, что многие его приёмы и находки нашли своё воплощение.
— Ваши работы, дорогой Рафаэль, — сказал Франча, волнуясь и как бы оправдываясь, — на многое мне открыли глаза и заставили меня, старика, на некоторые вещи взглянуть по-новому, за что я вам бесконечно благодарен.
Слышать такое было лестно молодому художнику от мастера, чья живопись обрела широкую известность и за пределами родной Болоньи. Несмотря на разницу в возрасте, их обоих объединяли любовь и беззаветная преданность искусству.
Оставив в Болонье Кастильоне, который продолжал там плести свои сети, Рафаэль после долгого отсутствия появился в начале зимы 1507 года в родном городе, когда большинство именитых сидельцев мартовских бдений уже разъехались. Посетив дворец, он узнал, что герцог отдыхает в загородном замке Фоссомброне в долине Метауро, куда часто наведываются врачи, а герцогиня в его отсутствие гостит в Мантуе у брата и золовки. Рафаэлю сразу бросилось в глаза, что обстановка во дворце изменилась и лица у придворных и челяди понурые. Он никак не мог понять причину этих метаморфоз и своими впечатлениями поделился с дядей Симоне Чарла.
— Что тебе сказать, мой друг, — ответил тот. — Вся беда в том, что наш бедный герцог продолжает болеть, и это сказывается на общем настроении двора. Даже мой друг Буффа ходит как в воду опущенный, а уж ему-то известны все дворцовые тайны. Но из него не вытянешь слова. На любой мой вопрос он отвечает молчанием.
Рафаэлю не хотелось думать о плохом, и он принялся писать женский портрет, традиционно называемый «Muta», то есть «Немая» (Урбино, Национальная галерея). У этой картины весьма драматическая судьба. Не успела она появиться на свет, как тотчас была упрятана и более двух столетий находилась в дворцовых кладовых, прислонённая лицевой стороной к стене, прежде чем предстать взорам потомков. О ней нет упоминания у Вазари, который не мог её видеть или что-либо слышать, словно над картиной висело проклятие. После того как в 1631 году династия делла Ровере прекратила своё существование, картина оказалась собственностью семейства Медичи, а Урбинское герцогство перешло под власть Ватикана. Мир впервые увидел эту картину в 1927 году во Флоренции как работу анонимного автора. Когда же было установлено авторство Рафаэля, то власти Урбино, обрекшие картину на вековое забвение, потребовали её вернуть, и началась нудная судебная тяжба. Но на этом злоключения «Немой» не закончились. 15 февраля 1975 года она была похищена из дворца в Урбино, и только год спустя удалось напасть на след преступников и обнаружить её в Швейцарии.
В этом портрете, написанном молодым художником, особенно ощутимо влияние обретённого во Флоренции опыта и совета, который Леонардо да Винчи неизменно давал любому художнику, а именно: dare sommo rilievo alle figure — придавать фигурам наибольшую выпуклость, которая, по его мнению, есть самое главное в живописи — её душа. На этот раз портрет сделан на тёмном фоне, а не на фоне пейзажа, чтобы ничто не отвлекало от изображённой в три четверти, женской фигуры. Всё предельно сжато на картине, и внимание сконцентрировано на устремлённом на зрителя спокойном взгляде волевой светской дамы в строгом тёмно-зелёном платье с открытым воротом, отороченным бордовой вставкой с кружевом и белыми буфами рукавов. Превосходно написаны украшенные кольцами руки с тонкими пальцами. По всему видно, что художник питал к модели не только дружеские чувства, хотя определённо трудно что-либо утверждать по этому поводу.
Вероятно, на идею написания портрета Рафаэля натолкнула случайная встреча в дворцовом лабиринте переходов с дочерью «префектессы», племянницей герцога Марией Варано. Его поразило, насколько дочь походит на мать. Желая сделать приятное Джованне Фельтрия, он уговорил Марию позировать.
— Когда-то мне позировал ваш брат, — объяснил он своё желание, — а теперь мне хотелось бы запечатлеть вас, дабы сделать приятное вашей матушке, к которой я давно питаю симпатию.
Мария Варано поначалу отнекивалась, но вынуждена была уступить перед напором красивого обаятельного художника, в чьих глазах заметила искренний интерес к себе и нескрываемое любование её внешностью, что не могло не льстить молодой женщине.
Портрет представляет собой квинтэссенцию сути изображённого персонажа. Выраженный в нём сгусток внутренней энергии напоминает волевого Федерико да Монтефельтро, бывшего правителя Урбино, чья энергия никак не передалась его наследнику слабовольному сыну Гвидобальдо, зато ею сполна обладала дочь Джованна Фельтрия, равно как и одна из её дочерей Мария Варано, на чью долю выпало немало испытаний, но она с достоинством преодолела их и сохранила своё очарование. И всё же стоит задаться вопросом: имеет ли это прямое отношение к женскому портрету, написанному Рафаэлем в Урбино?
Своим необычным названием «Немая» картина, вероятно, обязана тому, что её героиня, словно набрав в рот воды, не желает делиться своими невесёлыми мыслями с окружающими. Среди множества рисунков Рафаэля выделяется один, на полях которого написан сонет, появившийся, как и портрет, во время пребывания в родном городе зимой 1507 года. Судя по настрою и выраженному в нём желанию автора оставить в тайне свои симпатии, можно предположить, что стихотворение связано каким-то образом с героиней портрета «Немая» и хранимой ею тайной, но это всего лишь догадка. Рафаэль решил доверить свои чувства листку бумаги:
Имеется вариант последней строки сонета:
Какова бы ни была подоплёка создания картины «Немая», Рафаэль внёс ею весомый вклад в традицию итальянского портрета, получившего блестящее развитие в XV веке в работах Пизанелло, Антонелло да Мессина, Гирландайо, Леонардо да Винчи и Боттичелли. В них проявился взятый этими великими мастерами на вооружение известный принцип Платона показывать totus homo — человека во всей его сущностной полноте. В ту пору один только Микеланджело отрицательно относился к портретному жанру, считая его глупостью и проявлением чрезмерного тщеславия, хотя, оставил в рисунке превосходный портрет своей подруги поэтессы Виттории Колонна, к которой питал платонические чувства, а самого себя изобразил лишь однажды на фреске «Страшный суд» в виде содранного с кожей лица-маски в руках святого Варфоломея, в котором узнаваемы черты скандально известного литератора Аретино, оклеветавшего мастера.
Так кто же изображён на картине и что за тайна сокрыта в ней? То, что на портрете вдова, не вызывает сомнения, судя по одеянию героини. Когда Рафаэль приехал под Рождество из Флоренции и приступил к написанию портрета, во дворце проживали три вдовы. Одна из них узнаваема по портрету Емилии Пио (Балтимора, Музей изящных искусств), написанному молодым художником сразу после появления портретов супружеской пары правителей Урбино. Стало быть, речь может идти лишь о вдовых Джованне Фельтрия и её дочери Марии Варано, которой в ту пору было двадцать шесть лет. Глядя на картину, можно предположить, что её героиня дала обет молчания и хранит тайну какой-то тёмной истории, на разглашение которой наложено табу.
Во время позирования случилось непредвиденное. Мария вдруг побледнела, и её начало тошнить. Рафаэль поспешил подать ей стакан воды. Когда позывы тошноты прекратились и восстановилось ровное дыхание, Мария вытерла платком рот и с мольбой в голосе попросила:
— Умоляю вас, ничего не говорите матери, чтобы напрасно её не беспокоить.
То, что не заметила «префектесса»-мать, не ускользнуло от внимательного глаза художника, работавшего над портретом. Ему нетрудно было догадаться, что Мария Варано была в тщательно скрываемом ею интересном положении. При внимательном рассмотрении картины можно заметить, как несколькими легкими мазками художник слегка выделил выпуклость живота молодой женщины, хотя вряд ли на ранней стадии беременности он заметен, чего Рафаэль, решивший запечатлеть свою догадку, мог о таких тонкостях и не знать.
Завершив работу над портретом, он не стал задерживаться в Урбино из-за гнетущей обстановки во дворце и ждать возвращения друга Кастильоне из Болоньи. Портрет оставил в дар Марии Варано. Её мать в это время была в Риме, где улаживала при дворе кое-какие дела. Он уехал во Флоренцию выполнять новые заказы знати.
Раскрыть тайну картины «Немая» помогли некоторые подробности о трагическом событии, имевшем место в Урбино в начале ноября 1507 года, до появления там Рафаэля. Они стали известны из дневника венецианца Марино Санудо и короткого письма Кастильоне матери. Как сообщает историк Санудо, у которого были всюду информаторы, в Урбино произошло следующее. Пока участники мартовских бдений вели беседы о благородстве чувств и чистоте платонической любви, во дворце назревали события, которые должны были привести к трагической развязке. Однажды юнец Франческо Мария перехватил записку сестры Марии к Джован Андреа Браво, любимцу хворого дяди. Она свидетельствовала о близости между сестрой и безродным пажом. Открытие потрясло брата, и им овладела жажда мести. Его особенно возмутило, что наглец назначал сестре свидание подальше от глаз придворных — в замке Сассокорваро, подаренном ему благодетелем герцогом.
Неожиданно подвернулся счастливый случай расквитаться с любовником сестры в поединке на турнире, на который съехалось немало гостей. Однако как ни старался одержимый жаждой мести Франческо Мария нанести смертельный удар Браво и защитить честь семьи, тому удалось удержаться в седле и ловко увёртываться от ударов вошедшего в раж противника. Выступивший арбитром турнира герцог Гвидобальдо никому из участников поединка победу не присудил. Джованна Фельтрия увидела в том пристрастность судейства и открыто высказала брату несогласие с таким решением. Её поддержали и другие дамы, наблюдавшие за поединком. А герцогиня Елизавета не мудрствуя лукаво заявила:
— Меня изрядно позабавил этот, как его там… Джован Андреа, напоминавший трусливого зайца, скачущего по стерне и стремящегося замести следы.
Будучи не посвящённой в семейную тайну, Джованна Фельтрия своими резкими высказываниями об исходе поединка сама подвигла самолюбивого и мстительного сына на решительный шаг, и тот дождался своего часа. Как-то после дружеского ужина он предложил ничего не подозревавшему Джован Андреа пройти в зал, где новый учитель фехтования обещал показать несколько интересных приёмов. Едва они туда вошли, как трое дюжих слуг набросились на парня и заломили ему руки за спину. Вынув из ножен шпагу, Франческо Мария крикнул опешившему Джован Андреа:
— Получай, несчастный, плату за предательство!
Тот принял всё за шутку и даже не пытался вырваться из рук слуг. Франческо Мария хладнокровно заколол улыбающегося безоружного противника. Приказав своим подручным отыскать и убить слугу, помогавшего любовникам обмениваться записками, убийца покинул дворец и скрылся.
Почувствовав неладное, Джованна Фельтрия с дочерью устремилась к фехтовальному залу, но стоявший перед дверью слуга заявил, что туда не велено никого пускать.
— Да как ты смеешь мне перечить! — гневно воскликнула Джованна Фельтрия.
Мать и дочь вошли в зал и увидели на полу в луже крови заколотого Джован Андреа. Оставив рыдающую дочь во дворце, мать несмотря на позднее время помчалась под проливным дождём на поиски сына. Она знала, где он мог укрыться, и не ошиблась. Франческо Мария решил отсидеться в родительском дворце в Сенигаллии.
— Ничего не говорите мне, мама! — сказал он, увидев её на пороге. — Но я уверен, что покойный отец оправдал бы мой поступок. Нельзя давать волю наглым смердам.
Страшная весть вскоре расползлась по дворцу и болью отозвалась в сердце герцога Гвидобальдо, который никак не мог поверить в жестокость любимого племянника. Как ни старалась местная власть скрыть содеянное, об убийстве стало известно при папском дворе. Узнав об этом злодеянии, рассвирепевший папа Юлий лишил своего племянника Франческо Мария делла Ровере титула префекта Рима, доставшегося ему по наследству от отца. Для выяснения дел он направил в Урбино в качестве доверенного лица Джулиано Медичи, которому пребывание во дворце настолько пришлось по вкусу, что он провёл там целых шесть лет, в память о чём помещение, которое он занимал, с той поры носит название «апартаменты Великолепного» в честь его славного отца.
Эта жуткая история окончательно подкосила герцога Гвидобальдо, и он слёг, распорядившись в последний момент позвать нотариуса, которому продиктовал некоторые изменения в завещании. Теперь в случае его кончины власть переходила полностью к супруге, герцогине Елизавете Гонзага, и от неё к прямому наследнику, но только по достижении им двадцатипятилетнего возраста. 11 апреля 1508 года герцог, последний из рода Монтефельтро, тихо отошёл в мир иной в возрасте тридцати шести лет.
Овдовевшая герцогиня Елизавета спокойно перенесла утрату и вскоре простила наследника Франческо Мария, который редко появлялся во дворце, начав военную карьеру. Его мать и сестра покинули Урбино. Потрясённые случившимся, женщины в спешке забыли полученный в дар портрет, а возможно, не захотели его оставлять у себя как напоминание о семейной драме, и его упрятали в дворцовую кладовую. Рафаэль ничего не знал о судьбе картины, и больше ему не довелось повстречаться ни с Джованной Фельтрия, ни с её дочерью, вышедшей вскоре замуж за одного из отпрысков рода Сфорца.
Из письма Рафаэля дяде Симоне Чарла, отправленного из Флоренции 21 апреля 1508 года, можно судить о его полном неведении того, что произошло во дворце в Урбино. Из немногих дошедших до нас его писем видно, что в отличие от друга-литератора Рафаэль прибегал к эпистолярному жанру лишь в силу необходимости. По отзывам современников, он был приятным занимательным собеседником, чего никак не скажешь, читая его письма. Насколько же они скучны и косноязычны, с неизменными вкраплениями слов и оборотов родного маркизанского диалекта и конечно же ошибками. Правда, такие же ошибки делал и Кастильоне, когда в письмах к матери переходил на мантуанский диалект.
Следует напомнить, что в те годы шло становление итальянского языка, сравнительно недавно вышедшего из учёной и разговорной латыни vulgo, и закладывались основы грамматики и правописания. Например, именно в те годы над проблемами языка задумался Пьетро Бембо в своём сочинении «Рассуждения в прозе о народном языке», явившемся одним из первых опытов разработки итальянской грамматики.
Приведём с небольшими купюрами упомянутое письмо Рафаэля, из которого следует, сколь доверительны и сердечны были отношения племянника с дядей:
«Дорогой и любимый мной как отец дядя! Я получил Ваше письмо с известием о смерти нашего обожаемого Герцога. Да упокой его душу, Господи! Я не мог сдержать слёз, читая письмо. Непоправимые утраты нужно стойко переносить, а потому смиримся с Божьей волей.
Несколько дней назад я обратился к дяде священнику с просьбой выслать мне доску с Мадонной для префектессы. Но он её не прислал, поэтому прошу Вас с любой оказией направить мне сюда эту доску, дабы сделать приятное Синьоре. Чтобы Вы знали, сейчас самый подходящий момент, когда они мне вскоре все понадобятся.
Ещё об одном Вас прошу, дорогой дядя. Сообщите священнику и Санте, что в Урбино скоро приедет флорентиец Таддео Таддеи, о котором мы не раз с Вами говорили. Пусть его встретят достойно, не считаясь с расходами. Попрошу и Вас оказать гостю внимание из-за любви ко мне. Этому человеку я бесконечно признателен, как никому другому на свете.
Что касается картины, пока цену я не установил. Постараюсь по возможности и впредь не устанавливать её заранее, ибо куда разумнее говорить о ней по окончании работы и оценки сделанного. Вот почему ничего не смог сообщить Вам в предыдущем письме, да и сейчас не в состоянии это сделать. Заказчик обещает 300 дукатов золотом за работу… После праздников я смогу кое-что сообщить относительно цены за картину, для которой я закончил подготовительный картон.
Наконец, если возможно, было бы желательно получить от господина Префекта рекомендательное письмо гонфалоньеру Флоренции… Такое письмо мне необходимо, поскольку я заинтересован поработать в одном из дворцовых залов, а заказ на роспись даётся гонфалоньером. Прошу Вас получить его для меня. Надеюсь, что, узнав о моей просьбе, господин Префект исполнит её. Передайте ему бесконечную признательность его бывшего слуги и famulus. Ваш Рафаэль, художник из Флоренции».42
Видимо, говоря о цене за картину, Рафаэль имел в виду «Мадонну под балдахином». Не совсем понятно, какую работу на доске он просит прислать. Но самое главное, ему не было известно, что папа в гневе лишил своего племянника Франческо Мария звания префекта. На разглашение кровавой драмы был наложен запрет, и дядя Симоне не стал ничего сообщать о ней, оберегая племянника от излишних потрясений.
Из письма можно также понять, что Рафаэль ещё больше утвердился в желании поработать в зале Большого совета дворца Синьории, оставленном двумя соперниками, и у него уже созрела идея будущих росписей. Он продолжал искренне надеяться на помощь своих высоких покровителей. Его ещё больше подзадорило письмо от болонского мастера Франческо Франчи. Вместе с благодарностью за присланные рисунки к письму был приложен восторженный сонет, послуживший своего рода напутствием Рафаэлю накануне резких перемен в его жизни:
Получив обещанное приглашение из Рима и не дождавшись ответа от гонфалоньера, Рафаэль покинул Флоренцию, оставив изрядно наскучившую ему «Мадонну под балдахином» с непросохшей краской. Он отправился навстречу своей последней римской эпопее, которая растянется на двенадцать лет, и это будут годы его подлинного триумфа.
Глава XIV НАЧАЛО РИМСКОЙ ЭПОПЕИ
Точная дата прибытия Рафаэля в Вечный город неизвестна. Можно только предположить, что он объявился там после отправки из Флоренции упомянутого выше письма от 21 апреля 1508 года дяде Симоне Чарла, но до написания письма своему болонскому другу, художнику Франческо Франче, чей сонет его взволновал и ещё сильнее подхлестнул в желании отправиться в Рим, откуда и послано 5 сентября письмо Франче. Его оригинал утерян, но искусствоведу Мальвазия удалось его обнаружить и опубликовать в 1678 году в своей известной книге о болонской школе живописи. Хотя это письмо считается апокрифом, приведём его, так как в нём содержится немало достоверных сведений о Рафаэле, его связях и первых шагах в Риме:
«Дорогой мой мессир Франческо! Только что получил через экспедитора Бадзотто Ваш портрет, доставленный в целости и сохранности, за что я Вам бесконечно благодарен. Он прекрасен и так правдоподобен, что, глядя на него, впадаю в обман, словно вижу перед собой Вас во плоти и даже слышу Ваш голос. Прошу меня извинить за затяжку с отправкой моего автопортрета согласно договоренности из-за навалившихся на меня дел. Я мог бы послать портрет, написанный кем-нибудь из учеников, а затем поправить в нём кое-что, но это не годится. Более того, ничто и никто мне не поможет сравниться с совершенством Вашего портрета. Простите великодушно, но Вы сами не раз испытывали, что значит быть несвободным, обязанным заказчику и т. д.
С тем же экспедитором, возвращающимся к Вам через шесть дней, посылаю другой рисунок, значительно отличающийся, в чём Вы сами убедитесь, от предыдущего, на рождественский сюжет, который пришёлся Вам по вкусу, хотя все мои работы Вы так расхваливаете, что вгоняете меня в краску. Высылая теперь сущую безделицу, прошу принять её как доказательство моей к Вам любви и уважения. Если в ответ получу Вашу Юдифь, то помещу её среди самых дорогих мне вещей.
Монсеньор датарий из папской канцелярии с нетерпением ожидает обещанную Вами малую Мадонну, а кардинал Риарио большую, о чём Вам сообщит тот же Бадзотто. Я тоже буду ими любоваться и, как всегда, испытывать истинное наслаждение при виде Ваших работ, преисполненных красоты, благочестия и такого мастерства, какого не увидишь ни у кого. Не падайте духом и руководствуйтесь присущим Вам благоразумием. Верьте, что Ваши огорчения я переживаю как свои собственные. Продолжайте любить меня, как и я люблю Вас всем сердцем. Всегда готовый к услугам Ваш Рафаэль Санцио».44
Монсеньор датарий, о котором говорится в письме, — это молодой оборотистый тосканец Бальдассар Турини из Пешии, удачливый коллекционер. С ним у Рафаэля завязались настолько тесные доверительные отношения, что он был назван им душеприказчиком в завещании. А вот упомянутый также кардинал Риарио — это тот самый прелат, которому юный Микеланджело ловко всучил своего «Спящего Купидона» как античное изваяние.
С тех пор как Леонардо и Микеланджело покинули Флоренцию, оставив там свои великолепные картоны, она постепенно утратила своё главенствующее положение в искусстве и центр притяжения переместился в папский Рим, куда стремились попасть многие мастера в предвкушении выгодных заказов, и прежде всего для изучения античной культуры, интерес к которой рос повсеместно. Со временем сформировавшаяся римская художественная школа явилась основой классического стиля и недолго продлившегося так называемого золотого века, воспетого поэтами.
В те годы в Риме всюду давали о себе знать следы тысячелетнего глумления над памятниками античной культуры. Известно, что, собираясь впервые посетить Вечный город, Петрарка опасался, что открывшиеся взору руины и запустение разочаруют его и, как он писал в одном из писем, «унизят величественный образ, созданный воображением». Кричащее несоответствие между воображаемым образом величественного Рима, созданным в основном посредством изучения произведений авторов глубокой древности, и истинным его обликом долго ещё сохранялось и пугало приезжих.
В первой половине XV века Рим посетил Альберти, оставивший подробное описание сохранившихся античных сооружений и памятников культуры. Он автор первой топографической карты города. Тогда же там побывали Брунеллески и юный Донателло, сделавшие обмеры многих античных капищ и изваяний, что позже нашло отзвук в их творчестве. Например, мощное перекрытие римского Пантеона, воздвигнутого в 27 году до н.э. в эпоху правления императора Августа его зятем консулом Агриппой по проекту Аполлодора Дамасского, вдохновило Брунеллески и послужило ему образцом при возведении грандиозного купола над флорентийским собором Санта-Мария дель Фьоре, а конная статуя Марка Аврелия сподвигла Донателло на изваяние для Падуи грозной фигуры кондотьера Гаттамелаты на коне.
Рафаэль, получивший долгожданное приглашение папского двора, не мог не подивиться в первые дни своего пребывания тому, что осталось от былого величия Рима. Живописные развалины Форума, где паслись козы, Колизей, ставший пристанищем бродяг и разбойников, или руины великолепных дворцов на Авентинском холме, превращённые в притоны разврата — всё это не обескуражило молодого художника. Его богатое воображение при виде торчащей из груды мусора беломраморной руки какого-то изваяния, словно взывающей о помощи, или вырвавшейся на поверхность земли из векового заточения капители дорической колонны тут же воспроизводило их в первозданном великолепии, и он твёрдо решил, что отныне его долг художника и христианина во что бы то ни стало возродить утраченную красоту.
Полученное им приглашение прибыть в Рим явилось результатом дворцовых интриг, участниками которых, кроме придворных, были непримиримые соперники Браманте и Микеланджело, высоко ценимые Юлием II. Первому удалось внушить папе мысль о том, что прижизненное возведение гробницы — плохая примета. Зная о нелюбви молодого строптивого скульптора к живописи, он всё же сумел уговорить папу поручить именно Микеланджело росписи в Сикстинской капелле в надежде, что тот потерпит провал и окончательно дискредитирует себя как творец и тогда само собой всплывёт имя земляка и дальнего родственника — Рафаэля, на которого Браманте делал ставку как на верного союзника в противостоянии с Микеланджело, открыто выступавшего против всех его градостроительных проектов.
В преддверии предстоящих военных походов против некоторых итальянских правителей, отказывающихся признавать верховенство Рима, папа Юлий II приостановил на время сооружение гробницы в соборе Святого Петра, дав обет достойно увековечить память своего дяди Сикста IV, который возвёл тридцатилетнего племянника в сан кардинала, присвоив ему почётный титул Сан-Пьетро ин Винколи, и тем самым открыл путь к ватиканскому престолу. Он загорелся идеей расписать фресками гигантский мрачный свод Сикстинской капеллы, построенной дядей, который производил тягостное впечатление. Но Микеланджело наотрез отказался браться за росписи, доказывая папе, что ему, скульптору, имеющему дело с грубым камнем, негоже заниматься столь тонким искусством, как фресковая живопись, и вместо себя предложил Рафаэля, заявив, что искусство молодого урбинца снискало ему всеобщее признание во Флоренции. Об этом разговоре он сам вспомнил на старости лет, когда диктовал свои воспоминания ученику Асканио Кондиви, поведав о непростом отношении к личности Рафаэля, с которым у него так и не получилось взаимопонимания, и возникшей ссоре с папой из-за отказа браться за фрески и бегстве из Рима от папского гнева.
По-видимому, Юлий II никак не ожидал услышать столь лестное мнение о молодом художнике из уст Микеланджело, который редко о ком отзывался с похвалой. Но побывав в Перудже и в Урбино, он слышал немало восторженных отзывов о Рафаэле, чьё имя запечатлелось у него в памяти, что и склонило его к решению пригласить молодого урбинца ко двору.
Как гласит древняя пословица, все дороги ведут в Рим, и одну из них, самую кратчайшую, избрал Рафаэль, что позволяло через два-три дня, в зависимости от сноровки нанятого возницы и выносливости лошадей, оказаться перед римскими крепостными воротами Порта дель Пополо. Пройдя через них, вступаешь на обширную площадь у подножия одного из семи холмов Пинчо. Здесь обычно паломники из Европы делали привал и приводили себя в порядок после долгого пути у фонтана или рядом на берегу Тибра, прежде чем войти в Вечный город. К мощной крепостной стене, воздвигнутой Марком Аврелием, прилепилась старинная церковь августинцев Санта-Мария дель Пополо, где путники могли исповедаться и причаститься.
По рекомендации друга Таддеи, конторы которого были и в Риме, Рафаэль первоначально поселяется в доме 112 на улице Коронари, издавна облюбованной ремесленниками и особенно умельцами всевозможных подделок. Сколько здесь появилось «античных» монет, изготовленных здешними искусными чеканщиками для пополнения коллекций нумизматов! Несть числа и «античным» изваяниям и прочим «раритетам», которые расходились отсюда и до сих пор расходятся по всему миру. От улицы Коронари по мосту Святого Ангела через Тибр рукой подать до Ватикана, куда были устремлены взоры Рафаэля. Он не стал терять время зря и, немного оглядевшись, отправился прямиком к папской резиденции, где в одном из рабочих помещений дворца встретился с Браманте.
— Его Святейшество сейчас в порту Остия на церемонии спуска на воду новой военной галеры. Не будем дожидаться его возвращения. Хочу представить вас сестре папы, чьим мнением брат дорожит и от которой многое здесь зависит.
Они прошли через ряд залов в небольшую гостиную, где за пяльцами сидела благообразная седая матрона в скромном по возрасту, но не по положению одеянии.
— Мона Лукина, — сказал Браманте, — позвольте представить вам родственника и земляка Рафаэля, о котором я вам рассказывал. Прошу любить и жаловать.
Рафаэль подошёл к ней и поцеловал протянутую руку.
— Наслышана немало, — улыбнулась мона Лукина и предложила гостям присесть. — Не скрою, меня приятно удивило, что в наши дни ещё можно повстречать скромных молодых людей, наделённых добрым сердцем и талантами. Моя приятельница из Перуджи, графиня Аталанта Бальони, писала мне о ваших превосходных работах.
В этот момент в гостиную вбежала юная послушница.
— Тётя, я услышала ваш голос, — сказала она, поцеловав мону Лукину. — Вам что-нибудь нужно?
— Спасибо, душенька! Прошу тебя проводить моих гостей к монсиньору де Грассису.
Пока они следовали по коридорам и лестничным переходам за быстроногой монашкой, Браманте успел шёпотом сообщить Рафаэлю, что девушку зовут Феличия и она младшая из трёх незаконнорождённых дочерей папы, называемых официально «племянницами». Она появилась на свет в Авиньоне, где её родитель в течение ряда лет занимал пост папского нунция.
Их принял Парис де Грассис, главный церемониймейстер папского двора. Важный пышнотелый прелат лет шестидесяти провёл их в так называемые ватиканские станцы, расположенные над жилыми помещениями третьего этажа, получившими название «Апартаменты Борджиа». Всюду кипела работа: артель подручных шпаклевала и заделывала щели в стенах, а один из подмастерьев, стоя на сколоченных лесах под потолком, наносил углём и сепией очертания будущей фрески.
— Его Святейшество, — сказал прелат, — пожелал покинуть покои своего предшественника и переместиться в эти помещения, где будут размещены рабочий кабинет, библиотека и другие службы. Всё это надлежит достойно украсить, и на вас им возлагаются большие надежды.
Это была победа. Рафаэлю впервые поручалось расписать фресками целые залы и не где-нибудь, а в самой цитадели христианства, в Апостольском дворце. Расставшись с монсеньором и Браманте, он отправился бродить по Риму, чтобы немного успокоиться и привести в порядок мысли.
Позднее из дневника де Грассиса стало известно, что папа Юлий II не жаловал покойного Александра Борджиа, называя его не иначе как quem marranum et judaeum circumcisum — «этот марран и обрезанный иудей»,45 который путём подкупа и грязных махинаций взошёл на папский престол. О нехристианском происхождении нелюбимого народом папы Борджиа слухи возникли сразу после его смерти, когда по распоряжению кардинала Бурхардуса обслуга приступила к омовению смердящего от августовской жары трупа, перепачканного с ног до головы испражнениями за шесть дней агонии, прежде чем облачить тело покойного папы в погребальные одеяния.
Поселившись после избрания в покоях ненавистного предшественника, Юлий II не раз заявлял в сердцах, что его приводит в бешенство то, что «этот мерзкий выкрест путается под ногами!». У него были давние счёты с папой Борджиа, который держал его подальше от себя — в Авиньоне, где кардинал Джулиано делла Ровере не сидел сложа руки и немало сделал для укрепления роли Церкви за Альпами, а 31 декабря 1494 года вместе с войском Карла VIII вошёл в Рим, приветствуемый толпой. Но даже после поражения французов под Форново он продолжал оставаться в открытой оппозиции действующему папе при поддержке влиятельных римских кланов Колонна, Орсини, Савели, Каэтани и не последовал примеру опальных кардиналов, возвратившихся к папе Борджиа с повинной головой.
Когда тот же де Грассис предложил сбить фреску с изображением в рост «мерзкого выкреста» и членов его семьи, папа Юлий II как ценитель искусства предпочёл сменить жилые покои, нежели замазывать портрет предшественника кисти Пинтуриккьо и всё живописное великолепие «Апартаментов Борджиа». Не дожидаясь завершения работ в верхних помещениях, предназначавшихся для проживания и представительских целей, он перебрался туда, испытывая до конца дней своих неудобства, так как работы там не прекращались ни днём ни ночью. Ему не терпелось скорее увидеть резиденцию в новом блистательном убранстве, достойную римского понтифика. Примером ему служили бывший папский дворец в Авиньоне и дворец герцогов Монтефельтро в Урбино, поэтому он дал полную свободу действий Браманте, руководившему основными работами в здании, которое в середине XV века при папе Николае V было пристроено к старому папскому дворцу, существовавшему с XII века. Тогда же на Ватиканском холме появился дворец Бельведер.
До избрания на высочайший пост понтифика кардинал Джулиано делла Ровере считался покровителем римской церкви Сан-Пьетро ин Винколи, где при нём были откопаны на холме статуя Аполлона и несколько других античных изваяний. По его распоряжению Браманте построил крытый проход из Апостольского дворца к Бельведеру, куда и было помещено найденное изваяние. Позднее здесь будет установлена скульптурная композиция Лаокоон и другие античные скульптуры. Юлий был влюблён в бельведерского Аполлона и часто заходил туда полюбоваться изваянием, что послужило поводом для появления в городе похабных стишков, высмеивающих пристрастие папы к обнажённой натуре. Римских острословов хлебом не корми — дай позубоскалить невзирая на лица, пораспевать похабщину на площадях или в трактирах под треньканье мандолины. Приведём один из таких стишков, звучащий более-менее пристойно:
Юлий II вошёл в историю не только как папа-воин с его честолюбивыми представлениями о собственной исторической миссии спасителя Италии, но и как тонкий ценитель и покровитель искусства. Во имя былого величия Рима он немало сделал для украшения города и укрепления роли Ватикана в христианском мире. Эта была противоречивая фигура, наделённая острым умом, железной волей и вспыльчивым характером, усмирить который могла только его сестра мудрая мона Лукина. Папа ласково принял Рафаэля и разрешил «любезному сыну» присутствовать на заутрене в своей частной молельне, расписанной когда-то Беато Анджелико, специально приглашённым в Рим папой Николаем V.
— Такой чести удостаиваются только избранные, — пояснил Браманте, возвращаясь с Рафаэлем после аудиенции у папы. — Подумайте, мой друг, о портрете Его Святейшества. Сейчас самое время проявить себя с лучшей стороны.
Оказывая на первых порах содействие Рафаэлю, он явно недооценивал способности своего подопечного, который отлично разбирался в тонкостях дворцовой жизни и многое воспринял от друга Кастильоне, опытного царедворца. Советы Браманте часто были излишни и назойливы, а приносимые им как сорока на хвосте сплетни не всегда были приятны Рафаэлю, особенно когда они затрагивали Микеланджело. Он не видел творение Браманте в Милане и не мог пока судить о его подлинном таланте, а вот в Риме стал свидетелем того, как по приказу пользующегося полным доверием папы неугомонного архитектора рушились и корёжились многие античные сооружения, из-за чего сердце обливалось кровью. Расчищая места для будущих построек, Браманте любил повторять, что «дворцы должны расти из-под земли». Против его разрушительной политики и выступал со свойственной ему резкостью Микеланджело, чего Браманте не мог ему простить.
При содействии родственника и покровителя Рафаэлю удалось однажды тайком побывать в Сикстинской капелле в отсутствие мастера, который близко туда никого не подпускал. Но у Браманте, построившего там по указанию папы леса для росписи свода, от которых Микеланджело решительно отказался и возвёл свои, сохранился запасной ключ от капеллы. Он рассказал Рафаэлю, что недавно сопровождал папу, пожелавшего лично удостовериться, как идут дела. Несмотря на возраст, тот поднялся на леса, дабы ближе разглядеть написанное. Увидев, что росписи занимают чуть больше половины громадного свода, папа спросил, сколько времени ещё потребуется для завершения работы. Микеланджело уклончиво ответил, что на это могут уйти года два, если не больше. Папу такой ответ не устроил, и он приказал ускорить работы, наняв побольше помощников, как это обычно принято у других мастеров. Микеланджело вспылил, заявив, что он не желает уподобляться «другим», из-за чего чуть не получил удар посохом разгневанного папы. Такие стычки между папой и художником были нередки.
— Мой друг, я тут у двери покараулю, — предупредил Браманте. — Не ровён час вернётся хозяин — шума тогда не оберёшься. Особо там не задерживайтесь.
По примеру дотошного Юлия Рафаэль тоже взобрался на леса и смог близко разглядеть центральную сцену «Сотворение Адама». Ничего подобного фресковая живопись ещё не знала. Нелегко будет помериться силами с Микеланджело в Риме, чего так и не удалось сделать во Флоренции. Увиденное украдкой на плафоне Сикстинской капеллы произвело на Рафаэля ошеломляющее впечатление и многое изменило в его прежних взглядах на живопись и даже на время заставило забыть об уроках, преподнесённых ему Леонардо с его загадочным сфумато.
Но о проделке Браманте и визите Рафаэля стало всё же известно Микеланджело. Разозлившись, он заявил, что выставит пост швейцарских гвардейцев у входа в капеллу, дабы туда было неповадно «совать нос охотникам за чужими идеями». Он долго не мог успокоиться, видя, как молодой соперник набирает силу, пользуясь добрым расположением к нему и поддержкой папы. Начавшаяся холодная война продолжилась и после смерти Рафаэля. Так, в одном из писем от 1542 года Микеланджело утверждал: «Все разногласия, возникшие между папой Юлием и мной, были вызваны завистью Браманте и Рафаэля из Урбино; это и было причиной отказа (папы) от прижизненного возведения гробницы… Рафаэль всем достигнутым в искусстве обязан мне».
Как-то на одном из литературных вечеров Рафаэль познакомился с известным римским врачом Паоло Джовио, услугами которого пользовался весь папский двор. Речь зашла о склонности Микеланджело к поэзии, которую он держал в тайне, показывая «пробу пера», как он называл свои стихи, только близким друзьям. Вскоре новый приятель познакомил Рафаэля с ходившим в городе переписанным от руки шутливым сонетом Микеланджело, адресованным литератору Джованни из Пистойи. В нём автор сетует на невыносимые муки во время работы в лежачем положении на лесах под потолком Сикстинской капеллы, когда немеют члены, а краска брызжет в лицо и разъедает глаза. Сонет заканчивается кодой из двух дополнительных терцин:
Какой же силой духа надо обладать, чтобы дать такую уничижительную оценку своему великому творению! Что бы там ни говорили при дворе и в художественных салонах о «безумце» Микеланджело, его несносном характере и как бы ни охаивал его завистливый Браманте, он оставался непререкаемым авторитетом для Рафаэля. Кстати, о Браманте, Рафаэлю удалось воспользоваться одним из его советов. Предварительно переговорив с моной Лукиной, он набрался смелости и после очередной заутрени обратился к папе с предложением написать его портрет. Юлий был на редкость в добром расположении духа и согласился позировать, но чуть позже, когда спадёт жара.
Путь к славе был расчищен, и уже 13 января 1509 года в платёжном регистре ватиканской канцелярии фигурирует одно лишь имя Рафаэля сына Джованни Санти, получившего в качестве аванса 100 дукатов за росписи в Апостольском дворце — сумма по тем временам немалая. События приняли стремительный оборот, и Рафаэлю пришлось переехать в более достойное жилище неподалёку от Ватикана, где можно было разместить мастерскую и принимать нужных ему персон. Рядом Браманте строил для себя дворец, не считаясь с затратами, а пока занятый день-деньской возведением величественного собора во славу христианства великий зодчий временно ютился в одном из служебных помещений пустого дворца Бельведер как ночной сторож, дабы быть готовым в любую минуту предстать перед папой. Юлий II явно торопился и ежедневно требовал отчёт о проделанном.
Браманте как-то разоткровенничался с Рафаэлем, пригласив его на огонёк в свою каморку. После пары бокалов вина он взял в руки лютню, а играл он на ней отменно. Но сделав несколько аккордов, он вдруг загрустил, сказав:
— Как же мне опостылела вся эта неустроенность! Так хочется зажить настоящей жизнью в собственном дворце и утереть нос чванливым аристократам. Немало пришлось от них натерпеться, прежде чем я сумел завоевать доверие папы.
Захмелев слегка, он похвастался недавно полученной высокооплачиваемой должностью хранителя папской печати, которой гордился не менее, чем званием главного архитектора строящегося собора Святого Петра.
— Вы не можете себе даже представить, мой друг, какого труда мне стоило одолеть флорентийскую клику во главе с Сангалло и Сансовино, за которых горой стоял Микеланджело, — признался он. — Нелегко было убедить Юлия отказаться от их услуг и остановить свой выбор на моём проекте.
Нельзя было не посочувствовать Браманте, которому в его шестьдесят четыре года приходилось объезжать с утра до вечера строительные площадки, спорить с подрядчиками и ругаться с жуликоватыми поставщиками некачественных материалов, а после трудового дня не знать покоя и быть постоянно начеку, коротая время в одиночестве в неустроенном временном жилище.
В отличие от знаменитого родственника такая жизнь Рафаэля никак не устраивала, и он позаботился о достойном убранстве нового дома и тщательном подборе толковых помощников, поскольку объём предстоящей работы заставил его вплотную заняться созданием настоящей дееспособной мастерской, в чём скоро проявился его незаурядный талант организатора, не меньший, чем талант живописца. До приезда в Рим у него не было большого опыта фресковой росписи, и громкую известность ему принесла станковая живопись, не требующая большого числа помощников, так как секреты грунтовки дерева или холста ему были с отроческих лет хорошо известны.
Вспоминая детские годы, проведённые в отцовской мастерской, Рафаэль решил построить свои отношения с учениками и подмастерьями на совершенно иной основе. Опыта ему не занимать. Уже в семнадцать лет он был назван мастером в первом подписанном им контракте. По его глубокому убеждению, создаваемая им мастерская должна стать большой дружной семьёй, где не должно быть места подзатыльникам, окрику и навязыванию собственной воли. Хозяин как добрый отец семейства ставил во главу угла профессиональную выучку подопечных, поощряя их за радение и предоставляя особо одарённым юнцам самостоятельность. Над каждым мольбертом и рабочим столом должен витать дух творчества и ответственности за общее дело. Позднее в составленном завещании он по-отечески позаботился о будущем своих учеников. Такого история ещё не знала.
Среди расторопных парней ему приглянулись Джован Франческо Пенни по прозвищу Фатторе, происхождение которого неизвестно, но парень отличался завидной работоспособностью и честностью, и ему можно было поручить общую артельскую кассу; задумчивый и даровитый Джованни Нанни был родом из Рима, а прозвище получил позднее, по месту, где он изрядно потрудился — Джованни да Удине; прыткий в работе добряк Перин дель Вага был душой мастерской — все они были из простых семей ремесленников и с детства влюблены в искусство. Среди них выделялся особой находчивостью Джулио Пиппи, повстречавшийся Рафаэлю на площади Кампо ди Фьори рядом с гетто. Его привлекли смышлёность и преданность парня искусству, и он вскоре приблизил его к себе. Джулио Пиппи, ставший чуть ли не правой рукой мастера, был уроженцем здешних мест, за что получил прозвище «Романо», то есть «римлянин», и под этим именем вошёл в историю итальянской живописи. Отец Пиппи был довольно состоятельным человеком, владельцем виноградников на Эсквилинском холме и винных погребов, чем тот порой кичился, за что был пару раз побит тем же Фатторе, который терпеть не мог хвастовства.
Перед Рафаэлем стояла задача расписать фресками зал размером примерно восемь на десять метров с высоким сводчатым потолком и широкими оконными проёмами. Как правильно подобрать для покрытия больших поверхностей росписью нужный раствор извести, который был бы прочен и быстро сох, не образуя плесени? Вот когда оказались бесценны знания старины Браманте. Круша и ломая античные сооружения, чтобы расчистить место для осуществления своих проектов, он раскрыл секрет древнеримских строителей, добавлявших в обычный связующий раствор в нужной пропорции поццолановые примеси вулканического происхождения, добываемые в окрестностях Поццуоли под Неаполем, где Браманте специально побывал и откуда наладил поставку нужного сырья.
— Самонадеянный Микеланджело не знал этого, — сказал он, — за что и поплатился. Откуда ему знать, флорентийцу? Вскоре на первых его фресках в Сикстинской капелле появилась плесень, и тогда пришлось за неудачу держать ответ и объясняться с папой.
Когда Рафаэль вновь появился в одном из залов, который был выделен ему для росписи, стены там уже были очищены и готовы для работы. Только на углах свода сохранилась роспись, выполненная Со́домой и его другом Бальдассаром Перуцци. Рафаэль попросил не трогать эти росписи, в чём выразилось его уважение к чужому труду, даже если в нём не всё было ему по душе. Но его заинтересовала работа Перуцци, создающая иллюзию глубины архитектурного пространства. Его и Со́дому привёз с собой банкир Агостино Киджи, некоронованный хозяин Сиены, в чьей финансовой поддержке нуждалась папская казна, хотя на возведение главной святыни христианства собирались немалые пожертвования. Говорят, одному францисканскому монаху удалось собрать несколько тысяч дукатов на строительство собора Святого Петра.
Рафаэль предложил Со́доме и его другу Перуцци поработать вместе, и те, приняв приглашение, вскоре оказались в его команде. Перед ним встал вопрос: с чего начать? Идею подсказал монсеньор де Грассис:
— Его Святейшество видел ваши работы в Перудже. Помню, что наиболее сильное впечатление на него произвела незаконченная фреска «Святая Троица» в Сан-Северо со Всевышним, держащим в руке Священное Писание. Вот с неё и начните.
Рафаэль засел за работу. Среди приставленных к нему советников были теологи, историки, литераторы и другие светлые умы из круга гуманистов, которым С. С. Аверинцев дал удачное определение — «римская ойкумена». Принято считать, что по совету самого папы к ним присоединился гуманист и видный богослов сорокалетний Эджидио да Витербо, который вскоре возглавил монашеский орден августинцев, пользуясь большим влиянием в Римской курии. Современники называли его «первейшим платоником своего времени». Как и его друг Пико делла Мирандола, он в молодости увлёкся изучением каббалы как источника толкования потаённого смысла Библии.
Это было время, когда между теологами и философами шла постоянная полемика о том, является ли наследие античной культуры «филологией» или «идеологией». Её истоки связаны с сочинением Петрарки «О своём и чужом невежестве», в котором автор корит себя за то, что отдаёт предпочтение античной культуре, а не христианскому идеалу, признавая, что тем самым он скорее «цицеронианец», нежели «христианин». В разговоре с друзьями Петрарка как-то заявил, что Цицерон никогда не приносил ему вред, «но чаще только пользу»,48 хотя в те времена читать и хранить книги античных поэтов считалось величайшим грехом и всякий согрешивший подвергал свою жизнь опасности.
С помощью эрудитов, приставленных папой к Рафаэлю, была разработана основная тематика будущих росписей среднего зала. Вазари первым назвал его Станца делла Сеньятура, поскольку там подписывались вердикты папского суда и другие важные документы. По поводу назначения этой станцы нет единого мнения и имеется обширная литература. Пока ясно одно, что её главной темой стали теология, философия, правосудие и поэзия, на которых зиждется вся христианская культура. Их аллегорические изображения украшают свод, люнеты и часть боковых стен. Если сюжеты фресок Станцы делла Сеньятура должны были отразить культурно-просветительскую роль Церкви, то в росписях остальных залов следовало выделить мистическое и историческое предназначение христианства.
Прежде чем приступить к росписи, Рафаэль сделал более пятидесяти рисунков, а для всего цикла более трёхсот. Первые рисунки касались фрески, названной «Диспут» (в нашей литературе часто называемой по непонятной причине на итальянский манер «Диспута»), которой была отведена главная смысловая нагрузка. Об этой фреске, как ни об одном другом творении Рафаэля, имеется богатейшая литература, поскольку в ней отражено всё своеобразие философской мысли итальянского Возрождения.
Общепризнано, что цикл начинается с фрески «Диспут», на которой пространство ограничено мощным декоративным полукружием и дугой, отделяющей мир горний от мира земного. Само это пространство раскрывается перед зрителем уходящей от него далеко вглубь перспективой, а сравнительно небольшая станца в виде вытянутого прямоугольника расширяется, и всё внимание зрителя сосредоточивается на алтаре с дарохранительницей как духовном центре события и в то же время являющемся точкой схода всех параллельных линий.
Начатая в конце 1508 года работа над всем живописным циклом Станцы делла Сеньятура была полностью завершена к 1511 году, о чём имеется пометка под фреской «Парнас». Её свод расписан сценами, являющимися своеобразным эпиграфом к каждой из них. Так, над фреской «Диспут» помещена люнета с аллегорией Теология в виде женской фигуры с белым покрывалом и зелёным плащом поверх красной туники (цвета теологических добродетелей), а два путти держат таблички с надписью на латыни Divinarum rerum notitia из почитаемого гуманистами Кодекса Юстиниана, что означает «Знание божественных вещей».
Композиция «Диспута» напоминает огромную апсиду раннехристианского храма с широкими мраморными ступенями, ведущими к алтарю, на котором установлена дарохранительница с облаткой, называемой просвирой или ostia по-итальянски, как неотъемлемая часть евхаристии. Стоит заметить, что в первоначальных рисунках Рафаэля алтарь как таковой отсутствовал, из чего можно заключить, что на художника, далёкого от теологических тонкостей и думающего только о выигрышном композиционном решении сюжета на огромном пространстве стены, было оказано немалое давление, о чём он сам говорил в упомянутом выше письме болонскому другу.
Главными контрастными тонами являются синий и жёлтый, интенсивные в земной половине и более лёгкие и размытые в небесной. Фреска носит сугубо программный характер, что отражено на четырёх табличках в руках резвых путти, устремляющихся к миру земному вместе с голубем, олицетворяющим Святой Дух Троицы, пребывающей в заоблачных высях.
Если сложить вместе разрозненные таблички, то текст читается так: «Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientsia», то есть «Юриспруденция есть знание божественных и человеческих вещей, наука о справедливом и несправедливом».
Работа над «Диспутом» изрядно утомила Рафаэля. Под постоянным контролем приставленных советников ему приходилось строго соблюдать церковную иерархию, рассаживая по обе стороны от Святой Троицы апостолов, пророков и святых мучеников. Первым сидит Пётр, изображённый в профиль. Здесь же Иоанн Богослов, погружённый в чтение Евангелия и не слышащий, что ему говорит царь Давид. Мученик Стефан указывает, по-видимому, пророку Иеремии на происходящее на земле. По другую сторону от Святой Троицы едва различимый Георгий-воин и дьякон Лаврентий с пальмовой ветвью мученика, увлечённо наблюдающий за полётом ангелов. Рядом пророк Моисей со скрижалями и задумавшийся апостол Иаков с книгой на коленях. Пророк Авраам, повернувшись, смотрит на апостола Павла, замыкающего ряд и изображённого в профиль. Не забыт и праотец — полуобнажённый Адам, сидящий рядом с Петром. Его вальяжная поза несколько нарушает картину чинно восседающих небожителей. Сидя нога на ногу, Адам всем своим простодушным видом выражает радость существования, хотя и не на земле.
Совсем иная картина на нижней, земной половине фрески, где художник позволил себе некоторую вольность, разместив известных церковных иерархов, трёх пап, четырёх епископов и простолюдинов вокруг алтаря, покрытого голубым покрывалом с арабесками на возвышении с потиром и остией. Одни ведут между собой неспешный разговор, другие пребывают в духовном созерцании. Слева от алтаря восседает папа Григорий Великий, устремивший взор к небу. Рядом с ним сидит блаженный Иероним со львом у его ног. Над ним возвышается, как принято полагать, святой Бернард, указывающий обеими руками на остию и как бы говоря, что всякие рассуждения напрасны, если пред нами искупительное тело Христово. Ему вторит такой же старец по другую сторону алтаря. Возможно, это Пьетро Ломбардо, ученик французского философа XII века Абеляра. Его поднятая к небу рука красноречиво говорит о том, что в «Диспуте» вместо споров теологов и дискуссий безоговорочно утверждается триумф веры и правоты богословской догмы.
По правую сторону от алтаря стоят два понтифика в митрах и парадных одеяниях: Анаклет, третий после Петра папа римский, и Иннокентий III. Между ними святой Августин с книгой в руках что-то вещает, а сидящий на ступени в светлом плаще юноша торопливо записывает его слова. Здесь же Отцы Церкви — Фома Аквинский, Амвросий и Бонавентура.
Особенно живо и выразительно написаны персонажи слева от алтаря на фоне пейзажа с воздвигаемым строением — намёк на строящийся собор Святого Петра. Считается, что смотрящий на увлечённых чтением людей благообразный старец — это живописец Беато Анджелико. А вот старику, прислонившему книгу к парапету, приданы черты Браманте. Он что-то тщится доказать окружающим его людям, заглядывающим в раскрытую книгу. С ним не согласен удаляющийся к алтарю златокудрый юноша в розовой тунике и бирюзовом плаще, написанный в мягкой леонардовской манере. Чуть выше спиной к зрителю рядом с преклонившими колена юнцами стоит учёный муж, задрапированный в голубой паллиум. Он задумчиво глядит на алтарь и указывает рукой на лежащие книги у его подножия, словно олицетворяя собой греко-римский мир, который принимает христианство.
В колоритной толпе справа от алтаря узнаваем Данте, увенчанный лавровым венком, и рядом фигура монаха, чьё лицо закрыто капюшоном. По-видимому, это отлучённый от Церкви Савонарола, о котором Рафаэль так много слышал во Флоренции. Он не побоялся изобразить опального проповедника на фреске, вероятно, потому, что уже велись разговоры о возможной его канонизации, о чём поведал папский датарий Турини, любивший посидеть у друга в мастерской, наблюдая за его работой. Небезынтересно отметить, что в мрачную эпоху Контрреформации с её угрюмой подозрительностью, когда церковные мракобесы подняли голову и ожесточились против любой формы ереси, на одной гравюре, выполненной в 1552 году, фреска «Диспут» неожиданно обрела более ортодоксальный смысл, и из неё исчезла фигура монаха в клобуке. Это неудивительно, поскольку к тому времени после решений Тридентского вселенского собора, объявившего войну протестантам и инакомыслящим, потребовавшего даже «приодеть» персонажей на фреске «Страшный суд» Микеланджело, имя и труды Савонаролы попали в пресловутый Индекс запрещённых книг.
Давление заказчика чувствуется и в росписи торцевой стены зала с оконным проёмом, посвящённой Правосудию. На своде люнета с аллегорической женской фигурой Правосудия, поднявшей одной рукой над головой меч, а в другой держащей весы. Четверо путти удерживают надпись из того же Кодекса Юстиниана, которая гласит: lus suum unicuique tribuit («справедливость воздаётся каждому»). Чуть ниже на самой стене над окном Рафаэль поместил три аллегорические женские фигуры в окружении пяти резвящихся путти. Со шлемом на голове Сила гладит рукой приручённого льва и держит развесистую дубовую ветвь — прямой намёк на папу Юлия из рода делла Ровере. Сидящая на возвышении в центре Мудрость, как двуликий Янус, изображена с женским и мужским бородатым профилем, а написанная правее Умеренность держит обеими руками длинные вожжи для обуздания страстей. Под этой полукруглой картиной две основополагающие композиции: «Основание гражданского права», на которой император Юстиниан получает от римского юриста Трибония книгу законов, то есть Пандекты, и «Основание канонического права» с портретом Юлия II в образе папы Григория IX, утверждающего свод церковных законов или декреталий. В то время папа Юлий отпустил длинную бороду, столь несвойственную римским понтификам, и громогласно объявил, что не сбреет её, пока «не освободит Италию от варваров». Он впервые тогда назвал «варварами» чужеземных захватчиков. Рядом с папой кардиналы Медичи и Риарио.
С изображением Григория IX связана одна прелюбопытная история. Как-то перед отъездом в очередной военный поход папа вместе со свитой неожиданно нагрянул в зал, куда и ранее часто наведывался. На сей раз настроение у него было не из лучших. Его внимание привлекло изображение у окна бородатого старца в папской тиаре рядом с фреской «Диспут».
— Неужели я выгляжу таким дряхлым? — недовольно обратился он к растерявшейся свите, а та не знала, что на это сказать.
Наступило тягостное молчание — вопрос папы остался без ответа. Тогда, появившись из-за спин кардиналов и придворных, Рафаэль скромно вышел вперёд и взял слово, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
— Ваше Святейшество, перед вами воображаемый образ Григория IX. Немудрено, что своим недюжинным умом и великими деяниями он так напоминает вас. Не правда ли?
В его голосе прозвучала такая подкупающая искренность, что все разом оживились и заулыбались. Слова художника вполне удовлетворили присутствующих, но не Юлия II, несколько опешившего от такого ответа. Однако его раздражительность как рукой сняло.
— И всё же, — сказал он, покидая зал, — хочу иметь портрет, на котором буду походить только на самого себя и ни на кого более.
О находчивости Рафаэля ещё долго рассказывали в кулуарах дворца и римских салонах, а Браманте окончательно убедился, что ещё недавно робко представший перед ним молодой земляк больше не нуждается в его опеке и способен выкрутиться из любого затруднительного положения благодаря природной смекалке, чему мог бы позавидовать даже его друг Кастильоне, преуспевший в таких делах.
Несмотря на неожиданный казус, Юлий II остался доволен всем увиденным, ибо это отвечало его идеологическим и политическим интересам, о чём Рафаэль, по правде говоря, не особо задумывался, хотя обстоятельства вынуждали порой подчиняться диктату. От монсеньора де Грассиса ему стало известно, что, посетив остальные залы, где группа художников вовсю трудилась над росписями, папа остался недоволен их работой и приказал замазать написанное, чтобы освободить место для приглашённого молодого мастера, к которому он проникся отцовской симпатией. Перечить ему никто из художников, чьи труды пошли насмарку, не посмел. Беда только в том, что услужливые исполнители папской воли под шумок замазали даже одну из фресок Пьеро делла Франческа и росписи других мастеров Кватроченто.
Распоряжение папы особенно огорчило старого Перуджино, для которого это была последняя попытка повторить свой прежний римский успех, но опять дорогу ему перебежал молодой урбинец, которого многие считали его учеником, хотя сам он пока не уяснил для себя, считать ли Рафаэля своим воспитанником и гордиться ли этим. Не успев объявиться здесь, урбинец стал любимчиком папского двора, а в римских салонах о нём давно велись разговоры как о новой восходящей звезде на итальянском небосклоне. Осознав, что ему не одолеть Браманте, всесильного покровителя прыткого Рафаэля, Перуджино вернулся во Флоренцию. Работавший с ним загадочный Лоренцо Лотто молча покинул Рим и поначалу обосновался в Бергамо, а затем осел в глухой провинции неподалёку от Лорето в области Марке. Задетый за живое завистливый Пинтуриккьо вернулся в Сиену, где успокоился наконец и обзавёлся семьёй. Исчезли миланец Брамантино и немец Руйш, работавшие в одном из залов, чьё искусство также оказалось невостребованным.
Так получилось, что помимо Станцы делла Сеньятура перед Рафаэлем встала нелёгкая задача расписать освобождённые для него по приказу папы ещё три зала. Объём работы намного возрос, равно как и возросла ответственность. Но это его не обескуражило. Им владела только одна мысль: как всем выделенным залам придать парадность и торжественную монументальность в абсолютной гармонии живописи с архитектурой, подчинив росписи единому замыслу. Это было для него самым главным. В конце концов с этой задачей он успешно справился. Забегая вперёд можно с полным правом утверждать, что ему удалось три сравнительно небольших и плохо освещённых зала (в четвёртом, самом большом, работали ученики по его эскизам) превратить в просторное парадное пространство, полное света и населённое величественными образами умных, красивых и в большинстве своём добрых людей как отражение всего мироздания.
У любого, кто оказывается там, создаётся впечатление, что на фресках Рафаэля потолки, стены и обволакивающий их воздух — всё насыщено величием духа человека, а это достигается благодаря безупречному чувству ритма и пропорций, которое у него было сильно развито. Начало римского периода ознаменовалось появлением поистине впечатляющих своими размерами и многофигурной яркой композицией фресок в Ватиканском дворце.
Пока Рафаэль работал над росписями, политическая обстановка обострилась. При содействии французов свергнутые Бентиволья вновь оказались в Болонье. Папа надеялся заручиться поддержкой Мантуи и Феррары. Но прибывший в Рим на переговоры вместе с племянником Федерико Гонзага взбалмошный феррарский герцог Альфонсо д’Эсте, зять покойного папы Борджиа, поссорился с Юлием и отказался платить ежегодную подать и поставлять соль из своих солёных озер в Комаккьо и квасцы, что могло подорвать монополию Ватикана на эти товары и поставить в трудное положение кожевенные заводы и прядильно-ткацкие мануфактуры, обеспечивающие немалые поступления в казну. Разгневанный папа взял в заложники двенадцатилетнего племянника Федерико, чтобы заставить Мантую и Феррару подчиниться диктату и порвать все связи с Францией. Оказавшись, таким образом, в Риме, юный Федерико, как покажут дальнейшие события, не очень опечалился разлукой с отчим домом.
После суровой зимы римляне радовались весеннему солнцу, и традиционный карнавал удался на славу, когда от площади Кампо де Фьори до строящегося собора Святого Петра при огромном стечении народа проходили гонки быков, ослов и берберских рысаков. В тех же гонках вынуждены были участвовать евреи из местного гетто, погоняемые как скот надсмотрщиками с хлыстами. Считалось, что тем самым бедолаги с пейсами и кипами на голове, облаченные в длиннополые чёрные сюртуки, платили ежегодную дань христианству за свои былые прегрешения. Этот позорный обычай, против которого выступали многие гуманисты и здравомыслящие люди, был заведён пресловутым Цезарем Борджиа и, как ни странно, поддержан его отцом-марраном, о чьём истинном происхождении сыну, появившемуся на свет в Риме, возможно, ничего не было известно.
В дни карнавала в Риме объявились молодожёны из Урбино, Франческо Мария делла Ровере с юной Элеонорой Гонзага. С ними прибыл и друг Кастильоне, который в письме матери подробно описал празднества, продолжавшиеся до апреля. Рафаэлю пришлось оставить все дела ради приёмов, банкетов и спектаклей. Он видел, что папа окончательно простил своего племянника и оказывал особое внимание его очаровательной супруге, подарив ей роскошное ожерелье, усыпанное алмазами. Рафаэль помнил её девочкой, когда она ему позировала в Мантуе, но теперь её было не узнать. Ему так и не удалось повстречать «префектессу» Джованну Фельтрия, которая избегала официальных приёмов из-за натянутых отношений с Юлием II и его двором. Поговаривали, что она была тяжело больна. Разговоры эти вскоре подтвердились: Джованна Фельтрия скончалась.
Глава XV ВОСХОЖДЕНИЕ К СЛАВЕ
Справедливости ради следует признать, что зритель, оказывающийся в Станце делла Сеньятура, менее всего интересуется идеологической подоплёкой «Диспута» и скорее обратит внимание на противоположную стену с фреской «Афинская школа», которая поражает богатством колорита и полна движения запечатлённых на ней персонажей. Если в «Диспуте» монументальная торжественность и покой, то здесь шумная разноголосица, напоминающая расшалившихся школяров на переменке.
В отличие от «Диспута» фреска «Афинская школа» — это подлинный триумф философии, где свободно сосуществуют самые различные точки зрения и философские школы. Есть предположение, что прежде чем приступить к написанию фрески, Рафаэль поинтересовался мнением Ариосто, которого лично не знал, но высоко ценил как поэта, чтобы выяснить, кого из мыслителей следует отобразить. Ещё будучи во Флоренции, он немало был наслышан о Платоновской академии и запомнил девиз одного из её учредителей Лоренцо Великолепного: Absque Platonica disciplina nec bonum civem nec christianae doctrinae peritum facile quenquam futurum — «Без изучения философии Платона не станешь ни хорошим гражданином, ни просвещённым христианином».
Над огромной фреской на своде люнета с аллегорической фигурой Философии помещены слова из «Топики» Цицерона: causarum cognitio — «познание причин». Согласно Теологии, истина не просто познаётся, а нисходит свыше, как утверждает один из героев фрески, подняв руку к небу.
Рафаэль как-то услышал от друзей-эрудитов, что философ Пьетро Помпонацци, ревностный приверженец аристотелизма, недавно на лекции в Болонском университете высказал мысль, вызвавшую возмущение местного епископата. Обращаясь к студентам, профессор заявил: «В философии всякому, кто стремится к постижению истины, подобает быть еретиком». Позднее его труд De immortalitate animae был осуждён Церковью и сожжён на площади Святого Петра. Но крамольное заявление философа поразило Рафаэля смелостью и стало для него ключевым при написании «Афинской школы».
Не исключено, что призыв к «ереси» был услышан тогда августинским монахом Мартином Лютером, ровесником Рафаэля, объявившимся в 1510 году в Риме, куда он пришёл из Германии пешком, как и положено правоверному паломнику. На первых порах Лютер пользовался полным доверием предводителя августинского ордена Эджидио да Витербо, пока не порвал отношения со своим наставником и не предал его.
Духом свободы взглядов пронизана огромная фреска «Афинская школа». Вероятно, приставленные советники подпали под обаяние личности Рафаэля и предоставили ему полную самостоятельность при трактовании философской темы, поражённые его мастерством живописца. Кроме того, последний визит Юлия II в Станцу делла Сеньятура окончательно их убедил, что папа более чем удовлетворён ходом работ и полностью доверял художнику.
Всё пространство фрески композиционно ограничено передним планом со ступенями и широкой площадкой перед античным капищем, но вопреки названию не в афинском, а в древнеримском стиле. Величаво вздымающиеся друг над другом мощные арки создают ощущение движения. Но в отличие от предыдущей фрески они, наоборот, нарастают из глубины к зрителю. Не это ли имел в виду философ и богослов П. А. Флоренский, говоря об «обратной перспективе» в русской иконографии?
Величественная архитектура, изображённая на фреске, воспроизводит интерьер строящегося собора Святого Петра по проекту Браманте. Мощные пилоны и распахнутые над ними кессонированные своды, парусные системы — всё отмечено характерными чертами архитектуры Высокого Возрождения с её монументальностью, строгостью, лаконизмом форм и знанием Античности, которую Рафаэль педантично изучал. В боковых нишах установлены статуи Аполлона с лирой и Минервы с изображением горгоны Медузы на щите. Вся верхняя площадка над лестницей занята беседующими или что-то доказывающими друг другу учёными всех возрастов.
В центре из последней арки на фоне неба с грядой облаков, гонимых ветром в сторону зрителя, появляются два признанных столпа философии — Платон и Аристотель, которые продолжают начатый между собой разговор. Но ведут они себя по-разному: первый обратил перст вверх к Создателю всего сущего, а второй, не соглашаясь с ним, жестом указывает на прародительницу Землю; один бос — другой обут. Таким образом, всей картине задан тон этими признанными властителями дум, отстаивающими различные точки зрения. Приветствуемые учениками, оба направляются к ступеням лестницы, чтобы приступить к дискуссии, а к ней готовы и стар и млад, в том числе и вовлекаемые в неё стоящие перед фреской зрители, пытающиеся поближе разглядеть и узнать великих мыслителей Античности.
Рафаэль блестяще справляется с задачей распределения более пятидесяти персонажей на фреске, где каждый наделён своей неповторимой индивидуальностью. В «Диспуте» задача была менее сложной, поскольку её основные герои спокойно восседают друг за другом, расположившись по дуге в горней и частично в земной части пространства. А здесь всё в движении, и учёные мужи составляют отдельные разрозненные группы, занятые обсуждением самых различных идей и философских воззрений, что придаёт полифонию звучанию фрески. Такое впечатление, что голоса спорящих учёных отдаются эхом не только под сводами античного храма на фреске, но и под сводами самой Станцы делла Сеньятура.
Между двумя этими произведениями существует ещё одно существенное различие. Композиция, ритм, общая тональность, сами персонажи «Диспута» — всё напоминает традиционную живопись Кватроченто, когда в руке художника чувствуется некоторая робость; она ещё не ведает всей меры своего права на дерзания и слишком зависит от поставленной задачи вписать фигуры в огромное полукружие архитектурного обрамления, хотя, как можно почувствовать по композиции нижней земной половины фрески, выраженные на ней настроения уже несут отпечаток нового времени и его реалий, когда христианская теология успела уже проникнуться идеями гуманизма.
Совсем об ином свидетельствует фреска «Афинская школа». Она показывает, как глубоко Рафаэль вжился в Античность и с каким скрупулёзным вниманием изучал в Риме арку Константина или колонну Траяна, ствол которой обвивает двадцатью четырьмя витками спиральный рельеф, повествующий о покорении римлянами Дакии, равно как и другие рельефы древних ваятелей, что позволило ему познать главное — так называемую классическую меру вещей, с какой фигуры принимают различные позы. Теперь у него даже складки облачения героев играют существенную роль, придавая фигурам реальную телесность и осязаемость.
Наиболее сложным является вопрос о личности изображённых персонажей. В «Диспуте» задача облегчается тем, что по нимбам и книгам в руках Отцов Церкви можно безошибочно определить изображённое на фреске то или иное лицо, что гораздо сложнее сделать в «Афинской школе». Не раз делались попытки дать имя каждому персонажу, но в большинстве случаев всё строилось на догадках или на личных субъективных пристрастиях. И всё же предпримем неблагодарную, но далеко не безнадёжную попытку и постараемся войти внутрь фрески, чтобы, смешавшись с её героями, разобраться в этом множестве столь непохожих друг на друга древнегреческих мыслителей и их учеников, представленных в самых различных выразительных позах. Некоторым из них Рафаэль придал черты своих великих современников и друзей. Существенным в этом подспорьем нам будет изданная в 1979 году книга «Диоген Лаэртский» с обширным предисловием А. Ф. Лосева.
Пока только одно бесспорно: величественной фигуре Платона, прижимающего к себе книгу, на корешке которой читается «Тимей», Рафаэль придал портретное сходство с обожаемым Леонардо да Винчи. Легко узнаваем и слегка помолодевший в отличие от известных его скульптурных изображений Аристотель по знаменитому труду «Этика» в руке. Справа внизу идёт оживлённый разговор о геометрии и астрономии, слева предметом споров являются грамматика, арифметика и музыка.
На ступенях лестницы между двумя отдельными группами разместился по диагонали в одиночестве циник Диоген, представленный лысым старцем, чью наготу едва прикрывает голубой плащ. Облокотившись на мраморную ступень, он держит в руке дощечку, разглядывая подслеповатыми глазами написанное на ней. Над ним изображён со спины молодой светлокудрый юноша, указывающий двумя руками на Диогена и как бы говорящий: «Вот кому следует подражать». Но стоящий на несколько ступеней выше красивый брюнет с ним явно не согласен и указывает рукой на идущего Аристотеля, призывая следовать по его стопам.
К их спору остался неравнодушен изображённый справа юнец, который торопится записать услышанное на дощечке, положенной на колено. Его товарищ постарше, заглядывая через плечо, пытается прочесть написанное. Здесь же облачённый в паллиум стоящий в одиночестве древнеримский зодчий Витрувий, автор фундаментального труда по архитектуре, а вот ковыляющий с клюкой глубокий старик, сопровождаемый учениками, вполне может быть недавно объявившийся в Риме по приглашению двора веронец фра Джокондо, знаменитый архитектор, с которым Рафаэля познакомил Браманте.
Пространство справа от Диогена занято колоритной группой, в центре которой лысый старец, закинув плащ на плечо, нагнулся и циркулем измеряет некую геометрическую фигуру на грифельной доске. Это может быть Архимед или Евклид, которому приданы черты Браманте. Четыре ученика внимательно слушают его пояснения. Один из них, самый смышлёный, на лету схватывает суть и подбадривает товарищей. Рядом с ними почтенный старик с выразительным взглядом держит небесный глобус в руке. Можно предположить, что это Зороастр, а перед ним спиной к зрителю стоит с земной сферой в руке и непонятной зубчатой короной на голове александрийский географ Клавдий Птолемей. Не исключено, что художник ошибочно принял учёного за египетского царя из династии Птолемеев и для пущей убедительности нацепил на него корону.
С неменьшим мастерством написана левая половина, где на верхней площадке образовалась группа слушателей во главе с Сократом, который перечисляет на пальцах приводимые им доводы. Рафаэль видел в коллекции друга Кастильоне гемму с изображением Сократа и подчеркнул как узнаваемую примету выразительный сократовский лоб. Рядом с философом стоит, опершись на цоколь пилястра и не сводя восхищённого взгляда с мудреца, юный Ксенофонт, любимый ученик Сократа. Среди слушателей выделяется статная фигура в доспехах с мечом и шлемом на голове. Вероятно, это честолюбивый Алкивиад, один из сократовских учеников. Здесь же два простолюдина, чуждых премудрой софистике. Известно, что с ними философ любил порассуждать о жизни. Но вот послышался шум и слева показался бегущий полуобнажённый юнец с кипой фолиантов в руках, которому не терпится со свойственной молодости дерзостью оспорить доводы самого Сократа. Один из слушателей, поняв его намерение, повелительным жестом останавливает прыткого спорщика, действующего по наущению стоящего тут же непримиримого софиста.
Внизу, отвернувшись от всех, полноватый не по годам Эпикур с товарищем увлечённо читает, прислонив книгу к базе колонны и не видя ничего вокруг. На него воззрился старик с правнуком на руках, которому Эпикур загородил дорогу. Чуть ниже расположилась на мраморном полу другая группа, в центре которой старик Пифагор, сидя на приступке, что-то усердно исправляет в манускрипте, положенном на колено красивого светловолосого отрока, держащего перед ним скрижаль. На ней различим рисунок в виде диаграммы, а под ней совершенное пифагорейское число X, что служит бесспорным доказательством обретённого Рафаэлем знакомства с основами античной теории гармонии, что было вполне естественно по тем временам для образованных людей.
Помогающий Пифагору юнец — это, возможно, его сын Телауг, который пошёл по стопам великого отца. Сидящий слева лысый остроносый старик с длинной бородой записывает на клочке папируса то, что успел подглядеть через плечо у учителя. Это, вероятно, пифагореец Архимас, за спиной которого виден профиль другого ученика в шлеме, готового в любую минуту стать на защиту учёного. Над ними фигура смуглого безбородого человека в чалме, изогнувшегося в приветственном по-восточному поклоне с прижатой к груди рукой. Принято считать, что это арабский мыслитель XII века Ибн Рушд или Аверроэс, хотя ему надлежало бы быть ближе к группе Аристотеля и его учеников.
Сопровождающий арабского учёного светловолосый красивый паж — это, безусловно, юный Федерико Гонзага, которого папа Юлий держал в заложниках, дабы вынудить его отца, мантуанского герцога, к подчинению. Юнец жил в одном из ватиканских дворцов под надзором папских соглядатаев в своё удовольствие. Рафаэль был с ним знаком, и тот не раз посещал его мастерскую, заведя дружбу с некоторыми учениками, особенно с Джулио Романо. Федерико за годы пленения настолько вжился в римскую праздную жизнь, что не хотел возвращаться в отчий дом несмотря на настоятельные просьбы любящей матери маркизы Изабеллы д’Эсте.
Обращает на себя внимание выразительная по пластике и яркая по колориту фигура философа Анаксагора, а возможно Эмпедокла, так как оба близки пифагоризму. Осталась неузнанной прекрасная фигура юноши, облачённого в светлый паллиум и отстранённо глядящего на зрителя, словно вопрошая, удовлетворён ли он увиденным и проникся ли идеями и настроениями, выраженными на фреске. Принято считать, что это урбинский герцог Франческо Мария делла Ровере, только что побывавший в Риме во время свадебного путешествия с юной женой, с чем трудно согласиться. Если сравнить образ красивого светлокудрого юноши на фреске с ранним портретом самодовольного Франческо Мария с яблоком, легко заметить, что между ними нет никакого сходства. Рафаэль никогда не питал особой симпатии к герцогу, с именем которого была связана одна кровавая история. По всей видимости, это портрет нового светловолосого помощника художника по прозвищу Бавьера, о ком пойдёт речь чуть ниже.
Рафаэль показал себя непревзойдённым мастером построения сложной композиции, где каждой фигуре определено своё место, а все вместе они составляют единое нерасторжимое целое. Он проявил себя в многофигурной композиции как замечательный режиссёр, владеющий сценическим пространством и выстроивший продуманные до мелочей мизансцены. Но стоит признать, что без помощи советников, многие из которых стали его друзьями, ему трудно было бы разобраться с таким количеством известных исторических персонажей. В правом углу фрески Рафаэль, как бы поставив автограф, изобразил себя в компании друга и помощника Со́домы.
Особый интерес вызывает фигура задумавшегося Гераклита Эфесского, сидящего на переднем плане в одиночестве, в отличие от всех остальных персонажей в древнегреческих паллиумах или плащах одетого в затрапезную холщовую рубаху с длинными рукавами и обутого в сапоги. В предварительных рисунках и подготовительном картоне, хранящемся в миланском музее Амброзиана, эта фигура отсутствует. Она появилась в самый последний момент, когда Рафаэлю стало известно о возникших у Микеланджело трудностях и временной приостановке работ в Сикстинской капелле из-за нехватки выделенных средств в связи с новой военной кампанией, предпринятой папой и потребовавшей больших затрат, что привело также к повышению налогов. Пока народ робко сносил наложенное бремя и роптал вполголоса, лишь изредка кое-где вспыхивали волнения.
Однажды под вечер, покинув папский дворец, Рафаэль случайно повстречался на площади перед строящимся собором Святого Петра с Микеланджело. На сей счёт существует легенда, пущенная в ход историком искусства Джован Паоло Ломаццо в его «Трактате об искусстве живописи», изданном в Милане в 1584 году, согласно которой Микеланджело, увидев Рафаэля со свитой поклонников и учеников, зло промолвил: «Ты ходишь как военачальник со своим войском», на что прозвучал ответ: «А ты ходишь один как палач». Трудно принять на веру эти слова, которые Рафаэль по самой своей сути и мягкости характера никогда не мог бы произнести, поскольку высоко ценил искусство своего главного соперника. Наоборот, первым его желанием было остановиться и поговорить по-дружески, выразив сочувствие коллеге в трудную минуту. Но тот молча кивнул головой и проследовал дальше.
Заметив, как по лицу Рафаэля пробежала тень огорчения, словно он чем-то обидел товарища, Джованни да Удине сказал:
— Не стоит расстраиваться, мастер. Он, как сыч, ни с кем не ладит, хотя все мы заняты одним делом.
Рафаэлю вспомнились Флоренция и встречи с Микеланджело, а особенно посещение его мастерской, пропахшей кошками и кислятиной. Хозяин дома оказался тогда на удивление приветлив, показал некоторые работы и по-товарищески поведал гостю о своих неладах с заказчиком. Теперь, как говорят, он живёт в полном одиночестве на отшибе близ форума Траяна, никого не принимая. Недавно появился новый сонет Микеланджело, переписанный от руки и получивший хождение в городе. Этот крик души великого мастера, излившего в стихах свою горечь при виде царившего на земле зла, потряс Рафаэля, и ему захотелось запечатлеть Микеланджело таким, каким увидел его на площади Святого Петра, пусть даже он не жалует его своим вниманием и сторонится по непонятной причине.
Так возникла идея представить Микеланджело в образе Гераклита. Правда, высказывается мнение, что изображённый на фреске одиноко сидящий философ скорее напоминает поэта петраркиста Антонио Тебальдео, с которым Рафаэль не раз встречался в художественных салонах и позднее написал его ныне утерянный портрет, о чём вспоминает Бембо. Поэту в ту пору было под пятьдесят, а изображённому на фреске Гераклиту лет тридцать пять, и с такой версией невозможно согласиться, а тем более представить эстетствующего поэта в затрапезной одежде и сапогах. Приведём сам сонет, в котором отражена напряжённая обстановка тех лет в Риме, занятом военными приготовлениями, что столь непохоже на наступивший золотой век, о чём так много писали и спорили в последние годы гуманисты:
Рафаэлю стало понятно, почему Микеланджело держал в тайне свои пронзительные поэтические откровения — за такую дерзость вполне могло грозить отлучение от Церкви. Когда были сняты леса и расписанный почти полностью плафон Сикстинской капеллы в отсутствие папы был открыт для обозрения, первое, что поразило Рафаэля, помимо грандиозности этого творения, это пришедшая ему на ум мысль, как, работая один, почти без помощников, Микеланджело смог справиться с, казалось, невыполнимой задачей написания картины от Сотворения мира до Всемирного потопа и разместить на фреске более трёхсот библейских персонажей. Трёхметровые фигуры пророков и сивилл в светлой цветовой гамме поражают своей жизненной силой. Фигура Зиждителя, разделяющего свет от тьмы и создающего небесные светила, дышит какой-то неистовой сверхъестественной силой. «Нет, — подумал Рафаэль, — без помощи свыше тут не обошлось, иначе трудно поверить в содеянное. Вряд ли мир увидит что-либо равное по космической силе воздействия». Дивное сияние гигантского плафона затмило фрески, написанные ранее на боковых стенах капеллы известными флорентийскими и умбрийскими мастерами, и только оштукатуренная алтарная стена выделялась как бельмо своей кричащей наготой.
Рафаэль не сразу пришёл в себя от потрясения и на первых порах не мог смотреть на свои фрески, хотя при написании их постоянно получал помощь, дельный совет и ощущал доброе к себе расположение окружающих. Теперь всё это казалось ему чем-то ординарным и не выходящим за рамки привычного и уже виденного. Он чувствовал, что его работе недостаёт чего-то, что могло бы встревожить душу и заставить глубоко задуматься над своим существованием. В его сознании возник вопрос: «Отчего же так одинок и несчастен Микеланджело? Неужели его божественное искусство не приносит ему удовлетворения? Тогда к чему все эти муки творчества, если ему не мил весь белый свет?» Но ответа он не находил и, пожалуй, впервые оказался не в ладу с самим собой.
Рафаэля вывел из подавленного состояния рассказ Джулио Романо, который случайно увидел, что в Станце делла Сеньятура под вечер побывал Микеланджело с кем-то из своих людей. Он долго рассматривал фрески, и по выражению его лица можно было понять, что увиденным он остался доволен, а узнав себя в образе Гераклита, хитро ухмыльнулся и промолвил:
— Одно радует, что урбинцу хватило ума не поместить меня в толпе спорящих краснобаев.
Эта весть настолько порадовала и ободрила Рафаэля, что мгновенно взобравшись на мостки, он дописал в каком-то порыве к уже красовавшимся на своде сценам «Астрономия», «Суд Соломона» и «Адам и Ева» четвёртую недостающую картину «Аполлон и Марсий», в которой символически отражена победа божественной гармонии над земными страстями. Здесь особенно заметно влияние Микеланджело. Рафаэль постоянно ощущал его присутствие в соседней Сикстинской капелле, и ему хотелось не ударить в грязь лицом, сотворив своё чудо. Эта мысль постоянно его подхлёстывала, не давая расслабиться, ибо наделённый сверхъестественной силой соперник не переставал его поражать своими творениями, служа примером веры и безраздельной преданности искусству.
Недавно его мастерскую посетил венецианский художник Себастьяно Лучани, за которым позднее закрепилось прозвище Дель Пьомбо, и сообщил, что это он на днях вместе с Микеланджело побывал в Станце делла Сеньятура и выразил своё восхищение фресками, особенно «Афинской школой». Себастьяно оказался добрым компанейским парнем, прибывшим в Рим набраться уму-разуму. Он пришёлся по душе Рафаэлю и немало порассказал о Венеции и своём друге Тициане, который стал главным живописцем республики после смерти Беллини. Его особенно заинтересовали рисунки хозяина мастерской. Видя, как гость долго рассматривал один из рисунков, Рафаэль на прощание подарил его венецианцу. Тот так растрогался, что не знал, какими словами выразить свою признательность. Однако, как покажут дальнейшие события, Дель Пьомбо отплатил Рафаэлю чёрной неблагодарностью.
Говоря о рафаэлевском шедевре, являющемся живописным сгустком всего ренессансного классического искусства, патриарх итальянского литературоведения Франческо де Санктис дал ему такое определение: «Звуки лиры Орфея возвестили начало новой цивилизации, апофеоз которой “Афинская школа” Рафаэля, произведение дантовского вдохновения, ставшее столь популярным, потому что в нём — дух века, его синтез и его божественность».50
Обстановка в Риме всё более накалялась из-за тревожных вестей. С нападками на папский Рим выступали многие европейские правители. Поддержанный епископатом некоторых стран французский король Людовик XII настаивал на созыве собора в Пизе, чтобы низложить воинственного папу, забывшего о своей пасторской миссии и сменившего митру на шлем. В Риме побывал далёкий от политических баталий Эразм Роттердамский, выпустивший в «Похвале глупости» немало ядовитых стрел в папскую политику чрезмерной секуляризации. В ряде стран получили распространение листовки, напечатанные типографским способом, с изображением Юлия II, закованного в латы и с мечом в руке, с надписью «изгнанный из рая».
Из-за нахлынувшей волны тяжких обвинений папе пришлось принимать срочные меры по укреплению своей власти, и в сентябре он вновь оказался с войском в Болонье, где возвёл легата Франческо Алидози в сан кардинала, что вызвало недовольство его племянника Франческо Мария делла Ровере, узревшего в этом умаление своего положения командующего папским войском. Вместе с папой прибыл Браманте как специалист по возведению фортификаций. Война обрела затяжной позиционный характер, вызванный суровой зимой. Несмотря на возраст, Юлий II устроил 7 января смотр войску на заснеженном поле ради устрашения противника, засевшего в крепости Мирандола. Вскоре крепость была взята и её защитники наказаны, но овладеть строптивой Феррарой пока не удалось.
Время шло, и Рафаэль торопился завершить росписи в Станце делла Сеньятура к возвращению папы из похода. Пришлось столкнуться с немалыми трудностями при написании последней фрески над другим оконным проёмом торцовой стены, откуда виден дворец Бельведер. В работе над первой торцовой стеной с окном значительную помощь оказали ученики, особенно исполнительный Пенни Фатторе и даровитый Джованни да Удине. По его рисункам ученики выполнили в гризайле несколько удачных скульптурных рельефов. Теперь плафон над последней фреской украшен аллегорией крылатой Поэзии, для которой выбрано ёмкое выражение из «Энеиды» Вергилия: numine afflatur — «божественное вдохновение», а под основной фреской две боковые сцены до самого пола. На первой из них император Август запрещает исполнителям завещания Вергилия сжечь рукопись «Энеиды»; на второй картине Александр Македонский приказывает положить гомеровские тексты в могилу Ахиллеса.
Рафаэль умело превратил оконный проём в основание горы Парнас с бьющим Кастальским ключом, источником вдохновений. Вспомнив увиденную в юности в Мантуе фреску Мантеньи «Парнас», он по-своему решил эту тему. На фоне неба и лавровых деревьев в центре восседает Аполлон, играющий на виоле. Его нагота слегка прикрыта лёгким плащом, а вдохновенный взор обращён к небу. Он весь во власти извлекаемых звуков и в них находит самовыражение. Его окружают девять муз, восемнадцать поэтов и мыслителей. Слева от него сидит муза эпической поэзии Каллиопа с обнажённой грудью, держащая в руке фанфару. За ней стоит Мельпомена с маской трагедии, а сбоку Терпсихора и Полигимния, обнявшись, заворожённо слушают музыку своего божественного повелителя.
Как и на фреске «Афинская школа», попытаемся определить круг представленных здесь поэтов, хотя на первый взгляд это может показаться бессмысленным. Общеизвестно, что живопись итальянского Возрождения вдохновлялась идеями родоначальника национальной поэзии. Достаточно вспомнить хотя бы рисунки Боттичелли к «Божественной комедии». Рафаэль показал глубину историзма своего эстетического самосознания, поставив Данте рядом с Гомером и Вергилием.
Итак, слева возвышается мощная фигура вдохновенно поющего Гомера в тёмно-синем паллиуме. Видимо, Рафаэлю были незнакомы греческие бюсты эпического поэта, и он придал ему черты Лаокоона, недавно извлечённого из-под земли близ базилики Санта-Мария Маджоре. Слепец протягивает вперёд правую руку, словно определяя на ощупь путь. Дабы уравновесить его фигуру, справа спиной к зрителю помещена муза Урания в ярко-красном одеянии. Пением слепца Гомера заворожён юнец, сидящий на камне под деревом, торопливо записывающий на грифельной дощечке и старающийся не упустить ни одного слова «Илиады». Рядом с Гомером фигура со знакомым по фреске «Диспут» профилем Данте, но на сей раз в более ярком одеянии. Из-за левого плеча Гомера видна голова Вергилия, указывающего рукой Данте на играющего на виоле Аполлона. За певцом «Энеиды» стоит подражавший ему поэт Стаций, чьи тонкие черты напоминают самого Рафаэля.
Внизу слева четыре поэта, увенчанные лавровыми венками, ведут между собой неспешный разговор. Возможно, один из них с текстом в руке Петрарка, а рядом Боккаччо, Ариосто и Полициано, оказавший своим творчеством особенно сильное влияние на эстетические взгляды Рафаэля. Его даже принято считать предтечей Рафаэля. Беседе поэтов внимает сидящая на скале молодая светловолосая дева с лирой. В высоко поднятой левой руке она держит кусок пергамента с начертанным именем Sappho. Считается, что моделью послужила известная римская куртизанка Империя, с которой Рафаэль познакомился на великосветском рауте и сумел запечатлеть её царственную позу.
Справа от Аполлона сидит на земле с семиструнной лирой Эрато, муза лирической поэзии. За ней стоят муза истории Клио, написанная в профиль, рядом Талия с маской комедии в руке и муза музыки Евтерпа. Ниже по правую сторону окна старец Пиндар что-то вещает, повелительно указывая перстом вниз, словно советуя служителям муз спуститься с парнасских высот на грешную землю и заклеймить своим пером царящий там произвол. С ним не согласен один из поэтов, разводящий руками. Это, по-видимому, Гораций, а рядом с ним, возможно, лирик Катулл, на лице которого отражено недоумение. Над ними неаполитанский поэт Саннадзаро, с которым автор был дружен. А вот выше наискосок молодой темноволосый мужчина с резко повернутым торсом устремил на зрителя выразительный взгляд, говорящий о сильном волевом характере. Это не кто иной, как снова запечатлённый Микеланджело. Потрясённый попавшими в руки некоторыми его поэтическими откровениями, Рафаэль смело причислил Микеланджело к сонму поэтов, с чем были согласны многие современники.
На фреске «Парнас» отражена провозглашённая ещё Петраркой и Боккаччо идея, что поэзия не только божественна по происхождению, но и по существу является особой формой теологии, а потому поэты приравниваются к пророкам, что позволило Марсилио Фичино, автору фундаментальной «Платоновской теологии», обращаться к Аполлону как к пророку со словами чуть ли не молитвы из римско-католической мессы:
Своеобразие поверхности стены не позволило развернуться композиционному гению Рафаэля. Ему даже пришлось прибегнуть к чисто декоративному эффекту, чуждому принципам классического искусства, дабы расширить ограниченное окном пространство. Так, фигуры Сапфо и старого поэта Пиндара пересекают раму окна, как бы выходя за пределы плоскости фрески. Нет, это вовсе не нарушение равновесия композиционных ритмов и пропорций, как можно было бы сначала подумать, а неожиданно смелый, неповторимый порыв Рафаэля к «человеческой» и одновременно «божественной» истине. Поэтому напрасны упрёки педантов и ревнителей Античности в том, что Рафаэль изобразил Аполлона с виолой, а не с лирой. Он вполне мог бы возразить критикам, как однажды Полициано смело ответил в полемике с гуманистом Кортезе, обвинявшим его, что он не следует в своём творчестве поэтическому стилю Цицерона: Non enim sum Cicero me tamen, ut opinor, exprimo — «Я не Цицерон и выражаю, как мне кажется, самого себя». Точно так же Рафаэль на фреске «Парнас», никому не подражая, отразил свой собственный художественный идеал, ставший идеалом итальянского Возрождения.
Рафаэлевский «Парнас» — это апофеоз гармонии и вечной красоты, познав которую человек освобождается от зла и присущих его натуре пороков, приближаясь к божественному. На фреске прекрасные лица в момент высшего духовного озарения. Рафаэль, как никто другой, тонко чувствовал природу античного мира, оставаясь при этом типичным итальянцем с присущими его народу отзывчивостью, доброжелательностью и природным артистизмом.
Звуки лиры Орфея, как выразился де Санктис, говоря об «Афинской школе», двумя годами позже эхом отозвались на большой картине Рафаэля «Святая Цецилия» (Болонья, Национальная пинакотека), написанной по заказу болонской аристократки Елены Дульоли даль Олио. Необычна история замысла картины. Согласно заверениям заказчицы, во сне она услышала голос, повелевший ей построить капеллу в честь святой Цецилии при церкви Сан-Джованни ин Монте. Услышанным во сне донна Елена поделилась с родственником, флорентийским музыкантом и певцом Антонио Пуччи, недавно потерявшим голос. Тот горячо поддержал её в надежде, что святая Цецилия, одна из первых христианских мучениц, традиционно считавшаяся покровительницей музыки, поможет ему вернуть утраченное бельканто. Его брат кардинал Лоренцо Пуччи обещал уговорить Рафаэля взяться за написание образа. Была собрана необходимая сумма в тысячу скудо золотом для оплаты гонорара, поскольку уже в те годы работы урбинского мастера были самыми дорогостоящими. Несмотря на занятость, Рафаэль согласился, да и гонорар его устраивал.
Картина разделена на две половины — горнюю и земную. В облаках шесть миловидных ангелов, но значительно меньших размеров, чем стоящие внизу фигуры в натуральную величину, которые вдохновенно поют, смотря в нотные тетради. Они настолько живо написаны, что их пение завораживает героев картины и стоящих перед ней зрителей. В центре святая Цецилия в жёлтой тунике с тёмным воротом и фиолетовыми разводами обратила вдохновенное лицо к небу, слушая доносящееся оттуда песнопение. Она так увлечена льющейся сверху мелодией, что не замечает, что трубки вот-вот вывалятся из портативного органа в её руках. Перед ней на земле небрежно брошены за ненадобностью виола да гамба с оборванной струной, литавры, треугольник, тамбурин, флейты и цимбалы.
Слева от неё задумавшийся апостол Павел, приложивший правую руку к подбородку, а левой, зажав текст очередного послания, он касается рукоятки обнажённого меча. На нём зелёная туника с наброшенным поверх красным плащом. Его взор устремлён к лежащим на земле музыкальным инструментам. Рядом с ним Иоанн Богослов с вьющимися белокурыми волосами до плеч. У Рафаэля обычно этому образу присущи женские черты. У ног написанное им Евангелие и сидящий орёл, являющийся его символом. Не случайно присутствие на картине автора «Исповеди» Блаженного Августина в епископском облачении и с посохом в руке, который считал, что только песнопение отвечает божественной функции музыки. Стоящая рядом с ним Мария Магдалина — единственная, кто не прислушивается к небесному песнопению, словно его не слышит. В руках у неё ваза с благовониями, которыми она обмывала ноги Христа. Обратив взор к зрителю, Магдалина олицетворяет собой любовь земную, хотя у Рафаэля это чувство часто не отделимо от любви небесной, как и на картине его современника венецианца Тициана «Любовь земная и любовь небесная», написанной почти в то же время.
«Святая Цецилия» — глубоко символическое произведение, построенное на осмыслении автором многих философских и эстетических концепций, характерных для его времени, когда укоренилась идея господства вокала над инструментальной музыкой, поскольку человеческий голос полнее выражает движение души, чем искусственно созданные инструменты. Истинная гармония картины не только в уравновешенной композиции и колорите, но и в фигурах шестерых ангелов. Число шесть имеет известное символическое значение. Но особый смысл заключён в том, в какой последовательности сгруппированы небесные певцы. Согласно пифагорейской теории их расположение выражает математическую пропорцию самого совершенного музыкального консонанса — октавы.
Известно, что, тщательно упаковав картину, Рафаэль поручил её доставку в Болонью известному экспедитору Бадзотто, приложив письмо к другу Франча с просьбой проследить за разгрузкой и установкой картины в церкви Сан-Джованни ин Монте. Увидев новое творение Рафаэля, старик Франча, как пишет Вазари, пришёл в такой восторг, что сердце бедняги не выдержало и перестало биться. О Рафаэле сложено немало легенд, и Вазари тоже в это внёс свою лепту, но болонского мастера действительно вскоре не стало.
Новая картина вызывала восхищение современников и ценителей искусства в последущие века. Ей посвящали стихи поэты, и почти все в своих высказываниях, включая Гёте, отмечали излучаемую ею гармонию. Ф. Лист посвятил ей статью, в которой признал: «Я не знаю, благодаря каким таинственным чарам, — но эта картина предстаёт перед моим духовным взором в двух планах: как волшебно прекрасное выражение всего благороднейшего и идеальнейшего, чем обладает человеческая форма, как чудо грации, чистоты и гармонии и одновременно и притом без малейшего усилия воображения — как совершенный символ искусства, неразрывно связанный с нашей жизнью. Я столь же отчётливо воспринимаю поэзию и философию этой картины, как и рисунок её линий, а красота её идей столь же сильно меня захватила, как и красота пластическая».52 Пожалуй, лучше не скажешь.
Работа над росписями в Станце делла Сеньятура была близка к завершению. Однажды, придя по обыкновению утром во дворец, Рафаэль увидел, как из зала выходят двое незнакомцев. Первый представился, назвавшись Иоганном Руйшем.
— Я когда-то здесь работал вместе с Перуджино, — сказал он с сильным немецким акцентом. — Но, увы, был вынужден дела оставить.
Его товарищ в монашеской сутане, пропахшей чесноком, который Рафаэль с детства на дух не выносил, принялся о чём-то живо говорить на латыни. Не будучи в ней силён, Рафаэль попросил Руйша перевести.
— Брат Августин, в миру Мартин Лютер, — начал немец, — выражает вам своё восхищение…
Руйш вдруг запнулся и, взглянув на монаха, словно получив его согласие, продолжил:
— Мой товарищ просит его извинить. Однако он озадачен тем, что ему не удалось почувствовать на фресках дыхание сегодняшнего дня и он не увидел даже намёка на царящую в Риме атмосферу фарисейства, наживы и безбожия, с чем нельзя согласиться.
Рафаэль опешил от таких слов и хотел было возразить, но собеседники, не дав ему высказаться, поклонились и поспешно удалились. На душе остался неприятный осадок, но взявшись за кисть, он вскоре забыл об этой встрече. Однако колоритная фигура желчного монаха его заинтересовала, и он впоследствии не раз вспоминал его нелицеприятное суждение о своей работе. «А возможно, этот Лютер прав, говоря о фарисействе, — думал Рафаэль. — Он повторяет мысли нашего Микеланджело».
Папа вернулся из неудачного похода в самом дурном настроении. Несмотря на заключённый мир с Венецией ему так и не удалось овладеть Феррарой, и наглый герцог д’Эсте был для него как кость в горле вместе со своей супругой потаскухой Лукрецией Борджиа. Особенно его огорчали споры между его новым протеже кардиналом Алидози и племянником Франческо Мария делла Ровере. Наделённые немалой властью, оба никак не могли договориться друг с другом, что дурно сказывалось на общем состоянии дел на театре военных действий, где пока не удалось добиться заметных успехов.
Вместе с папой прибыли кардинал Алидози и исполнявший ряд деликатных поручений папского двора друг Кастильоне. Оба остановились в одном из жилых апартаментов дворца Бельведер. На следующий день Рафаэль встретился с ними за ужином в дружеской обстановке. Кардинал в разговоре, а говорил он словно читая проповедь и всем видом показывая свою значимость, коснулся последней кампании и некоторых шероховатостей, возникших в отношениях с предводителем папского войска Франческо Мария делла Ровере.
— Ваш герцог, дорогой Рафаэль, ведёт себя крайне заносчиво, чем часто огорчает своего дядю, Его Святейшество. Мои усилия как-то смягчить обстановку ни к чему не привели, и молодой человек продолжает делать ошибки одну за другой, что может плохо для него кончиться.
При расставании он напомнил Рафаэлю о сделанном когда-то в Болонье рисунке с натуры и выразил желание иметь свой портрет. Этого Рафаэль менее всего ожидал, но отказать кардиналу не осмелился, хотя дел было непочатый край. Ему понадобились два-три сеанса, чтобы выполнить просьбу кардинала. Это был первый портрет, написанный им в Риме, если не считать персонажей на фресках, которым он придал портретное сходство с некоторыми влиятельными лицами из ближайшего папского окружения или своих друзей. Композиция построена по принципу пирамиды. Портрет ему дался нелегко, так как кардинал-непоседа то и дело вскакивал, чтобы посмотреться в зеркало и что-то поправить в туалете. На портрете молодой самоуверенный прелат с правильными чертами лица, с тонкими сжатыми губами и нерасполагающим к себе взглядом, в котором тщетно скрывается подозрительность. На тёмном фоне ярко выделяются кардинальская мантия и такая же шапочка из атласа кармазинного цвета. Видимо, неприязнь к персонажу помешала Рафаэлю дописать пальцы руки, чему он обычно придавал значение, поэтому она выглядит просто как светлое пятно.
Когда работа была завершена, Алидози принялся горячо благодарить мастера, заявив о своём желании подарить портрет папе, которому стольким обязан. А когда он заговорил о гонораре, Рафаэль вежливо прервал его:
— Не стоит беспокоиться, Ваше Преосвященство. Это мой вам подарок в знак уважения.
Его царственный жест привёл кардинала в такой неописуемый восторг, что он поклялся художнику в вечной дружбе. Портрет молодого кардинала (Мадрид, Прадо) поражает яркой палитрой и глубоким проникновением в личностную сущность портретируемого. Присутствовавший при этой сцене Кастильоне сказал Рафаэлю, когда они остались вдвоём:
— Извините меня, но думаю, что вы явно недооцениваете себя и ваш жест мало чем оправдан.
— Отчего же? Мне так хотелось посмотреть, как с него спадёт спесь и проснутся нормальные человеческие чувства.
Кастильоне рассказал, как солдатня с военачальниками грабила захваченные земли в Романье, где кардинал Алидози сумел погреть руки.
— А я как был гол как сокол, таким и остался, — завершил он рассказ. — Может быть, в Риме повезёт.
Рафаэль посочувствовал другу, узнав, что ему было отказано в руке юной Клариче Медичи, которую её дядя кардинал прочил в жёны влиятельному Филиппу Строцци, дабы упрочить своё влияние во Флоренции. Перед отъездом в Мантую, чтобы навестить больную мать, Кастильоне зашел к Рафаэлю попрощаться.
— Не могу не поделиться, мой друг, одной мыслью, — сказал он. — Она пришла мне на ум, когда я разглядывал последнюю вашу работу. Вы не заметили, как похожи слегка зловещие взгляды на ваших портретах юного Франческо Мария делла Ровере и самовлюблённого кардинала Алидози? Поверьте мне, эти взгляды когда-нибудь перехлестнутся во взаимной вражде.
Кастильоне оказался провидцем. Папа поручил кардиналу Алидози оборону Болоньи, выделив многочисленный отряд, а командование расположенным неподалёку войском возложил на своего племянника. Когда в мае французы под водительством известного кондотьера Тривульцио предприняли новое наступление, в Болонье вспыхнуло народное восстание, и Алидози в панике бежал в соседнюю Имолу, оставив на произвол судьбы вверенный ему отряд, и не известил об этом урбинского герцога, который мог быть застигнут неприятелем врасплох. Как выяснилось, у кардинала были все основания опасаться за собственную шкуру, так как своими неправомерными действиями и поборами он нажил немало врагов в городе, а недавно приказал обезглавить троих почитаемых граждан, открыто критиковавших его преступные деяния.
Вернувшийся в Болонью при поддержке французов правитель Бентиволья приказал убрать статую Юлия II. С помощью канатов четырёхметровая бронзовая скульптура работы Микеланджело была сброшена с постамента на землю, угодив в кучу специально сваленного навоза, и под радостные крики толпы разбита вдребезги. В своё время на её отливку пошёл главный колокол, снятый по приказу папы с колокольни собора Сан-Петронио, чего болонцы не могли простить Юлию. Обломки статуи были проданы феррарскому герцогу Альфонсу д’Эсте, который отлил из них мортиру, дав ей издевательское имя «Юлия» — большего оскорбления римскому понтифику трудно было нанести.
Узнав о предательском бегстве папского выдвиженца, герцог Франческо Мария делла Ровере, считавший себя верховным командующим папским войском, на которого возложена вся ответственность, а стало быть, право поощрять отличившихся в сражении и наказывать подчинённых за трусость и забвение воинского долга, решил судить изменника Алидози. Обвинив его в трусости и мародёрстве, он собственноручно заколол кардинала 24 мая 1511 года.
Эта весть повергла папу в бешенство, и он приказал лишить племянника-убийцу всех званий, регалий и отдать под суд. Поначалу Франческо Мария делла Ровере укрылся в Мантуе у тестя с тёщей, но по совету умных людей решил отправиться в Рим в сопровождении пользующегося авторитетом при дворе Кастильоне, который в письмах матери подробно сообщил о всех перипетиях. Правитель Урбино был помещён в одну из камер замка Святого Ангела. По просьбе папы судейскую коллегию возглавил кардинал Джованни Медичи. Рассмотрение громкого дела затянулось из-за внезапной болезни папы, вызванной нервным срывом и военными неудачами. Когда папа немного оправился, была созвана Консистория для рассмотрения совершённого преступления. Но выступивший на суде адвокат обвиняемого Филипп Бероальдо-младший доказал судейской коллегии, что Франческо Мария делла Ровере проявил себя как герой «во имя справедливости», а казнив изменника, защитил тем самым папу и престол. Члены суда согласились с такой оценкой, и урбинский герцог был помилован.
С идеей созыва собора в Пизе, чтобы низложить папу, ничего не вышло, и 3 мая 1512 года в римской базилике Сан-Джованни ин Латерано состоялось открытие Вселенского собора в присутствии шестнадцати кардиналов, семидесяти епископов, двенадцати патриархов и трёх предводителей главных монашеских орденов. Правая рука папы в вопросах теологии Эджидио да Витербо выступил с проповедью, вызвавшей резонанс в широких кругах. В ней, в частности, прозвучали такие слова, как руководство к действию: «Народ Божий отныне должен прибегать лишь к оружию милосердия и молитвы. Вера должна стать его защитной бронёй, а Божественное откровение его мечом».
Собор закончился триумфом Юлия II, и теперь, как полагал его главный советник Эджидио да Витербо, победа должна быть закреплена не только политически, но и идеологически посредством искусства, поддерживающего в народе религиозный дух. С этой целью он направился в мастерскую к Рафаэлю, передав ему и его команде пожелание папы, чтобы отныне их кисти, краски, рисунки и эскизы служили великой цели во славу Рима и Италии.
Вместе с Джулиано Медичи, прибывшим на собор, в Риме объявился Леонардо да Винчи. Он поселился в одном из помещений дворца Бельведер, о чём и поныне напоминает мемориальная доска. Младший из братьев Медичи, имевший склонность к наукам и искусству, стал покровителем Леонардо, дела которого не сложились в Милане, и ему пришлось во время наступления войска Людовика XII искать себе новое пристанище и влиятельных покровителей. Поначалу он остановился в Венеции, где не нашёл понимания своих смелых проектов. Воспользовавшись приглашением мантуанской маркизы Изабеллы д’Эсте, он вынужден был вскоре бежать от её докучливого и обременительного гостеприимства.
Судьба вновь свела трёх великих творцов в одном месте. Узнав о появлении Леонардо, которого давно боготворил, Рафаэль сразу же отправился навестить его. Он застал мастера за рабочим столом с колбами и зажжённой горелкой. У противоположной стены на мольберте стояла «Джоконда», всё ещё находящаяся в работе. Ученики расставляли книги по полкам, вынимая их из дорожных баулов. Леонардо заметно постарел — годы и житейские неурядицы наложили свой отпечаток, — но по-прежнему был бодр духом и весь в делах.
— Вы не поверите, мой друг, — сказал Леонардо, искренне обрадовавшись встрече, — сколько ещё неразгаданных тайн таит в себе природа. Хочу разгадать одну из них, хотя дело это очень многотрудное.
На следующий день Рафаэль робко предложил ему взглянуть на фрески в Станце делла Сеньятура. Леонардо с готовностью принял предложение и отправился туда вместе со своим новым учеником, прибывшим с ним из Милана.
— Это мой верный помощник Франческо Мельци, — представил он парня лет восемнадцати приятной наружности. — Прошу любить и жаловать, ибо он этого заслуживает несмотря на юный возраст.
После внимательного осмотра фресок Леонардо поздравил молодого коллегу с удачей, сказав при этом с грустью:
— Одно лишь замечание, если позволите. Теперь я не смог бы так высоко поднять правую руку, как это лихо сделал ваш Платон. Зато левая, как всегда, слава богу, меня не подводит.
Они не раз ещё встречались, и при каждой встрече Рафаэль узнавал много интересного и полезного. Но при дворе было немало разговоров, осуждающих знаменитого гостя за увлечение наукой, а его непонятные опыты с огнём или зеркалами пугали придворных. Об этом Рафаэлю рассказал друг Турини:
— Вы себе даже представить не можете, какие странные опыты он делает с летающими чучелами лягушек и прочими тварями! Всё это возмущает придворных, и они готовы пожаловаться папе. Мне постоянно приходится защищать великого творца от обвинений чуть ли не в колдовстве.
Во дворце пошли разговоры о связи знаменитого мастера с чёрной магией. Об этих опытах подробно поведал Вазари в своих «Жизнеописаниях», отметив, что Леонардо имел еретический взгляд на вещи, не согласный ни с какой религией, предпочитая, по-видимому, быть философом, а не христианином. Но во втором издании своего труда в 1568 году в разгар Контрреформации и гонений на инакомыслящих осторожный автор предусмотрительно изъял это крамольное суждение. А вот папский датарий Турини за проявленное понимание и поддержку опытов Леонардо стал счастливым обладателем двух его картин.
Глава XVI МЕЖДУ ПАПОЙ И БАНКИРОМ
Работа в ватиканских станцах немного застопорилась, так как приходилось отвлекаться на другие дела. Друзья Со́дома и Перуцци окончательно покинули мастерскую, перейдя под начало сиенского банкира Киджи, для которого возводился дворец в районе Трастевере на набережной Тибра. Но оба постоянно обращались к Рафаэлю за помощью и советом, поскольку им предстояло расписать фресками дворцовые залы. Рафаэль не был на них в обиде за то, что они покинули его в разгар работы в станцах. Он прекрасно понимал, что молодым коллегам не терпелось, коль скоро представился счастливый случай, взяться за самостоятельную работу, чтобы полнее раскрыть свои творческие возможности. Ему вспомнилось, с каким неудовольствием он воспринял весть, что в Риме придется поработать в компании приехавших отовсюду разных художников, включая Перуджино. Такая перспектива его мало устраивала, и он не мог себе представить, как можно работать большой артелью, сколь ни сложна поставленная задача. Примером и оправданием для него служил Микеланджело, работавший в одиночку и сумевший почти без помощников расписать гигантский плафон Сикстинской капеллы.
Недавно папский камерарий кардинал Сиджисмондо Конти пришёл к нему заказать обетную картину в связи с чудом, свидетелем которого он неожиданно стал.
— Посетив прошлым летом родовое гнездо в Фолиньо, — начал свой рассказ престарелый кардинал, — я вдруг проснулся ночью от странного гула. Открыв окно, я увидел слепящее свечение и почувствовал, что дом вздрогнул как от удара. Первое, что мелькнуло в голове — землетрясение. Выбежав наружу, я увидел во внутреннем дворике огромный раскалённый докрасна камень.
Знающие люди пояснили кардиналу, что упавший с неба камень — это метеорит, угодивший, по счастью, во двор. Он пояснил также причину своего обращения именно к нему, Рафаэлю, сыну Джованни Санти, с которым в молодости был дружен. Действительно, в хронике, написанной Санти, упоминается имя Сиджисмондо Конти. Рафаэля глубоко тронуло, что заказчик помнил его отца и тепло о нём отзывался, и взялся за написание большой обетной картины 2x3 метра, называемой «Мадонна Фолиньо» (Ватикан, Пинакотека), отнявшей у него немало сил и времени.
Рафаэль торопился, видя, что заказчик на ладан дышит. Ему хотелось порадовать его при жизни, и старания увенчались успехом. Получилась яркая по колориту и компактная по композиции картина, разделённая на две части — небесную и земную. В окружении сонма путти на облаках восседает Мадонна с Младенцем. На ней красная туника до пят и покрывающий голову и колени голубой плащ. Сидящий у неё на руках пухленький Младенец с любопытством смотрит на собравшихся внизу на земле людей. Поразителен по красоте божественный лик Мадонны. Её нимб частично растворяется в облаках, а её правая нога почти касается стоящих на земле людей. Обрамляющая картину резная рама выполнена по рисунку автора.
Над городком, куда угодил метеорит, появилась радуга, соединяющая земное с горним. На всём печать умиротворённости и покоя. На лугу пастух присматривает за стадом и два горожанина беседуют о чём-то мирском, поэтому им не дано увидеть Богоявление. На переднем плане очевидцы явленного чуда симметрично расположены по бокам на зелёной лужайке. Справа Блаженный Иероним положил руку на голову коленопреклонённого донатора Конти в яркой кардинальской мантии, как бы вверяя его Богоматери. Обезображенное старостью лицо донатора выражает благоговение и благодарность за свершившееся чудо. Слева Иоанн Креститель указывает зрителю рукой на небесное явление. Преподобный Франциск пал ниц в молитвенном экстазе. Образовавшаяся посредине пустота удачно заполнена фигурой симпатичного голенького крепыша путти с дощечкой в руках. На ней должно бы быть начертано посвящение от донатора, но бедняга не успел его составить.
В 1514 году образ был установлен в главном алтаре римской церкви Арачели, где Конти был похоронен. Алтарный образ после его освящения стал пользоваться большим почитанием римлян, которые валом туда валили, чтобы полюбоваться новой работой Рафаэля. Но спустя полвека племянница покойного кардинала Анна Конти, настоятельница одного из монастырей под Фолиньо, увезла алтарный образ в свою обитель, где он находился до 1798 года, а затем ему было суждено испытать мытарства в Париже, пока в 1815 году он не обрёл постоянное местопребывание в Пинакотеке Ватикана. Если сравнить эту работу с написанным в Перудже алтарём «Венчание Девы Марии», где горнее и земное органично составляют одно целое, то следует признать, что «Мадонна Фолиньо» при всём блеске её цветового решения по духу и композиционно проигрывает «Венчанию», которое писалось в особой атмосфере душевного подъёма. Не случайно именно им вдохновился Лист, так и назвав одну из своих фортепьянных пьес Sposalizio («Венчание»).
После «Мадонны Фолиньо» Рафаэль решил приступить к работе в Станце Илиодора, поскольку все подготовительные картоны были готовы. Но повстречав на одной дружеской вечеринке молодого банкира Биндо Альтовити, он вынужден был вновь отвлечься. Его заинтересовала личность красивого молодого человека, влюблённого в искусство, а особенно его очаровательная подружка, с которой Биндо зачастил к нему в мастерскую. Рафаэль забавлялся, видя, как пара часто ссорилась по пустякам и девушка ни в чём не хотела уступать богатому ухажёру. Ему захотелось написать портрет строптивой римлянки, о чём он сообщил её богатому другу. Тот сразу загорелся идеей, но через пару дней объявившись в мастерской, Альтовити сообщил, что возлюбленная сбежала из Рима с безвестным музыкантом. На его лице была неподдельная печаль, как у ребёнка, лишившегося любимой игрушки. Чувство оскорблённого мужского самолюбия Рафаэлю было незнакомо.
— Не стоит принимать это близко к сердцу, — сказал он, пытаясь утешить беднягу, и предложил расстроенному товарищу попозировать, дабы отвлечься от грустных мыслей.
Во время сеанса Биндо рассказал о себе и отце банкире, племяннике папы Иннокентия VIII, при котором был построен дворец Бельведер в Ватикане, и о своих симпатиях республиканскому правлению Флоренции, откуда он был родом.
Портрет удался (Вашингтон, Национальная галерея) как по изысканности композиции, так и по мягкости колорита. Биндо Альтовити изображён в три четверти вполоборота на сером фоне облачённым в тёмно-зелёный плащ с вырезом на спине, из-под берета выбиваются пряди русых волос до плеч. Красивое мужественное лицо ярко освещено вместе с левой рукой, приложенной к груди. Ясный взгляд устремлён на зрителя, словно ищет поддержку в трудную минуту любовной драмы.
Молодые люди подружились, и вскоре Альтовити, портрет которого вызвал большой интерес в артистической среде, объявил Рафаэлю о помолвке с юной флорентийкой и заказал картину, которую решил подарить невесте перед свадьбой. Так появилась великолепная работа, называемая по-итальянски Madonna deU’impannata (Флоренция, Питти). Своим необычным названием она обязана тому, что изображённое на ней окно заклеено бумагой, как обычно в деревнях поступали бедные крестьяне, используя бумагу или полотно вместо стёкол, которые стоили недёшево.
Это одна из замечательных по колориту композиций, на которой естественный свет, просачивающийся через заклеенное бумагой окно, не идёт ни в какое сравнение с божественным светом, выявившим на тёмном фоне полную радости и умиления сцену, когда престарелая Анна передаёт Деве Марии шалуна-сына. Прекрасен, как всегда у Рафаэля, задумчивый образ Мадонны со слегка склонённой к Иисусу головой. Рядом мальчик Креститель, смотрящий на зрителя и указывающий перстом на Спасителя. Считается, что склонившаяся над Анной молодая женщина — это Мария Клеопа. Вся картина пронизана подлинно народным духом.
Прослышав от моны Лукины, что Юлий II позволил себе небольшую передышку из-за лёгкого недомогания, Рафаэль после заутрени подошёл к папе за благословением и напомнил о данном обещании позировать часа по два в день. После одержанной победы на Латеранском соборе Юлий был в добром расположении духа и дал согласие, тем более что «любезный сын» заверил, что быстро управится с портретом. Во время сеанса папа был задумчив и лишь раза два нарушил молчание, поинтересовавшись делами в мастерской и попросив не особо доверять хитрому сиенцу Киджи, который давно ходил вокруг художника. Видимо, Юлий опасался, как бы банкир не переманил его любимца.
Рафаэль сдержал обещание, и вскоре портрет был готов (Флоренция, Уффици). Он очень ответственно отнёсся к этой работе, сознавая, что заказ имеет историческую значимость. Папа попросил не снимать покрывало с мольберта, пока не подойдут сестра Лукина и дочь Феличия. В кабинете находились также монсеньор де Грассис и Эджидио да Витербо. Когда женщины сели рядом с папой, Рафаэль сдёрнул покрывало. Раздался вздох восхищения, а Феличия не удержалась и, вскочив с кресла, поцеловала отца.
Папа изображён на тёмном оливковом фоне сидящим в рабочем кресле с высокой спинкой. Руками он опирается на подлокотники, пальцы сплошь усыпаны кольцами с драгоценными камнями. В правой руке зажат платок — во время сеанса его донимал кашель. Правда, эта рука выглядит несколько короче левой, цепко ухватившей подлокотник кресла. Облачённый в обычное будничное одеяние, Юлий сидит с покрытой головой. Длинная седая борода, обрамляющая розоватое лицо, словно освещённое изнутри, контрастирует с пурпуром накидки и головного убора. Ярким живописным пятном выделяется также белоснежная туника с бесчисленными складками, так тонко распределёнными, что они кажутся лёгкими как пушинки. От портрета невозможно оторвать взгляд. Юлий сидит задумавшись, со слегка опущенным взором и плотно сжатыми губами, в глазах поблескивает огонь, говорящий о скрытой неукротимой энергии.
Рафаэлю удалось верно передать характер Юлия II, живущего во власти своих грандиозных планов. Его волевая взрывная натура держала в страхе приближённых, но не порождала ненависти, так как он постоянно радел об укреплении престижа государства и Церкви, меньше всего думая о себе и своих близких. Папа был покровителем искусства, считая его действенным средством для достижения великих целей.
— Пожалуй, сегодня в Риме лучшего портретиста не сыскать, — заявил Эджидио да Витербо.
— А как же наш другой любезный сын — Микеланджело? — спросил папа.
— Ваше Святейшество, — сказал монсеньор де Грассис, — наш Микеланджело любому, кто просит его изобразить, неизменно отвечает: «А какой в этом прок?» Вот разве что Леонардо мог бы составить конкуренцию.
Но папа резко возразил ему:
— Вы забываете, что этот, с позволения сказать, горе-учёный ни одного дела не доводит до конца. Вы же сами мне докладывали, что весь Бельведер провонял гарью и кислотой по его милости.
Было решено выставить портрет папы для всеобщего обозрения в церкви августинцев Санта-Мария дель Пополо, почитаемой римлянами и неизменно посещаемой паломниками, для которых это будет первая встреча с папой римским, прежде чем они вступят в Вечный город.
Долгое время вместе с портретом Юлия там находилось написанное Рафаэлем по заказу кардинала Риарио «Святое семейство», получившее в литературе наименование «Лоретская Мадонна» (Шантийи, Музей Конде). У этой картины сложная история. Она переходила из рук в руки, пока не оказалась в почитаемом верующими городке Лорето под Анконой, откуда была украдена и разошлась по миру в отлично выполненных копиях, часто выдаваемых за подлинник. Проведённый в Шантийи в 1979 году радиографический анализ показал, что на оригинале вместо головы Иосифа было окно, глядящее на природу.
Бесспорно, это одно из лучших творений Рафаэля, отличающееся от флорентийских мадонн более свободной и динамичной композицией. Чего стоит хотя бы несколько театральный жест, приподнимающий вуаль над проснувшимся голеньким младенцем и так напоминающий взмах руки Аполлона Бельведерского! Превосходно написан слегка склонённый одухотворённый лик Девы Марии, облачённой в красную тунику, выступающую ярким пятном на тёмном фоне.
В начале 1512 года Рафаэль вместо с командой переместился во вторую соседнюю комнату, называемую по-итальянски Stanza d’Eliodoro, где давно стояли сколоченные леса для работы. Неизвестно, была ли заранее продумана программа росписей. Но как показали дальнейшие события, динамика их развития нашла прямое отражение на фресках, придав им особое актуальное звучание. В своей борьбе с врагами Юлий II обрёл верного союзника в лице Рафаэля, чьё искусство служило прославлению деяний главного пастыря Римской церкви.
За особые заслуги Рафаэль получил почётный титул писаря папских указов — должность высокооплачиваемую и не столь обременительную. Узнав о назначении, он усомнился в своих знаниях латыни, но друзья его успокоили, заявив, что апостольская канцелярия насчитывает не один десяток толковых писарей в сутанах. И они были правы — одновременно Пьетро Бембо был назначен на пост составителя папских булл и breve как истинный знаток латыни.
Опасения папы относительно сиенского банкира Агостино Киджи были не напрасны. Выходец из банкирской семьи, молодой Агостино рано понял, какова подлинная сила денег. Власть и звания его не интересовали. Он жил одной лишь страстью — накоплением и приумножением своего состояния, не будучи в силах остановиться до конца своих дней. Агостино мог купить кого и что угодно. Казалось, богатство само плыло ему в руки, хотя о его происхождении мало что известно. Он был не только финансистом, имевшим конторы повсюду, но и успешным предпринимателем, на которого трудились десятки тысяч людей. Его собственная флотилия насчитывала около ста судов, бороздивших моря на всех широтах. Он сам признавался, что не знает точно размеры своего состояния. Однако в конторских книгах банкирского дома Киджи чётко фиксировались все доходы и расходы. Например, как явствует из оплаченного счёта, за изготовление только кровати для спальни во дворце с использованием золота, перламутра и слоновой кости было израсходовано 1592 дуката, что превысило стоимость фресковой росписи одной лишь ватиканской станцы.
Залы его римского дворца Фарнезина на набережной Тибра по примеру дворцов древнеримских патрициев расписывались фресками на мифологические темы. Так, в одном из них плафон украшен небесными светилами, расположение которых представляет собой не что иное, как живописный гороскоп, из которого следует, что Агостино родился 1 декабря 1466 года под счастливой звездой, определившей его дальнейшую судьбу.
Будучи небольшого роста, с невыразительными чертами лица, банкир, привыкший вкушать пищу и пить из злата-серебра, предпочитал одеваться во всё тёмное, испытывая удовлетворение при виде кланявшихся ему в пояс разряженных в богатые одеяния просителей, желавших заручиться его расположением. Он финансировал авантюры Пьеро Медичи в обмен на реликвии, собранные его отцом и дедом Лоренцо и Козимо Медичи. К нему обращалась за помощью герцогиня Елизавета Гонзага, чтобы выкупить из плена мужа Гвидобальдо да Монтефельтро. Его услугами пользовались отец и сын Борджиа, а затем, не особо задумываясь, он открыл кредит и для их соперника Юлия II, которому позарез нужны были деньги для оплаты швейцарских наёмников перед походом на врага.
Агостино тоже нуждался в папе по вполне житейской причине. Он добивался развода с первой женой, поскольку на примете появилась новая избранница — внебрачная дочь мантуанского правителя красавица Маргарита Гонзага, падчерица Изабеллы д’Эсте. Известно, что пока мантуанская маркиза занималась коллекционированием, её супруг Франческо Гонзага преуспевал в делах любовных. Для скорейшего решения своих матримониальных проблем Агостино открыл новый кредит для папы Юлия II и решил проводить его до злосчастной Феррары, которую тот хотел поставить на колени. В дороге были оговорены все детали дела.
Расставшись с папой на подступах к Ферраре, он проследовал далее через венецианские и французские заградительные кордоны в позолоченной карете до Местре, где его ждал непомерных размеров собственный корвет, чтобы перебраться по воде в Венецию. Снаряжение и убранство его парусников были притчей во языцех. Помимо женщин не меньшей его страстью были корабли, кареты и рысаки. В Венеции его ждала новая пассия юная Франческа Ордеаски. Пресытившемуся ласками известной римской куртизанки Империи, любвеобильному Агостино захотелось чего-то нового и не познавшего порока. Он привёз Франческу в Рим и поместил в один из женских монастырей, куда мог беспрепятственно войти днём и ночью, чтобы лелеять свежий едва распустившийся цветок, вобравший в себя ароматы лугов лагуны. Вместе с девицей он привёз с собой венецианского живописца Себастьяно Лучани, сиречь Дель Пьомбо, заинтересовавшись его работами.
Ещё 10 ноября 1510 года имя Киджи появилось рядом с именем Рафаэля в связи с заказом на изготовление двух бронзовых тондо, к чему был привлечён перуджинский друг художника гравер Чезарино Россетти. Была ли та работа выполнена, неизвестно. Первый контракт, заключённый Рафаэлем с банкиром, касался написания фрески в фамильном приделе Киджи в церкви Санта-Мария делла Паче близ площади Навона. На небольшом пространстве, ограниченном мраморной аркой и фризом, Рафаэль изобразил сидящих сивилл, лишний раз подтверждающих своими пластическими формами, что микеланджеловские фигуры сикстинского плафона оказали на него сильное влияние. Но он не стал переносить их мускулистые фигуры с бицепсами на фреску, придав им женственность и грациозность в полном согласии со своей поэтической натурой. Из воинственных прорицательниц они превратились у него в нежных задумчивых муз. Над ними парят или сидят рядом ангелы с пергаментными свитками и надписями на греческом, оповещающими о грядущем приходе Спасителя. Все фигуры на красном фоне и словно окрашены полуденными лучами солнца, как и на фреске «Афинская школа». Считается, что по просьбе заказчика в образе крайней слева сивиллы запечатлена куртизанка Империя, которую Агостино продолжал одаривать вниманием, как и многие римские аристократы.
Когда фреска была открыта для всеобщего обозрения, в церкви побывал Микеланджело. Кто-то из знакомых поинтересовался его мнением о фреске и её цене.
— Работа стоящая, хотя и не лишённая заимствований, в чём урбинец явно преуспел, — последовал ответ.
Что же касается цены, то он назвал сумму, вдвое превышающую выплаченную автору по контракту казначеем банкирского дома Киджи. Узнав об ответе Микеланджело, банкир приказал казначею:
— Отнеси скорее недоданную сумму, пока автор не одумался и не запросил отдельную плату за каждую голову.
С той поры между Рафаэлем и банкиром установились дружеские отношения, вызывавшие недовольство папы, ревностно следившего за каждым шагом своего любимца. Но Агостино уговорил Юлия согласиться, чтобы его художник поработал и на него, пока ученики по подготовительным картонам накалывают на стену очертания будущих росписей. Перед напористым банкиром оказывался бессилен даже папа римский.
Так Рафаэль появился в зимнем зале дворца Фарнезина с окнами, выходящими на Тибр, где автор архитектурного проекта дворца Перуцци расписал также плафон, изобразив счастливый гороскоп хозяина, а привезённый из Венеции Дель Пьомбо успел написать над входной дверью Полифема, сидящего со свирелью в руке и смотрящего влюблёнными глазами на море, где резвятся нимфы. Здесь же были и другие морские сюжеты, написанные Со́домой.
Увидев работы коллег, Рафаэль решил продолжить овидиевскую тему «Метаморфоз», о чём просил заказчик, большой любитель моря, приносившего ему благодаря мощной флотилии баснословные доходы. Свой дворец Фарнезина он называл «храмом любви», где вскоре объявилась дама сердца требовательная Маргарита Гонзага, народившая ему за семь лет пятерых внебрачных детей, но развода с первой женой получить пока не удалось. Эта история закончилась взбудоражившим весь Рим неожиданным финалом, о чём будет сказано далее.
Своим вхождением во дворец Фарнезина Рафаэль утвердил там культ Амура. Обращение к миру античной мифологии означало для него проникновение в мир красоты и совершенства: В отличие от знаменитой картины «Рождение Венеры» Боттичелли для Рафаэля античный мир — это не хрупкая мечта, а мир, населённый полнокровными героями с их беспечной чувственной красотой. Они преисполнены духа свободы от предрассудков и сдерживающих этических норм. В Фарнезине он создал одну из самых замечательных фресок — «Триумф Галатеи», в которой нетрудно найти параллель с 118-й октавой первой песни «Стансов на турнир» Полициано. Полуобнажённая нимфа в развевающейся на ветру ярко-красной накидке, стоя на перламутровой раковине, скользит по волнам. В руках у неё вожжи, которыми она правит двумя впряжёнными в раковину дельфинами, ловко увёртываясь от стрел парящих над ней трёх амуров. Вокруг другие мифологические персонажи морской стихии — наяды и похотливые тритоны с лошадиными копытами. Вся картина дышит безудержной радостью жизни.
Появление рафаэлевской Галатеи — новой богини любви затмило многие женские образы, появившиеся ранее в Риме за всю его более чем двухтысячную историю. Правда, сам Рафаэль довольно скромно отозвался о своей работе в письме другу Кастильоне: «Я считал бы себя великим живописцем, если бы в Галатее была хоть половина той красоты, которую Вы в ней находите, но в этих словах я вижу лишь Вашу ко мне дружбу».53
По заказу Киджи в мастерской Рафаэля были изготовлены раскрашенные картоны для покрытия мозаикой плафона капеллы в римской церкви Санта-Мария дель Пополо, приобретённой банкиром у бывших владельцев при содействии папы и главы ордена августинцев Эджидио да Витербо. Рафаэлю принадлежит также проект её архитектурного оформления и лепного декора. Вспомнив работу Перуджино в Меняльной бирже, он поделил сферический свод капеллы на восемь сегментов, украшенных орнаментом на золотом фоне с изображением планет, которые олицетворяют Аполлон, Венера, Диана, Сатурн, Марс и другие божества, а над ними величественная фигура Бога Отца. Один из ангелов держит ленту пергамента со словами: Fiant Luminaria in firmamento coeli — «Да будет светило на тверди небесной». Мозаика была выполнена венецианцем Алвизе да Паче, с которым у Рафаэля завязалась дружба, равно как и с флорентийским скульптором Лоренцо Лотти по прозвищу Лоренцетто, изваявшим по его рисункам для капеллы Киджи статуи пророков Ионы и Илии. Четыре года спустя он же изготовил надгробие Рафаэля. В 1654 году мозаику почистил и отреставрировал Бернини.
Пока Рафаэль с командой трудился в ватиканских станцах, в конце апреля 1512 года французы начали спешно ретироваться из центральных областей Италии из-за угрозы вторжения Испании и Англии на их территорию. Воспользовавшись отходом неприятеля с прежних позиций, Юлий II решил примерно наказать флорентийцев за их пособничество захватчикам. Операцию он поручил, не без умысла, кардиналу Джованни Медичи, который спал и видел, когда ненавистный республиканский режим будет свергнут. Ему в помощь был выделен отряд союзников испанцев, которым была обещана богатая добыча. 30 августа того же года кардинал Медичи с вверенными ему отрядами подошёл к крепостным стенам города Прато под Флоренцией. Сопротивление защитников было подавлено огнём артиллерии, и через брешь в стене Прато был взят штурмом. Довольный успехом кардинал отдал поверженный город на откуп испанской солдатне. Богатый Прато, славящийся своими текстильными мануфактурами, был дочиста разграблен и залит кровью.
В отправленном папе послании Медичи писал об успешном завершении операции и отдельных случаях жестокости, которые не удалось предотвратить. Шесть тысяч убитых и сотни изнасилованных солдатнёй женщин и подростков — таковы «отдельные случаи жестокости», упомянутые вскользь кардиналом. Вслед за Прато пала Флоренция с её республиканским правлением, где после двадцати лет изгнания Медичи восстановили своё господство, и пожизненный гонфалоньер Содерини оказался в эмиграции.
Сюжеты росписей в Станце Илиодора отразили ход дальнейших событий. Первая написанная там большая фреска «Изгнание Илиодора из храма» явилась ярким подтверждением триумфа, одержанного Юлием II на Латеранском соборе. Он-то и стал главным советником художника и идеологом всего цикла Станцы Илиодора, состоящего из настенных фресок, одиннадцати кариатид, четырёх герм и ветхозаветных сюжетов на своде: Неопалимая купина, Лествица Иакова, Чудесное видение Ною и Приношение в жертву Исаака. Каждая сцена полна динамики и, самое главное, написана в стилистике настенных изображений. В центре свода помещён круг с гербом папы Юлия II.
Станца Илиодора должна была стать парадным залом для официальных приёмов и всем своим видом говорить любому входящему в него: «Поднявшего руку на Церковь да постигнет Божья кара». Нетрудно понять, какая пропасть лежит между посылами этих двух соседних залов. Сюжет взят из Второй книги Маккавеев (3:7-29), в которой повествуется о том, как сирийский царь Селевк, прослышав о несметных сокровищах главного храма Иерусалима, приказал своему воину Илиодору проникнуть в хранилище и выкрасть ценности.
На фреске развёртывается почти театральное действо, полное напряжения и зрелищности, чему способствуют в сравнении с соседним залом более сильные контрасты света и тени и тревожно таинственное мерцание тонов. Всё подчинено движению. Храм имеет форму греческой базилики с тремя нефами, чьи мощные арки нарастают из глубины друг над другом, как в «Афинской школе», в сторону зрителя. В глубине центрального нефа на фоне тревожного неба коленопреклонённый первосвященник Ония перед алтарём и зажжённым семисвечником молит о помощи, узнав о грозящей опасности. Позади него правоверные иудеи обсуждают страшную весть.
Молитва услышана, и справа показано изгнание Илиодора, а слева — волнение толпы, возмущённой осквернением храма. Справа акцент делается на жёлтый и синий цвета. Их холодноватая гамма уравновешивается слева преобладанием красного и белого. Из глубины по диагонали вылетают два небесных посланца с розгами в руках, преследующие вора. Если бы первый из них коснулся пола хотя бы носком ноги, исчез бы эффект парения в воздухе, а сцена утратила бы ощущение стремительности полёта. Накануне вышла небольшая размолвка. Джулио Романо, которому было поручено написать каменные ступени, решил подправить мастера и ради правдоподобия заставил первого посланца коснуться пола. Увидев на следующий день его работу, Рафаэль обомлел:
— Что ты натворил?
— Я всего лишь подправил, иначе бы он упал, — стал оправдываться ученик.
— Неужели ты не видишь, что исчез эффект полёта?
Пришлось самому восстанавливать написанное, проявив высочайшее мастерство. Первым догоняет осквернителя храма грозный небесный воин верхом на вздыбленном белом коне, чьи передние копыта почти настигают Илиодора. Всадник готов уже поразить булавой врага, но тот падает, выронив украденный сосуд с золотыми монетами, собранными на пожертвования для вдов и сирот народа израильского. Чтобы движению всадника по диагонали вперёд придать больше стремительности, художник показывает, как слева два парня торопятся подняться повыше, цепляясь за колонну, чтобы сверху увидеть наказание поверженного Илиодора и его сообщников, выходящих из правого нефа с награбленным. Итак, стремительному движению книзу соответствует не менее стремительный рывок вверх. Здесь налицо отражение закона механики — действие равно противодействию, хотя вряд ли о нём слышал художник, для которого было важно уравновесить композицию и чётко расставить все акценты.
Рафаэль показывает на фреске не только суд Божий, но и земной, изобразив в профиль главную политическую фигуру и грозного судью папу Юлия II сидящим в кресле на паланкине, который несут носильщики, среди коих узнаваем друг Рафаэля известный гравер Маркантонио Раймонди. Высказывается мнение, что в образе одного из носильщиков папского паланкина запечатлён Альбрехт Дюрер с копной вьющихся волос, но с ним Рафаэль встретился позже, когда работал в третьем зале Ватиканского дворца. Себя Рафаэль написал сбоку. Следует признать, что эта написанная по прямому указанию папы статичная сцена несколько проигрывает в сравнении со стоящей перед ней колоритной группой возмущённых женщин с детьми, которые негодуют и осуждают грабителей.
Таким образом, библейский сюжет обрёл на фреске современное звучание, отразив войну Юлия II против французского короля Людовика XII под боевым кличем «Варвары, вон из Италии!». Однако война обрела затяжной характер и шла с переменным успехом. Вот отчего динамичное действие на фреске со стремительной погоней на лошади и полётом юных посланцев свыше выглядит как незаконченное событие, чьё завершение подразумевается за пределами самой картины, чем нарушаются композиционное равновесие и ритм, что столь несвойственно классическому стилю. У Рафаэля здесь, как и на фреске «Парнас», проявились первые признаки барокко.
Изображённый на фреске гравёр Раймонди сыграл немаловажную роль в жизни Рафаэля. Ученик, как и Тимотео Вити, болонского мастера Франчи, он предпочёл живописи искусство графики, благодаря чему до нас дошли многие утраченные работы Рафаэля, равно как и памятники Античности. Так, на одной гравюре, выполненной во время работ в ватиканских станцах, Раймонди изобразил друга сидящим на ступеньке во время короткой передышки в широком плаще со складками и неизменном берете. Автору удалось на гравюре раскрыть внутреннее состояние задумавшегося Рафаэля в момент физической усталости. Взгляд его полон серьёзности и ответственности за порученное дело. Известно, что Рафаэль иногда передавал Раймонди свои оригинальные рисунки для их графического воспроизведения, что способствовало их широкому распространению, а сами гравюры в те времена ценились не меньше, чем оригиналы, особенно работы немцев Шонгауэра и Дюрера.
В своё время Раймонди познакомился с Дюрером в Венеции и перенял настолько верно его стиль и манеру, что это привело к размолвке с немецким мастером. Но главная роль в распространении оттисков с гравюр Раймонди принадлежала новому помощнику Рафаэля по имени Баверио Кароцци из Пармы, которого все звали Бавьера. Происхождение этого прозвища неизвестно. Возможно, оно связано со словом bava — слюна, и парня за глаза звали «слюнтяем».
Рафаэль повстречал его на одной из площадей, обратив внимание на красивого белокурого юношу с протянутой за подаянием рукой. Он сунул ему в руку золотой скудо, а затем, обхватив его лицо ладонями и поворачивая влево и вправо в профиль, промолвил:
— Вот что мне нужно! Ступай за мной — получишь больше.
Когда они вошли в мастерскую, Рафаэль сорвал с парня грязные лохмотья и усадил на высокий табурет.
— Сиди смирно и не двигайся, пока не закончу, — приказал он и принялся угольным грифелем рисовать на картоне.
Парень сообразил, что может здесь неплохо заработать. Чтобы разжалобить художника, он поведал ему грустную историю о том, как его мать убежала с очередным любовником, оставив его на попечение отца-пьяницы. С малых лет он вынужден сам заботиться о хлебе насущном.
— А что делать-то умеешь? — спросил Рафаэль.
— Ничему я не обучен, вот и приходится попрошайничать.
— Беда поправимая — была бы голова на плечах. Взгляни, что получилось.
Парень не узнал себя. Лицом будто вылитый он, но на рисунке изображена девушка, стыдливо прикрывающая рукой низ живота.
Бавьера прижился в мастерской и вскоре стал пользоваться полным доверием Рафаэля, благодаря судьбу за случайную встречу, позволившую ему обрести человеческое достоинство и быть полезным великому мастеру, которого он боготворил. Со временем Бавьера стал домоправителем большого хозяйства, толково и честно распоряжаясь огромными средствами, вверенными ему Рафаэлем. Кроме того, он проявил себя неплохим умельцем по части различных поделок по дереву, сумев наладить печать оттисков с гравюр. В его обязанности входило также выполнение поручений деликатного свойства — передавать записки возлюбленным мастера или незаметно провести через потайную дверь очередную избранницу.
Не менее трудная задача встала перед Рафаэлем при росписи двух торцевых стен с глубокими нишами окон и полукруглым завершением. Первая из них — «Месса в Больсене» — посвящена произошедшему в XIII веке событию в тихом городке на берегу одноимённого озера. Во время обедни в местной церкви один богемский священник в момент освящения Даров вдруг усомнился в таинстве божественного перевоплощения и тут же увидел, как покрывающий остию (просфору) плат и его руки окрасились кровью. В ознаменование этого чуда был учреждён церковный праздник Corpus Domini — день Тела Господня. Отправляясь в очередной поход против строптивой Болоньи, Юлий II посетил те места и подсказал Рафаэлю идею фрески.
Ниша окна первой торцевой стены прорублена не посредине, что вынудило Рафаэля считаться с этим изъяном, нарушившим среднюю ось фрески. Но ему удалось найти блестящее композиционное решение. Как бы срезав ребром оконного проёма часть изображения, он тем самым создал иллюзию того, что пространство сдвинуто влево и частично сокрыто аркой архитектурного обрамления фрески. Благодаря этой гениальной находке точка зрения зрителя чётко фиксируется в центре изображения.
Сверху над оконным проёмом в самом центре помещён алтарный стол. Его полукругом опоясывает высокий хор из морёного дуба, отделяющий место священнодействия от всего мирского. Облокотившись на деревянное ограждение, два прихожанина наблюдают за происходящим. Один из них, указывая рукой на алтарь, как бы говорит сомневающемуся товарищу: «Что я тебе говорил? А ты не верил!»
С двух сторон к алтарю ведут мраморные ступени. В первой половине фрески за спиной усомнившегося священника молодые прислужники стоят на коленях с зажжёнными свечами. На ступенях и у подножия лестницы верующие всех возрастов, пришедшие в сильное возбуждение, услышав о кровоточащей остии. Прекрасно написаны лица детей, не понимающих причины волнения взрослых.
В правой половине, напротив, царит спокойствие. Несколько в стороне от алтаря, в полной отрешённости от грешного мира, с бесстрастным видом молится Юлий II в парчовом одеянии гранатового цвета и белоснежной пелерине, длинный конец которой стелется по ступеням лестницы наподобие пучка яркого света, вырвавшегося сверху. Ниже на ступенях стоят два кардинала и другие папские приближённые. У подножия лестницы преклонила колени группа молодых римских аристократов, удостоенных чести носить папский паланкин. Выразительные и тонко написанные лица говорят о портретном изображении из круга хорошо знакомых автору людей, друзей Биндо Альтовити. Их часто ошибочно принимают за швейцарских гвардейцев, в чьи функции не входило ношение паланкина. Кроме того, изображённые Рафаэлем молодые люди одеты в яркие одежды, которые отличаются от традиционной униформы швейцарцев, созданной, как известно, по рисункам Микеланджело.
Бросающийся в глаза контраст между двумя половинами фрески также подчёркивается колоритом. Слева преобладают нежные розоватые, голубые, бледно-жёлтые и палевые тона, а в правой части, наоборот, господствуют сочные сочетания красного с зелёным и чёрного с золотом.
Папа внимательно следил за ходом работы. Ему так хотелось отыграться хотя бы с помощью искусства за поражение под Равенной, когда он сам чуть не попал в плен к французам, и наказать Людовика XII, осмелившегося поднять руку на наместника Христова на земле. Своим изображением он остался доволен и подсказал Рафаэлю, кого из приближённых следовало бы запечатлеть на фреске. Так появился стоящий на ступеньке престарелый кардинал Рафаэлло Риарио, один из папских кузенов, для которого Браманте завершил оформление величественного дворца Канчеллерия. Рядом с ним, возможно, Парис де Грассис и чуть ниже, судя по возрасту, Бальдассар Турини и Эджидио да Витербо, то есть лица из ближайшего папского окружения.
В сравнении с «Изгнанием Илиодора» преисполненная драматического накала фреска «Месса в Больсене» несколько проигрывает своей статичностью, хотя и поражает мастерством. В этом нет ничего удивительного, так как Рафаэль был величайшим мастером изображения и непревзойдённых по красоте композиций, но никак не мастером — выразителем эмоций, сколь бы сильны они ни были. При нанесении последних мазков на фреску ему пришлось прервать работу из-за кончины моны Лукины, своей благодетельницы, немало сделавшей для него доброго. Он побывал на панихиде в храме, где собрались родные и близкие. Его поразил осунувшийся и еле держащийся на ногах папа Юлий, который вдруг упал ниц перед гробом и расплакался как ребёнок, произнося словно заклинание: «Лукина, Лукина!» Служители подняли его и усадили в кресло. Рафаэль никак не мог себе представить Юлия плачущим, настолько слёзы не вязались с образом грозного понтифика, перед которым трепетали сильные мира сего.
Единственный, кто не очень робел перед Юлием, был кардинал Джованни Медичи, делавший ставку на папу в надежде, что с его помощью удастся изгнать поддерживаемого французами ненавистного гонфалоньера Содерини и вернуть себе власть над Флоренцией. Вот почему он старался выслужиться перед Юлием и, возглавив судейскую коллегию по делу папского племянника Франческо Мария делла Ровере, добился оправдания человека, убившего не кого-нибудь, а кардинала! Надо было действительно постараться, чтобы вопреки всем нормам права оправдать убийцу. Но кардинал Медичи сознавал, что пока ему рано делать какие-либо шаги к вожделенному папскому престолу. Он не спешил, ибо время его не пришло, и всячески потакал папе, исполняя любое его поручение. Именно он подсказал папе взять в заложники подростка, сына несговорчивого мантуанского правителя.
После похорон сестры Юлий II сдал и болезнь уложила его в постель. Ватикан всполошился в ожидании дальнейших событий. В коридорах дворца открыто обсуждали, кто придёт на смену. Послы, аккредитованные при Ватикане, слали своим правителям депеши с подробным описанием обстановки. Так, из последней февральской депеши венецианского посла стало известно, что папа потерял аппетит, довольствуясь лишь двумя яйцами всмятку, и отказывается от услуг врачей, не разрешает даже прощупать себе пульс.
Юлий II и без врачей знал о своём истинном состоянии. Его особенно беспокоил вопрос о преемнике, и он успел подписать специальную буллу, одобренную созванной Консисторией, в которой любому, кто попытается с помощью симонии домогаться папского престола, грозит отлучение от Церкви. Лёжа в постели, он продиктовал церемониймейстеру монсеньору де Грассису чёткие распоряжения о том, в какие одежды должен быть облачён после кончины. Даже свою смерть папа хотел превратить в политический триумф Церкви.
В воскресенье 20 февраля 1513 года Рим облетела весть, что у папы началась агония. Тысячи римлян, подгоняемых порывами холодного ветра, устремились к площади Святого Петра. Здесь уже собралась несметная толпа паломников со всей Европы. Взоры собравшихся были обращены к окнам Апостольского дворца в надежде на чудо. Так уж издавна повелось, что смерть или избрание нового папы неизменно превращали Вечный город в центр мира. Те, кому удалось протиснуться в собор, стояли на коленях перед микеланджеловской Пьета́, молясь за папу Юлия. Но чуда не произошло, и раздался заунывный протяжный звон всех римских базилик и церквей, возвестивший Urbi et orbi о кончине Юлия II в возрасте семидесяти лет.
Вот что отметил в своём дневнике монсеньор Парис де Грассис: «За те сорок лет, что я живу в Риме, мне ни разу не доводилось видеть такого стечения народа, вызванного смертью папы. Знать и простолюдины, взрослые и молодёжь — все хотели приложиться к руке покойного понтифика несмотря на сдерживающее оцепление швейцарских гвардейцев. Люди сквозь рыдания молились за упокой души папы Юлия, который был для них истинным викарием Христа, надёжным щитом правосудия, укрепившим устои церкви и обуздавшим тиранов больших и малых».54 В скорбящей толпе был и Рафаэль с учениками.
Совсем по-иному смерть папы восприняла Европа. Например, вскоре из-под пера Эразма Роттердамского вышла сатирическая брошюра, озаглавленная Iulius exclusus et coelis («Юлий низвергнутый с небес»), в которой святой Пётр потребовал от почившего в бозе папы отчёт за развязанные им войны, симонию, содомию и прочие неблаговидные деяния за годы его десятилетнего правления.
Но для мира искусства это была большая потеря. Особенно остро её ощутил Микеланджело, так как смерть папы поставила его в затруднительное положение с проектом гробницы, работа над которой была временно приостановлена, и теперь решение вопроса зависело от наследников. После долгих споров стороны договорились установить гробницу в сильно изменённом варианте в церкви Сан-Пьетро ин Винколи, почётным настоятелем которой был покойный папа.
В более благоприятном положении оказался Рафаэль, хотя он потерял великого заказчика, с которым всегда находил взаимопонимание. Для завершения росписи ватиканских станц ему был выплачен огромный аванс — предусмотрительный папа Юлий, высоко ценивший искусство своего любимца, заранее побеспокоился о средствах для продолжения работ. Подумал Юлий II и о своём непутёвом племяннике, которого простил перед смертью, включив в его владения порт и крепость Пезаро. Не обойдён был милостью и Кастильоне за свои заслуги на дипломатическом поприще и бескорыстную службу дому Монтефельтро-Ровере. Он получил земли неподалёку от Пезаро и дворянский титул небольшого графства Новилара.
Глава XVII КЛИМАТ В РИМЕ МЕНЯЕТСЯ
Рафаэль подошёл к своему тридцатилетию. Он уже мог целиком полагаться на свою пополнившуюся новыми учениками и подмастерьями команду. Наиболее способным он поручал отдельные срочные заказы, с которыми к нему обращались частные лица, и доверял снимать копии с отдельных своих работ. Так появились копии портрета папы Юлия в кресле, на которые возрос спрос после его кончины. Одна из таких копий во флорентийской галерее Питти считается выполненной Тицианом, которого не раз приглашали в Рим, но он долго отказывался, считая папский двор рассадником зависти и ненависти, в чём мог убедиться сам, когда писал портрет папы Павла III в 1546 году.
Пока во дворце шли приготовления к предстоящему конклаву, Рафаэль решил исполнить давний заказ, который был получен от неаполитанского аристократа Джованбаттисты дель Дука для фамильной часовни в храме Сан-Доменико Маджоре. Просьбу заказчика поддержал его друг поэт Якопо Саннадзаро. С ним Рафаэль не раз встречался в литературных салонах, где широко обсуждался его пасторальный роман «Аркадия», изданный в 1504 году. Художник запечатлел грузного неаполитанского поэта, увенчанного лавровым венком, на фреске «Парнас».
Довольно быстро был написан заказанный алтарный образ, получивший название «Мадонна с рыбой» (Мадрид, Прадо), тем более что одним из героев картины стал небесный покровитель художника архангел Рафаил. Классически уравновешенная фронтальная композиция преисполнена благородства звучания, а цветовая гамма обогащена множеством светотеневых переходов, что ранее было менее заметно в цикле флорентийских мадонн.
Дева Мария с обнажённым Младенцем на коленях сидит на резном деревянном троне, возвышающемся на одну ступеньку над полом. Перед ней преклонивший колено юный златокудрый Товий, которого представляет Деве Марии крылатый архангел Рафаил. У Товия в руке висящая на леске рыба, печенью которой он собирался излечить отца от слепоты. Младенец Иисус тянется к Товию и правой ручкой как бы благословляет его на доброе деяние, а левой опирается на книгу Vulgata Bibbia, которую держит Блаженный Иероним с неизменным своим спутником у ног — приручённым львом. Высокочтимый отшельник Иероним как первый переводчик канонического Священного Писания с арамейского и греческого на латынь, раскрыв текст с включённой в него книгой Товита, воочию убеждается в достоверности своего благословенного труда. Впечатляют превосходно написанная его мощная фигура и проникновенный взгляд мудреца. За тёмно-зелёным занавесом, на фоне которого изображена Дева Мария, видны холмы и светлое утреннее небо.
Оказавшись в Неаполе, «Мадонна с рыбой» вскоре обрела широкую известность чудотворной иконы, и к ней потянулись толпы людей, жаждущих исцеления. После смерти владельца картины, полтораста лет спустя, ею заинтересовался испанский король, супруга которого страдала глазной болезнью, и, несмотря на протесты верующих, «Мадонна с рыбой» навсегда покинула итальянскую землю, оставив по себе добрую память.
Наконец 10 марта 1513 года на конклаве в Сикстинской капелле под бесстрастными взорами ветхозаветного люда, молча глядевшего на происходящее с высоты расписанного Микеланджело плафона, новым преемником апостола Петра был избран тридцатисемилетний кардинал Джованни Медичи, взявший имя Льва X. Это был первый представитель всесильного флорентийского семейства на папском троне. Несмотря на острый приступ, вызванный врождённой болезнью пупочного свища, корчившийся от боли соискатель объявился на конклаве, доставленный на носилках. Увидев соперника в столь плачевном положении, кардиналы единогласно проголосовали за калеку Медичи в надежде, что тот долго не протянет, и просчитались. На следующий же день новый папа Лев X сказал брату Джулиано Медичи: «Ну а теперь мы повеселимся на славу!» — и как показали дальнейшие события, слово своё сдержал — на смену эпохе созидания и борьбы за объединение разрозненных земель в государство под эгидой Рима наступили времена празднеств и расточительства.
Больше всех радовался Бернардо Довици, слуга и секретарь сыновей Лоренцо Великолепного. Сбылась его мечта: одного из своих подопечных он возвёл на папский престол. Это была удивительная личность, вышедшая из низов и наделённая немалыми талантами. В нём рано проявилась страсть к лицедейству, хитрости и изобретательности. Не исключено, что появление на носилках больного Джованни Медичи на конклаве было делом его рук и ловко срежиссированной акцией. Находясь вне Сикстинской капеллы, где свершалось главное событие всей его жизни, Довици сумел с пользой обработать некоторых участников конклава, не скупясь на посулы. Вскоре он получил в благодарность от папы кардинальскую мантию, став самой влиятельной фигурой Ватикана. В Рим перебрался и его племянник Антонио Довици с юной дочерью Марией, поселившийся во дворце на улице Льютари, построенном на средства всесильного дяди.
С особой помпой 11 апреля была проведена интронизация Льва X в базилике Сан-Джованни ин Латерано, так как в соборе Святого Петра продолжались строительные работы. День был выбран неслучайно, ибо папа посоветовался с домашним астрологом. Число одиннадцать он считал для себя счастливым, поскольку родился в этот день в декабре 1475 года, но не мог тогда предугадать, что через восемь лет оно окажется для него роковым, сведя в могилу из-за абсцесса и заражения крови.
Римлянам и гостям города представилась счастливая возможность лицезреть торжественное прохождение от Апостольского дворца через мост Святого Ангела по центральным улицам, украшенным арками из гирлянд цветов, до базилики папского кортежа и проезд многочисленных титулованных гостей со свитой, съехавшихся на интронизацию из разных стран. Рим на время стал столицей мира.
Из высокопоставленных гостей выделялись два герцога — урбинский и феррарский. Первый с эскортом в пятьдесят всадников, включая новоиспечённого графа Кастильоне, был облачён в чёрное, как и вся его свита, в знак траура по умершему Юлию II. Второй же герцог со своей многочисленной кавалькадой являл собой бурную радость, что со смертью прежнего папы для Феррары наступает эпоха свободы от притязаний Ватикана. Альфонсо д’Эсте выглядел богом Марсом в умопомрачительном одеянии с горностаевой мантией, а его бархатный берет украшал сверкающий на солнце алмаз, стоивший целое состояние.
Тысячи римлян, свидетелей этого блистательного зрелища, поддались общему праздничному настроению, теша себя надеждой, что наступил конец междоусобным распрям и войнам и что на итальянской земле наконец воцарятся мир и согласие. Их радости не было предела, и казалось, сама природа радовалась этому событию, одарив Рим тёплым солнечным днём. Среди гостей, прибывших на праздники, оказалась и мать Кастильоне донна Алоизия Гонзага, поэтому на время прекратилась её переписка с сыном и умолкнул источник подробной информации, из коего можно было почерпнуть много любопытных сведений. Но эта временная лакуна была с лихвой восполнена папским церемониймейстером монсеньором Парисом де Грассисом, любившим коротать досуг наедине с дневником.
По найденному в ватиканской библиотеке проекту Витрувия лучшие римские умельцы возвели в античном стиле временный дворец из деревянных панелей, фанеры и папье-маше на месте древнего ристалища Капитолийского холма между двумя ветхими зданиями городской управы. Их детище выглядело как всамделишное античное сооружение из травертина с великолепным портиком из рисованных беломраморных колонн, где после торжественной церемонии интронизации в базилике был дан банкет на три тысячи персон.
В центре просторного зала, украшенного гипсовыми статуями античных героев и позолоченной лепниной, журчал фонтан, распространяя аромат весенних цветов и свежесть. Он служил также для омовения рук при смене подаваемых яств на серебряной посуде с папскими вензелями. Сидевший на возвышении оркестр встречал тушем появление очередного блюда. В ходе праздничного застолья гостям пришлось не раз раскрывать рты от удивления. Когда приглашённые на банкет расселись по своим местам, их ждал первый сюрприз. Едва они взялись за затейливо свёрнутые салфетки из тончайшего реймсского льна, из них вылетели живые скворцы, радостно защебетавшие от обретения свободы. Было немало и других чудес, поражавших богатством и изобретательностью устроителей пышного банкета, а из кухни в огромную толпу, собравшуюся у подножия Капитолия, летели куски запечённых окороков, жаркого и сладости. Было выкачено несколько бочек вина — пей-гуляй, римский люд, во славу нового папы! Лев X дважды появлялся на вершине Капитолия, приветствуемый разгулявшейся голытьбой.
Во время заключительной части банкета под звуки оркестра раздвинулась одна из торцевых стен и на появившейся сцене с огромным живописным задником началась театральная феерия. Её апофеозом стало появление Венеры в облике пышнотелой красавицы, незабвенной Клариче Орсини, представительницы старинного римского рода, выданной замуж за Лоренцо Великолепного, матери нового папы. В одной руке она держала лавровую ветвь, в другой — золотой шар из эмблемы Медичи. Справа от неё возлежал обнажённый седовласый старец как олицетворение древнего Тибра, а слева такой же старец, выражающий собой Арно. Всё завершилось торжественной кантатой в исполнении хора мальчиков и кастратов:
Эти неслыханные по размаху и роскоши торжества, означавшие примирение клана Медичи с Римом и Ватикана с городским сенатом, обошлись казне в десятки тысяч дукатов, одолженных у Агостино Киджи, который взамен потребовал преимущественное право на добычу квасцов в Тоскане и другие привилегии.
Празднества ещё долго продолжались, завершившись охотой в урочище Мальяно под Римом. Как явствует из местных анналов, было убито тридцать оленей и косуль, десять кабанов и бесчисленное множество фазанов и тетеревов. После охоты был устроен лукуллов пир под открытым небом, во время которого было съедено непомерное количество приготовленного на жаровнях мяса и дичи. Было такое ощущение, что стая голодных волков набросилась на добычу. Хотя папа Лев X из-за близорукости был никаким стрелком, ему доставляло истинное удовольствие лицезреть, как прыгающие олени и серны вдруг падают на лету, словно подкошенные. Не меньшее удовольствие он испытывал при взятии штурмом Прато, когда с высоты крепостных стен падали подстрелянные как куропатки защитники города.
Среди съехавшихся в Рим на интронизацию папы Льва X гостей был и Лодовико Ариосто, с которым тогда впервые повстречался Рафаэль и принял его у себя в мастерской. Поэт надеялся получить какую-нибудь должность от нового папы, чтобы поправить своё непрочное материальное положение. Он встречался в Ферраре с Джованни Медичи, от которого получил лестные посулы. Но став папой, Лев X не узнал поэта в толпе гостей, о чём Ариосто с горечью писал в одном из писем, что «понтифик явно нуждается в окулярах». Он остался недоволен царившей в Вечном городе праздничной атмосферой постоянных приёмов, турниров и прочих зрелищ.
Как истинный флорентиец, воспитанный в доме своего отца Лоренцо Великолепного, Лев X слыл поклонником искусства, но отдавал предпочтение его малым прикладным формам, поэтому игрец на дуде, ловкий версификатор или паяц были ему куда милее и понятнее, нежели Микеланджело, Ариосто и Леонардо, к чьим творениям он относился с нескрываемым подозрением.
Что касается Леонардо, то Рафаэль часто навещал его в надежде услышать наконец от него, что работа над «Джокондой» завершена и вскоре Рим увидит её. Но картина, увы, продолжала стоять на мольберте, закрытая покрывалом, а великий мастер не расставался с колбами и ретортами, делая левой рукой пометки в рабочей тетради, или стоя перед открытым окном, мог подолгу любоваться полётом птиц. Здесь уместно вспомнить, что первым издателем «Кодекса о полёте птиц» Леонардо в 1893 году был замечательный русский книголюб Ф. В. Сабашников, за что он был избран благодарными итальянцами почётным гражданином городка Винчи.
Из бесед с великим творцом Рафаэлю особенно запомнилась одна его фраза: «Приобретай в юности то, что с годами возместит ущерб, причинённый старостью». Он с грустью отметил, что у Леонардо поубавилось почитателей и учеников. Один лишь преданный Мельци не отходил ни на шаг от стареющего мастера и был ему верной опорой. Бывший ученик, вороватый Салаи, окончательно спился и затерялся в римских трущобах.
У Рафаэля создалось ощущение, что Леонардо жил в постоянном ожидании зова из дворца, которого так и не последовало. Новому папе-сибариту было не до великого творца с его идеями. С горечью осознав, что его проекты так и не заинтересовали ни покровителя искусства покойного Юлия II, ни нынешнего понтифика — любителя пиров и развлечений, Леонардо навсегда покинул Италию, получив приглашение от французского короля. Это была большая потеря для итальянской культуры и искусства, лишившихся мощной опоры и богатейшего источника новых идей. Сама фигура Леонардо являлась ориентиром и эталоном, по которому сверяли свои воззрения и действия многие мастера Возрождения. Узнав о его отъезде, Рафаэль сильно опечалился. Для него каждая встреча с великим мастером очень много значила, и по нему он поверял свои мысли и творческие планы.
Памятуя о том, какое внимание оказывал великому мастеру и проявлял о нём заботу младший брат папы Джулиано Медичи, Рафаэль охотно выполнил его просьбу и написал превосходный портрет (Петербург, Эрмитаж, ныне Нью-Йорк, Метрополитен-музей). В книге «Придворный» Кастильоне отзывается о нём как о человеке благородных чувств, склонном к научным занятиям, и тонком ценителе искусства. Рафаэль изобразил его в партикулярном платье и сером плаще, окаймлённом мехом; волосы собраны в золотую сетку, а на голове бархатная шапочка набекрень. Усы и мягкая бородка выдают в нём человека, близкого к римской богеме. Обе скрещённые руки положены на стол; в правой зажато письмо к очередной возлюбленной.
Преисполненная достоинства фигура Джулиано Медичи написана в мягких прозрачных тонах на фоне полуоткрытого зелёного занавеса. Вдали видны замок Святого Ангела и крытый переход, ведущий к папскому дворцу, внизу поблёскивает Тибр. Портрет на долгие годы исчез из поля зрения и только в 60-е годы XIX столетия объявился во Флоренции, где и был приобретён великой княгиней Марией Николаевной.
Так получилось, что в Риме собрались вместе все участники ночных бдений, описанные Кастильоне в книге «Придворный». Он стал послом Урбино при Ватикане, а поэт Пьетро Бембо был возведён в сан кардинала и сделался главным составителем папских указов. Важную роль в этой синекуре играл Довици, ныне кардинал Биббьена по названию тосканского городка, откуда был родом, ставший главным хранителем казны. Сорокатрёхлетний кардинал Биббьена был большим любителем увеселений и театра. Он вошёл в историю как автор известной комедии в прозе «Каландрия», навеянной сочинениями Плавта, новеллами из «Декамерона» Боккаччо и появившейся несколько раньше блистательной комедией Макиавелли «Мандрагора».
Биббьена не решился поставить её на римских подмостках, сочтя слишком фривольной. Он поверил словам Кастильоне, что просвещённая публика Урбино более подготовлена и способна по достоинству оценить его творение. В мае дружная компания отправилась в Урбино, где состоялась премьера «Каландрии», с блеском поставленной Кастильоне, так как автор не смог покинуть Рим из-за насыщенной программы праздничных балов и официальных аудиенций. Тем же Кастильоне был написан в стихах пролог к комедии, имевшей успех у публики.
Поскольку в Ватиканском дворце не прекращались празднества, из-за которых работу в станцах пришлось на время приостановить, Рафаэль, воспользовавшись оказией, отправился с друзьями в Урбино, чтобы повидать родных и знакомых. Со смешанным чувством радости и грусти он переступил порог отчего дома. Не стало тёти Санты, скончавшейся незадолго до смерти папы Юлия. Дядя дон Бартоломео обезножел и сидел безвылазно дома под присмотром вернувшейся к нему бывшей прихожанки Перпетуи.
Переходя в смежную половину дома, Рафаэль остановился перед своей первой фреской с изображением профиля покойной матери, черты которой были живы в памяти. Почувствовав ком в горле, он осенил себя крестным знамением и прошёл в мастерскую, где не утихала работа. Здесь по-прежнему трудились постаревший молчун Пьяндимилето и исполнительный Дженга, для которых имя фактического владельца мастерской служило визитной карточкой; недостатка в заказах они не испытывали. Рафаэль подивился, сколь же скромна отцовская мастерская, его первая школа познания азов искусства живописи, где каждый уголок был связан с дорогими сердцу воспоминаниями. Вот в этом шкафу он прятал свои рисунки от насмешников-подмастерьев. На полке, как и прежде, стояли фарфоровые баночки с пигментами. В соседнем доме гончара царила тишина — Бенедетта так туда и не вернулась.
На улице его останавливали незнакомые люди и говорили ему добрые слова. Повидался он и с Тимотео Вити, который остепенился, обзаведясь семьёй. Но при встрече с ним Рафаэль почувствовал холодок, и, как ему показалось, в коллеге проснулась зависть, а с этой чертой в людях он никогда не мог смириться. Но в знак старой дружбы он решил как-то ободрить Тимотео, у которого дела пока не складывались удачно, и пригласил его к себе в Рим:
— Работы в мастерской невпроворот, и я завален заказами. Если будет желание, приезжай — дело для друга юности всегда найдётся.
Тимотео с благодарностью принял приглашение, но в глубине души его терзала обида. Почему младший по возрасту собрат по искусству добился столь высокого положения? Зависть и переоценка своей собственной персоны помешали ему понять тогда, что перед ним не просто более удачливый коллега, а подлинный гений. Позже он воспользовался лестным приглашением и объявился в Риме, где утратил собственное лицо, подпав под влияние манеры Рафаэля.
К сожалению, не удалось повидать любимого дядю Симоне Чарла, укатившего по делам в Перуджу. С герцогом он встретился на премьере «Каландрии» и выслушал от него и его очаровательной жены немало лестных слов, но наносить ему визит и терять время попусту на светские разговоры ему не захотелось. По традиции и зову сердца он навестил могилы матери и отца. Это было его последнее посещение родного Урбино.
Позволив себе эту прогулочную поездку, на которой настояли друзья, Рафаэль по возвращении в Рим с головой ушёл в работу. Предстояло завершить росписи в Станце Илиодора и приступить к росписям в двух других залах, для которых вовсю шла подготовительная работа над эскизами. Вторая торцевая стена предназначалась для сцены «Вызволение Святого Петра из темницы». Видевший предварительный картон кардинал Биббьена поведал художнику, что после поражения под Равенной папа Юлий II вместо сбежавшего Алидози назначил легатом кардинала Джованни Медичи и что тот, попав в плен к французам, сумел каким-то чудом бежать из-под стражи несмотря на врождённую болезнь.
— Вы не поверите, — сказал он Рафаэлю, — но это чудо произошло ровно точь-в-точь за год до избрания Его Святейшества на папский престол. Это, безусловно, было знаком свыше.
Рафаэль понял намёк и написал одно из выдающихся своих произведений, вызвавшее бурный восторг современников. Вся эта фреска из-за наличия окна как бы поделена на три части, в которых действие развёртывается почти одновременно. Она целиком построена на световых эффектах, которые в ту пору были для итальянской живописи в новинку. Подобный сюжет Рафаэль видел во флорентийской капелле Бранкаччи у Мазаччо, но присутствующий там ангел написан в привычной колористической манере живописи Кватроченто без всякого сияния. Чтобы понять это загадочное новшество, можно предположить только одно, что Рафаэль побывал в Ареццо, где видел светоносную фреску «Сон Константина» кисти Пьеро делла Франческа, хотя нет сведений о его пребывании в том тосканском городе. Но там бывал его отец, который мог рассказать любознательному сыну о работе своего учителя. Остаётся лишь признать, что этот удивительный эффект ночного освещения от трёх разных источников — сияющего ореола ангела, бледного небесного светила и горящего факела — получился у Рафаэля по наитию как ещё один предвестник барокко.
Над оконным проёмом в центре изображена тюрьма с мощной железной решёткой, за которой исходящее от ангела яркое сияние высветило мрачную темницу и спящего апостола Петра, закованного в цепи, концы которых держат двое спящих вооружённых стражников. Правее сцена вызволения апостола, который ещё не отошёл ото сна и робко ступает, ведомый ангелом-спасителем. Исходящее от небесного посланца сияние скользит по руке и стопе Петра, а затем по стальным латам двух спящих на ступенях охранников. Слева ночное небо с проглядывающим сквозь тучи полумесяцем, а внизу горящий факел и четыре вооружённых стражника в латах. Разбуженный исходящим через тюремную решётку ослепляющим сиянием один из них, стоящий спиной к зрителю, будит остальных, объявляя тревогу.
Работа над фреской была нелёгкой, но радостной. Как-то в зал заглянул Лев X с небольшой свитой и пригласил Рафаэля проследовать с ним в Сикстинскую капеллу.
— Мы не спрашиваем вашего мнения о росписи плафона, — сказал ему папа, — ибо там всё само говорит за себя. А что вы скажете о настенных фресках, которые со временем поблёкли и не радуют глаз?
Рафаэль осторожно принялся объяснять, в чём ценность работы прежних мастеров из Умбрии и Тосканы, особо выделив фрески Пьеро делла Франческа и Перуджино. Он посчитал своим долгом вступиться за славных художников, сыгравших выдающуюся роль в развитии итальянского искусства.
— Весьма похвально, — ответил папа, — что вы столь рьяно защищаете работу своих собратьев по искусству, но нам даже в голову не пришло бы замазать или сбить эти фрески, как это случилось совсем недавно в ватиканских станцах. У нас совсем иные планы.
Из дальнейшей беседы с папой стало понятно, что в нынешнем её виде капелла не отвечает своему прямому назначению. Во время богослужения вряд ли хочется задирать голову кверху и разглядывать написанные на потолке фрески, а стены в их нынешнем виде не способствуют созданию атмосферы собранности и торжественности, которая должна быть в главной капелле христианской церкви. Необходимо придать ей более торжественный облик, украсив златоткаными шпалерами.
Глава XVIII НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Перед Рафаэлем была поставлена гигантская задача создать серию рисунков и картонов на тему «Деяния апостолов», по которым фламандские ткачи должны изготовить десять шпалер, предназначенных для украшения нижней части продольных стен Сикстинской капеллы. Взявшись за необычный для себя заказ, Рафаэль ознакомился с современным ему состоянием шпалерного ткачества, где тон задавали фламандские мастера, которые в основном придерживались традиций средневекового искусства с детальной разработкой и постепенным развёртыванием действия, когда на одной шпалере порой помещалось несколько эпизодов. Им было незнакомо перспективное построение, картины были плоски с обилием бытовых подробностей. Фламандские ковры отличались строгим лаконичным колоритом под стать скромной природе равнинной Фландрии. Долгое время центром коврового ткачества считался французский город Аррас, из-за чего шпалеры по-итальянски называются arazzi. В 1478 году город был захвачен королём Людовиком XI и разграблен, и традиционное ткачество переместилось в Брюссель.
Вклад Рафаэля в развитие шпалерного искусства Европы велик и бесспорен. Его раскрашенные картоны, которые со временем из мастерской брюссельского ткача Питера ван Альста разбрелись по всему свету, достигнув даже русской Калуги,56 напоминали по композиции классическую итальянскую фресковую живопись на фоне развёрнутого холмистого пейзажа с фрагментами архитектуры и чётко организованным пространством. Работа над картонами была завершена, как явствует из ватиканского платёжного регистра, 20 декабря 1516 года.
Слава рафаэлевских картонов превзошла даже его ватиканские фрески, которые не были доступны публике: ими могли любоваться лишь избранные. Картоны получили широкое распространение в качестве образцов для гравюр на дереве и на меди. Именно по ним мир судил о Рафаэле как о непревзойдённом рисовальщике, наделённом богатейшей фантазией. Особую известность получили картоны, выполненные в основном Рафаэлем, «Чудесный улов», «Призвание апостола Петра», «Исцеление хромого» и «Смерть Анании». На остальных «Ослепление Элимы», «Жертвоприношение в Листре», «Обращение Савла», «Проповедь Павла в Афинах», «Мученичество Павла» и «Побиение камнями дьякона Стефана», по мнению исследователей, чувствуется рука учеников и прежде всего Франческо Пенни и Джулио Романо. Понадобилось более трёх лет для изготовления самих шпалер, прежде чем они были доставлены в Рим и развешаны по стенам Сикстинской капеллы.
Ссылаясь на мнение очевидцев, Вазари пишет, что шпалеры вызвали восторг римлян. Невозможно было понять, каким образом посредством ниток удалось передать с такой тонкостью и достоверностью фигуры людей, дома, деревья, животных и птиц, словно они написаны кистью художника? Несмотря на восторженные слова Вазари, картоны Рафаэля были куда более совершенны и впечатляющи, нежели вытканные по ним шпалеры. Всем им была уготована незавидная участь. После смерти Льва X они были заложены, так как не стало и главного кредитора папы Агостино Киджи, а в мае 1527 года при разграблении Рима ландскнехтами Карла V многие шпалеры были украдены или разрезаны и по частям проданы. Лишь в 1818 году оставшаяся их часть была выкуплена папой Пием VII и с тех пор находится в Ватиканском дворце.
Что же касается самих картонов, то после кончины Рафаэля папа не удосужился востребовать их обратно, и они остались в Брюсселе, где использовались в качестве образцов для других шпалер. Один из картонов «Обращение Савла» вернулся в Италию и находился в Венеции, пока следы его не были утеряны, равно как и двух других картонов, посвящённых мученичеству Павла и Стефана. Остальные, весьма попорченные временем, были обнаружены в первой четверти XVII века Рубенсом. Поражённый их великолепием, он уговорил английского короля Карла I выкупить их, что и было сделано за огромную сумму. После трагической смерти короля картоны были выставлены на аукцион и, к счастью, были приобретены английским правительством по распоряжению протестанта Кромвеля, ярого противника Рима, оценившего красоту евангельских сюжетов. В который раз гений Рафаэля вновь проявил своё благотворное воздействие и поразительную способность примирять даже религиозные страсти.
На примере дошедших до нас картонов, будь они осуществлены во фресковых росписях, можно судить, какую невосполнимую потерю понесло искусство, хотя именно картоны, размноженные в гравюрах, принесли Рафаэлю поистине мировую славу. Но стоит при этом признать, что в отличие от классически возвышенного стиля росписей ватиканских станц, выражающих великие гуманистические идеалы Возрождения, композиция шпалер — это в некотором смысле отход от классического стиля и крен в сторону псевдоклассицизма с явными признаками барокко.
Рассмотрим хотя бы те картоны, которые по общему признанию выполнены самим Рафаэлем. Безусловно лучшей композицией является «Чудесный улов» с двумя утлыми челнами. После того как рыбаки всю ночь провели впустую, не выловив ни одной рыбы, Христос повелел им снова забросить сети. В первом челне, доверху гружённым рыбой, на корме сидит Христос. Пред ним Пётр в знак благодарности пал на колени, произнеся: «Господи, я грешник», а Христос, успокаивая его, в ответ промолвил: «Не бойся». Здесь же стоит Андрей, разведя руки от удивления при виде такого обилия рыбы. В сравнении с благородным ликом Христа их грубоватые обветренные лица выражают безграничную преданность и веру. В другом челне два ученика, напрягшись, с трудом вытаскивают полную рыбы сеть. Их товарищ старается с помощью багра удержать чёлн, чтобы он под тяжестью не перевернулся.
За происходящим наблюдают на переднем плане у воды три журавля и своим клёкотом оповещают людей, собравшихся на противоположном берегу озера, о чудесном улове. Считается, что их нарисовал Джованни да Удине, хотя такое мнение ничем не подтверждается. С помощью светотеневых переходов мелкими штрихами создаётся атмосфера раннего утра с лёгким дуновением ветерка. Эту картину живой природы замыкают вдали селение и холмистая гряда. Стоит отметить, что ради придания большей значимости фигурам Рафаэль пошёл на нарушение классических канонов, и оба челна выглядят у него неестественно крохотными, но каким-то чудодейственным образом удерживаются на плаву под тяжестью рыбаков и обильного улова.
В сцене «Призвание апостола Петра» слева изображён Спаситель, облачённый в светлый паллиум, его правая рука и плечо обнажены. Просветлённый лик спокоен и кроток; густые каштановые волосы ниспадают до плеч. Правой рукой он указывает склонившему пред ним колена Петру на стадо, словно говоря: «Паси овец моих» (Евангелие от Иоанна, гл. XXI, 16, 17). Столпившиеся позади Петра апостолы охвачены волнением и проявляют самые разные чувства, как у Леонардо в «Тайной вечере». Одни вопросительно смотрят друг на друга, недоумевая, почему Учитель призвал и вручил ключи Петру, который трижды отрёкся от него. Другие с умилением смотрят на явленного их взорам Спасителя, послушно принимая любое его деяние, а третьи спокойно принимают это решение. В этом картоне, более чем в других работах Рафаэля, особенно заметны влияние Мазаччо и его лепка объёмов светотенью, чего не избежал никто из мастеров Высокого Возрождения.
В картонах Рафаэля угадываются черты леонардовского Христа. Но в отличие от него Рафаэль поместил своего Христа не в центре картины, а с краю. Появившись на мгновение для передачи ключей Петру, Христос, кажется, готов снова исчезнуть, но при этом его стройная фигура несёт главную смысловую нагрузку и уравновешивает сгрудившихся в центре взволнованных апостолов.
В сцене «Исцеление хромого» налицо наметившийся отход от принципов классического стиля. Действие развёртывается между витыми колоннами, а это один из часто встречающихся декоративных приёмов в эпоху барокко. Необычные на первый взгляд мастодонтовые колонны играют важную связующую роль между заполнившими пространство людьми и архитектурой храма.
Сама сцена чудодейственного исцеления написана скупо и с минимальной затратой движения жестов и мимики. Калека сидит на полу, не сводя умоляющего взгляда со стоящего перед ним Петра, который, молча взяв руку несчастного, пристально смотрит на него. Это противопоставление двух профилей и взглядов придаёт особое психологическое напряжение сцене, за которой со злобной завистью наблюдает из-за колонны другой хромой. Рядом с Петром стоит с ободряющим выражением на лице Иоанн, за его спиной видна голова священника, на лице которого неверие в чудо. Вокруг толпятся люди, выражающие живое участие к происходящему или полные равнодушия к чужому несчастью. В качестве противовеса на картине слева помещены две детские фигурки, чья первозданная нагота олицетворяет чистоту и отзывчивость их души. В этом фрагменте отражена подлинная суть Рафаэля, человека и творца.
В XVII-XVIII веках особенно популярным был картон «Смерть Анания», высоко оценённый Гёте, в котором классицизм Рафаэля всё отчётливее стал перерождаться в псевдоклассицизм. Сюжет чрезвычайно труден для его воплощения изобразительными средствами, будь то краски или карандаш, поскольку речь идёт о каре, постигшей неправедного, который нарушил одну из священных заповедей. Рафаэль с блеском решает стоящую перед ним задачу, создав сцену, преисполненную драматизма. В центре на возвышении стоят на фоне колышущегося занавеса десять апостолов, на лицах которых написано осуждение поступка Анания. Тот справа на полу корчится в предсмертных муках, пугая людей диким воплем. Один из апостолов, подняв руку к небу, указывает, откуда пришла кара, а Пётр жестом как бы говорит согрешившему: «Господь тебя наказал».
Жизнь продолжается, и справа виден скромный пейзаж с развесистым деревом, а слева ничего не ведающие прихожане делают пожертвования на храм. Над ними лестница, по которой поднимается Сапфира, жена осуждённого, жадно пересчитывая недоданные общине деньги. Композиция строго симметрична. Её нарушает корчившийся в судорогах как от удара молнии Ананий. Этой асимметрией достигается драматический накал повествования.
Когда смотришь на то, что осталось от былого великолепия, нельзя удержаться, чтобы не упрекнуть правящую власть и лично Льва X за его чрезмерную любовь к роскоши, из-за чего одно из лучших творений Рафаэля послужило для изготовления златотканых шпалер. Римские интеллектуалы не раз осуждали недалёкого папу за то, что он нагружал «любезного сына» заказами, недостойными его гения. Сколько декораций пришлось написать Рафаэлю для обожаемых папой феерических представлений, которые затем безжалостно уничтожались или замазывались!
В 1514 году португальский король подарил папе привезённого из Индии белого слона по кличке Анноне, который стал любимцем Льва X, распорядившегося оборудовать слону стойло под окнами своей опочивальни.
В Риме в те годы проживал старый поэт Барабалло, уроженец Гаэты, получивший известность своими экстравагантными поступками. Он громогласно выдавал себя за потомка Петрарки и его преемника, который вполне достоин коронации лавровым венком на Капитолии. Люди посмеивались над чудачествами выжившего из ума старика. Но неутомимый на выдумки Биббьена решил использовать безумца Барабалло, чтобы лишний раз позабавить толпу, охочую до зрелищ.
Беднягу облачили в златотканую мантию и бархатный берет, смахивающий на шутовской колпак, и водрузили верхом на слона. Весёлая процессия двинулась от Ватиканского дворца к Капитолию. Но перед мостом Святого Ангела слон остановился как вкопанный, не желая идти дальше несмотря на понукания и пинки. Улюлюкающая толпа требовала продолжения шествия, и тогда, издав трубный зов, слон сбросил с себя перепуганного седока и направился назад к своему стойлу. Шутливая коронация не состоялась, а слон Анноне вскоре околел, не выдержав, видимо, нервного потрясения или вредного для него римского климата.
Опечаленный случившимся, Лев X упросил «любезного сына» увековечить память о слоне на фреске наружной стены боковой башни дворца. Ослушаться Рафаэль не посмел, поручив исполнение странного заказа не брезговавшему ничем Джулио Романо. Приставленный к животному папский камерленг Бранконио дель Аквилла сочинил эпитафию, высеченную на мраморной доске под фреской. В ней говорится, что бедняга слон прожил всего семь лет, и воздаётся должное художнику, сумевшему своим искусством вернуть изъятого природой (Raphael Urbinas quod natura abstulerat arte restituit). Узнай об этом мудрый папа Юлий, он бы в гробу перевернулся от гнева.
Работа над картонами в мастерской и над росписями в ватиканских станцах изрядно утомила Рафаэля, и он решил немного развеяться, чтобы набраться сил и свежих впечатлений. Существует легенда о том, как, прогуливаясь однажды по Риму, Рафаэль увидел на ступеньках церкви близ площади Навона молодую мать, кормящую грудью ребёнка. Он остановился, привлечённый её красотой и грациозным движением рук. Заметив прохожего, она одарила его улыбкой несказанного очарования. Он отошёл немного в сторону, чтобы проверить своё первое впечатление. Затем вернувшись, попросил незнакомку замереть на мгновение и, схватив валявшуюся на земле деревянную крышку от бочонка, набросал на ней углём поразивший его облик. Щедро расплатившись за терпение, Рафаэль уговорил женщину навестить его в мастерской для позирования. Она согласилась, польщённая вниманием красивого художника. Её смутил занимаемый им большой красивый дом, куда она робко вошла. Доверившись Рафаэлю, римская незнакомка оказалась навечно запечатлённой в красках и обрела для себя бессмертие.
Таково происхождение известнейшего тондо «Мадонна в кресле» (Флоренция, Питти), на котором Дева Мария нежно прижимает к себе Младенца. Голова Мадонны наклонена несколько вперёд, подчиняясь ритму тондо, что придаёт материальную осязаемость образу. Её главу покрывает накидка в восточном стиле из полосатой ткани согласно тогдашней моде среди дам высшего круга, а плечи прикрыты ярким шарфом по-римски из набивного шёлка. В движении рук матери чувствуется ревностное желание укрыть дитя от окружающей среды и снова слиться с сыном в единое целое, чтобы вернуться в свой гармоничный мир материнского счастья. Простая чёткая композиция гармонично вписана в резную прямоугольную раму.
Картина передаёт тонкую гамму переживаний матери и сына, который больше не стремится, как прежде, вырваться из материнских рук. Малыш всецело повинуется её нежной ласке, ощущая спиной тёплую поддержку прижавшегося к нему мальчика Иоанна Крестителя. Впервые на его лице появляется недетская серьёзность, а во взгляде недоверие и устремлённость куда-то вдаль. Возбуждение ребёнка невольно передалось матери, и в ней угадывается скрытая тревога за сына. При желании в её проникновенном взгляде, устремлённом на зрителя, кроме тревоги, можно прочесть также и вопрос: «Достойны ли вы, люди, живущие во грехе, этой великой жертвы?»
Написанная для себя картина висела в гостиной художника, являя собой совершенный образец классического искусства с его главным признаком — компактность композиции и максимум пластического выражения в движении на небольшой протяжённости. В отличие от его флорентийских мадонн на фоне развёрнутого пейзажа здесь нет никаких жанровых подробностей шаловливой игры малышей с пергаментным свитком или птенцом, отсутствуют узнаваемые житейские детали повседневного быта, ибо всё пронизано возвышенностью духа и меланхолической грустью.
Естественность и простота образа не вызывают никакого сомнения, что картина писалась с натуры на одном дыхании. Всё в ней настолько поражает, что приходится невольно поверить в легенду о её возникновении. Друзья Рафаэля, собиравшиеся у него по вечерам, восхищались картиной, тщетно пытаясь выведать, кто же эта незнакомка, покорившая его сердце. В ответ он только улыбался и отшучивался, показывая гостям сохранённую им крышку от бочонка со сделанным углём рисунком.
— А вы у бочонка спросите, кто нарисован на крышке. Тогда и узнаете.
Дальнейшая судьба картины загадочна. После смерти художника она как в воду канула. О ней не упоминает даже такой знаток, как Вазари. «Мадонна в кресле» как редчайшее сокровище хранилась в глубокой тайне её неизвестным обладателем, пока в конце XVII века не всплыла неожиданно на свет, оказавшись в частной коллекции Медичи и став её подлинным украшением.
Вскоре появилась с той же моделью другая картина, так называемая «Мадонна у занавеса» (Мюнхен, Старая пинакотека), несколько уступающая по композиции и колориту предыдущей, но оставляющая сильное впечатление. Недаром за обладание ею соперничали, набавляя цену, испанец Филипп II и английская королева, пока она не оказалась у баварского курфюрста Людвига.
Последняя фреска Рафаэля в Станце Илиодора повествует об историческом событии, когда папе Льву I Великому удалось остановить под Римом вторгшиеся полчища гуннов во главе с Аттилой. Картина вполне созвучна по динамизму «Изгнанию Илиодора». В центре верхом на вороном коне предводитель гуннов с короной на голове. Разумеется, в его образе запечатлён главный враг Рима французский король Людовик XII. Его норовистого рысака за уздцы удерживает слуга, правее двух вздыбившихся коней с всадниками с трудом останавливают подбежавшие воины, а позади полчище вооружённых до зубов гуннов. На холме Монте-Марио полыхает подожжённый ими замок, а вдали видны очертания римского Колизея.
На белой лошади восседает папа Лев X в высокой тиаре и красной мантии поверх светлой рясы. Повелительным жестом он останавливает Аттилу, то бишь Людовика XII. За папой верхом следуют высшие иерархи. Кульминацией момента является внезапное появление в небе в стремительном полёте апостолов Петра и Павла в красных развевающихся на ветру одеждах; в руке у каждого меч, что вызвало смятение в стане противника.
Это первое изображение папы Льва X. Картина была задумана ещё при жизни Юлия. В последний момент Рафаэль заменил его изображение с бородой портретом нового папы с рыхлым невыразительным лицом. Но Лев X увидел себя на фреске героем, облачённым божественной властью и способным одолеть любую силу. Отныне он полностью доверял Рафаэлю и не мог без него обойтись, постоянно нуждаясь в его присутствии. Ещё бы, ведь искусство Рафаэля придавало некое достоинство двору Льва X, погрязшему в эпикурействе.
После того как Леонардо уехал во Францию и Микеланджело покинул Рим, главной фигурой всей художественной жизни стал Рафаэль. Все крупные заказы проходили через него, что вызывало недовольство обойдённых вниманием. Но пока недовольные спорили по поводу того или иного решения, Рафаэль по заказу люксембургского протонотария Иоганнуса Горитца написал в римской церкви Сант-Агостино на третьем пилястре центрального нефа мощную фигуру пророка Исайи в окружении двух миловидных путти, держащих табличку с посвящением на греческом языке. Правой обнажённой до локтя рукой он держит полосу пергамента с надписью на иврите из Книги пророка Исайи (гл. XXVI, 2): «Отворите врата; да войдёт народ праведный, хранящий веру». Сама его фигура, полная динамики, придаёт большую силу словам, взятым из его книги и обращённым к каждому входящему в эту церковь. Исайя облачён в голубую тунику со множеством складок. Оранжевый плащ, покрывающий часть головы, от резкого движения фигуры ниспадает складками у ног. Проникновенный взгляд и мощная фигура Исайи впечатляет и в чём-то даже превосходит пророков на плафоне Сикстинской капеллы, что в своё время вызвало недовольство Микеланджело, обвинявшего Рафаэля в плагиате.
Небольшая фреска поражает мощной пластикой и ярким колоритом. На её освящение съехалась вся римская знать, чтобы полюбоваться новым творением мастера. За знатью потянулись простые римляне, которым имя Рафаэля было хорошо известно. Это событие не мог обойти вниманием и Агостино Киджи, так как церковь носит имя его небесного покровителя. По такому радостному поводу банкир устроил приём в зале Галатея дворца Фарнезина, во время которого вновь поразил гостей роскошью сервировки стола и изысканностью яств. Неожиданно зашёл разговор о фреске Рафаэля в этом зале. Кто-то из гостей вспомнил дистих из «Стансов» Полициано:
— Что и говорить, — согласился Бембо, — в Галатее столько красоты и поэзии, что перед ней меркнет всё, включая Полифема со свирелью, смахивающего, кстати, на хозяина дома. Вы не находите?
С его мнением согласились все остальные. Когда об этом узнал Дель Пьомбо, в нём вспыхнула скрытая зависть, переросшая во вражду. В ходе приёма хозяин дома уговорил Рафаэля подумать о росписях в только что отстроенных по проекту Перуцци двух новых залах дворца. Ему невозможно было отказать, хотя Рафаэля ждала работа по завершению росписи в ватиканских станцах, к которым он всё более охладевал, поручая написание отдельных сцен ученикам, но неизменно внося в написанное и добавляя что-то своё. Делал он это с присущей ему деликатностью, стараясь не задеть самолюбие старательного исполнителя, благодаря чему в мастерской всегда царил дух товарищества и взаимной поддержки.
Рим жил своей жизнью, целиком зависящей от папского двора, где, казалось, празднествам не было конца. Их главной движущей силой был всесильный кардинал Биббьена, непревзойдённый мастер по организации спектаклей, турниров, приёмов и прочих увеселений. Центром театральной жизни стал дворец Канчеллерия, приобретённый кардиналом Риарио благодаря крупному карточному выигрышу у кардинала Чибо, племянника папы Иннокентия VIII и родственника Биндо Альтовити, с которым Рафаэль поддерживал дружеские отношения.
Внутренний двор дворца был оформлен Браманте для театральных представлений со сложным сценическим оборудованием. На одном из спектаклей благодаря неожиданному курьёзному случаю Рафаэль познакомился с Томмазо Ингирами, учёным и директором ватиканской библиотеки. В тот день давали трагедию Сенеки «Федра». Во время спектакля вдруг не сработала deus in machina. Наступила заминка, и публика зашикала, воззрившись на сидящего в кресле на возвышении папу Льва X, который начал терять терпение. Тогда из зала поднялся на подмостки полноватый человек и принялся читать страстный монолог Федры. Зал затих, поражённый вдохновенным чтением, исполненным подлинного артистизма. Зрители наградили смельчака, спасшего положение и заполнившего вынужденную паузу, громом аплодисментов. Эта история обрела широкую известность, а её герой Ингирами с той поры получил прозвище «Федра».
Рафаэль подружился с Федрой Ингирами, оказавшимся скромным добряком несмотря на свою феноменальную начитанность и знания, что особенно привлекало в нём Рафаэля, и вскоре написал его портрет (Флоренция, Питти), пополнивший блистательную галерею римских портретов. Сорокалетний библиотекарь и учёный изображен за рабочим столом с книгами и чернильницей, облачённый в красное одеяние, подпоясанное светлым кушаком, и такую же шапочку на голове. Ингирами о чем-то задумался, держа перо наготове. Взор его раскосых глаз навыкате обращён кверху, словно в ожидании откровения свыше. Рафаэлю удалось запечатлеть на портрете этот удивительный миг творческого озарения во время позирования.
Ингирами немало рассказал молодому другу художнику о нравах ближайшего папского окружения. Лев X не особенно утруждал себя пастырскими обязанностями, проводя время в праздности. Единственной его заботой было появление каждое воскресенье в окне Апостольского дворца и обращение к народу, собравшемуся на площади Святого Петра, с традиционной молитвой Agnus Dei. Но по сообщениям своих советников, папа был обеспокоен повсеместным брожением умов, подрывающим устои Церкви, и в обнародованной им первой энциклике, составленной тем же Ингирами и другими теологами, Apostolici regiminis, не подлежащей обсуждению и обязательной к исполнению, он ополчился на некоторых философов и литераторов, отрицавших догму бессмертия души. Особенно досталось философу Помпонацци за его крамольнее взгляды.
В мастерскую к Рафаэлю как-то зашёл оказавшийся временно не у дел Эджидио да Витербо.
— Каждая новая метла метёт по-своему, — объяснил он своё удаление от папского окружения и посоветовал художнику быть осторожнее в беседах с друзьями-гуманистами, ибо двор настроен по-боевому, видя всюду крамолу.
Завершая с помощниками работу в Станце Илиодора, Рафаэль узнал, что с Браманте случился удар на встрече с подрядчиками прямо на стройплощадке. Бросив все дела, он побежал навестить старшего товарища и наставника. В комнате были какие-то люди и знакомый врач Джовио.
— После кровопускания больной пришёл в себя, но говорить пока не может. Лучше его не тревожить, — сказал Джовио.
Но Рафаэль решил хоть краем глаза взглянуть на беднягу. Увидев коллегу, Браманте знаком попросил подать ему картон и карандаш. Слабеющей рукой он написал: «Умоляю вас, не оставьте начатое мной…» и потерял сознание.
Усилия врачей не увенчались успехом, и 12 марта 1514 года Браманте не стало. По распоряжению Льва X он был погребён в гроте собора Святого Петра, являющемся усыпальницей пап и выдающихся лиц. Для Рафаэля смерть Браманте была невосполнимой утратой. Он проработал с ним бок о бок шесть лет, почерпнув много ценного, что позволило ему вплотную приобщиться к архитектуре. Браманте не раз приглашал его на строительную площадку, чтобы показать какое-нибудь новшество. Однажды Рафаэль, набравшись смелости, познакомил его со своим макетом собора, каким он ему представлялся. Словно предчувствуя свой конец, Браманте сказал тогда:
— Если что-нибудь со мной случится, прошу лишь об одном — близко не подпускайте к проекту наглеца Сангалло!
Неприязнь Браманте к архитекторам Сангалло Рафаэль не разделял, но своего мнения не высказывал, чтобы не раздражать мастера. Он привязался душой к старому архитектору и горько скорбел по поводу его кончины.
Осиротевшая стройка не могла оставаться без хозяина — уж очень много лиц было в ней заинтересовано, а на возведение христианской святыни были отпущены огромные средства и каждому не терпелось урвать кусок пожирнее. По указанию папы расходование средств взял под свой контроль верный ему кардинал Биббьена, который по-дружески попросил Рафаэля присматривать исподволь за стройкой.
— Его Святейшество возлагает на вас большие надежды, а пока приглядитесь к Антонио Сангалло, племяннику наших знаменитых братьев архитекторов, которого я направил на стройку вам в помощь.
Памятуя о наказе покойного Браманте, Рафаэль все же не мог выступить против такого решения, сознавая, сколь сильна при дворе флорентийская партия. Её представители заполонили весь двор, заняв ключевые посты. Даже прислуга была вся как на подбор заменена выходцами из Тосканы.
В последнее время он близко сошёлся с престарелым фра Джокондо, приглашённым ещё папой Юлием в помощь Браманте. Ему близки были рассуждения и глубокие знания старого зодчего, когда речь заходила о делах на стройке собора Святого Петра. Однажды фра Джокондо посоветовал Рафаэлю:
— Обратитесь, молодой человек, к старику Витрувию, и тогда многое для вас прояснится.
Вняв его совету, Рафаэль с помощью друга Ингирами обзавёлся трудом Витрувия De Architectura и, проведя за чтением пару дней, понял, что с его знаниями латыни ему не одолеть сей труд. Вскоре он переехал со всей командой во дворец Каприни рядом с Ватиканом, заплатив владельцам огромную сумму. Дворец построен по проекту Браманте, которым великий зодчий так и не воспользовался (здание было снесено во время строительства на площади Святого Петра колоннады Бернини).
В новом доме появился по рекомендации друзей старый гуманист, филолог и философ Марко Фабио Кальво. Поражённый великолепием жилища художника учёный-стоик, привыкший жить в добровольном затворничестве, попросил выделить ему самое спокойное помещение и засел за работу. Как докладывал из Рима своему патрону феррарский посол, «Рафаэль заботится об учёном Кальво как о своём учителе или отце родном и во всём с ним советуется».
Это были счастливые дни в жизни Рафаэля, когда после трудов праведных в ватиканских станцах он покидал папский двор с царившей в нём суетой и возвращался к себе во дворец Каприни, где мог спокойно обдумать очередной сюжет для картины, а главное, продолжить с учёным мужем беседы об архитектуре, о пропорциях объёмов или происхождении коринфских колонн с капителями в акантовом обрамлении. В неспешных пояснениях Кальво было столько житейской мудрости и спокойствия, что Рафаэль забывал о всех дворцовых неурядицах. Это были незабываемые вечера, полные гармонии и поэзии.
К 15 августа перевод Витрувия с латыни на разговорный язык vulgo был завершён, а незадолго до этого в папской булле от 1 августа, составленной другом Бембо, Рафаэль был назван главным архитектором собора Святого Петра. В частности, в том историческом документе сказано: «Известно, что кроме искусства живописи, благодаря которому вы обрели во всём мире славу величайшего художника и были привлечены к архитектуре Браманте, а он перед смертью справедливо указал именно на вас как продолжателя начатого строительства в Риме собора Святого Петра, и вы смогли подтвердить это, представив макет будущего храма. Поскольку у нас нет большего желания, чем по возможности скорее увидеть завершение строительства храма во всём его величии, мы назначаем вас главным архитектором этого начинания с годовым жалованьем в 300 золотых скудо…»57
Встречи с математиком Пачоли, флорентийскими архитекторами Кронакой, Баччо д’Аньоло и тесная связь с Браманте, с которым Рафаэль общался в Риме чуть ли не ежедневно, — всё это явилось для него великой школой приобщения к искусству зодчества.
Новое назначение требовало от Рафаэля следить за ходом дел на стройке собора Святого Петра и часто встречаться для решения финансовых вопросов с главным казначеем кардиналом Биббьеной, от которого многое, если не всё, зависело в Риме. Дорвавшись до власти и подчинив своей воле нерешительного папу Льва, тщеславный Биббьена хотел от молодого художника лишь самую малость: женить его на своей племяннице и быть запечатлённым им на портрете для потомства.
Обосновавшись во дворце рядом с папскими покоями, он захотел также, чтобы Рафаэль расписал его ванную комнату, получившую в литературе название stujfetta. Культ воды древнеримских патрициев прочно вошёл в моду, и кардинал в своей cayne-calidarium пожелал принимать ванну в окружении глядящих на него персонажей греческой мифологии, которых выбрал он сам. Это прежде всего Венера, Купидон и резвящиеся амуры с наядами.
— Но боже упаси, — предупредил Биббьена, — никаких вольностей и двусмысленностей а-ля Пинтуриккьо, Со́дома и иже с ними! Впредь с этим мы не будем мириться.
В небольшой ванной комнате (3,2x2,5 метра) с нишей Рафаэль впервые применил античную технику росписи энкаусто, когда краски размешиваются горячим воском, что придаёт эффект бархатистости поверхности. Написанные поверх тёмно-красного грунта картины живо напоминают живопись древнеримских мастеров, обнаруженную среди руин дворцов и в гротах римских терм с обилием затейливых орнаментов, называемых «гротесками». Большая часть сцен написана учениками по эскизам мастера. В 1520 году после смерти кардинала Биббьены его stuffetta была превращена в часовню, стены обшиты деревянными панелями, а плафон обтянут полотном.
Великий мастер импровизации и жонглирования обстоятельствами Биббьена дважды устроил «случайную» встречу художника со своей племянницей Марией в театре, а в другой раз на великосветском приёме. Худосочная рыженькая девица не произвела на Рафаэля впечатления, но на свою беду дурнушка влюбилась без памяти в красивого художника. Выросшая в глухой провинции и оказавшаяся в столице девушка была вынуждена одеваться по моде и учиться светским манерам. Часто она терялась и краснела, не понимая от волнения, о чём её спрашивают. Обменявшись с ней парой слов, Рафаэль успел проникнуться к ней лишь жалостью. Одна только мысль, что в награду за вымученное согласие жениться на племяннице всесильного кардинала он может получить ещё более высокую должность в дворцовой иерархии, вызывала у него раздражение и желание бежать от всего этого куда подальше.
Но следует также признать, что, пожалуй, впервые в истории перед художником открывалась перспектива вырваться благодаря этой сделке из вековой зависимости от власть имущих и оказаться в привилегированном социальном сословии, приравненном по положению к сильным мира сего. Ему вспомнились матримониальные терзания Кастильоне, и так не хотелось их испытывать самому. В то время друг находился в отъезде, и Рафаэлю его явно недоставало, чтобы обменяться мнением по поводу бурно развивающихся римских событий. Поделившись с ним новостью о своём назначении, вознесшем его на невиданную высоту, он искренне признался в письме, что опасается, как бы ни пришлось повторить полёт Икара, и хотя Витрувий вносит ясность, но этого пока недостаточно. Рассказывая о своих делах и сомнениях, Рафаэль решил умолчать о происках Биббьены, дабы не задевать больную струну Кастильоне.
Так получилось, что его холостяцкое положение и вес в обществе стали изрядно занимать родных и близкое окружение, хотя свои амурные увлечения он особенно не скрывал и в его доме часто можно было видеть молоденьких натурщиц. Об этих событиях Рафаэль оповестил дядю Симоне Чарла, который усиленно сватал его к предложенной его другом Буффой девушке из «приличного семейства».
Приведём обстоятельное письмо племянника с небольшими купюрами и в соответствии с нормами современного итальянского языка. Оно датировано 1 июля, когда назначение на пост главного архитектора уже витало в воздухе.
«Дорогой дядя, любимый как отец!
Полученное мной Ваше письмо было особенно мне дорого как доказательство, что Вы на меня не сердитесь. По правде говоря, у Вас не должно быть повода сердиться, ибо писать по пустякам не стоит, а теперь накопилось немало, о чём я должен Вам сказать.
Прежде всего, что касается женитьбы. Я бесконечно рад, что не взял в жёны ни ту, что Вы советовали, ни никакую другую, за что постоянно благодарю Небо. Думаю, что в этом смысле я оказался мудрее Вас. Уверен, Вы согласитесь со мной в том, что поступи я тогда по-Вашему, то не оказался бы в Риме и не достиг бы того, что имею. Здесь у меня три тысячи золотых дукатов и пятьдесят золотых скудо ренты. Кроме того, Его Святейшество назначил мне жалованье в триста золотых дукатов за руководство работами в строящемся соборе Святого Петра, и оно будет увеличиваться. Пока я жив, такого не смогу заработать никогда и нигде…
На днях я начал расписывать другую станцу для папы на общую сумму работ в тысячу двести золотых дукатов. Тем самым, дорогой дядя, я делаю честь Вам, всем родственникам и моему родному городу. Я несколько отклонился от темы женитьбы и тут же хочу Вам доложить, что кардинал Биббьена хочет предложить мне в жёны одну свою племянницу. На днях я пообещал выполнить пожелание Его Преосвященства при согласии дяди священника и Вашем. Я не могу не сдержать слова, и мы близки к решению, и скоро сообщу Вам обо всём. Наберитесь терпения, пока этот важный вопрос не будет решён так или иначе…
Что касается моего пребывания в Риме, признаюсь, что никогда уже не смогу жить где-либо в другом месте даже короткое время. Причина тому строительство Святого Петра, где я занял место Браманте. Но существует ли на свете более великий город, чем Рим? Имеется ли более достойное дело, нежели возведение Святого Петра, являющегося первым храмом мира?
Это будет самое крупное строительство, когда-либо виденное. Оно обойдётся более чем в миллион золотом, и папа уже распорядился ежегодно выделять шестьдесят тысяч золотых дукатов. В помощь мне приставлен один знающий монах, которому за восемьдесят, с тем чтобы я познал, пока он жив, все тайны ремесла и под конец не нуждался ни в чём, став мастером в этом искусстве. Его зовут фра Джокондо. Каждый день папа призывает нас к себе и подолгу беседует с нами по многим вопросам строительства.
Прошу Вас, сходите к герцогу и герцогине. Расскажите им обо всём этом. Пусть они знают, чем занят их бывший подданный… Ваш Рафаэль, художник из Рима».58
Для него было важно успокоить дядю и немного заинтриговать предложением кардинала Биббьены, а главное, сохранить свободу, чтобы всецело отдаться любимому делу. Надо было выбросить из головы дядины благоглупости. Как и большинство обывателей, дядя считал, что для мужчины не может быть более ответственного дела, чем выгодная женитьба и зарабатывание денег, хотя сам, бедняга, так и остался закоренелым холостяком, скромно живущим на небольшую ренту.
В письме Рафаэль ничего не сказал дяде о новом заинтересовавшем его заказе, который, как он надеялся, позволил бы ему исправить ошибки, вскрывшиеся при работе над «Положением во гроб» для Перуджи. Предложение поступило от крупного сицилийского латифундиста барона Якопо Базилико, который в память о безвременно умершей дочери возводил в Палермо церковь в испано-готическом стиле Санта-Мария делло Спазимо (от ит. spasimo — страдание, печаль) для монастыря оливетанского монашеского ордена. Посетив Рафаэля в мастерской по рекомендации кардинала Риарио, несчастный отец сумел уговорить художника принять заказ. Он был так безутешен в своём горе, что Рафаэль не смог ему отказать и отправил в Палермо одного из подмастерьев, чтобы снять нужные замеры в храме для будущего образа.
Картина предназначалась для главного алтаря церкви, поэтому ей придана вытянутая по вертикали форма, что создавало немалые трудности для художника при написании многофигурной композиции, один только передний план которой насчитывает около двадцати персонажей. Картина, названная «Путь на Голгофу» (Мадрид, Прадо), повествует о том, как на пути к месту казни Христос неожиданно упал под тяжестью креста. Сцена полна движения и драматизма, усугубляемого противопоставлением тонов красного, зелёного, серого и белого. Упавший Христос, опершись на камень, поднял лицо в кровоподтёках и обратил полный сострадания и боли взор к страждущей Матери. В его взгляде, мастерски запечатлённом Рафаэлем, отражена вся боль человеческая.
Деву Марию поддерживают Марфа и Мария, сёстры друга Лазаря, Магдалина и Иоанн Богослов, чьи лица полны скорби. Симон Киринеянин приподнимает обеими руками крест, чтобы вызволить споткнувшегося Христа, бросая гневный взгляд на его палачей. Замыкает шествие группа вооружённых всадников. На их лицах искреннее удивление, что за свои убеждения человек готов идти на муки. Впереди центурион на гнедом коне обернулся, кинув бесстрастный взгляд на замешкавшуюся колонну. В его руке древко знамени с начертанными буквами S.P.Q.R., означающими «сенат и народ римский».
Чуть выше дорога изгибами вдоль холмов с редкими деревьями ведёт к Голгофе, где уже водружены два креста. Лучи заходящего солнца освещают толпы людей, направляющихся к месту казни. Нет ничего лишнего — всё подчинено воспроизведению одного из самых трагических событий в истории христианства.
У этой великолепной картины необыкновенная судьба. Корабль, который увозил её из порта Остии в Палермо, во время разразившейся на море бури напоролся на риф и затонул. Погибли все — люди и груз. Считалось, что корабль пропал без вести. Однако через некоторое время из Генуи пришло сообщение, что там волнами прибило к берегу странный ящик. Когда рыбаки, выловившие его, вскрыли ящик, в нём оказалась в целости и сохранности картина Рафаэля. В это трудно было поверить, и генуэзцы приписали спасение картины чуду, устроив по этому поводу благодарственный молебен и шествие с картиной. О случившемся слух разнёсся по всему Риму, вызвав всеобщее ликование, и многие заговорили наперебой о чудодейственной силе творения Рафаэля, перед которым оказалась бессильна даже морская стихия. Весть как снежный ком обрастала всё новыми самыми невероятными подробностями, приумножая славу «божественного» творца.
Настоятель церкви Санта-Мария делло Спазимо, узнав о спасённом алтарном образе, потребовал его вернуть. Генуэзцы всячески упирались, доказывая, что сама стихия повелела, чтобы образ принадлежал им. Только по настоянию самого папы Льва X картина была возвращена её владельцам. На этот раз её доставили к месту назначения по суше с остановкой в каждом городе, где перед образом совершались богослужения при огромном стечении народа. Но в XVII веке картина была выкрадена по приказу испанского короля Филиппа IV и оказалась в Мадриде. И это неудивительно, поскольку испанцы считали Сицилию своей вотчиной и вытворяли на ней всё, что вздумается. На этом злоключения картины не закончились, и во времена Наполеона она оказалась в Париже, где была перенесена с дерева на холст и значительно подпорчена.
Глава XIX УРОКИ ВИТРУВИЯ И БРАМАНТЕ
Назначение на пост главного архитектора собора Святого Петра Рафаэль воспринял с радостью, сознавая, что иного решения и быть не могло из-за критического возраста фра Джокондо, который более чем кто-либо достоин этой должности. Но и он не был обойдён папской милостью, получив официально должность magister operis, то есть руководитель работ. Ответственность была велика, но разве не об этом думал Рафаэль в своих дерзновенных мечтаниях стать первым в Риме?
Само это назначение явилось для многих подлинной сенсацией, вызвав недоумение. Но только не для Агостино Киджи, для которого Рафаэль успел реконструировать подаренную покойным папой Юлием часовню в церкви Санта-Мария дель Пополо и спроектировать так называемую «Конюшню» для ста лошадей при дворце Фарнезина, где стойла закрывались раздвижными декоративными панелями, и продолговатое помещение превращалось в залитый светом, льющимся из плафона, зал, где хозяин дома, любивший поражать своих гостей сюрпризами, закатывал балы и банкеты. По завершении застолья панели легко раздвигались, собираясь в гармошку, и перед сотрапезниками возникали лошадиные морды у кормушек, вызывая поначалу замешательство, а затем бурный восторг. Чудачества банкира не переставали удивлять римлян.
К тому времени команда тридцатилетнего художника пополнилась новыми помощниками, а Джулио Романо, Франческо Пенни, Перин дель Вага и Джованни да Удине стали настоящими мастерами. К ним добавились Раффаэллино дель Колле и Полидоро да Караваджо. Такое обилие учеников и подмастерьев мог себе позволить только Рафаэль, занимавший привилегированное положение при дворе. Наиболее подготовленные помощники были подключены к новой работе с чертежами, а некоторых подмастерьев он отрядил на юг Италии и в Грецию для зарисовок с натуры отдельных памятников античной архитектуры.
В римской художественной среде было много разговоров о новом назначении Рафаэля. Но удивляясь такому резкому взлёту, многие не учитывали того, что за четыре года юный урбинец прошёл великую школу во Флоренции, внимательно изучая творения основоположников архитектуры Раннего Возрождения Брунеллески, Альберти и Гиберти. Под влиянием искусства Леонардо и Микеланджело молодой художник от станковой живописи стал переходить к живописи монументальной, всё ближе соприкасаясь с архитектурой и расширяя своё понимание искусства. Стоит также иметь в виду, что на должность главного архитектора собора Святого Петра его рекомендовал великий Браманте.
Когда в новом качестве Рафаэль появился на стройке, первый, кого там встретил, был приставленный ему в помощь Антонио Сангалло-младший, его ровесник. Вынув из папки чертежи, он принялся горячо доказывать, что прежний проект никуда не годится и должен быть решительным образом отвергнут как ущербный. Рафаэль никак не ожидал столь резкого начала разговора, хотя сознавал, что разработанный Браманте проект собора в форме греческого креста с абсолютной симметрией по двум осям нуждается в дальнейшей доработке, но вовсе не должен быть перечёркнут как таковой.
— Коллега, — спокойно сказал он, выслушав Сангалло, — прежде чем отвергать, представьте ваши соображения, и тогда станет ясно, кто прав.
Отношения с Сангалло не сложились с первых дней, поскольку тот так и не смог предложить ничего дельного, кроме огульной критики. Проект Браманте был глубоко продуманным до мелочей и целостным, передающим идею движения, и его переделка представлялась Рафаэлю чрезвычайно сложной. Он понимал, что необходимо придать собору, как того требовала традиция, более привычную для богослужения базиликовую форму латинского креста за счёт присоединения к основному ядру удлинённой трёхнефной западной входной части, ограниченной прямоугольными очертаниями. Такой, более спокойный облик соответствовал натуре самого Рафаэля. Он набросал рисунок фасада собора, каким тот ему виделся.
Несмотря на открытое противодействие со стороны самонадеянного флорентийца, Рафаэлю удалось в течение четырёх лет укрепить основание. Он сдерживал пыл помощника и терпел его на стройке, поскольку самому приходилось заниматься множеством других неотложных дел и проектов. Фактически его участие в возведении собора Святого Петра ограничилось только проектированием, которое он успел завершить, а четыре мощные опоры для купола, возведённые Браманте, так и остались возвышаться над стройкой. После смерти Рафаэля все его начинания были сведены на нет Сангалло, и в течение четверти века стройка была в руках флорентийцев — непримиримых противников Браманте и Рафаэля, и по сути дела мало что было сделано путного. Когда проект достался другому сопернику-флорентийцу — Микеланджело, тот, надо отдать ему должное, после внимательного изучения и вопреки питаемой неприязни к Браманте вернулся к его идее, более соответствовавшей своей порывистой натуре, не терпевшей плавных спокойных линий. Позднее в письме флорентийскому скульптору Амманати он признал: «…должно согласиться, что Браманте понимал архитектуру не хуже кого бы то ни было из мастеров, живших от времён древности до наших дней».
Тем временем события приняли неожиданный оборот. В начале 1515 года умер Людовик XII и власть наследовал не отказавшийся от притязаний на итальянские земли Франциск I, который первым делом принялся укреплять позиции в Милане и Ломбардии. Медлительный Лев X, которого покойный Юлий в шутку называл «Его преосвященская Осторожность», на сей раз стал действовать решительно, заботясь прежде всего об усилении своего семейного клана. Так, кардинал Джулио Медичи, внебрачный сын дяди Джулиано, брата Лоренцо Великолепного, убитого во время заговора Пацци, намечался им на пост короля Неаполя, где испанский правитель не пользовался поддержкой. Больной чахоткой родной брат Джулиано заменил герцога Франческо Мария делла Ровере на посту главнокомандующего папским войском, а племянник Лоренцино, сын утонувшего старшего брата Пьеро Медичи, должен был стать новым владельцем Урбинского герцогства. Когда-то кардинал Джованни Медичи выгородил убийцу кардинала Алидози, добившись его оправдания, но теперь, став папой, он мог с полным правом припомнить ему былое и лишить его владений, вернув их под юрисдикцию Ватикана.
Между Римом и Парижем начались переговоры. Обе стороны были заинтересованы в налаживании добрососедских отношений, поскольку военные расходы опустошали казну. К тому же и новый французский король и новый папа слыли ценителями искусства. Была достигнута договорённость о встрече в верхах на нейтральной территории во вновь обретшей независимость Болонье. В предварительных переговорах приняли участие кардинал Биббьена и граф Кастильоне. Когда через них стало известно, что король Франции изъявил желание получить в дар скульптурную группу Лаокоон, Лев X не мог удержаться от смеха, подхваченного придворными:
— Губа не дура — ишь чего захотел!
Но желание короля, ценителя прекрасного, необходимо было удовлетворить во имя укрепления добрых отношений между двумя правителями. В ходе обсуждения деликатного вопроса, к которому был привлечён и Рафаэль, было решено отправить в Париж гипсовый слепок, объяснив, что хрупкая скульптура при перевозке может развалиться на части. Решено было взамен неё отправить точную гипсовую копию с приданием ей вида и прочности подлинного мрамора. Технология такого гипса была разработана в мастерской Рафаэля и держалась в строгом секрете. Считается, что её изобретателем был Джованни да Удине, любивший повозиться с разными смесями для грунтовки и декоративного стукко. Вскоре началась работа по изготовлению копии Лаокоона, к которой была привлечена мастерская Рафаэля.
Тем временем возведение собора Святого Петра осложнялось — не только противодействием Сангалло любому предложению по укреплению свай фундамента, забитых при Браманте, но и частой нехваткой средств для оплаты рабочих, так как Лев X несколько урезал ассигнования в преддверии намечаемых военных действий против урбинского герцога, отказавшегося прибыть в Рим для улаживания спорных вопросов. Франческо Мария делла Ровере ослушался приказа, чувствуя, что дело может обернуться для него заточением в подземный каземат замка Святого Ангела, где он однажды уже побывал. Вместо себя он уговорил отправиться в Рим на переговоры сводную мать герцогиню Елизавету Гонзага. Она была трижды принята Львом X, но её миссия оказалась безуспешной, несмотря на напоминание папе о заботе и внимании, которыми был окружён гостивший в Урбино его брат Джулиано Медичи, скончавшийся от чахотки. Герцогиня напомнила также папе, что перед смертью его брат просил оставить в покое славное герцогство. Но Лев X был неумолим, памятуя о неблаговидной роли бывшего хозяина Урбино и деда нынешнего правителя в организации заговора Пацци. Ему не терпелось передать бразды правления герцогством племяннику Лоренцо Медичи.
Праздная жизнь двора опустошала казну, и для сбора средств папа учредил так называемую «пленарную индульгенцию» отпущения всех грехов, что вызвало бурю протеста за Альпами, где такие индульгенции прозвали «масляными», поскольку купившему их разрешалось в пост употреблять скоромную пищу, а за большую сумму можно было снять грех даже за убийство. С гневными проповедями против торговли индульгенциями выступил августинский монах Мартин Лютер, но его не поддержал немецкий епископат, а тем паче папские теологи, обосновавшие юридическую и моральную законность замены церковной епитимии деньгами. Тогда в день церковного праздника 17 октября 1517 года Лютер прибил на вратах Замковой церкви в Виттенберге свои девяносто пять тезисов, вызвавших бурю и породивших раскол в христианском мире. Они стали антикатолической программой новой церкви — лютеранства. Европа оказалась на пороге войн на религиозной почве.
Как сообщил Рафаэлю старый друг Эджидио да Витербо, последние вести из Германии возмутили Римскую курию, и папе было предложено отлучить Лютера, у которого появилось множество сторонников, от Церкви. Но нерешительный Лев X, как всегда, медлил, заявив кардиналам:
— Вспомните, как папа Борджиа отлучил от Церкви Савонаролу, а что из этого вышло? Число единомышленников монаха-раскольника не уменьшилось. Поднятый Лютером шум сам по себе скоро затихнет. Верю, что в Германии найдутся силы, способные заткнуть рот этому крикуну.
Льву X, слывшему покровителем учёных и искусства, не хотелось выглядеть в глазах Европы эдаким душителем свобод. В тот момент его занимало другое. Ему доложили о готовящемся заговоре некоторых влиятельных лиц, включая двух кардиналов Петруччи и Кастеллези, недовольных политикой симонии, праздности и расточительства. Особо следует выделить Адриано Кастеллези, перу которого принадлежит опубликованный в 1514 году философский труд De vera philosophia ex quattuor doctoribus ecclesiae, являющийся злобным выпадом против культуры и искусства Возрождения. Это тот самый кардинал, которому предназначался отравленный кубок вина, доставшийся по ошибке папе Борджиа. Заговор был раскрыт и его участники, включая одного из папских врачей, казнены. К заговору оказался косвенно причастен престарелый кардинал Риарио, кузен покойного папы Юлия. Но ему удалось откупиться, внеся в казну крупную сумму, и дело было закрыто.
Иная участь постигла правителя Перуджи, упоминавшегося ранее злодея Джан Паоло Бальони, который в отличие от Франческо Мария делла Ровере, потерявшего власть, но оставшегося в живых, поверил папе и прибыл по его приказу в Рим, где сразу же оказался в замке Святого Ангела и был обезглавлен за все свои нынешние и былые преступления.
Породнившись с архитектурой, Рафаэль осуществил несколько значительных проектов, проявив незаурядные способности зодчего, развитые в нём не без участия Браманте, который однажды показал ему своё первое творение в Риме у подножия холма Яникул — небольшой храмик или Tempietto круглой формы, окаймлённый шестнадцатью колоннами дорического ордена во дворе францисканской церкви Сан-Пьетро ин Монторио, где, по преданию, святой Пётр принял мученическую смерть. Это было подлинное чудо, Tempietto так и просился быть накрытым стеклянным колпаком как подлинная драгоценность, дабы уберечься от непогоды. Рафаэль был приятно удивлён разительным сходством этого чуда со своей изящной ротондой, которая венчает его картину «Обручение», написанную ещё в Читта́ ди Кастелло и вызвавшую тогда резкое неприятие старины Перуджино.
Первым проектом Рафаэля была церковь Сант-Элиджио дельи Орефичи на набережной Тибра для богатого цеха ювелиров, имеющая форму греческого равноконечного креста, идею которого он почерпнул у Браманте. За ним последовал проект дворца Видони (Каффарелли) рядом с церковью Сант-Андреа делла Валла, с ярко выраженным пластическим контрастом между массивным рустованным первым этажом и лёгкими оконными проёмами второго этажа с парными колоннами в три четверти тосканского ордера, что заставило говорить о Рафаэле как о новом ищущем зодчем, на чьи проекты неожиданно возрос спрос.
Напротив замка Святого Ангела на другом берегу Тибра пролегала небольшая улица Деи Банки, где располагались деловые конторы. В 1515 году банкир Альберини поручил Рафаэлю спроектировать на приобретённом им участке земли доходный дом. Этот район был ему хорошо знаком, ведь он когда-то поселился по рекомендации флорентийского друга Таддеи в доме 112 по улице Коронари. В цокольной части здания, наиболее выгодной для получения дохода, расположены разделённые арками просторные помещения под конторы, сдаваемые внаём. Второй и третий этажи украшены пилястрами и мощными карнизами, придающими строению более импозантный вид. По проекту фасад из камня и кирпича был дополнен полихромными вставками из ложного мрамора и такой же декоративной лепниной.
Не менее значительным по внесённой Рафаэлем новизне в архитектуру был дворец, построенный близ собора Святого Петра для Бранконио дель Аквилла, богатого коллекционера-нумизмата, ставшего папским камерленгом. Но как и детище Браманте дворец Каприни, он был снесён при возведении колоннады Бернини. В одном из архивных документов о нём говорится как о самом величественном здании, когда-либо построенном в Риме и явившемся синтезом трёх искусств — архитектуры, живописи и скульптуры.
Фасад первого яруса с широким карнизом украшен колоннами и арками. Его верхняя часть представляет собой единую поверхность, ритмично расчленяемую горизонтальными тягами, оконными проёмами с чередующимися полуовальными нишами и разнообразием стукковых рельефов и орнаментальных мотивов. В центре этого великолепия герб дома Медичи с шестью медицейскими шарами, а по бокам рельефные медальоны с изображением великих представителей ренессансной культуры, среди которых узнаваемы Козимо и Лоренцо Медичи, члены Платоновской академии Фичино, Полициано и другие великие умы, чьи портреты были дороги и чтимы заказчиком-нумизматом. Фасад этого дворца представлял собой смелое использование классического ордера с виртуозным распределением колонн, карнизов, ниш, тимпанов и других элементов декора.
Следивший за работами Рафаэля-архитектора папа Лев X заказал ему загородную виллу на холме Монте-Марио, заросшем виноградниками. Это одно из блестящих творений Рафаэля, отмеченное широким пространственным решением с объёмно-пластическими формами при учёте природной среды. Задуманный им дворцово-парковый ансамбль с распланированным садом и изящными беседками террасами спускался к Тибру. Там были предусмотрены театр под открытым небом и ипподром, где Агостино Киджи намеревался устраивать забеги своих арабских скакунов. Основные работы по архитектурному декору и фресковым росписям интерьера были выполнены учениками Джованни да Удине и Джулио Романо. Вот как сам Рафаэль описывает почти готовую виллу заказчику: «Из вестибюля попадаете во внутренний дворик-атриум круглой формы, украшенный шестью ионическими колоннами. Справа от виллы разбит фруктовый сад, посреди которого бьёт фонтан, питаемый из естественного источника. Окна внутреннего дворика застеклены, и в них поочерёдно от восхода до заката заглядывает солнце. Открывающийся с высоты холма вид на окрестности и Рим способствует созданию радостной атмосферы даже в зимнюю пору».59
В дни так называемого sacco di Roma, то есть римского мешка в мае 1527 года, вилла была разграблена и частично разрушена ландскнехтами Карла V. Позднее комплекс получил наименование Вилла Мадама, так как одно время там проживала дочь императора Маргарита.
Когда не стало фра Джокондо, папа своим указом от 27 августа 1515 года назначил «главным хранителем древности» Рафаэля, в чьи обязанности входили сохранность памятников Античности, надзор за археологическими раскопками и учёт всего найденного на римской земле, включая и её недра. В составленном Бембо папском breve говорилось: «Приказываем каждому, независимо от занимаемой должности или звания, благородного или низкого происхождения, сообщать прежде всего главному хранителю древностей о найденном мраморе и любых предметах в камне на означенной нами территории. Если в течение трёх дней кто-либо не представит сведения о находках, на того будет наложен штраф от ста до трёхсот скудо золотом».60
Первой проведённой им инспекцией была вилла императора Адриана в Тиволи под Римом, куда он отправился вместе с друзьями, о чём имеется упоминание в одном из писем Бембо. Кроме Кастильоне и Бембо в поездке приняли участие оказавшиеся в Риме два венецианских литератора Андреа Наваджеро и Агостино Беаццано. Следует отметить, что в свою первую инспекционную поездку он отправился не с археологами, а с литераторами и философами. Рафаэль подружился с венецианцами, так как Венеция не переставала его занимать, и для него было важно знать о последних новостях культуры и искусства лагунного города, где Тициан создавал свои творения, восторженные отзывы о которых доходили и до Рима.
— Наш друг Тициан наслышан о ваших работах, Рафаэль, — заявил Наваджеро во время поездки в Тиволи. — Должность главного живописца Венеции не позволяет ему пока посетить Рим и поближе познакомиться с вами.
Вскоре Рафаэль написал их двойной портрет (Рим, галерея Дория Памфили). Это был неофициальный портрет, за его написание он взялся из чисто дружеских побуждений, работа выполнена маслом на холсте. Поразительны резкий поворот головы Наваджеро с выделяющейся на тёмном фоне бычьей шеей и пристальный взгляд через плечо. Всё в нём говорит о натуре волевой и деятельной. Прямой противоположностью ему является его друг Беаццано с мягкими чертами лица и добрым взглядом. Работа отмечена благородной простотой исполнения, сдержанностью и тонкой психологической проникновенностью в суть двух учёных-филологов. И в дальнейшем при написании портретов друзей Рафаэль будет использовать холст и масло, что давало ему большую свободу для самовыражения.
Увлекшись новым назначением, Рафаэль принимал участие в некоторых раскопках, открыв для себя свой Рим, который являлся для него великим источником вдохновения, жизнеутверждения и любви. Наблюдавший однажды, с каким рвением Рафаэль руководил раскопками в термах Каракаллы и форума Траяна, один из ватиканских придворных, ставший личным секретарём папы, уже упоминавшийся Филипп Бероальдо разразился по такому поводу виршами — рифмоплётство в ту пору было повальным поветрием:
Неправ стихоплёт в сутане, и Рафаэлю многое оказалось тогда под силу. Он спас от варварского разрушения немало античных построек и элементов архитектурного декора, безжалостно уничтожаемых ради получения извести из мрамора. В известном письме папе Льву X, авторство которого подвергается сомнению, Рафаэль с болью пишет: «Рим, который теперь мы видим, при всей его обширности столь красивый и украшенный дворцами, церквями и прочими зданиями, весь целиком сложен на извести, добытой из античных мраморов… столько колонн испорчено, разбито пополам, столько архитравов и прекрасных фризов перебито на куски, что было бы преступно в наши дни это поддерживать. Поистине можно утверждать, что Ганнибал был куда милостивее других!»62 Осторожный Рафаэль остерёгся назвать имена этих «других» из ближнего папского окружения, которые строили себе дворцы и загородные виллы.
Форум и Колизей рассматривались ими как естественные каменоломни под рукой для дешёвой добычи мрамора, гранита, травертина, известняка. А сколько бесценных мраморных изваяний было превращено в известь! По всей вероятности, это послание — крик души — на нескольких страницах, в котором Льву X возносится хвала как мудрому ценителю прекрасного, было написано совместно с ловким льстецом и царедворцем Кастильоне. Да и сам стиль письма говорит об этом, а в одном из абзацев послания дважды промелькнуло местоимение «мы».
Производя инспекцию памятников Античности, Рафаэль составил топографическую карту Рима с нанесением на ней в перспективе зданий, арок, башен, колонн и других архитектурных элементов. До нас не дошли его рисунки восстановленных античных памятников, но сохранилось немало свидетельств современников. Вот что об этом писал видный учёный и папский нунций Челио Кальканьини своему другу философу Якобу Циглеру: «Как архитектор Рафаэль неутомим и неистощим в изобретении того, перед чем остановился бы величайший гений! Он досконально изучил Витрувия и способен на основании самых точных доказательств защищать его положения… Я скажу о том достойном удивления деле, которым он теперь занят и которое может показаться невероятным потомкам. Рафаэль восстанавливает на наших глазах древний Рим в его прежнем облике, во всей его античной красоте и в самых точных размерах, основывая свои работы на тщательных изысканиях, раскопках, измерениях фундаментов и снятых с руин планов; всё это подтверждается сведениями из Витрувия. Папа и весь Рим пришли в восторг, видя в Рафаэле ниспосланного небом божественного творца, способного вернуть Риму его былую красоту и величие».63
Большую помощь в изучении истории и археологии Рима Рафаэлю оказал друг Томмазо Ингирами, обладавший энциклопедическими знаниями. С ним Рафаэль советовался по многим вопросам римской Античности. Но к величайшему сожалению, учёного вскоре не стало — он умер от грудной жабы в возрасте сорока шести лет. Имеются два его почти идентичных портрета кисти Рафаэля: один — во флорентийской галерее Питти, другой — в бостонском музее Гарднер, куда он попал от потомков учёного из Вольтерры, где в патрицианской семье родился Ингирами.
Но не забывал Рафаэль и о другом многотрудном деле — продолжении росписей в ватиканских станцах, хотя следует признать, что с каждым годом его интерес к ним убывал. Прошло семь лет с тех пор, как он впервые появился в Ватиканском дворце, где познал почёт и славу. Но в последнее время всё это перестало приносить ему удовлетворение, поскольку он заранее знал, что надлежит делать дальше, и помимо воли рука механически водила карандашом или углём по картону, превращаясь в руку ремесленника, и можно было смело большую часть работ поручать ученикам, хорошо усвоившим его манеру. В воображении Рафаэля рисовались другие образы, не связанные с ватиканскими станцами. Но папский двор ждал от него всё новых свершений, и приходилось волей-неволей возвращаться к наскучившей ему заданной теме.
Первая фреска, написанная в третьем соседнем зале, называется «Пожар в Борго», она дала название самому залу. Все росписи в нём прославляют деяния пап каролингской эпохи Льва III и Льва IV. Согласно легенде, папа Лев IV потушил в 847 году своим благословением страшный пожар, опустошивший прилегающий к Ватиканскому дворцу многонаселённый квартал Борго. Поднявшийся сильный ветер способствовал распространению огня, и пламя уже угрожало собору Святого Петра. Этому чудодейственному событию посвящена одна из лучших работ Рафаэля по композиции, динамизму, колориту и пластике. Написание многих фигур было доверено ученикам.
Вынужденный отныне заниматься делами архитектуры, Рафаэль особое внимание уделил размещению на фреске зданий с коринфскими и ионическими колоннами. В глубине на возвышении, куда ведут четырнадцать мраморных ступеней, видна половина фасада старого собора Святого Петра, разрушенного до появления Рафаэля в Риме. Чуть правее угол Ватиканского дворца с открытой лоджией, откуда папа в тиаре и красной накидке поверх светлой рясы обращается к римскому люду с благословением. Но его фигура дана в глубине картины, утратив своё главенствующее значение. Всё внимание сосредоточено на картине пожара. По ступеням широкой лестницы к папскому дворцу поднимается молодая мать с нагим дитя, ища спасения от огня, а около дворца под лоджией толпа стоящих на коленях перепуганных женщин взывает о помощи.
Из домов вырываются языки пламени. На переднем плане матери успокаивают испуганных детей. Правее молодые женщины подносят в кувшинах воду в попытке спешно загасить пламя. Слева высокая стена, за которой бушует пламя. Сверху мать спасает от едкого дыма запелёнатого младенца и передаёт его стоящему внизу мужу, старающемуся на вытянутых руках поймать ребёнка. Тут же обнажённый юноша, застигнутый пожаром в постели, старается спрыгнуть со стены, хотя мог бы найти более удобный путь бегства. Однако Рафаэля заинтересовала пластика молодого тела в момент напряжения всех сил, хотя подобная экспрессия так несвойственна классическому искусству.
Впечатляет изображение людей, в спешке покидающих горящие дома. Здесь Рафаэль показал себя ценителем античной поэзии, запечатлев героев «Энеиды» Вергилия, спасшихся во время пожара в Трое. Молодой Эней выносит на спине старого отца Анхиза, с ним рядом испуганный сын Асканий и жена Креуза.
С фреской связана одна история. Будучи в Риме, Тициан пожелал увидеть работы Рафаэля, молва о которых достигла Венеции. Остановившись перед «Пожаром в Борго», он спросил сопровождавшего его Себастьяно Дель Пьомбо, а своим прозвищем, как известно, тот обязан полученной должности прикладчика свинцовой папской печати (от ит. piombo — свинец):
— Кто этот дерзкий невежда, осмелившийся замарать эти головы?
Многие тогда прикладывали руку к творению Рафаэля в желании что-то подправить, очистить от копоти, а то и просто любопытства ради. Как вспоминает венецианский литератор Лодовико Дольче, вопрос Тициана застал Дель Пьомбо врасплох. «Ноги у него налились свинцом (автор обыгрывает прозвище художника), а язык одеревенел», поскольку это было делом его рук.64 Добавим также, что движимый завистью Дель Пьомбо отнесся к поручению почистить фреску спустя рукава, чего не смог не заметить Тициан, высоко ценивший искусство Рафаэля, чья слава в те годы достигла апогея.
Рафаэль любил своих учеников, прощал им слабости по молодости лет и доверял написание отдельных сцен. Увидев, как один из учеников работает над женскими фигурами, подносящими воду в кувшинах на пожаре, заметил:
— Разве сам не видишь, что они у тебя на одно лицо? Измени ракурс, и всё станет на своё место. Важно, чтобы любая фигура имела свою индивидуальность, как мы с тобой так не похожие друг на друга.
На остальных фресках этой станцы, написанных в основном учениками по эскизам мастера, отражены некоторые исторические события. Например, на противоположной стене — сцена морского сражения между папскими и сарацинскими галерами, произошедшего в IX веке близ порта Остия в устье Тибра. В 846 году сарацины напали на Остию, разграбили местный собор и увезли с собой множество пленных, набив ими трюмы своих кораблей. Через три года они вновь вернулись за добычей, но на сей раз победа осталась за папскими воинами, и восседающий на мраморной глыбе, как на троне, понтифик обращает благодарственный взор к небесам. Это ещё одно изображение Льва X, а рядом узнаваемы кардиналы Джулио Медичи, Биббьена и другие высокопоставленные лица.
В дни работы над фреской в Риме объявился Альбрехт Дюрер, пожелавший познакомиться с росписями в ватиканских станцах. Он был лет на двенадцать постарше. Рафаэль о нём много слышал от друга Раймонди. Его поразили тогда сама фигура красивого статного художника с копной волос, вьющихся от рождения или благодаря стараниям искусного цирюльника, и, главное, некоторые его графические листы, полные экспрессии. В память о том визите Рафаэль подарил немецкому живописцу рисунок красным карандашом к фреске «Сражение под Остией». Приняв с благодарностью подарок, Дюрер собственноручно пометил на оборотной стороне, что рисунок получен от автора в Риме в 1515 году. Вазари пишет, что польщённый вниманием Дюрер не остался в долгу и прислал Рафаэлю свой автопортрет, судьба которого неизвестна. Кроме того, о встрече двух художников должна свидетельствовать утерянная картина Дюрера, написанная под влиянием рафаэлевского «Коронования Девы Марии».
Вскоре стало известно, что папа пожелал, чтобы «любезнейший сын» завершил начатые Браманте работы по строительству лоджий, выходящих во внутренний ватиканский двор Сан-Домазо, и украсил их фресками.
— Его Святейшество хочет вас чаще видеть подле себя, — заявил Биббьена. — Скажу вам по-дружески, всякий раз при встрече с вами у него повышается жизненный тонус. Это может подтвердить дворцовый эскулап.
Пришлось Рафаэлю засесть за проектирование надстройки лоджии, строительство которой было начато Браманте в 1512 году, и он успел возвести двухъярусные лоджии, примыкающие к старому папскому дворцу. По проекту Рафаэля возведение верхней галереи из тринадцати аркад было завершено в 1518 году, так как в платёжном регистре за март имеется пометка о выдаче художнику аванса. В следующем году в невиданно краткие сроки было закончено внушительное архитектурное сооружение с фресковыми росписями и стукковым декором верхней лоджии. На своде каждой аркады помещено по четыре фрески. Таким образом, всю галерею украшают сорок восемь эпизодов Ветхого и четыре эпизода Нового Завета с пятьюдесятью двумя библейскими героями, благодаря чему этому художественному циклу римляне присвоили наименование «Библия Рафаэля». Лоджия сообщается с ватиканскими станцами, расписанными Рафаэлем, представляя собой один из прекраснейших дворцовых переходов.
Здесь Рафаэль проявил выдающиеся качества организатора, сумев добиться плодотворной работы команды, состоящей из талантливых единомышленников. Он был творцом идей, осуществление которых было поручено помощникам, а им он всецело доверял, хотя и приходилось порой кое-что исправлять. Имена главных исполнителей фресковых росписей на сводах хорошо известны. Это Джулио Романо и Джован Франческо Пенни, а исполнителем так называемых «гротесков» с фантастическими животными и экзотическими растениями, украшающими опоры и простенки, был Перин дель Вага. В первом и втором случаях был использован традиционный метод письма обычными темперными красками по сырой штукатурке.
Декоративные мотивы черпались из античной настенной живописи и скульптуры. Видно, что Рафаэль плодотворно поработал на раскопках, где обнаружил в Золотом доме Нерона, в термах Тита и Веспасиана великолепную настенную живопись на исторические и мифологические мотивы. Он широко использовал также орнаменты средневекового изобразительного искусства, вплоть до великолепных рельефов сиенца Якопо делла Кверча. Таким образом, эклектизм, пустивший корни в итальянском постренессансном искусстве, зародился в классической среде из круга Рафаэля.
Что же касается архитектурного декора, то в мастерской Рафаэля благодаря советам Витрувия и тщательному изучению античных памятников ваяния и зодчества был найден оказавшийся простым и малозатратным выше упомянутый способ, легко имитирующий подлинный мрамор и произведённые из него колонны, барельефы и прочие элементы декора. В этом деле непревзойдённым мастером считался Джованни да Удине. Именно ему принадлежит декоративная лепнина, выполненная таким способом, при котором вместо резца применялся обычный шпатель. Результат оказался потрясающим. Такое впечатление, что пилястры и барельефы в лоджии Рафаэля сделаны из отборного каррарского мрамора. Это было чудо, но сам способ приготовления смеси в нужных пропорциях гашеной извести и мраморного порошка или мелко измельчённого в ступке травертина строго хранился в тайне. О нём узнал Микеланджело, строивший тогда во Флоренции библиотеку Лауренциана. Подавив гордость, он, величайший знаток природы камня, направил в Рим гонца к своему сопернику и младшему собрату по искусству со специальным заданием выведать секрет нового метода, имитирующего мрамор.
Была ещё одна революционная новинка, применённая в лоджии Рафаэлем, так называемое ajfresco lustro, то есть глянцевая настенная роспись. Этот способ напоминает мраморную инкрустацию, которой пользовались древние римляне путем наложения на грунт вдавливанием смеси извести с мраморной крошкой. Близость химического состава двух компонентов, получаемых из карбоната кальция, придавала при особой манипуляции прочность нанесённому слою и глянцевость поверхности, позволяя избежать переходных швов (заметных даже на росписи плафона в Сикстинской капелле) и достигнуть эффекта однородности фресок, словно написанных одновременно одним художником. Этот способ Рафаэль открыл при раскопках Domus Аurеа Нерона. Фресковые росписи и архитектурный декор лоджии Рафаэля оказались новшеством для итальянского искусства.
Тем временем шла усиленная подготовка к встрече папы с французским королём. В папскую свиту был включён и Рафаэль. Первая остановка была во Флоренции. Лев X впервые нанёс визит в родной город в новом качестве, а потому встреча с флорентийцами вылилась в грандиозный праздник, затмивший все предыдущие торжества. Папа был настолько растроган встречей с флорентийцами, что многие граждане получили за верность дому Медичи высокие награды и звания. Не забыт был и великий земляк Микеланджело, к семейному гербу которого был добавлен медицейский шар, а одному из его братьев Буонаррото присвоен титул comes palatinus — сиятельный граф.
После посещения усыпальницы рода Медичи в церкви Сан-Лоренцо Лев X решил подключить одновременно к проекту облицовки фасада церкви Микеланджело и Рафаэля, а затем выбрать лучшее предложение. Но из этой затеи ничего не вышло, как и с росписью зала Большого совета дворца Синьории восемь лет назад. И с новой силой вспыхнула неприязнь Микеланджело к папскому любимцу, осмелившемуся в его родном городе перейти ему дорогу, а озлобленность плохой помощник в искусстве, да и Рафаэлю расхотелось браться за проект в обстановке недоброжелательства и резко обострившейся конкуренции, которая всегда была свойственна Флоренции.
Поныне фасад Сан-Лоренцо стоит в своём первозданном виде с обнажённой кирпичной кладкой как напоминание о непростых отношениях между двумя великими мастерами, которым так и не суждено было помериться силами на ниве архитектуры. Но Микеланджело не успокоился и продолжал держать Рафаэля в поле зрения. Ради этого он всячески поддерживал Дель Пьомбо, снабжая его рисунками в надежде, что венецианец сможет оказать серьёзную конкуренцию удачливому сопернику. Кроме того, к кругу его римских друзей принадлежал богатый фабрикант Леонардо Боргерини по прозвищу «Селлайо» (от ит. sella — седло), чьи мастерские изготовляли сёдла и прочую конскую упряжь. Когда-то он мечтал о карьере художника, но судьба распорядилась иначе. Однако проза жизни не заглушила в нём художественное чутьё, и оно давало о себе знать в изяществе шорных изделий из тиснёной кожи, пользующихся всюду большим спросом. Он тоже поддерживал Дель Пьомбо, поручив ему расписать семейную часовню в Сан-Пьетро ин Монторио по рисункам Микеланджело. А недавно Селлайо подлил масла в огонь, рассказав Микеланджело, что Рафаэль по заказу коллекционера Никколо д’Акуино вылепил глиняную модель Амура, которая была отлита в бронзе и получила высокую оценку знатоков. В церкви Санта-Мария дель Пополо уже упоминавшийся скульптор Лоренцо Лотти по рисункам и слепкам Рафаэля изваял две выразительные статуи почти в натуральную величину сидящих в задумчивости пророков Иону и Илию. Через своих римских доброхотов Микеланджело был хорошо осведомлён о всех делах нелюбимого главного соперника.
Для Рафаэля это короткое пребывание во Флоренции не прошло бесследно. Особенно бурной была встреча с друзьями, наслышанными о его работах в Риме. Он заметил, что даже Андреа дель Сарто, ранее сторонившийся его, проникся к нему расположением, а о фра Бартоломео, Ридольфо Гирландайо и Аристотеле Сангалло и говорить нечего. К сожалению, не удалось свидеться со стариной Таддео Таддеи, который лечил язву на водах в соседнем городке Монтекатини. Зато Анджело Дони закатил банкет во дворце Строцци, где рядом с портретами супружеской четы кисти Рафаэля висело микеланджеловское тондо «Святое семейство», но его автор почему-то отсутствовал, чему хозяева дома не особо опечалились.
— В последнее время, — сказал Дони, — он стал угрюмым и никого не хочет видеть.
Вскоре во Флоренции началось возведение по проекту Рафаэля дворца Пандольфини на улице Ларга, несколько отличающегося от традиций флорентийской архитектуры. Двухэтажный дворец не имеет внутреннего замкнутого дворика и трехчастной изящной лоджией примыкает к саду. В отличие от дворца Видони фасад у него лишён ордера как организующего начала, стена гладкая и основной акцент перенесён на оформление окон с чередующимися в шахматном порядке лучковыми и треугольными фронтонами с использованием элементов античного декора. Строительство было завершено другом Аристотелем Сангалло. Проект дворца Пандольфини стал последней работой Рафаэля для Флоренции, которой он был многим обязан, как никакому другому месту на земле.
Глава XX ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Рафаэль не последовал за папой до Болоньи и после встреч с флорентийскими друзьями возвратился в Рим, где его ждала работа над росписями в Станце Пожар в Борго. Но, видимо, не ждала команда, полагая, что он не скоро вернётся из вояжа с папой. Был тёплый воскресный вечер, и Рафаэль перед сном решил прогуляться. Проходя мимо одного трактира, он увидел почти всю свою команду в обнимку с подружками. Застолье было весёлым и шумным. Он решил войти внутрь и поинтересоваться, по какому поводу пирушка. Но первые донесшиеся до его слуха слова заставили остановиться у порога.
— А я вам говорю, — узнал он голос Джулио Романо, — что все сюжеты он берёт у меня.
— Не очень-то заносись, — прервал его Джованни да Удине, — если бы не он, ты имел бы жалкий вид. Так что хвастать не стоит.
Почувствовав неловкость, Рафаэль не выдержал и подошёл к их столу.
— Не засиживайтесь, друзья, — спокойно сказал он весёлой компании. — Завтра жду вас в восемь часов в мастерской.
Появление Рафаэля подействовало на подгулявших парней отрезвляюще, и все как один были рано утром на месте. От случайно услышанных слов Джулио Романо у Рафаэля остался неприятный осадок. Но ради поддержания в мастерской дружного делового настроя он постарался выкинуть услышанное из головы. Вручив каждому эскиз, приказал взяться за работу. Предстояло расписать две торцевые стены с широкими оконными проёмами.
Первая фреска касалась торжественной коронации Карла Великого, вторая — восстановления в правах низложенного заговорщиками папы Льва III. С учётом состоявшейся исторической встречи в Болонье французского монарха с римским понтификом Карл Великий обрёл сходство с Франциском I по имеющемуся рисунку, сделанному одним из болонских художников, а Льву III соответственно приданы черты папы Льва X.
Пока в Болонье шли переговоры с неизменными балами и приёмами, которые обожали король и папа, в мастерской объявился Агостино Киджи с предложением взяться за росписи новой лоджии его дворца.
— Вы знаете, мой друг, — объявил он, — что отказа я ни от кого не приемлю, да и Его Святейшеству сейчас не до росписей в ватиканских станцах. Недавно я виделся с ним в Болонье и обо всём договорился.
Новое предложение банкира порадовало Рафаэля, поскольку историческая тематика Станцы Пожар в Борго ему донельзя наскучила, да и ученикам давно следует дать больше самостоятельности, оставив их на время без присмотра. Из них многие прекрасно владеют кистью и в состоянии справиться с любым порученным заданием. Ему вспомнилось, как отец, дав поручение, отлучался по делам, и это часто шло только на пользу, так как никто не стоял над душой и можно было дать волю фантазии, не сдерживаемой наставником. Поэтому завершение работ в Станце Пожар в Борго Рафаэль полностью поручил ученикам, а его рука коснулась лишь отдельных деталей.
Но над ним как дамоклов меч висело слово, которое из него чуть не силой вырвал кардинал Биббьена.
— Вы приближены ко двору, мой друг, — заявил однажды кардинал. — Пора положить конец разговорам о вас как о беспечном гуляке, и следует остепениться, обзаведясь семьёй.
Недавно Бавьера рассказал, что был остановлен на улице одним подозрительным типом в сутане, назвавшимся секретарём особой папской канцелярии, которого интересовало, кто навещает мастера по вечерам и бывают ли в доме особы женского пола.
— Право, не знаю, — признался Бавьера, заканчивая свой рассказ, — поверил ли он мне, когда услышал, что у нас по вечерам обычно собирается чисто мужская компания друзей холостяков.
Чтобы успокоить напористого Биббьену, Рафаэль прежде всего написал его портрет (Флоренция, Питти). Кардинал изображен в ярко-красной кардинальской мантии и шапочке, держащим в руке папскую буллу о возведении в сан. Пронзительно-колючий взгляд выдаёт человека волевого и решительного, который не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Его истинная сущность нашла своё отражение в одном только взгляде. Видно, что Рафаэль не питал симпатии к кардиналу, хотя тот считал его своим другом и полагал, что те же чувства к нему испытывает и художник. Но придав его портрету парадность и значимость, Рафаэль надеялся, что Биббьена оставит его в покое и не будет торопить с женитьбой, когда голова занята совершенно иными мыслями.
На днях пришла весть, что навязанная сверху суженая неожиданно заболела малярией и родители спешно увезли её подальше от сырого римского климата. Но не таков был кардинал, чтобы пасовать перед трудностями, он цепко держал Рафаэля, связанного словом. Но как ни всесилен он был, не всё ему было подвластно, и вскоре пришло печальное известие о преждевременной кончине любимой племянницы. Умерла ли она от неразделённой любви или какой другой хвори, об этом история умалчивает. Память о ней хранит эпитафия на мраморной доске, установленной по распоряжению дяди в римском Пантеоне, на которой Мария значится как невеста, не познавшая мужа, хотя помолвки как таковой не было.
Рафаэлю ничего не оставалось, как выразить соболезнование кардиналу Биббьене и поскорее забыть как сон всю эту неприглядную историю со сватовством, доставившую ему немало горестных минут от непрошеной опеки о себе со стороны Биббьены. В те дни его всецело занимало другое. В отличие от своего великого современника Микеланджело, живущего во власти апокалипсических настроений и не находящего ответа на мучительный вопрос, которым он нередко задавался в своих поэтических опусах:
Рафаэль жил в атмосфере любви и благожелательности, свято веря в добро. И эту неколебимую веру ему удавалось выразить с помощью своей богатейшей палитры, позволявшей добиваться художественного совершенства. Он был убеждён, что грешный мир невозможно исправить нагнетанием в искусстве зла и запугиванием сценами Страшного суда. Со времени описания Данте страшных мук в аду, уготованных грешникам, мир не изменился в лучшую сторону, а неизбежное возмездие за произвол и беззаконие его мало занимало.
Несмотря на помощь целой армии послушных учеников и подмастерьев Рафаэль уставал, работая над фресками в ватиканских залах или во дворце Фарнезина, но всякий раз находил отдохновение и черпал живительные силы, продолжая исподволь развивать любимую тему, придавая ей новое звучание с учётом прежнего опыта. Именно в образах нежных мадонн воплощалась его мечта о гармонии и красоте мира. А самое главное, создавая эти образы, он был свободен в построении композиции и выборе цветового решения, так как вход в его творческую лабораторию посторонним был заказан. Там он был свободен от обязательств, вкусов заказчика и творил для себя, как в случае с «Мадонной в кресле», но чаще писал по заказу влиятельных лиц, список которых в рабочей тетради постоянно рос, и верному Бавьере было поручено следить за их очерёдностью по мере исполнения того или иного заказа.
Среди рисунков Рафаэля было найдено написанное на полях незаконченное поэтическое откровение. Но осталось невыясненным лицо, вызвавшее душевный порыв:
В Риме Рафаэль написал около десяти превосходных мадонн. Среди них следует выделить «Мадонну Альба» (Петербург, Эрмитаж, ныне Вашингтон, Национальная галерея). Это небольшое тондо (диаметром 94,5 сантиметра) написано с особой тщательностью и проработкой каждой детали. На смену прежней хрупкой нежности героинь здесь приходит стремление к большей ясности и строгому величию. Вместо былой замкнутости и отчуждённости от внешнего мира налицо пробудившийся интерес к реальному, земному. Утренняя свежесть нежных красок сменяется более сочным насыщенным колоритом под стать краскам знойного летнего дня.
Композиция в форме равностороннего треугольника идеально вписана в круг с чётким распределением объёмов. На фоне развёрнутого холмистого пейзажа с деревушкой и поблескивающей на солнце рекой сидит на лужайке, поросшей цветами, прекрасная Мадонна. Каштановые волосы покрыты косынкой, повязанной в виде тюрбана. На ней розовая туника, а плечи и ноги прикрыты голубым плащом как лазоревое небо над головой. Мадонна на миг оторвалась от книги, зажав указательным пальцем страницы. Видно, что прочитанное заставило её глубоко задуматься. Она наклонилась к играющим детям, придерживая их правой рукой, но встревоженный взгляд устремлён в сторону. Её настроение никак не передалось детям, и они беспечно играют с тростниковым крестом, будущим орудием страстей Господних. Картина поражает высочайшим мастерством исполнения и навевает тихую грусть. В таком же минорном ключе написаны «Мадонна Альдобрандини» и «Мадонна с башнями» (обе Лондон, Национальная галерея).
Появление в последний римский период новых рафаэлевских мадонн можно рассматривать как подготовку художника к написанию главного своего труда, венчающего всё его творчество. Уже в «Мадонне Фолиньо» видно стремление к преодолению земного тяготения, создающее ощущение парения в небесных сферах. Эта тенденция, противоречащая статике классического стиля и предвосхитившая приёмы маньеризма и барокко, с особой силой проявилась в небольшой картине «Видение Иезекииля» (Флоренция, Питти), которая по размеру (40,7x29,5 сантиметра) скорее напоминает миниатюру, но по стилю и характеру это грандиозное произведение, с изумительным мастерством передающее беспредельность пространства.
Глядя на эту картину на доске, диву даёшься, каким образом Рафаэлю удалось на крохотном пространстве добиться такого масштаба мощи изображения, впечатления стремительности полёта и почти космического вихря. Необычно помолодевший бог Саваоф, подобно Юпитеру, сидит на широко расправившем крылья орле, опираясь ногами на крылатых льва и быка. На него вопросительно смотрит ангел-отрок, скрестив руки и словно в ожидании указаний. Ощущение полёта усиливается двумя ангелочками, поддерживающими широко расставленные руки Бога Отца, словно благословляющего весь род людской. А внизу на земле еле заметный пророк Иезекииль наблюдает за божественным видением и на пустынном берегу тянется к небу могучий дуб.
В майские дни, когда шла вёрстка книги, в Италии разразился громкий скандал, связанный с картиной «Видение св. Иезекииля». После многолетних изысканий венецианский искусствовед Де Фео опубликовал результаты своих исследований и представил на суд специалистов найденную им идентичную картину, настаивая на её подлинности. Следовательно, хранимый под пуленепробиваемым стеклом рафаэлевский шедевр во флорентийском музее Питти — это не что иное, как добротно выполненная примерно в 1570 году художником Лоренцо Сабатини копия на дубовой доске, хотя известно, что Рафаэль писал свои работы на тополевых досках, да и размеры обеих картин несколько рознятся.
Рассказанная Де Фео история обнаружения подлинника полна необычных поворотов и открытий, напоминающая нашумевший детектив «Код Да Винчи». По странному и чуть ли не мистическому совпадению венецианского исследователя зовут Роберто, как и героя книги Брауна. Ещё свежо воспоминание, когда на аукционе Сотби в 2009 году рисунок Рафаэля «Голова Музы» был продан за неслыханную для графики цену в 32,2 миллиона евро. Вот почему обнаруженный Де Фео предполагаемый оригинал вызвал подлинную бурю, став дерзким вызовом лоббистам крупнейших музеев и аукционов. Автору этих строк не удалось встретиться с возмутителем спокойствия Де Фео, но пришлось специально побывать в Урбино и свидеться кое с кем из работников Академии им. Рафаэля. Но до намеченного на ближайшее время созыва специальной сессии авторитетной Академии Линчеи никто из тех, с кем довелось повстречаться, не пожелал высказываться по существу. Поэтому, чтобы не попасть впросак, придётся подождать дальнейшего развития событий.
Весной 1513 года к Рафаэлю обратился от имени монашеского ордена бенедиктинцев упоминавшийся выше гуманист Грегорио Кортезе из Модены, который полемизировал когда-то с Полициано по поводу стиля Цицерона. Он предложил написать образ для главного алтаря церкви Святого Сикста в городе Пьяченца по случаю завершения реставрации храма, где хранятся мощи канонизированного папы Сикста II, занимавшего престол с 357 по 358 год, и мученицы святой Варвары. Предложение было тогда горячо поддержано папой Юлием II, высоко чтившим мученика Сикста. Во время скоротечной болезни папа через Эджидио да Витербо изъявил желание, чтобы алтарный образ святого Сикста украсил часовню с его надгробием, так как сам он давно утратил интерес к задуманному Микеланджело грандиозному мавзолею. Таким образом, вновь могли бы перехлестнуться интересы двух великих соперников. Но после кончины папы Юлия идея на время была отложена, тем более что ждали своего завершения росписи в ватиканских станцах, где появился новый хозяин, и вся команда Рафаэля целиком переместилась в четвёртый и самый просторный зал, главной темой которого была победа Константина над императором Максенцием, утонувшим в Тибре. Все росписи были выполнены учениками по эскизам мастера. Но на одной из нижних фресок, исполненной им самим, запечатлён строящийся собор Святого Петра, каким хотел его видеть Рафаэль.
Он не забывал об обещании, данном монахам из Пьяченцы, и всякий раз, берясь за очередной заказ, думал о «Мадонне со святым Сикстом». К её написанию он долго готовился, но рисунки до нас не дошли, словно картина писалась прямо на холсте по заранее обдуманному плану, вобрав в себя все прежние наработки и удачные находки. А может быть, Рафаэль хранил в тайне всю подготовительную работу, ибо он рассматривал задуманную Мадонну как акт покаяния за всё дурное и за допущенные просчёты? Это было глубоко личное творение. В ходе работы над ним он близко никого к себе не подпускал. Хотя алтарные образы традиционно писались на доске, этот написан на холсте. Новая Мадонна, получившая название «сикстинской», стала итогом его раздумий и исканий идеального женского образа, не дававшего ему покоя. К нему он шёл, начиная чуть ли не с отроческого возраста, когда написал первую фреску на стене отчего дома.
Вспомнив деда Санте, построившего себе за городом домик, чтобы слиться с природой, Рафаэль неподалёку от виллы Боргезе за крепостной стеной, воздвигнутой во времена Марка Аврелия, облюбовал себе спокойный уголок с домиком. Его стала угнетать городская и дворцовая суета, и он решил укрыться, дабы побыть наедине со своими думами на лоне природы. С помощью Бавьеры домик был приспособлен под мастерскую для работы над большим холстом, набитым на подрамник (269,5x201 сантиметр). Временные отлучки из мастерской для всех были тайной. Наняв пролётку, художник объяснял ученикам и знакомым, что нуждается в свежем воздухе на приволье. В округе его временное убежище долго значилось как вилла Рафаэля, хотя после написания картины он там больше не показывался. В 1849 году во время франко-австрийской интервенции и штурма Рима дом был разрушен.
В отличие от ватиканских «Коронования Девы Марии» и «Мадонны Фолиньо» Рафаэль здесь полностью порывает с землёй. Если бы он создал одну лишь «Сикстинскую мадонну», этого было бы достаточно, чтобы мир считал его величайшим живописцем всех времён. Прежде чем отправить картину заказчику, её выставили в одном из дворцовых залов, где ею могли полюбоваться придворные, римская знать и дипломатический корпус при Ватикане. Задумавшись, папа долго сидел перед картиной, но по его бесстрастному лицу трудно было угадать его чувства. Зная о завистливой натуре Льва X и его приближённых, Рафаэль сделал всё от него зависящее, чтобы картина скорее покинула Рим. Это была последняя возможность показать столичной публике рафаэлевский шедевр в течение трёх дней. Оказавшись в провинциальной Пьяченце, насчитывавшей не более пятнадцати тысяч жителей, «Сикстинская мадонна» в течение более двух с половиной веков пребывала в безвестности, покрываясь копотью от горящих свечей перед алтарным образом церкви Святого Сикста, пока в 1754 году монахи-бенедиктинцы не продали её саксонскому курфюрсту Августу III и она оказалась в его резиденции в Дрездене, где обрела постоянное местожительство. Но слава о «Сикстинской мадонне» разнеслась по всему свету благодаря снятым с неё гравюрам, которые пользовались большим спросом.
Первая и признанная самой удачной была гравюра Ф. Мюллера, появившаяся в 1815 году и вызвавшая в Европе всеобщее восхищение. Было ещё множество копий, но при всей их добротности и верности оригиналу не удалось передать волшебство притягательной силы рафаэлевского творения.
Долгое время считалось, что «Сикстинская мадонна» должна была висеть над надгробием Юлия II, чем объясняется появление Девы Марии из-за распахнутого занавеса. Это мнение подтверждалось также присутствием мученицы Варвары как пособницы людям в смертный час и папы Сикста II, признанного покровителя клана делла Ровере, чья эмблема жёлудя с дубовыми листьями присутствует в композиции. Высказывалось предположение, что в образе святого Сикста изображён папа Юлий II, с чем трудно согласиться, вспомнив блистательный портрет Юлия кисти Рафаэля, преисполненный сдержанной энергии и благородства мудрого политика, что не идёт ни в какое сравнение с дрожащим от волнения взлохмаченным стариком с прекрасно написанным профилем в момент наивысшего потрясения при виде Богоматери с Младенцем, что заставило его снять перед ней тиару.
Рафаэль лишил тему Богоявления её церковного налёта, выявив тем самым заключённый в ней глубоко гуманный смысл. В итальянской живописи тема Божественного явления получила широкое распространение. Показ таинственного и сверхъестественного был лишь поводом и данью традиции, зародившейся еще в римских катакомбах в годы гонения на христиан. Главное — это силой искусства вызывать глубокое потрясение самой картиной, раскрывающей сущность бытия, и порождать в душах чувства, близкие к катарсису.
«Сикстинская мадонна» — это самый возвышенный поэтический образ Мадонны в искусстве Возрождения, равно как и «Владимирская Богоматерь» в средневековом искусстве. Их отличие в том, что на византийской иконе Богородица смотрит на мир с печалью и немой укоризной, сознавая, на какие муки обречено её дитя, а Мадонна Рафаэля перед лицом грядущих испытаний внешне сохраняет спокойствие, нескрываемую радость материнства, но и решимость пройти жертвенный путь до конца.
На картине изображено мимолётное видение — тяжёлый занавес отдёрнут и перед зрителем предстаёт шествующая лёгкой поступью по облакам Мадонна с нежно прижатым к груди Младенцем в сопровождении святой Варвары и папы Сикста II. Но у Рафаэля она явилась людям не для того, чтобы призывать их к покорности и самоотречению в канун потрясших Европу религиозного фанатизма, нетерпимости и суеверия, чьи отголоски нашли отражение в некоторых поздних творениях Рафаэля. Он предчувствовал наступление мрачных сумерек и предпринял неимоверное усилие, чтобы выразить жизнеутверждающую гармонию добра, человеколюбия и подвести итог славному пути, пройденному им самим и его собратьями по искусству Возрождения.
«Сикстинская мадонна», словно озарённая божественным светом, предстаёт олицетворением высокого человеческого достоинства, которое художник завещал хранить потомкам. Выше «Сикстинской мадонны» по красоте и глубине философского замысла Рафаэль больше ничего не создал. На прекрасном лице Мадонны, сияющем идеальной девственной чистотой, отражается душевное волнение, вызванное возложенной на неё миссией. Она в смущении смотрит на мир, которому должна принести великую жертву. На её лице можно даже разглядеть искорку надежды, что уготованная чаша минует её дитя. Сидящий на руках очаровательный Младенец со спутанными волосами на взлохмаченной головке с недоверием смотрит на мир, куда ему предстоит сойти.
Поразительная лёгкость поступи Мадонны в безграничном пространстве достигается контрастом между чистотой её силуэта, очерченного слева непрерывной линией, и изгибающегося справа под взлётами плаща на ветру. Её маленькие ступни находятся в тени, еле касаясь облаков, пронизанных ярким светом, что ещё больше усиливает ощущение мягкости поступи. Продуманное расположение складок на картине, которым отведена важная роль, показывает, насколько глубоко Рафаэлем был усвоен урок античного искусства. Ощущение движения на картине усиливается складками откинутого у ног Мадонны плаща и вздувшимся над её головой покрывалом, создающим иллюзию, будто Дева Мария не идёт, а вплывает в пространство из глубины облаков под действием влекущей её божественной силы. С движением складок плаща Мадонны согласуется изогнутый край облачения Сикста и складки одежды Варвары.
Контрастны воздушному витанию Мадонны окружающие её фигуры Сикста и Варвары, которые словно увязли в бесформенной рыхлой массе облаков, чем ещё сильнее подчёркивается невесомость самой Мадонны. Сикст в благоговении смотрит на Мадонну, правой рукой указывая на землю, словно приглашая её спуститься. В сравнении с его образом, преисполненным жизненной силы, поза красивой Варвары, задумчиво устремившей взор к земле, выглядит несколько манерно. Но из этого противопоставления фигур, их поз и взглядов создаётся ощущение движения. Тому же впечатлению способствуют и два прелестных ангелочка, как бы висящие в воздухе, а их устремлённые кверху взоры невольно поднимают ещё выше фигуру Девы Марии. Для придания лёгкости один из них изображён однокрылым, дабы не утяжелять его фигурку.
Чёткое разграничение фигур на картине достигается с помощью цвета. Мадонну выделяет лазоревый плащ, папу Сикста — златотканая риза, а наряд Варвары вобрал в себя все краски картины. Помимо основного цвета, каждую фигуру характеризуют второстепенные цвета, служащие для связи фигур друг с другом. Например, алый отворот папского одеяния согласуется с выглядывающим из-под голубого плаща алым хитоном Мадонны, а зелёный шарф Варвары напоминает густой цвет двух половинок раздвинутого тяжёлого занавеса, слегка прогнувшего рейку с кольцами. Голубой рукав мученицы созвучен с плащом Мадонны. Благодаря рассеянному освещению все цвета на картине звучат в равной степени, хотя в каждом наличествуют тонкие оттенки, и лишь белый плат на шее Сикста выделяется ярким пятном, но даже у белого цвета различимы оттенки. В озарённой спокойным светом картине всё соразмерно, уравновешено и гармонично. В Мадонне и её окружении заключён не поддающийся выражению словами душевный порыв. Пожалуй, только словами гётевского Фауста можно сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно». Но от остановки и фиксации мгновения чудо мимолётности видения теряет свою сиюминутность и красоту. Это уже не видение, неожиданно явившееся перед тобой, а добротно написанное полотно. Тогда чем объяснить, что «Сикстинская мадонна» вот уже почти пять веков не перестаёт волновать души людей? И это одна из неразгаданных и, пожалуй, неразрешимых загадок Рафаэля. Подобно божественному звучанию баховской Чаконы, «Сикстинская мадонна» поражает возвышенной простотой и мудростью замысла, умиротворяя дух и позволяя отрешиться от всего никчёмного, суетного и обыденного.
В годы наполеоновской оккупации почти все его мадонны в качестве военного трофея оказались в Париже, где в целях сохранности с дерева были перенесены на холст, но не всегда удачно. История мирового мародёрства хранит немало страниц, когда из поверженной Италии завоеватели вывозили бесценные сокровища, которыми обогатились музеи и частные собрания Европы и Америки. В связи с этим уместно вспомнить беспримерный по своей гуманности и культурной значимости поступок, а вернее сказать, подлинный подвиг нашей страны, не имеющий аналога в истории, когда в ходе Второй мировой войны ценой жизни советских солдат были спасены от гибели бесценные творения живописи, упрятанные нацистами в заминированных штольнях, и среди них «Сикстинская мадонна». Лучшие отечественные специалисты произвели тщательную очистку и реставрацию спасённых шедевров, которые затем были безвозмездно возвращены прежним владельцам. И этот благородный жест был совершён страной, чьё национальное художественное достояние понесло за годы войны невосполнимые потери.
Глава ХХI ПСИХЕЯ, ФОРНАРИНА И ДРУГИЕ
В жизни Рафаэля появилась одна молодая особа по имени Беатриче Феррарская, которую часто могли видеть друзья и ученики во дворце Каприни. Кто она — неизвестно. В конце XV — начале XVI века в общественном сознании утвердилось понятие куртизанки, то есть приближённой к высшему свету девицы лёгкого поведения. Как правило, они были известны только по именам или прозвищам, связанным с местом их рождения. Все они пользовались известностью и прочным положением в обществе, находясь на содержании и под покровительством кардиналов и римских патрициев. Обычную проститутку, стоявшую на перекрёстке или ублажающую посетителей в одном из публичных заведений на Авентинском холме, называли meretrice, то есть продажная женщина, или lupa — волчица. Например, когда воспетая поэтами и музыкантами знаменитая Империя умерла в расцвете лет, её покровитель Агостино Киджи устроил ей пышные похороны, в которых приняли участие тысячи римлян, словно хоронили народную героиню. В её честь был сооружён мавзолей в церкви Сан-Грегорио на холме Целий, разобранный позднее как символ ереси, греховности и беспутства.
Как свидетельствует Вазари, ссылаясь на ученика художника Джулио Романо, с которым он водил дружбу, Рафаэль любил Беатриче до конца жизни и запечатлел её на холсте. Вероятно, это знаменитая Donna Velata, то есть «Дама с вуалью» (Флоренция, Питти). На первый взгляд можно предположить, что на портрете замужняя женщина, судя по шёлковой вуали, покрывающей её голову и плечи, как тогда было принято в обществе. Внимательнее приглядевшись к портрету, видишь, что это не так и пальцы рук не выдают в ней замужнюю даму. Правда, в одном из писем мантуанский посол пишет маркизе Изабелле д’Эсте, беспокоившейся за сына Федерико, пополнившего ряды столичной золотой молодёжи, что сегодня в Риме невозможно отличить порядочную даму или девушку от куртизанок, которые встречаются на каждом шагу с неизменной вуалью на голове и самыми изысканными манерами.
В каждой детали изображённой на рафаэлевской картине модели чувствуется нескрываемое желание художника обладать ею, а скромный облик красивой женщины со слегка потупленным взором, выражающим покорность и доверие, ещё пуще распаляет страсть, о чём свидетельствует и янтарное ожерелье как общепризнанный сексуальный символ. Такое впечатление, что картина написана в будуаре и молодая женщина стыдливо готовится снять с себя нарядное муаровое платье с волнистыми складками рукавов, подчиняясь воле Рафаэля. Ещё немного и обнажится левое плечо, а на груди уже расстёгнута пуговица корсета. Чувствуется, как под лёгкой льняной блузкой колышется грудь. Все складки платья пришли в движение, и даже слышно их шуршание, словно им передалось желание художника поскорее добраться до вожделенной цели. Эффект скольжения ткани особенно ощутим в нижней части картины, где складки и оборки платья готовы продырявить холст или очутиться за рамками картины. Как показал радиографический анализ, портрет писался без предварительных эскизов и вскрыл несколько вариантов расположения складок платья и рук, исправляемых прямо на холсте.
Придя в восхищение от портрета «Дама с вуалью», Кастильоне написал два превосходных сонета, посвящённых красивой незнакомке. Рафаэль был увлекающейся натурой, чрезмерно любившей женщин и знавшей в них толк, что было широко известно. Поэтому всегда уравновешенный и далёкий от эротики Вазари не мог обойти молчанием эту черту художника в своих «Жизнеописаниях», хотя многие его утверждения на сей счёт основаны на легендах, возникших ещё при жизни мастера.
В мастерской тем временем вовсю шла подготовка к будущим росписям в Фарнезине. Пристроенная ко дворцу открытая лоджия выходит в цветущий сад, названный хозяином «райским», чья пышная зелень по замыслу должна была найти своё продолжение в росписях плафона и стен лоджии. Позднее открытые пролёты лоджии ради сохранности фресок от сырости были заделаны и оформлен вход во дворец.
Пока шла подготовительная работа, из Болоньи возвратился Лев X со свитой. Рим вновь зажил своей обычной праздной жизнью. Вернувшийся из поездки Кастильоне выглядел именинником, так как наконец решался вопрос с женитьбой. Рафаэль решил в качестве свадебного подарка написать его портрет. Так появилось одно из лучших его творений на холсте «Портрет Бальдассара Кастильоне» (Париж, Лувр). Портрет писался зимой, о чём говорит несколько приглушённая цветовая гамма с мягкой градацией холодных тонов от тёмных пятен к серовато-пепельным тонам. Кастильоне было тогда тридцать шесть лет, и вскоре должна была состояться свадьба, чего так добивалась его властная мать. Но на портрете он выглядит несколько старше своих лет — сказалась прежняя разгульная богемная жизнь. Рафаэль не захотел скрывать огрехи его молодости и лишь прикрыл ему плешину тюрбаном, словно вспомнив высказывание друга о том, что «истинное искусство — это то, которое не выглядит искусством», и придал изображению как можно больше жизненной правды. Он не забыл также выделить приверженность Кастильоне к моде, которой он уделял повышенное внимание, что явствует из его переписки с матерью, где он подробно пишет о необходимости по возможности чаще обновлять гардероб, дабы выглядеть достойно, к чему обязывает дворянский титул графа Новелары.
Слегка смещённая кверху точка зрения позволяет представить, что Кастильоне на миг прервал разговор, вопросительно глядя на собеседника, словно ожидая от него подтверждения высказанной мысли. Его благожелательный вид говорит о человеке, живущем в полном согласии с миром, самим собой и понимающем занимаемое им положение в обществе, отчего на лице отражена нескрываемая самоуверенность, психологически точно переданная художником. Рафаэль любил друга и с иронией относился к некоторым его слабостям.
Кастильоне не знал, как отблагодарить друга. Известно, что, довольный своим изображением, он написал латинскую элегию как бы от имени своей молодой жены, сетовавшей на частые отлучки мужа, и единственным её утешением является разговор с его портретом кисти Рафаэля, на котором он как живой, и она учит маленького сына узнавать и привыкать к отцу. Узнав об этом, друзья долго потешались над причудой Кастильоне. После его смерти портрет был подарен старшим сыном Камилло урбинскому герцогу Франческо Мария делла Ровере в знак благодарности за помощь и поддержку в трудные дни семье покойного. В своё время эта работа произвела сильное впечатление на Рембрандта, снявшего с неё копию в рисунке, хранящемся в венском музее Альбертина.
В этом и некоторых других римских портретах проявилось величайшее мастерство Рафаэля, внёсшего свой весомый вклад в искусство европейского портрета эпохи Возрождения. Его работы преисполнены энергии с выделением в портретируемом волевого или интеллектуального начала с приданием ему значительности и возвышенности. Они резко отличаются от работ портретистов XIV века с их тенденцией к фиксации прежде всего физиономического сходства или от хрупких стилизованных портретов Боттичелли. Рафаэль выражает сущность своих персонажей не мимикой лица или жестом, а посредством композиционного и колористического решения.
Он дорожил дружбой с Бембо и Кастильоне, пользовавшихся немалым влиянием при папском дворе. Их амбициозные усилия были направлены на сближение политики с миром культуры и искусства, в чём оба во многом преуспели, и Рим менялся в лучшую сторону прямо на глазах. Росла и слава Рафаэля. В его приёмной во дворце Каприни, на фасаде которого было написано Domus Raphaelis, неизменно толпились посетители, обращавшиеся с различными просьбами или желающие поближе с ним познакомиться и заручиться его расположением.
Однажды ранним утром пред ним предстала убитая горем мать, прибывшая из Урбино. Её юный сын Маркантонио за призыв вернуть герцога Франческо Мария делла Ровере был приговорён к смерти нынешним правителем. Рафаэль принял живейшее участие в судьбе сына несчастной женщины, хотя это могло обернуться для него опасными последствиями. Друзья старались отговорить его от безрассудного шага.
— Поймите, мой друг, — настаивал Кастильоне, — вы тем самым задеваете интересы всего клана. Мстительный Лоренцо Медичи вам этого не простит.
— Так подсказывает мне совесть, — был ответ Рафаэля. — Я не могу остаться равнодушным, когда речь идёт о жизни моего земляка. Неужели это непонятно?
Друзья явно недооценивали роль и положение, занимаемое Рафаэлем в обществе. Нет, он не был героем и борцом за справедливость, но, обладая отзывчивым сердцем к беде ближнего, тут же отправился во дворец. Но у папы начался очередной приступ и он никого не принимал. Тогда Рафаэль громко объявил собравшимся в приёмной придворным:
— Передайте Его Святейшеству, если мой земляк Маркантонио не будет немедленно освобождён, я последую примеру Леонардо да Винчи и навсегда покину Италию.
Угроза подействовала, и Биббьена помчался в опочивальню к папе.
— Ваше Святейшество, в словах «любезного сына» такая решимость, что сомневаться в его намерении не приходится.
— Так действуйте! — заорал папа. — Не хватало, чтобы из-за какого-то сопляка мы лишились великого мастера. Европа спит и видит, чтобы заполучить его.
Благодаря смелому гражданскому поступку Рафаэля молодой человек был вырван из рук палача. Весть об этом разнеслась далеко за пределы Рима, принеся художнику ещё большую известность в самых широких кругах, а в Урбино толпа встретила Маркантонио как героя. По воспоминаниям современников, при одном только появлении Рафаэля всё вокруг преображалось, словно озаряясь светом любви и дружеского расположения. Обычно он выходил на люди в сопровождении целой свиты учеников и поклонников, привлекая внимание прохожих.
Но, как говорится, долг платежом красен, и вскоре Рафаэлю была передана настоятельная просьба папы запечатлеть на портрете любимого племянника Лоренцо Медичи в преддверии его помолвки с французской принцессой. Тот с неохотой пришёл в мастерскую художника для позирования — против воли дяди пойти не посмел. Папский племянник был хорошо известен в кругах римской богемы как картёжник и бретёр, что вызывало беспокойство его матери Альфонсины, вдовы Пьеро Медичи, старшего сына Лоренцо Великолепного. Она не раз обращалась за помощью к порфироносному деверю со слёзной просьбой приструнить сына, для которого наконец найдена невеста. Во Флоренции уже началась подготовка к предстоящим торжествам в связи с официальной помолвкой, намеченным на следующее лето.
Рафаэль исполнил пожелание папы, но скрыть свою неприязнь к портретируемому не сумел. Портрет получился очень ярким и добротным по живописи, но придать взгляду папского племянника благожелательность при всём старании художника не удалось. На зрителя устремлён взгляд напыщенного самодура. Но самому Лоренцо портрет пришёлся по душе, и он выразил Рафаэлю глубокую признательность, подарив в знак благодарности античную гемму из коллекции покойного отца. Но год спустя после его свадьбы и скоропостижной смерти следы картины затерялись. Портрет, находящийся в музее Фабра французского городка Монпелье под Парижем, считается копией, выполненной одним из учеников мастера, равно как идентичный портрет из нью-йоркского частного собрания.
Папский двор не переставал занимать вопрос об официальном портрете понтифика, до которого руки не доходили из-за частого недомогания Льва X. В почитаемой римской церкви Санта-Мария дель Пополо продолжал привлекать внимание прихожан и приезжих паломников рафаэлевский портрет папы Юлия. Ближайшим папским окружением не раз высказывалось предложение выставить там портрет действующего понтифика, чьё изображение было запечатлено на ватиканских фресках, но народ не мог его видеть. Памятуя о недавнем демарше Рафаэля, кардинал Биббьена стал относиться к нему с некоторым недоверием, считая, как он выразился, что «любезнейший сын» в последнее время отбился от рук под влиянием липнущих к нему как мухи на мёд разного рода вольнодумцев. Он осторожно предложил папе как возможную кандидатуру Дель Пьомбо. Но Лев Х ни о ком слышать не хотел, кроме Рафаэля.
— Да я этого прохвоста венецианца на дух не выношу! — воскликнул он в ответ.
В отличие от портрета Юлия II, исполненного интеллектуальной силы и значительности самой фигуры, Рафаэль столкнулся с безволием, суеверием и крайней подозрительностью. Льва X интересовала любая мелочь на портрете, особенно аксессуары одежды. Перед позированием папа потребовал, чтобы личный цирюльник слегка подрумянил и припудрил его. Поначалу Лев X пожелал быть изображённым вместе с молодым кузеном Джулио Медичи, которому в его тайных планах отводилась роль преемника. Но будучи суеверным, он не любил чётные числа, повторяя римскую пословицу non с’е’ due senza tre, соответствующую нашей присказке — Бог троицу любит, пришлось поменять композицию. За папой слева изображён кардинал Джулио Медичи, внебрачный сын дяди Джулиано Медичи, павшего от рук наёмного убийцы. Для полноты картины в последний момент был добавлен новоиспечённый кардинал Луиджи де Росси, сын тётки Льва X, считавшейся внебрачной сестрой Лоренцо Великолепного. Вопрос с внебрачным потомством в семействе Медичи решался довольно просто — всё делали деньги.
К написанию портрета папы в окружении двух кардиналов-бастардов Рафаэль отнёсся с особой ответственностью, продумав каждую деталь композиции. Перед Львом X на покрытом красным сукном рабочем столе лежит раскрытое Евангелие от Иоанна, божественного покровителя папы, в миру Джованни. Рядом серебряный колокольчик и окуляры. Страдая с детства близорукостью, Лев X был вынужден пользоваться, помимо окуляров, увеличительной линзой, зажатой в руке. Спинка папского кресла, обитого красной дамасской тканью, украшена позолоченным медицейским шаром, в котором отражается окно, деталь, явно заимствованная у фламандских живописцев.
Тройной портрет с преобладанием в нём пурпурного и красного цветов дан на тёмном сероватом фоне, чтобы подчеркнуть градацию тонов. В глубине проглядывает деталь архитектурного декора в виде пилястра и карниза, что по замыслу автора должно характеризовать Льва X как созидателя и строителя главного христианского храма. Облачённый в светлый атласный подрясник с накинутой поверх пурпурной бархатной пелериной, отороченной горностаем и на такой же меховой подкладке, папа в шапочке на голове тоже пурпурного цвета изображён погружённым в думу о прочитанном или увиденном с помощью лупы в миниатюрах Евангелия. Его взгляд устремлён в сторону. По сытому одутловатому лицу с двойным подбородком можно судить лишь о том, что понтифик не иссушал свою плоть постами, молитвами и ничто мирское ему не было чуждо.
Столь непохожие друг на друга в кардинальских сутанах сводные братья-бастарды, стоящие за спиной папы, наделены индивидуальностью. Их головы на уровне головы папы, словно он сидит на возвышении. Эти три вертикали придают композиции компактность и торжественность. На выразительном лице Джулио Медичи запечатлено ожидание того счастливого момента, когда он займёт место кузена, и потому внимательно вглядывается в рыхлое лицо в надежде увидеть признаки прогрессирующей болезни. Рафаэль не мог знать, как в дальнейшем развернутся события, но сумел точно передать во взгляде Джулио Медичи его сокровенную мечту дождаться своего часа.
Вцепившийся обеими руками в папское кресло, Луиджи де Росси устремил подозрительный взгляд на художника, словно опасаясь, как бы тот не вывернул его натуру наизнанку. О способности Рафаэля придавать зримость сокрытому в тайниках души он знал не понаслышке. Достаточно было взглянуть на портрет пройдохи Биббьены, в чьём образе запечатлена вся лживая суть папского двора. А кардиналу де Росси было что скрывать, ибо вырос он в атмосфере наушничества, зависти и коварства, переходя мальчиком после смерти матери от одного благодетеля к другому, и за обладание кардинальской шапочкой пришлось многим поступиться. Но в 1519 году он неожиданно умер в расцвете лет. О причине его скоропостижной смерти история умалчивает, храня многие неразгаданные тайны дома Медичи.
Лев X верил в магию нечётных чисел, но тот год оказался для него и его клана воистину несчастливым. Да и в политике не всё складывалось удачно. Как ни противился он и какие ни строил козни, девятнадцатилетний Карл V Габсбургский всё же был избран императором Священной Римской империи, что не прошло Риму даром. Месть молодого императора ощутил на собственной шкуре Джулио Медичи, следующий избранник на папском троне под именем Климента VII.
Эти направленные в разные стороны взгляды персонажей придают композиции особый смысл и звучание. Пристальный взгляд Джулио Медичи и руки Луиджи де Росси, цепко ухватившиеся за папское кресло, дают полную картину царившей в Ватикане атмосферы. Папа остался доволен увиденным, решив пока оставить картину в своём кабинете и не выставлять её рядом с портретом Юлия в церкви Санта-Мария дель Пополо, как советовал Биббьена. Но вскоре портрет решено было отправить во Флоренцию, поскольку Лев X, намеревавшийся побывать на помолвке племянника Лоренцо Медичи с французской принцессой, о чём было широко объявлено, неожиданно слёг. После очередного пышного банкета у Агостино Киджи дал о себе знать свищ, уложивший папу-гурмана с коликами в постель.
Целая команда такелажников под присмотром Рафаэля тщательно упаковала «Портрет папы Льва X с двумя кардиналами» (Флоренция, Уффици), и картина отправилась в путь. Во Флоренции ей была устроена торжественная встреча, словно понтифик собственной персоной пожаловал в своё родовое гнездо. Портрет был выставлен на всеобщее обозрение во дворце Медичи на улице Ларга, где когда-то разгорались бурные страсти по поводу картонов Микеланджело и Леонардо. Как же изменилась на сей раз атмосфера, когда взорам флорентийцев предстала новая работа незабытого ими «божественного» Рафаэля. Её высоко оценили флорентийские мастера, а Андреа дель Сарто снял с неё копию, хранящуюся ныне в неаполитанском музее.
Однажды Рафаэля навестил вернувшийся из Флоренции литератор Пьетро Аретино и подробно рассказал о состоявшихся там торжествах. Этот вездесущий борзописец не мог упустить столь важное событие. Через него Рафаэль узнал, что во дворце Медичи побывал и Микеланджело, чтобы взглянуть на новую работу соперника, вызвавшую бурю восторга у флорентийцев.
— Он ни словом не обмолвился о портрете, — признался Аретино, — как я ни настаивал. Не могу понять, чем вызвана его неприязнь к вам?
— Это и мне непонятно, — ответил Рафаэль, — хотя делить нам с ним нечего.
Действительно, не скрывая своего восхищения творениями Микеланджело, он не разделял его трагического взгляда на мир, ибо ему это было чуждо. Ныне Микеланджело тщился создать конкуренцию в лице Дель Пьомбо, снабжая того своими рисунками. Когда Аретино спросил, что он думает по этому поводу, Рафаэль не удержался и прямо заявил:
— Невелика честь соперничать с беднягой, не умеющим даже как следует рисовать.
Возможно, ему не стоило откровенничать с Аретино, известным интриганом и непревзойдённым мастером сталкивать людей лбами. Вскоре оброненные Рафаэлем слова были доведены до слуха Дель Пьомбо, усугубив его вражду к удачливому коллеге, о котором уже поговаривали в светских кругах близких ко двору как о будущем кардинале или апостольском князе.
Наступивший 1518 год оказался для художника очень плодотворным. Работа над рисунками для фресковых росписей, над портретами и эскизами для шпалер очень утомила Рафаэля. Чуть ли не ежедневно ему приходилось встречаться с папой и его ближним окружением, выслушивая советы, которые он тут же забывал, и пожелания. Во время одной из встреч после сочельника папа был с ним особенно ласков и под конец, нацепив на нос окуляры, зачитал выдержку из частного письма с рождественскими поздравлениями короля Франциска I. В нём было выражено желание монарха иметь в своей коллекции хотя бы одну работу «прославленного Рафаэля», о котором ему столько чудесного рассказывал гостящий в одном из его замков Леонардо да Винчи.
— Видите, любезный наш сын, — сказал папа, передав зачитанное письмо секретарю, — какого мнения о вас наш друг король. Для поддержания добрых отношений с французским двором нам бы хотелось удовлетворить это желание. На вас мы возлагаем надежды — больше не на кого.
Рафаэля взволновали слова о том, что великий Леонардо помнит о нём и тепло отзывается. Как тут не выполнить пожелание папы! Недолго думая он засел за работу над «Святым семейством» (Париж, Лувр) для французского короля, с такой теплотой отозвавшегося о нём. На эту тему им было написано множество работ, и в конце марта картина была готова, о чём говорит надпись Raphael Urbinas pingebat MDXVIII, которая читается на голубом плаще Мадонны.
Дева Мария в розовой тунике берёт на руки сына, который, покинув деревянную люльку, протягивает ручки к матери. Над ними стоит задумавшийся Иосиф, подперев голову рукой, а левее Елизавета с маленьким Иоанном Крестителем, которого она учит, как, сложив ручки, молиться Спасителю. Здесь же два ангела с букетом ранних полевых цветов, приветствующие Святое семейство.
При написании картины Рафаэль был связан сроками, так как работа предназначалась в дар королеве по случаю рождения наследника, крещение которого было назначено на 25 апреля в Амбуазе. Картину безусловно мог видеть проживавший там Леонардо да Винчи, но сведений об этом не сохранилось. Крёстным отцом выступил Лоренцо Медичи, доставивший «Святое семейство» во Францию в качестве дара папы. Там же в Амбуазе в мае была отпразднована свадьба папского племянника и Мадлен де ла Тур д’Аверньи. Молодожёны были связаны узами родства с королевской четой. Можно с полным основанием предположить, что Рафаэль хотел там побывать вместе со своей картиной и увидеться с Леонардо да Винчи. Но вряд ли Лев X позволил бы ему покинуть Рим, где нужно было завершить работу над второй картиной для французского короля.
В начале июля вторая написанная Рафаэлем картина, предназначенная лично для короля Франциска I, была закончена. Это «Св. Михаил, поражающий Сатану» (Париж, Лувр). Рафаэлем эта тема уже затрагивалась в своё время после бесед со знающим Матуранцио о Данте. Архангел Михаил считается покровителем Франции. Новая картина полна динамизма и построена на контрастах. Молодой стройный воин гордо стоит над поверженным Сатаной, судорожно пытающимся увернуться от смертельного удара. Согласно подписанному в Болонье конкордату, Франциску I отводилась роль регента ордена святого Михаила Архангела как защитника интересов Церкви. Известно, что эту работу любил король Людовик XIV и она висела над его троном.
Дель Пьомбо, видевший обе эти работы, 18 июля отправил во Флоренцию письмо Микеланджело, полное ненависти и злобы, к тому, кто на первых порах его ласково приветил и поддержал: «Жаль, что Вас нет в Риме и Вы не можете лицезреть две картины, написанные для Франции нашим принцем синагоги (так в насмешку он называл Рафаэля). Я уверен, что Вам даже трудно себе вообразить нечто более противное Вашим представлениям. Достаточно сказать, что фигуры кажутся прокопчёнными дымом и сделаны из жести…»66 Объективности ради следует заметить, что такой оценки заслуживают многие работы самого Дель Пьомбо. Безусловно это был большой мастер, которому от природы многое было дано, но он не сумел развить свой талант в полной мере, и ему явно недоставало священного трепета и одушевлённости работой, что не позволило приблизиться к Рафаэлю, чего так хотел от него Микеланджело.
Судьбе было угодно, словно в насмешку, столкнуть Рафаэля со своим злобным завистником. В результате активного сближения между Парижем и Ватиканом кардинал Джулио Медичи был назначен на пост епископа города Нарбонн на юге Франции. Польщённый кардинал решил подарить местному собору две картины, одну заказав Рафаэлю, а другую Дель Пьомбо. Зная о взаимной неприязни художников, коварный прелат намеревался извлечь выгоду из подстроенного им состязания. Но не сидел сложа руки и Агостино Киджи, и его слово оказалось весомее, чем срочный заказ Джулио Медичи. Рафаэль пообещал кардиналу написать картину чуть позже.
Вне себя от радости Дель Пьомбо сразу же приступил к работе над картиной «Воскрешение Лазаря», полагаясь на действенную помощь обожаемого друга Микеланджело, который создал для его картины не только общий рисунок композиции, но и эскизы отдельных фигур, включая самого Лазаря. Прослышав о таком сотрудничестве, Рафаэль в разговоре с друзьями как-то заявил, что польщён честью состязаться, но не с завистливым неумехой венецианцем, а с самим Микеланджело. Биограф Кондиви приводит известное высказывание Рафаэля о том, что он благодарен Небу за счастье быть современником Микеланджело.
После совета с друзьями решено было использовать для росписей в Фарнезине сюжеты из «Золотого осла» Апулея, который перевел на разговорный язык vulgo поэт Бойярдо, был издан в Венеции в 1508 году и пользовался успехом в светских кругах. Был перевод Анджело Фиренцуолы, но, как казалось, слишком вольно обращавшегося с оригиналом. Заказчик предложил перевод Апулея, сделанный давним другом Филиппом Бероальдо Старшим, дядей тёзки общего знакомого и папского секретаря. Рафаэль вспомнил, как в школе наставник Вентурини увлечённо пересказывал в классе отдельные эпизоды из книги Апулея, и решил не следовать за автором слепо, дав своё неоплатоническое видение античной мифологии, что позднее вызвало немало критических замечаний, а швейцарский историк Я. Бурхгардт в известном труде «Цицерон» (1855) писал: «…чтобы разобраться в росписях лоджии Психеи, следует держать в руках текст Апулея», настолько впечатляющим оказалось его живописное истолкование.
По иронии судьбы хозяин дворца Фарнезина и художник оказались в одинаковом положении, будучи вынужденными скрывать предмет своих воздыханий. Агостино окончательно охладел к возлюбленной Маргарите, о чём оповестил своего несостоявшегося тестя герцога Франческо Гонзагу, но заверил его, что не оставит без средств его внебрачную дочь с детьми, построив ей роскошную загородную виллу. Банкир мечтал ввести в свой «храм любви» упрятанную от сторонних глаз в монастырь юную венецианку Франческу Ордеаски, которая давно уже владела его сердцем. Скучая в монастырской келье, венецианка не поддалась соблазну, сумев удержаться и не пойти по уготованному ей пути проститутки, так как стареющий Киджи без неё дня не мог прожить.
Как и хозяин Фарнезины, Рафаэль неожиданно для всех воспылал новой страстью к одной незнакомке из квартала Трастевере, населённого в основном городской беднотой, где дворец Фарнезина выглядел оазисом в пустыне. Как пишет Вазари, Рафаэль не мог даже работать, если возлюбленной не было рядом. Но свою страсть держал в тайне, на что у него были свои основания. Её подлинная личность была установлена лишь в конце XVII века, и в историю она вошла как Форнарина, чьё имя обросло легендами.
Согласно одной из них, Рафаэль повстречал девушку рядом с «райским садом» дворца Фарнезина. Ярко освещённая солнцем, она стояла у забора, залюбовавшись цветами в саду. Привлечённый тонким станом миловидной незнакомки, он подошёл к ней и, представившись, предложил ей войти в сад вместе.
— Я живу по соседству, — сказала она, назвавшись Маргаритой, — и давно мечтала побывать в дивном саду.
Так состоялось знакомство с Маргаритой. Прогуливаясь с ней по аллеям и показывая диковинные растения, он увлечённо рассказывал ей о любовных историях, которые ему предстояло запечатлеть на фресках дворца, и предложил позировать для одной из картин. Она смутилась, ответив, что для этого ей нужно спросить разрешения отца и жениха. Упоминание о женихе несколько озадачило Рафаэля. Однако из дальнейшего разговора ему стало понятно, что замуж она собирается вовсе не по любви.
— Стыдно ведь в семнадцать лет оставаться девственницей, — простодушно призналась Маргарита. — Не правда ли?
Такая прямота окончательно его подкупила, и вскоре он приступил к написанию её портрета, объявив друзьям, что наконец-то нашёл Психею, а его щедрые подарки девушке возымели действие, заставив забыть о получении согласия отца и жениха, если таковой на самом деле существовал, а не являлся плодом девичьих мечтаний. Однако в письмах Рафаэля и его друзей о ней нет упоминания, равно как и в составленном художником завещании, хотя известно, что кроме родственников и учеников крупная сумма была завещана им одной любимой женщине, но имя её так и осталось тайной.
Действительно, как выяснилось из архивных документов, на улице Санта-Доротея проживала некая девица по имени Маргарита, дочь уроженца Сиены пекаря Франческо Лути (от ит. fomaio — пекарь), наречённая молвой прозвищем Форнарина и окончившая свои дни в приюте для бедняков. В книге умерших она значится как meretrice. До сих пор гиды, водящие туристов по Риму, останавливаются на улице Санта-Доротея перед домом пекаря, ставшим достопримечательностью, и рассказывают очередную легенду о Рафаэле и Форнарине.
Но была ли она той самой моделью, что позировала ему в зале Психеи дворца Фарнезина и запечатлена на довольно откровенном римском портрете, выставленном во дворце Барберини? На нём в верхнем углу различимы листья айвы как символ плотской любви. Вряд ли удастся установить личность модели. Само имя Форнарина стало нарицательным, олицетворяющим всех женщин, которых в разное время любил художник в римский период жизни. Но портрет Форнарины, как принято его называть, значительно отличается от других изображений незнакомок своей откровенной эротикой. Взять хотя бы флорентийский портрет молодой женщины с единорогом на коленях или донну с вуалью. В них нетрудно ощутить выраженное чувство любви художника и любование их красотой, а здесь всё подчинено одному только низменному плотскому вожделению, удовлетворить которое модель явно готова, и вряд ли можно говорить о более глубоком чувстве.
Рафаэль безусловно знал об истинной профессии повстречавшейся ему на Трастевере девицы, да она её и не скрывала, что являлось причиной частых ссор. Но, как говорится, сердцу не прикажешь, и он постарался несколько поднять её социальный статус и облагородить, изобразив девицу в модном тюрбане дамы высшего круга. Она вызывала в нём страстные желания, и он не мог их скрыть, рисуя её обнажённое тело и манящий взгляд чёрных как смоль глаз. Из картины «Дама с вуалью» им перенесена сюда та же жемчужная брошь, вдетая в волосы Форнарины. Как ни старался Рафаэль держать в тайне свою похотливую страсть, молва вскоре разнесла по всему городу новость о его новой пассии, которая обрастала самыми невероятными подробностями.
Имя заказчика картины, если таковой был, осталось неизвестным, и «Портрет Форнарины» украшал одну из гостиных дворца Каприни. Считается, что после смерти автора портрет дописал Джулио Романо и для придания большей ценности картине украсил левое предплечье модели браслетом с надписью Raphael Urbinas.
Не исключено, что именно с таинственной незнакомкой, столь откровенно позировавшей и возбуждавшей плотские чувства в Рафаэле, связан его последний сонет, в котором он выплеснул охватившую его страсть:
В так называемом портрете Форнарины раскрыта не только чувственная натура героини, но и её властный характер, подавляющий волю партнёра. Чего стоит хотя бы взгляд, манящий и в то же время требовательный. Чтобы отрешиться от наваждения и обрести внутреннее равновесие, Рафаэль пишет почти одновременно картины «Святое семейство под дубом» и «Жемчужина» (обе Мадрид, Прадо). На первой под развесистым дубом сидит Мадонна в красном хитоне и зелёном плаще. Она держит на колене голенького Младенца, играющего свитком с надписью Ессе Agnus Dei в руках мальчика Крестителя и с хитрецой поглядывающего на мать, чья левая рука опирается на языческий жертвенник с барельефом фигур вакханок. На детей задумчиво смотрит Иосиф, подперев подбородок рукой. На переднем плане люлька и основание античной колонны с обломком капители, а вдали видны изгиб реки и предзакатное небо. Вокруг тишина и покой, которого так недоставало в то время самому художнику, перегруженному заказами и бурными страстями.
Вторая картина обязана своим названием испанскому королю Филиппу IV, считавшему её жемчужиной своей коллекции. Поразителен по красоте профиль Девы Марии, задумчиво склонившейся над играющими детьми. В этом взгляде столько нежности и любви! Картина была заказана другом Лoдовико да Каносса, занимавшим ответственный пост при дворе и явившимся одним из участников ночных бдений, описанных Кастильоне в книге «Придворный».
Фрески зала Психеи в Фарнезине — это одна из ярчайших страниц творчества позднего Рафаэля и последняя, так как больше фресковой живописью он не занимался. За советом Рафаэль обратился в письме в Перуджу к старому другу Матуранцио, но в ответном письме было сказано, что учёный недавно скончался, и это глубоко опечалило Рафаэля. Для него это была невосполнимая потеря, когда надлежало вплотную иметь дело с мифологией и покойный друг мог оказать неоценимую помощь в работе. Пришлось полагаться на собственное чутьё и знания.
В основу росписей легла история героини Апулея. Известно, что Психея старалась хранить в тайне свою любовь к Амуру, сыну Венеры, ревностно относившейся ко всем, кто осмеливался соперничать с нею в красоте. В отличие от фресок в ватиканских станцах, выдержанных в строго канонических рамках религиозной морали, расписанный Рафаэлем и учениками зал или лоджия Психеи является выдающимся творением фресковой живописи сугубо светского содержания с большой дозой здоровой эротики, поскольку росписи осуществлялись молодыми художниками, задавшимися целью возродить дух античной культуры вопреки укоренившимся в сознании людей условностям.
История любви Психеи и Амура несмотря на козни завистливой Венеры заканчивается двумя яркими многофигурными вакханалиями «Совет богов» и «Свадебный пир», поражающих откровенной наготой героев. Здесь Рафаэль пошёл на нарушение декоративных принципов классического стиля, согласно которым потолок рассматривается как реальная непроницаемая плоскость. У него же путем компромисса поверх глухой поверхности потолка как бы натянуты лёгкие ложные шпалеры с двумя картинами, закреплённые такими же рисованными крюками.
Форма потолка лоджии в уменьшенном размере напоминает плафон Сикстинской капеллы. С потолка свешиваются гирлянды экзотических цветов и фруктов, а под ними по горизонтали расположены десять парусов, окаймлённых цветочным орнаментом, и четырнадцать люнет. Всё это представляет собой невиданное ранее в живописи торжество обнажённой натуры мифологических персонажей.
Из цветущего сада с фонтаном, питаемым водами Тибра, попадаешь в лоджию Психеи с её роскошной зеленью на стенах и своде. После открытия Нового Света в Италии появилось множество экзотических растений и плодов необычной формы, особенно привлекают внимание продолговатые узкие тыквы и другие неведомые ранее плоды, смахивающие на гениталии. Такие эротические орнаменты особенно удавались Джованни да Удине, да и другие помощники любили изощряться в написании пикантных подробностей, что всячески поощрялось заказчиком, внимательно следившим за ходом работ, который со свойственной ему щедростью одаривал исполнителя за каждое удачное смелое решение.
Мужские и женские обнажённые фигуры в отличие от библейских героев Микеланджело в Сикстинской капелле источают безудержную радость бытия. Это особый мир торжества свободы волеизъявления, поступков и чувств, лишённых предрассудков. В первом треугольнике на торцевой стене слева сидящая на облаке Венера во всей красе своей наготы просит Амура покарать Психею, и юнец грозно поднял стрелу, которой вскоре сам окажется сражённым. На противоположной торцевой стене летящий нагой Меркурий с вестью, что Венера пообещала семь поцелуев тому, кто отыщет ненавистную Психею.
На продольной стене с главным входом, ведущим в дворцовые залы, изображены три грации, которым Амур указывает на пленившую его Психею. Это одна из лучших фресок цикла, где с помощью светотеневых переходов моделируются фигуры трёх обнажённых красавиц. Каждая сцена представляет собой вольную авторскую трактовку одного из эпизодов книги Апулея и все фигуры наделены своей неповторимой грацией и индивидуальностью. Получился идеальный мир, полный поэзии, гармонии, света и красоты. Его обитатели преисполнены жизненной достоверности, свободно выражая свои чувства.
В разгар работы над фресками в лоджии Психеи в мае 1519 года из Франции пришла печальная весть о кончине Леонардо да Винчи. Рафаэль тяжело переживал эту утрату, будучи не в силах до конца в неё поверить. Как много для него значил этот великий человек, как часто он обращался к нему в своих мыслях! Ему так недоставало его мудрого спокойствия и рассудительности. Ещё в июле прошлого года у него появилась счастливая возможность отвезти готовую картину «Архангел Михаил» во Францию и посетить Леонардо в Амбуазе, и он рвался отправиться туда вместе с картиной. Но поездка не состоялась из-за глупого упрямства папы, опасавшегося, как бы Франциск I не переманил его к себе, на что намекал Биббьена, которому и было поручено вручить картину королю. Рафаэль жестоко корил себя за малодушие, не позволившее ему настоять на своём и отправиться с картиной во Францию. Ведь хватило же ему смелости вступиться за жизнь приговорённого к смерти юного урбинца! Отчего же теперь не настоял на своём? Этого он не мог себе простить.
По возвращении тот же Биббьена передал просьбу короля иметь в своей коллекции портрет Джованны Арагонской, шестнадцатилетней невесты Асканио Колонны, неаполитанского военачальника. Девушка была известна своей красотой и начитанностью. Папе пришлось вновь уговаривать «любезного сына» взяться за исполнение заказа во имя поддержания добрых отношений с королём Франциском.
— Сегодня для нас так важны дружеские отношения с Францией, когда вокруг столько врагов, — убеждал он художника, не забывшего прежней обиды.
В Неаполь, где проживала юная родственница французского короля, Рафаэль не поехал, а отправил туда Джулио Романо. Увидев перед собой вместо прославленного Рафаэля, слава о котором гремела по всей Европе, его невзрачного чернявого помощника, герцогиня вдруг закапризничала, отказавшись позировать. Находчивому Джулио Романо удалось хитростью уладить дело.
— Ваша светлость, — заявил он, — я всего лишь сниму мерку, а уж великий мастер как опытный кутюрье изготовит по ней платье, то бишь портрет.
По рисунку помощника Рафаэль написал только голову и руки, остальное дописал Джулио Романо (Париж, Лувр). Молодая дева изображена вполоборота влево. Её златокудрую голову прикрывает широкополая шляпа из красного бархата, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. По тонко написанному красивому лицу невозможно определить отношение Рафаэля к модели. По всей видимости, её холодная красота оставила его равнодушным, зато очень выразительно написаны руки с изящными запястьями и тонкими пальцами. А вот Джулио Романо, дописывая портрет, проявил себя незаурядным портным, облачившим модель в роскошное одеяние. Фоном служит открытая дверь на балкон, выходящий в сад.
Перед отправкой королю портрет был выставлен на обозрение в одном из ватиканских залов, вызвав восхищение придворных. Чтобы сделать приятное папе, который ревностно относился к работам «любезного сына» для других, Рафаэль попросил выставить ещё и только что написанный им «Портрет скрипача» (Париж, собрание Ротшильда). Считается, что на портрете изображён поэт, импровизатор и певец Андреа Мороне из Брешии, аккомпанировавший себе на скрипке, а инструментом владел он виртуозно. Его выступления пользовались большим успехом при дворе. Лев X высоко ценил в его исполнении народные песни и баллады. Рафаэль любил писать красивые лица, и это один из лучших его мужских портретов.
Скрипач изображен по пояс, резко повернувшись спиной к зрителю и зажав в левой руке смычок, лавровую ветвь и цветок бессмертника. Вопрошающий умный взгляд знающего себе цену человека направлен через плечо, а половина выразительного лица остаётся в тени. На голове берет из чёрного бархата, из-под которого до плеч ниспадают прямые тёмные волосы. На нём зелёный плащ с отделкой из бархата с широким воротником из беличьего меха.
Надо признать, что, помимо приспешников Микеланджело, свою лепту в его соперничество с Рафаэлем внесли и некоторые искусствоведы, которые упорно приписывали «Портрет скрипача» кисти Дель Пьомбо, рассматривая его как достойного конкурента Рафаэлю. Но как можно согласиться с таким мнением, даже признавая, что в этой работе колорит напоминает палитру венецианских мастеров? Да и вряд ли Дель Пьомбо был способен написать столь проникновенный образ с тонкими оттенками душевного состояния.
Узнав о намечаемом состязании между двумя мастерами, римская художественная элита с нетерпением ждала исхода события. В конце мая 1519 года картина Дель Пьомбо «Воскрешение Лазаря» была закончена, но до отправки во Францию была выставлена в одном из ватиканских залов в ожидании того, когда Рафаэль завершит свою труд, но он не спешил. Его натуре был чужд дух соперничества. Лишь однажды по молодости он позволил себе непростительную вольность — бросить дерзкий вызов самому Перуджино, за что до сих пор корит себя. Так и не дождавшись работы соперника, картина Дель Пьомбо в декабре была отправлена, как и обещано, в Нарбонн.
В середине лета в Риме объявился Ариосто со своей новой комедией, намеченной к постановке на сцене дворца Канчеллерия. Вместе с Бембо он навестил Рафаэля в надежде склонить его к написанию декораций. Но художник был весь в работе, и встреча произошла перед большой почти наполовину написанной картиной. Тактичный Ариосто понял, что не время заводить речь о своей комедии, к тому же Бембо пустился в длинные рассуждения о начатой картине, убеждая, что следовало бы остановиться и не продолжать далее, ибо главное на ней уже выражено.
Не желая, видимо, разубеждать и спорить с другом кардиналом, Рафаэль поинтересовался у Ариосто, что нового в мире. Тогда, ссылаясь на своих французских друзей-очевидцев, Ариосто поведал о последних днях жизни Леонардо. Великий мастер тихо умер погожим майским днём, «всем своим обликом являя подлинное олицетворение благородства знаний». Рафаэлю вспомнились однажды услышанные в разговоре слова Леонардо: «Подобно тому, как разумно и дельно проведённый день одаривает нас безмятежным сном, так и честно прожитая жизнь дарит нам спокойную смерть».
Глава XXII ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО
С думами о великом творце, являвшемся совестью эпохи, Рафаэль продолжил работу над своей последней картиной. Вначале он намеревался писать Воскресение Христа и подготовил несколько рисунков, но вскоре оставил этот сюжет и приступил к написанию на дереве большой картины размером 405x378 сантиметров «Преображение» (Ватикан, Пинакотека), в которой с наибольшей остротой выражено разочарование в классических идеалах. Его чуткая натура не могла не видеть трагедию, переживаемую искусством Высокого Возрождения, главные заказчики которого — королевские дворы, высшие иерархи Церкви и аристократия — думали только о наслаждении жизнью, не замечая, что она проходит мимо и надвигается пора жестокой расплаты за излишества и забвение интересов простого люда, осуждённого на унижение, бесправие и нищенское существование.
Всё это нашло отражение у Рафаэля в последнем его контрастном творении, поделённом на две части. Вслед за свершившимся Преображением он изображает, согласно Евангелию от Матфея (гл. XVII, 15), сцену с бесноватым отроком. Если сверху покой и возвышенность чувств, то внизу — сущее безумие со всеми земными бедами и безверием.
В верхней половине — на горе Фавор, куда Христос по прошествии шести дней после памятного разговора с учениками о душе и вере поднялся вместе с Петром, Иаковом и его братом Иоанном, произошло чудо и Спаситель преобразился перед ними, дабы убедить их в своей божественной сути. Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. В нём был источник силы и божественного света, который привлёк показавшихся ветхозаветных пророков Моисея со скрижалями и Илию с книгой в руках.
Ослеплённые ярким сиянием ученики остались на краю горы, поражённые произошедшим чудом Преображения. Согнувшись в коленях, Пётр закрывает лицо руками от ослепляющего света. Иаков облокотился на камень, поднеся руку к поражённым сиянием глазам. Иоанн, пятясь назад, старается защитить глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Их фигуры написаны в уменьшенном масштабе, что позволило художнику композиционно связать их с землёй.
Слева, вопреки евангельскому источнику, изображены по просьбе кардинала Джулио Медичи две фигуры у дерева. Одна из них, по всей видимости, святой Лаврентий, покровитель великого деда заказчика. Обе фигуры слабо освещены и не нарушают единства действия. Если бы Рафаэль прислушался к совету того же Бембо и ограничился написанием только верхней половины, картина была бы величайшим творением эпохи Высокого Возрождения.
Позднее критики увидели в этом произведении начало изощрённого маньеризма, хотя Рафаэль проявил удивительную верность прочтения и толкования священного текста, что находит подтверждение в известной ему византийской традиции, и вполне правомерно добавить, что такое же подтверждение можно обнаружить и в древнерусской иконописи. Например, психологическое потрясение, испытанное учениками Христа на горе Фавор, у Рафаэля сродни тем чувствам, которые вызывает икона Преображение, написанная в 1395 году в Спас-Подгорье под Ростовом Великим и показанная в 2005 году в нью-йоркском музее Гуггенхейма на тематической выставке «Русь», вызвавшей огромный резонанс.
Как пишет Вазари, это была последняя вспышка гения Рафаэля при написании прекрасного лика Христа. Закончив работу, он отложил кисть в сторону, словно понимая, что ничего лучшего создать больше не сможет, да и чувствовал себя неважно. Однако до того, как он серьёзно заболел и слёг, у него созрел общий замысел нижней половины картины и он оставил эскизы почти для каждой фигуры. Считается, что выразительная поза одного из апостолов в нижнем левом углу, сидящего с книгой у пруда, целиком написана Рафаэлем.
Нижняя половина как бы поделена образовавшимся проёмом между двумя группами собравшихся людей. Слева сгрудились девять апостолов, справа — бесноватый отрок с родителями, сестрой и простолюдинами, взывающими о помощи. «Преображение» — это два контрастных мира. В одном — тишина и безмолвие на горе Фавор, в другом — глубокое волнение, вызванное чудесным исцелением отрока. Как можно судить по картине, только один мальчик из всех стоящих на земле людей сподобился увидеть Преображение Господне и исцелиться. Но оба эти случая не трактуются Рафаэлем как объективные события. Он их преподносит как субъективное отражение через чувства зрителей, которые по-разному воспринимают увиденное.
Завершал картину Джулио Романо. К сожалению, он использовал краску nero di fumo, обладающую предательским свойством: поначалу тона у неё прозрачные и сильные, но с годами она так темнеет, что фигуры становятся неразличимыми.
Кардинал Джулио Медичи решил не отправлять картину в Нарбонн, дабы не лишать римлян возможности любоваться последним творением Рафаэля. Он подарил «Преображение» церкви Сан-Пьетро ин Монторио, где оно находилось до 1757 года, и с него была снята мозаичная копия для собора Святого Петра. Но и это последнее творение Рафаэля не избежало злой участи, оказавшись среди других произведений искусства, конфискованных французами в качестве военных трофеев. Лишь в 1815 году «Преображение» обрело постоянное место в Пинакотеке Ватикана.
Несмотря на занятость Рафаэля, который буквально разрывался между строительной площадкой собора Святого Петра и археологическими раскопками в разных районах Рима, друзьям удалось уговорить его написать декорации к комедии Ариосто Suppositi («Подменённые герои»), занимательная фабула которой напомнила ему некоторые эпизоды собственных амурных похождений. Он не мог отказать другу Ариосто, не терявшему надежды добиться обещанных когда-то привилегий от папского двора, хотя в лице кардинала Биббьены имел серьёзного соперника.
На премьере присутствовали папа и вся римская знать. Когда после увертюры в исполнении небольшого оркестра под управлением любимца публики маэстро Мороне раскрылся занавес, зал разразился аплодисментами при виде яркого неба над цветущим садом. Расписанный Рафаэлем и учениками задник благодаря перспективному решению углубил сценическое пространство. Небо с плывущими облаками, освещёнными необычно слепящим светом, живо напоминало верхнюю половину незаконченного «Преображения». После премьеры в кругу друзей сияющий от радости Ариосто заявил, что успеху спектакля в значительной степени способствовали великолепные декорации Рафаэля, с чем нельзя было не согласиться.
По завершении работы во дворце Фарнезина, накануне праздника Преображения, в августе 1519 года произошло событие, всколыхнувшее весь Рим. Агостино Киджи в присутствии папы Льва X и всего ватиканского двора устроил бракосочетание с юной венецианкой Франческой Ордеаски, и сам понтифик надел на пальцы новобрачным кольца. Умная не по годам венецианка добилась своего, подчинив себе Агостино Киджи то ли чарами, то ли колдовством. После торжественной церемонии бракосочетания был дан приём в залах, расписанных фресками на фривольные темы. Счастливый хозяин дворца и на этот раз решил удивить собравшийся на празднество высший свет своими чудачествами.
Банкет изобиловал разнообразием яств и роскошью специально изготовленной по такому случаю позолоченной посуды и столовых приборов с вензелями. После каждой смены блюд слуги, словно сошедшие с фресок фавны в ярких набедренных повязках, собирали использованную посуду и, выйдя на террасу, выбрасывали содержимое подносов в Тибр, что производило ошеломляющее впечатление на собравшихся. Многие из гостей при каждом всплеске воды вздрагивали и инстинктивно вскакивали с мест, видя, как слуги хладнокровно выбрасывают в реку позолоченную посуду, приборы и хрустальные бокалы.
Никто из гостей не догадывался, что это была хитрая уловка — под водой была натянута крепкая металлическая сетка, в которой оседала на мягкой подкладке выброшенная посуда. Как ни старались некоторые смельчаки, собравшиеся на противоположном берегу, поживиться, ныряя в мутные воды Тибра, их усилия оказались тщетны — металлическая сетка-ловушка была снабжена крепким колючим ограждением, а затем предусмотрительно вытянута на поверхность.
Побывавший на празднестве во дворце Фарнезина Леонардо Селлайо в письме Микеланджело подробно описал это событие и назвал фрески Рафаэля в лоджии Психеи постыдными (vituperi), позорящими высокое звание художника, выразив надежду, что друг Дель Пьомбо сможет вскоре своими работами затмить хвалёного урбинца.
После памятного приёма, наделавшего немало шума, в доме Рафаэля собрались друзья.
— Вы заметили, — спросил Бембо, — как в глазах Его Святейшества вспыхивали искорки зависти при виде чудачеств Агостино? Это ему даром не пройдёт.
— Чего только не делают деньги с людьми, — поддержал его Кастильоне. — Но Психея действительно удалась на славу. Сдаётся мне, дорогой Рафаэль, что следующим заказом банкира будет портрет его теперь уже законной возлюбленной.
— Если такой случай представится, — ответил Рафаэль, — беднягу Киджи ждёт жестокое разочарование, ибо увидит он отнюдь не Психею, а смазливую куколку, лживую и жадную до денег.
Говоря это, он подумал о Форнарине, с которой произошла очередная размолвка, и след её простыл. По всей видимости, именно тогда им был написан великолепный «Автопортрет с другом» (Париж, Лувр). По сравнению с предыдущими его изображениями Рафаэль выглядит здесь несколько старше, подурневшим и с потухшим взором — сказались огромная занятость и беспорядочная личная жизнь.
Вызывает интерес личность друга, которому Рафаэль положил руку на плечо. Его выразительный взгляд с признательностью обращён к художнику Высказывалось предположение, что это его ровесник Порденоне, оказавшийся в то время в Риме и подпавший под влияние живописи Рафаэля. Но Порденоне никак нельзя причислить к друзьям художника — по натуре он был завистлив и коварен, чего Рафаэль не терпел в людях. Предполагалось также, что это один из учеников Полидоро да Караваджо, значительно преуспевший в работе. Однако при всей любви к ученикам Рафаэль соблюдал некоторую дистанцию и, кроме преданного Бавьеры, никого из них не допускал в свой интимный мир. Возможно, на картине изображён близкий к кругу Биндо Альтовити тренер по фехтованию, правой рукой опирающийся на эфес шпаги. Но тогда возникает вопрос: зачем Рафаэлю понадобились уроки фехтования? Уж не собирался ли он вызвать на дуэль соперника — одного из богатых клиентов Форнарины? Эти вопросы остаются без ответа, как ни заманчива идея развить тему и поведать о некой романтической истории вскрывшейся измены и страстном желании свести счёты с соперником. Рафаэль никогда не поднял бы руку на человека — уж такова была его натура.
Приближались любимые всеми с детства рождественские праздники. Кроме Бавьеры и Перина дель Вага никто в мастерской не соблюдал пост — люди молодые и не столь уж крепкие в вере. Решено было установить presepio, то есть вертеп с яслями, где родился Иисус, искусно изготовленный кем-то из подмастерьев, в самом большом рабочем помещении дворца перед незаконченным «Преображением». Бавьера заранее заказал у пекарей традиционные рождественские panettoni — куличи (в Италии разговляются куличами именно на Рождество, а не на Пасху) и другие лакомства для праздничного стола. По традиции, заведённой Рафаэлем, в мастерской за рождественский стол усаживались все мастера и подмастерья со своими жёнами и подружками, как только в небе появится Вифлеемская звезда.
Рафаэлю вспомнилось, с какой любовью готовились в родительском доме к светлому празднику. Дед Санте собственноручно мастерил деревянные фигурки для вертепа, тётки Маргарита и Санта свои сюрпризы готовили на кухне, куда непосвящённым вход был строго-настрого запрещён. По дому носились служанки на подхвате у приглашённого портного, занятого последней примеркой нового платья для матери. Отец обычно руководил во дворце праздничным оформлением.
В канун Рождества из Брюсселя прибыли долгожданные шпалеры для Сикстинской капеллы. На торжественную мессу собрались весь синклит и римская знать. Больше всех радовался Лев X — наконец-то главная христианская капелла обрела подобающий ей торжественный вид.
Когда Рафаэль увидел в капелле шпалеры и взглянул на потолок, ему стало не по себе от такого сравнения. Насколько же проигрывало всё это златотканое тряпьё перед могучим спокойствием и благородством, которое излучали микеланджеловские пророки и сивиллы. Он дал себе зарок больше не приходить в капеллу, чтобы не испытывать разочарование. Ему до боли было досадно, что его картоны, в которые вложено столько чувства и старания, стали почти неузнаваемы, растворившись в обилии роскошного нитяного разноцветия с золотыми прожилками, от чего рябило в глазах. Ткачи додумались даже плащ Христа в сцене вручения ключей усыпать звёздочками. Бо́льшую безвкусицу трудно даже вообразить.
Напряжение последних двух-трёх лет стало сказываться на его здоровье. Особенно плохо он себя почувствовал на раскопках Золотого дома Нерона, после чего два дня провалялся в жару. Всё это заставило его быть более требовательным и отказывать некоторым докучливым заказчикам. Напористая маркиза Изабелла д’Эсте не переставала донимать Рафаэля письмами, которые исправно сочинял её секретарь поэт Марио Эквикола, не скупясь на восторженные эпитеты. Отчаявшись получить от художника небольшую картину на мифологический сюжет для studiolo, маркиза уговорила верного её двору Кастильоне заставить своего несговорчивого друга выполнить обещанный заказ. Тому действительно удалось сподвигнуть Рафаэля взяться за написание картины хотя бы в его присутствии. Но как только он покидал друга, тот откладывал в сторону кисть и палитру. Ему что-то мешало, не лежала душа к заказу, да и к самой заказчице. Обещания вконец заморочили голову маркизе — бедняжка так и не дождалась своей картины.
Не меньшую напористость проявлял и её брат феррарский герцог Альфонсо д’Эсте, действовавший через своего кузена кардинала Ипполита д’Эсте, посла при Ватикане, считая для себя зазорным лично обращаться к художнику, такому же простолюдину, как и его дворцовая челядь. Находясь вдалеке от Рима, герцог не мог знать, какое положение занимал Рафаэль в обществе на самом деле. В течение шести лет длилась переписка относительно заказанной Рафаэлю сцены вакханалии. Сохранилось шестьдесят семь архивных документов на эту тему, включая четырнадцать писем самого Альфонсо д’Эсте, в которых настоятельные просьбы чередовались с угрозами обращения в суд, что немало забавляло Рафаэля и его друзей. Последнее такое письмо датировано 21 марта 1520 года, но оно пришло к адресату с опозданием.
Рафаэля занимали другие дела, связанные с проектом генерального плана Рима. Он решил расширить мастерскую. Его уже не устраивал дворец Каприни, и 24 марта 1520 года (sic!), то есть за тринадцать дней до смерти, он приобрел обширный участок земли на одной из центральных улиц Джулия, пробитой в своё время неутомимым Браманте среди античных руин и названной в честь папы Юлия II. Рафаэль успел даже составить в общих чертах проект нового дворца, выдержанный в лучших традициях античной архитектуры, куда он мечтал привести, не таясь, любимую женщину и обзавестись семьёй.
Однажды, когда он был в Фарнезине по поводу очередного заказа, гонец привёз предписание немедленно явиться во дворец к папе. Несмотря на непогоду — с гор дул промозглый ветер трамонтана, Рафаэль, не найдя поблизости ни одного извозчика, побежал по набережной Лунгара к Ватикану. Когда, запыхавшийся, он предстал перед папой, на нём лица не было. Перепуганный Лев X распорядился немедленно уложить художника в постель.
По всей видимости, работая на раскопках, Рафаэль подцепил римскую лихорадку, анамнез которой до сих пор до конца не изучен. Его то бросало в жар, то знобило. Приставленные к нему врачи, как и в случае с его отцом Джованни Санти, пустили ему кровь, чтобы сбить температуру. Более недели шла борьба за его жизнь. В момент просветления сознания Рафаэль успел продиктовать нотариусу поправки к завещанию, беспокоясь лишь об одном — как бы не обойти кого-нибудь из дорогих и близких ему людей своей щедростью. Он по нескольку раз просил нотариуса перечитать ему то или иное место в завещании и тут же терял сознание. Как-то очнувшись среди ночи, он знаком попросил закрыть штору, так как от яркого света почувствовал резь в глазах. Но окно и без того было плотно зашторено.
— Свет, свет… — это были последние слова внутреннего озарения, произнесённые слабеющим голосом, прежде чем сердце перестало биться.
В дни Великого поста, накануне Пасхи, ночью 6 апреля 1520 года римляне неожиданно были разбужены раскатами грома и зловещими вспышками молний. Над Вечным городом разразилась сильная гроза. Толпы верующих, наблюдавших за традиционной процессией вокруг Колизея с орудиями страстей Христовых, были вынуждены искать укрытие под развалинами гигантского амфитеатра. Разбушевавшаяся стихия сметала, рушила всё без разбору. Под её напором содрогались дома, разбивались стёкла, с крыш слетала черепица. Из-за шквалистого ветра и ливня Тибр вышел из берегов, затопив близлежащие улицы и площади, а в Апостольском дворце дала трещину наружная стена, чуть было не вызвав обвал верхних этажей. Перепуганный папа Лев X был вынужден среди ночи спешно покинуть опочивальню и перебраться в безопасное место.
В ту ночь никто не смог сомкнуть глаз. Насытившись буйством, стихия угомонилась только под утро. Невыспавшиеся римляне с трудом приходили в себя. Когда они разгребали завалы и убирали поваленные ураганом деревья, вдруг разом во всех церквях зазвонили колокола. Их протяжный тревожный гул оповестил Urbi et orbi — город и мир о невосполнимой утрате. Ночью скончался всеобщий любимец Рафаэль. Эта весть потрясла всю Италию.
На следующее утро толпы людей устремились к дому, где жил художник. Над изголовьем покойного возвышалось незавершённое «Преображение», ставшее его лебединой песней, обращённой теперь к людям, пришедшим с ним проститься: «Я люблю вас, христиане, и преклоняюсь перед вашей скорбью».
В день похорон по пути следования катафалка и траурной процессии улицы и площади были наводнены римлянами, которые вдруг принялись рукоплескать усопшему гению, выражая ему свою любовь и признательность. Возможно, многие из собравшихся никогда не видели его творений, но были наслышаны о нём как о сладкоголосом Орфее, обогатившем грешный мир дивным искусством.
Рукоплещущая на похоронах толпа — это что-то противоестественное на первый взгляд в день траура, но таковы темпераментные итальянцы, бурно выражающие свои чувства и в горе, и в радости. Пример оказался заразительным, и странный обычай стал прививаться и у нас. В дни прощания с Рафаэлем друзья утешали себя мыслью, что смерть похитила его столь рано, потому что гению не пристало так долго с болью наблюдать несовершенство мира и несправедливость на грешной земле, и вспоминали девиз Леонардо: «Лучше смерть, чем усталость» (Meglio la morte che la stanchezza).
Для всех, кто оплакивал художника, некоторым утешением могла служить известная мудрость древних: жизнь коротка, искусство вечно. И они не ошиблись: творения Рафаэля оказались бессмертны. Опечаленный Ариосто откликнулся на кончину гения эпитафией на латыни, опубликованной позднее в одном из его поэтических сборников. В нём было сказано, что Урбино, Рим и весь белый свет осиротели, потеряв гения, чьи творения были способны на чудеса, разве что лишены дара речи. Поэт посетовал на несправедливую судьбу, столь безжалостно прибирающую достойных, оставляя серую никчёмность коптить небо. Приведём из его эпитафии первое четверостишие:
Когда Микеланджело узнал о смерти его главного соперника, он заявил, что не считает кончину Рафаэля преждевременной, ибо он оставил мир, когда счёл нужным.
Согласно воле покойного местом его последнего упокоения стал римский Пантеон, сооружённый в годы правления императора Августа, а ныне превращённый в обычный христианский храм. Он поражает своим грандиозным величием, и трудно найти более достойное место в Риме для увековечения памяти гениального творца. Друг Бембо сочинил эпитафию, помещённую над саркофагом с вечно горящей лампадой:
Ille hie est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens, et moriente mori
(Здесь покоится Рафаэль, при его жизни прародительница всего сущего боялась быть побеждённой, а после его смерти страшится умереть сама.) Чуть ниже на другой доске выбито уточнение, которое в переводе с латыни означает: «Он прожил полностью тридцать семь лет и в тот же день, когда родился в восьмые иды апреля, то есть 6 апреля 1520 года, окончил своё существование». Как явствует из приведённого уточнения, Рафаэль родился и умер в Страстную пятницу в три часа ночи, на чём позже стали настаивать Вазари и другие биографы. В этих мистических совпадениях современники увидели особый знак Провидения и восприняли смерть кумира как Преображение, а потому не стоит так убиваться и «искать его среди мёртвых». Народная молва неисчерпаема в своём словотворчестве. Многие тогда говорили и писали о последних днях жизни и причине смерти любвеобильного гения, повторяя ставшую широко известной фразу: «Его сердце остановилось, потому что устало любить…» Свою лепту в слухи о безвременной смерти из-за любовных излишеств внёс и Вазари. Возможно, доля правды в тех разговорах была. Но нельзя не учитывать главного — за двенадцать лет жизни в Риме Рафаэль создал столько, сколько не сотворил бы ни один мастер за долгие годы жизни. Он надорвался, и сердце не выдержало колоссальной нагрузки, в чём и кроется основная причина его преждевременного ухода из жизни.
Несколько слов об учениках. После кончины мастера пути их разошлись. Один из них, самый талантливый и сторонившийся шумной суеты римской богемы, Джованни Нанни уехал в родной город Удине, где создал немало значительных творений, достойных памяти великого учителя. Он был непревзойдённым мастером изображения животных, птиц, цветов, фруктов, экзотических орнаментов, гротесков и стукковых рельефов, имитирующих мрамор. На старости лет он вернулся в Рим, где скончался в 1564 году, пожелав быть погребённым в Пантеоне рядом с обожаемым Рафаэлем.
Среди учеников выделялся флорентиец Джован Франческо Пенни по прозвищу Фатторе, заслуживший особое доверие мастера и сохранивший преданность его художественным принципам. Покинув Рим, где прошло его становление как живописца, он закончил свой путь сравнительно молодым в Неаполе в 1528 году. Другой флорентиец Перин дель Вага проявил себя виртуозным рисовальщиком и мастером монументально-декоративной живописи. Он немало поработал во Флоренции и Генуе во дворце Дориа, а затем снова в Риме, где умер в 1547 году и был похоронен в Пантеоне.
Наиболее одарённым и деятельным был Джулио Романо, развивавший одну из граней творчества учителя, но утративший размах и целостность его живописного стиля. Покинув Рим, он обосновался в Мантуе, став придворным живописцем и архитектором, где окончил свои дни в 1546 году. Добившись привилегированного положения среди остальных учеников Рафаэля, он очень вольно обращался с наследием учителя, используя многие его методы и находки, что не раз вызывало нарекания современников. Так, на своей картине «Венера перед зеркалом» Джулио Романо повторил образ рафаэлевской «Форнарины». Его считали лучшим учеником, но эта работа далека от классической манеры великого мастера и в ней налицо забвение ренессансных традиций с явными признаками маньеризма.
С Джулио Романо связана одна неприглядная история, вызвавшая переполох и шок в общественном сознании. Вдохновившись некоторыми откровенно эротическими сценами росписей зала Психеи, он вознамерился превзойти покойного учителя и создал цикл порнографических рисунков, показывающих шестнадцать положений совершения полового акта. Гравёр Раймонди перенёс их на медные доски, а любитель похабщины Аретино снабдил рисунки скабрезными стишками. Верный памяти своего благодетеля Бавьера наотрез отказался делать оттиски с гравюр.
— Вы позорите память великого человека, который не выносил пошлости и бесстыдства, — гневно бросил он в лицо художнику и гравёру. — Он верил в вас и не забыл в своём завещании, одарив своей щедростью. И чем же вы ему отплатили?
Гравюры шли нарасхват, чем заинтересовалась папская Консистория. Распространитель порнографической продукции угодил в подземный каземат замка Святого Ангела, а авторы похабных рисунков и стишков спешно покинули Рим. Только благодаря вмешательству высокопоставленных друзей удалось вызволить Раймонди из тюрьмы и замять скандал.
В 1833 году было произведено вскрытие могилы Рафаэля. Имеется литография, на которой изображён склеп с открытой могильной плитой. Тогда же с черепа была снята гипсовая копия, которая хранится в римской академии Святого Луки, а за местом захоронения следит существующая с 1870 года и по сей день ватиканская добровольная ассоциация, носящая название «Виртуозы Пантеона».
Со временем отношение к Рафаэлю в мире претерпело серьёзное изменение — от всеобщего признания до открытого неприятия. Хулители Рафаэля объявились ещё при жизни Гёте, который писал, вступив с ними в полемику: «…неужто же этот взысканный Богом человек… во цвете лет так ошибочно мыслил и ошибочно действовал? Нет! он всегда прав, как права сама природа, и всего более права в том, что нам всего непонятнее».68 Как никто другой, великий поэт понимал, что любое творчество — это тайна, которую не всем дано постигнуть.
Зачинщиками переоценки творчества Рафаэля в середине XIX века стали некоторые английские художники, которые основали братство прерафаэлитов и выступили против засилья холодного академизма в живописи как порождения искусства Высокого Возрождения, утратившего былую простоту и непосредственность выражения. Они ратовали за переосмысление художественного наследия от «примитивов» до Рафаэля, в чьих произведениях особенно ценили «священный огнь» истинной веры. Несколько ранее с тех же позиций выступили «Назарейцы» (по названию города, где родился Христос) — так иронически называлась группа немецких и австрийских живописцев, призывавших возвратиться к средневековым традициям в искусстве. Все они, и прерафаэлиты и «назарейцы», решительно отвергали искусство Рафаэля, считая, что опыт Возрождения должен быть предан забвению как полностью себя изживший. Вопреки им француз Делакруа в полемике со сторонниками возврата к архаике, равно как и со своими современниками-романтиками, чьи взоры были устремлены в прошлое, не терял веры в поступательное движение искусства. В дневнике от 4 января 1857 года он отметил: «…бессмысленно идти назад и пытаться подражать примитивам».
Эпоха, в которую жил и творил Рафаэль, продлилась недолго, а вот разочарование, вызванное утратой искусством прежних высот, длилось почти целое столетие. Судя по сегодняшним дням, падение продолжается, в какие бы «измы» ни рядилось искусство постмодернизма.
Глава XXIII РАФАЭЛЬ В РОССИИ
В России имя Рафаэля издавна пользовалось большой известностью и почитанием — тема, ждущая дальнейшего более глубокого изучения. В эпоху просвещённого абсолютизма Екатерины II утончённый рационализм Позднего Возрождения обрёл новое звучание и смысл. Подтверждением этого может служить распоряжение императрицы переделать интерьеры Царскосельского дворца, где она любила проводить досуг, в духе «чистого рафаэлизма». В её дневнике имеется любопытная запись: «Я страстно увлекаюсь книгами по архитектуре. Ими заполнена вся моя комната, и этого для меня достаточно».69
Увлечение императрицы итальянским искусством и прежде всего архитектурой привело к воссозданию в Эрмитаже так называемых лоджий Рафаэля — точной копии ватиканских фресок, выполненных в основном учениками великого художника. Знакомство Екатерины с итальянскими мастерами началось во время её первого посещения Первопрестольной на коронации, где её потрясла красота соборов Кремля. По приглашению императрицы в Россию прибыла целая когорта зодчих и живописцев из Италии, которые вдруг «заговорили по-русски» и создали в Санкт-Петербурге стиль, не имевший себе равного в мире по свободе композиции и чувству пространства, по ощущению Античности и величавой строгости. Этот стиль наиболее полно выразил пафос российской государственности и мощный подъём национального самосознания,
Россия предоставила приглашённым итальянским зодчим, живописцам, ваятелям и музыкантам счастливую возможность для самовыражения. Одному из них, архитектору Джакомо Кваренги, за его заслуги в 1814 году было даровано потомственное российское дворянство, а именем зодчего Карло Росси названа одна из самых красивых улиц Северной столицы, поразительная по гармонии пропорций. Ничего подобного никто из них не смог бы добиться в те годы у себя на родине, которая представляла собой скопище постоянно враждовавших между собой мелких завистливых государств.
В годы правления Екатерины в 1772 году в Эрмитаж поступили «Святой Георгий и дракон» и «Святое семейство с Иосифом безбородым» Рафаэля как результат настойчивых поисков её эмиссаров, рыскавших по всей Европе в поисках работ старых мастеров. Немалая заслуга в этом принадлежит российскому послу князю Б. Н. Юсупову, эстету и ценителю искусства. Из одного эрмитажного архивного документа явствует в переводе с французского, что «какой-то неискусный живописец, желая поновить картину… переписал её, так что уже не видно в ней кисти Рафаэля».70 В том же документе говорится, что некто Видон «очистив картину от посторонней работы, возвратил подлинное её письмо… Наложенные на картину краски неискусным живописцем послужили ей покрышкой и сохранили от вредного воздействия воздуха». Но позднее «Святое семейство» подверглось новым испытаниям, о чём свидетельствует запись на тыльной стороне картины: «Переложена с дерева на холст А. Митрохиным в 1827 году. С. Петербург».
Многие литературоведы не без основания полагают, что со злополучной историей, произошедшей с картиной Рафаэля, напрямую связано стихотворение А. С. Пушкина «Возрождение», в котором поэт с нескрываемым возмущением говорит:
Широко известен также факт, как Пушкин, в чьём поэтическом наследии «Златая Италия» занимает особое место, увидев в одной из книжных лавок Петербурга выставленную на продажу и выдаваемую за подлинник так называемую «Бриджуотерскую мадонну», загорелся желанием её приобрести, но заявленная цена оказалась непомерной. Небольшая рафаэлевская работа (81x56 сантиметров) поразила поэта одухотворённой возвышенностью образа. В письме невесте он писал 30 июля 1830 года: «…часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил её, если бы она не стоила 40 000 рублей».71 Тогда же он откликнулся на это событие следующими строками в сонете «Мадонна»:
По всей вероятности, в разговоре с продавцом картины Пушкина глубоко задело, что живописный слой с доски был перенесён на холст и что творения гения коснулась чья-то посторонняя рука. По этому поводу поэт высказал своё резкое осуждение устами Сальери: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля», заклеймив любое грубое вторжение несведущих посторонних лиц в искусство.
Тон восторженным оценкам Рафаэля первым задал В. А. Жуковский в известном письме о своих впечатлениях после посещения Дрезденской галереи, где он увидел «Сикстинскую мадонну»: «Это не картина, а видение, и чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобой что-то неестественное происходит (особенно, если смотреть так, что ни рамы, ни других картин не видишь). И это не обман воображения: оно не обольщено здесь ни живостью красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца, без всяких хитростей искусства, но с удивительною простотою и лёгкостью передала холстине то чудо, которое во внутренности её совершилось». Обращаясь в конце письма к адресату, поэт восклицает: «Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной!»72 У Жуковского имеются строки, очень созвучные пушкинским, посвящённым рафаэлевским мадоннам:
Пушкин мог видеть и так называемую «Мадонну Альба» Рафаэля, приобретённую в 1836 году по распоряжению Николая I, но позднее оказавшуюся, как и «Святой Георгий», в Вашингтоне в Национальной галерее. В 1830 году выпускник Петербургской академии художеств Александр Иванов в Дрездене увидел «Сикстинскую мадонну», и с той поры Рафаэль стал для него непререкаемым авторитетом, а его творения воплощением высшего художественного совершенства. Им было сделано для себя немало копий с картин и фресок Рафаэля в стремлении раскрыть тайну его божественного дара.
Широкий интерес вызвали показанная в Петербурге новая работа Брюллова и напечатанная в августе 1834 года статья Н, В. Гоголя «Последний день Помпеи». Дав несколько преувеличенную оценку таланта Брюллова, автор всё же признал, что «у него нет также того высокого преобладания небеснонепостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль».73
Итак, оценивая Рафаэля с разных эстетических позиций, романтик Жуковский и реалист Гоголь были едины в одном: Рафаэль — это высшее проявление человеческого духа.
Во второй половине XIX века эрмитажная коллекция обогатилась ещё двумя картинами Рафаэля — «Портретом Лоренцо Медичи», оказавшимся затем за океаном, и «Мадонной Конестабиле», прежнее название которой Madonna del libro («Мадонна с книгой»). В XVIII веке род Альфани делла Стаффа породнился с семейством Конестабиле и владельцем картины стал граф Сципион Конестабиле. С ним начались переговоры о её приобретении. Весть о покупке русскими рафаэлевского шедевра просочилась в прессу. Став, наконец, единым национальным государством, Италия начала проявлять заботу о сохранности своего культурного наследия, которое в течение веков расхищалось или распродавалось за бесценок, пополняя коллекции европейских и американских музеев, равно как и частные собрания. Вспомним, что в 1754 году монахи-бенедиктинцы под шумок продали «Сикстинскую мадонну» за смехотворную по тогдашним временам цену в 50 тысяч франков саксонскому курфюрсту. На сей раз в палату депутатов поступил запрос с требованием к правительству запретить вывоз картины Рафаэля. Министр, выступивший перед парламентариями, собравшимися во Флоренции, тогдашней столице страны, вынужден был признать, что затребованная графом Конестабиле за свою картину сумма оказалась непосильной для правительства. Прибывший для переговоров в Италию директор Эрмитажа А. С. Гедеонов, располагавший для этой цели 100 тысячами рублей, завершил сделку и заверил продавца, что его имя будет упомянуто под картиной. 28 апреля 1571 года «Мадонна Конестабиле» прибыла в Петербург.74
Как выяснилось вскоре, трещины на картине увеличились, что вызвало необходимость перевода изображения с дерева на холст. В ходе работы под нижним слоем живописи был обнаружен подмалёвок, на котором вместо книги Мадонна держит в руке гранат. Остаётся только гадать, почему Рафаэль в последний момент заменил гранат книгой. С картиной связана одна курьёзная история, красочно описанная критиком В. В. Стасовым 27 ноября 1871 года в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Ей пришлось теперь не только покинуть дорогую и привычную компанию старых знакомых и товарищей, не только из тёплых южных краёв переселиться на север, в страну густых шуб и меховых шапок (а какому итальянцу не покажется убийственным такое переселение?), но ещё вынести тяжёлую, мучительную операцию… О если б картина могла говорить! Как бы она с отчаяния билась лбом о стену и плакала и жаловалась на старинном итальянском языке времён папы Льва X».75 В своей статье «Художественная хирургия» критик, казалось бы, разделяет позицию Пушкина, допуская лишь небольшую неточность: «Мадонна Конестабиле» была написана до появления Рафаэля в Риме и его работы при папском дворе. Но не лукавил ли «неистовый» Стасов, как его звали современники за страстность в спорах? Известно, что лет сорок он готовил труд, который хотел озаглавить «Разгром», или Massacre general, где намеревался развенчать многих общепризнанных гениев. Он не считал Рафаэля великим художником и порицал Микеланджело за «лжевеличие»,76 в чём был солидарен с теми же «назарейцами» и «прерафаэлитами», а таковые объявились и в России. Его позиция, будь она обнародована, не нашла бы поддержки в широких кругах общества, где имя Рафаэля было свято.
Другой такой же «неистовый», В. Г. Белинский, увидев в Дрездене «Сикстинскую мадонну», писал восторженно В. П. Боткину: «Что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же строгости очертаний. Недаром Пушкин так любил Рафаэля; он родня ему по натуре».77 Это определение родства душ двух национальных гениев является основополагающим для понимания подлинного места Рафаэля в русской культуре. Как говорил Гораций, ut pictura poesis: поэзия — это та же живопись, и такое определение можно с полным правом отнести к Рафаэлю.
Рассуждая о роли литературы и искусства для судеб русской культуры в переживаемые ею тяжёлые времена, тот же Белинский писал: «Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нём понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен в несомненной истине… лицо мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения?»78 Такие же чувства вызывало искусство Рафаэля у Брюллова и Венецианова, Герцена и Огарёва, Крамского и Сурикова.
О Рафаэле в России накопилась обширная литература. Пожалуй, самым восторженным поклонником «Сикстинской мадонны» был Ф. М. Достоевский. Для него это полотно было не просто непревзойдённым шедевром, но и выражением человеческого благородства. Увидев в Швейцарии картину Гольбейна-младшего «Мёртвый Христос», он заметил, что, стоя перед ней, можно потерять веру, а «Сикстинская мадонна» поддерживала в нём веру и укрепляла дух. В гении Рафаэля он увидел ту же всемирную отзывчивость и всечеловечность, что и в гении Пушкина. Недаром в его петербургской квартире висит копия «Сикстинской мадонны». Такую же копию в своей усадьбе Ясная Поляна повесил Л. Н. Толстой.
В апреле 1894 года в Москве состоялось знаменательное событие — в дни работы Первого всероссийского съезда художников в белоколонном зале Дворянского собрания с успехом прошла премьера одноактной оперы Аренского «Рафаэль» на либретто Крюкова. Как писал один из первых рецензентов, это «настоящий перл музыкальной красоты. В нём бездна любовной нежности и опоэтизированной мечтательности, что свойственно картинам великого художника».79 Но опера не удержалась в репертуаре Большого и Мариинки, за исключением обретшей широкую известность арии Певца за сценой «Страстью и негою сердце трепещет…», запечатлённой в грамзаписи в исполнении Собинова, а позднее прочно закрепившейся в репертуаре других русских теноров. Слова самой арии перекликаются с одним из сонетов Рафаэля.
В начале XX века традиции классического искусства подверглись радикальному пересмотру. Противники Рафаэля не перевелись и в России, где не раз делались попытки сбить вековую патину с забронзовевшего образа творца. Кого только в те годы не «сбрасывали с корабля современности»! Да и для нынешних глашатаев поп-арта и концептуального искусства Рафаэль выглядит пережитком прошлого, мало что дающим современному человеку. В эпоху так называемого постмодернизма с её общим падением нравов и утраты эстетического вкуса приверженцы протестного искусства эпатажа обрели силу и оказались востребованными в определённых кругах с их изощрёнными и доведёнными до абсурда вкусами, а также болезненно искажённым взглядом на окружающий мир, вызывая неприязнь сторонников классических традиций. Время всех рассудит и каждому воздаст по заслугам. Пока ясно одно — творения Рафаэля, каковы бы ни были суждения о них, являются достоянием всего человечества, а не избранного круга «посвящённых».
Трагическим оказалось для всемирно известной эрмитажной коллекции начало 1930-х годов, когда она лишилась многих своих шедевров, в том числе и работ Рафаэля, на которых воспитывался эстетический вкус многих поколений российского общества. Первой жертвой стал «Св. Георгий и дракон», который по распоряжению императора Александра I в 1812 году был выставлен в качестве иконы с теплющейся лампадой в Георгиевском зале Зимнего дворца. Не исключено, что это обстоятельство сподвигло комиссаров НКВД, руководивших секретной операцией, включить картину в список изымаемых сокровищ. Встав на путь индустриализации, страна нуждалась в иностранной валюте, и тогдашние её руководители, в основном люди прагматичные и малообразованные, приняли решение об изъятии художественных ценностей для продажи за рубеж. Многие противники этой акции подверглись репрессиям.
Недавно произошло сенсационное событие, связанное с именем Рафаэля в России, что явилось ярким свидетельством бережного и почтительного отношения к искусству прошлого. В итальянской Мантуе, являющейся побратимом города Царское Село под Петербургом, во дворце Те была выставлена присланная из России отреставрированная картина «Смерть Рафаэля» кисти итальянского художника XIX века Феличе Скьявони. Выставка, продлившаяся до 10 января 2010 года, не осталась без внимания мировой общественности.
Происхождение картины таково. Во время посещения Италии наследник российского престола, будущий царь Александр II, по распоряжению которого была приобретена «Мадонна Конестабиле», заказал венецианскому художнику Скьявони картину, посвящённую Рафаэлю. Работа над ней растянулась почти на двадцать лет. В 1859 году картина прибыла в Россию и была подарена царём царскосельскому Екатерининскому дворцу. На её долю выпали большие испытания во время Великой Отечественной войны. Когда войска нацистской Германии подошли к Ленинграду, завернутое в рулон полотно вместе с другими художественными ценностями было отправлено из Царского Села в Сибирь, где и находилось до 1947 года, что отрицательно сказалось на сохранности красочного слоя. И вновь нужно сказать добрые слова в адрес отечественных реставраторов.
Большое полотно (3,5x2,5 метра) «Смерть Рафаэля» — это типичный для XIX века жанр исторической картины с подлинными персонажами и характерными деталями эпохи. На картине запечатлён драматический момент ожидания друзей и учеников мастера, собравшихся в приёмной его дворца, пока врачи борются за его жизнь. В зале, слабо освещённом светом из широких окон, изображены хранящие глубокое молчание девятнадцать персонажей. В центре ярким пятном выделяется мощная фигура Бембо в пурпурной кардинальской мантии. Рядом с ним Кастильоне и Ариосто. Крайний слева гравёр Раймонди. Прислонившись к плечу Бавьеры, плачет Форнарина. Позади Бембо узнаваемы Челлини, Микеланджело и Новаджеро. Среди учеников Джулио Романо, Пенни Фатторе, Перин дель Вага и Джованни да Удине. Сидящий в кресле прелат — папский датарий Турини, душеприказчик последней воли Рафаэля. За ним справа в углу автор изобразил своего отца живописца Натале Скьявони, работавшего также на царский двор и в 1860 году ставшего кавалером ордена Святого Станислава 3-й степени. Приглушённая тональность картины соответствует драматической атмосфере, когда собравшиеся всё ещё питали надежду на благоприятный исход. Но она была столь же слаба, как и слаб рассеянный свет мрачного дня из окон. Из полутьмы прорывается изображение летящего Христа с вытянутыми дланями на незаконченной картине «Преображение».
Глубоко прав был выдающийся историк искусства академик М. В. Алпатов, выступивший однажды как против огульного отрицания, так и восторженного отношения к творчеству Рафаэля, не допускающего ни малейшей критики его произведений. В одной из работ учёного говорится: «В наши дни подобное отношение выглядит милым, но нелепым анахронизмом. Вместе с тем нашему современнику надо сделать над собой усилие, чтобы избавиться как от слепого поклонения Рафаэлю, так и от слепого отрицания».80 Эти слова были написаны незадолго до чествования Рафаэля в связи с 500-летием со дня его рождения в 1983 году, когда повсеместно прошли научные конференции и юбилейные выставки, ещё раз показавшие, что творения Рафаэля и поныне считаются бесспорным образцом совершенства, и остаются таковыми для всех истинных ценителей прекрасного в мире.
Красноречивым подтверждением правоты этих слов послужил нескончаемый людской поток в ГМИИ им. Пушкина, где весной 2011 года проходили Дни культуры и искусства Италии в России, начавшиеся с показа одного из рафаэлевских шедевров «Дама с единорогом». Несмотря на непогоду и снежную пургу, люди терпеливо простаивали часами в очереди в желании стать сопричастными к чуду искусства. И в наш суровый век творения Рафаэля продолжает согревать сердца и возвышать души, и в этом их непреходящее значение и величайшая ценность.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РАФАЭЛЯ
1483, 6 апреля — Рафаэль родился в Урбино в Страстную пятницу в три часа ночи.
1491, 7 октября — смерть матери Маджии Чарла.
1492, 25 мая — отец Джованни Санти вторично женится.
1494, 1 августа — смерть отца.
1495, 31 мая — первое заседание суда по иску мачехи Бернардины ди Парто к пасынку Рафаэлю и его дяде священнику дону Бартоломео Санти.
1500, 13 мая — возможно,как явствует из протокола судебного заседания, Рафаэль покинул Урбино.
10 декабря — подписал свой первый контракт на создание алтарного образа «Коронование св. Николы из Толентино» по заказу Андреа Барончи для церкви Святого Августина в городке Читта́ ди Кастелло.
1501, 13 сентября — завершает работу над алтарём.
1501-1502 — выполняет заказы для церквей в Читта́ ди Кастелло, в Перудже, знакомится с Перуджино.
1503 — пребывание в Сиене вместе с Пинтуриккьо. Пишет картины «Три грации», «Сон рыцаря» и «Михаил Архангел». Знакомится с гуманистом Франческо Матуранцио и художником Содомой.
1504 — работает в Перудже над алтарными образами «Обручение Девы Марии», «Коронация Девы Марии» и над незавершённой фреской «Святая Троица». Возвращается в Урбино. Завязывает дружбу с литератором Бальдассаром Кастильоне. Пишет «Битву св. Георгия с драконом» для английского короля, портреты правящей четы Урбинского герцогства, а также портрет «Молодой человек с яблоком».
1504-1508 — пребывание во Флоренции с наездами в родной город. Знакомится с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта и многими флорентийскими мастерами. Создаёт первых мадонн, в том числе «Мадонну Грандука» и «Мадонну с щеглёнком».
1507 — пишет «Положение во гроб» по заказу Аталанты Бальони и портрет «Немая». В Болонье впервые встречается с Браманте.
1508-1511 — работает над росписями в Станце делла Сеньятура. Случайно встречает Лютера. Для банкира Агостино Киджи расписывает придел в Санта-Мария делла Паче. Пишет портреты кардинала Алидози и папы Юлия II. Получает должность писца папских указов.
1511-1514 — росписи в Станце Илиодора. Фреска «Триумф Галатеи» во дворце Фарнезина. Алтарный образ «Мадонна Фолиньо» и портрет Биндо Альтовити.
1513 — знакомится с Ариосто по случаю интронизации папы Льва X. Последнее посещение Урбино.
1514-1516 — росписи в Станце Пожар в Борго. Знакомится с Дюрером.
1515, 1 августа — выходит папский указ о назначении Рафаэля главным архитектором собора Святого Петра. 27 августа — назначается главным хранителем древностей. Пишет портреты кардинала Биббьены и папы Льва X.
1516 — начало работ над лоджиями. Пишет «Мадонну в кресле», портреты Кастильоне и Ингирами. Работает над картонами для шпалер на тему «Деяния апостолов».
1517 — выступает в защиту приговорённого к смерти юноши из Урбино Маркантонио ди Никкола. Пишет «Даму с вуалью», портрет Форнарины и «Автопортрет с другом», «Видение Иезекииля» и «Сикстинскую мадонну». По заказу папы проектирует и возводит его загородную виллу.
1518 — завершение росписей в лоджии Психеи.
1519, 2 мая — начало работы над «Преображением». Сикстинскую капеллу украшают десятью шпалерами, вытканными по картонам Рафаэля.
1520, 24 марта — приобретение участка земли на улице Джулия для постройки собственного дворца, 6 апреля — Рафаэль скончался, похоронен в римском Пантеоне.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1980.
Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. М., 1977.
Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
Гращенков В. Я. Рафаэль. М., 1975.
История Италии. Т. 1. М., 1970.
Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
Рафаэль и его время. М., 1986.
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.
Эстетика Ренессанса. Т. 1. М., 1981.
Antologia della letteratura italiana. Milano, 1973.
Bellori G.P. Descrizione delle Immagini dipinte da Raffaelle d’Urbino nel Palazzo Vaticano e nella Farnesina alia Lungara. Roma, 1751.
Burckardus I. Alla corte dei cinque papi. Milano, 1988.
Camesasca E. Tutti gli scritti di Raffaello Sanzio. Milano, BUR, 1956.
Castiglione В. Lettere inedite e rare. Milano-Napoli, 1969.
De Vecchi P.L. L’opera completa di Raffaello. Milano, 1966.
De Vecchi P.L. Raffaello — lapittura. Firenze, 1981.
Forcellino A. Raffaello — una vita felice. Roma-Bari, 2006.
Franceschini L. I Montefeltro. Milano, 1979.
Gloulas I. Giulio II. Roma, 1993.
Guicciardini F. Storia d’Italia. Torino, 1971.
Longhi R. Percorso di Raffaello giovine. In «Paragone» 65, maggio 1955.
Longhi R. Difficolta’ di Leonardo. In «Paragone» 29, maggio 1952.
Machiavelli N. Lettere. Milano, 1961.
Mazzini F. I mattoni e le pietre di Urbino. Urbino, 1983.
Oberhuber K. Raffaello — l'орега pittorica. Milano, 2003.
Panofsky E. Studi di Iconologia, i temi umanistici nell’arte del Rinascimento. Torino, 1975.
Quatremere de Quincy A.Ch. Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio — voltata in italiano, corretta, illustrata ed stampata per cura di Francesco Longhena. Riedizione Rambaldi, 2003.
Raffaello a Roma. Il Convegno del 1983. Roma, 1986.
Raffaello — L'opera completa. Milano, 1966.
Sangiorgi F (a cura di). Documenti urbinati. Inventari del Palazzo ducale. Urbino, 1976.
Shearman J. Studi su Raffaello. Milano, 2007.
Shearman J. Giulio Romano. In Atti del Convegno internazionale su Giulio Romano e l’espanzione europea del Rinascimento. Mantova, 1991.
Venturi A. Raffaello. Milano, 1952.
Zorzi G. Notizie d’arti e di artisti nei diari di Marin Sanudo. Venezia, 1961.
Иллюстрации
Автопортрет. Флоренция, Уффици
Урбино. Дом, где родился Рафаэль
Внутренний дворик дома Рафаэля
Автопортрет. Оксфорд, Асмолеан музеум
Сон рыцаря. Лондон, Национальная галерея
Три грации. Шантийи, музей Конде
Распятие Монд. Лондон, Национальная галерея
Чудесный улов. Лондон, музей Виктории и Альберта
Рисунок Рафаэля и сонет
Галатея. Рим, дворец Фарнезина
Суд Париса. Гравюра Раймонди с рисунка Рафаэля
Амур с тремя грациями. Рим, лоджия Психеи дворца Фарнезина
Изгнание Илиодора из храма. Ватикан
Путь на Голгофу. Мадрид, Прадо
Св. Цецилия. Болонья. Национальная пинакотека
Портрет Юлия II. Лондон, Национальная галерея
Портрет Льва X с двумя кардиналами. Флоренция, Уффици
Портрет Бальдассара Кастильоне. Париж, Лувр
Немая. Урбино, Национальная галерея
Автопортрет с другом.
Форнарина. Рим, музей дворца Барберини
Памятник Рафаэлю в Урбино
Мадонна с младенцем. Урбино, дом-музей Рафаэля
Св. Георгий и дракон. Вашингтон, Национальная галерея
Портрет юноши с яблоком. Флоренция, Уффици
Обручение Девы Марии. Милан, Брера
Перуджино. Обручение Девы Марии. Кан, Музей изящных искусств
Аньоло Дони. Флоренция, Питти
Маддалена Строцци Дони. Флоренция, Питти
Мадонна с щеглёнком. Флоренция, Уффици
Дама с вуалью. Флоренция, Питти
Дама с единорогом. Рим, галерея Боргезе
Мадонна Конестабиле. Санкт-Петербург, Эрмитаж
Мадонна в кресле. Флоренция, Питти
Афинская школа. Ватикан
Венчание Девы Марии. Ватикан, Пинакотека
Сикстинская мадонна. Дрезден
Диспут. Ватикан
Месса в Больсене. Ватикан
Парнас. Ватикан
Вызволение апостола Петра из темницы. Ватикан
Пожар в Борго. Ватикан
Мадонна Фолиньо. Ватикан, Пинакотека
Видение Иезекииля. Флоренция, Питти
Феличе Скьявоне. Смерть Рафаэля. Царское Село, Екатерининский дворец
Преображение. Ватикан, Пинакотека