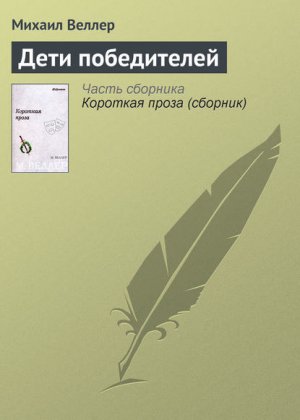
* * *
Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва – сорок шестой-пятидесятый года рождения, самое многочисленное поколение за всю историю страны. Мы, состарившиеся в мальчиках, вино, перебродившее на уксус и не дождавшееся праздника: нас не подпустили к столу, мы не дотянулись до бокалов, а ножи были предусмотрительно убраны: лакеи захватили буфеты и стали хозяевами праздника. Мы, брюзги, неудачники, одни спившиеся, другие продавшиеся незадорого, потому что дорогой цены уже не давали: предложение с лихвой превышало спрос. Мы, чьи лучшие рабочие годы – с двадцати пяти до сорока – ушли водой в песок, погрязли в болоте, ухнули в бездонную пропасть, в жизнеподобную пустоту непереносимо фальшивого фанфарного пения: оно скребло своей наглой фальшью нервы, и мы стали истеричны, оно резало сердце, и инфаркты подкрались к нам рано, оно разъедало душу, и нам уже нечем стало верить во все хорошее и честное. Мы, плешивые, потому что метались беспорядочно по жизни, пытаясь жить, мы, гнилозубые, потому что жрали всякую дрянь – а что еще было жрать, потому что не на что было вставлять зубы у частника, поди еще его найди, не стальных же фикс ждать два года в бесплатной очереди: мы были, были, были!
Нам было по пятнадцать, мы были юны, стройны, красивы, полны сил и веры: острая брага юности запенилась в нас, детях победителей, когда Хрущев матерился с трибун и учил писателей писать – но никого не сажали, и казалось, что никогда уже не будут сажать, никогда не будет страха: анекдоты о Хрущеве рассказывали везде, издевались над кукурузой: мы выросли без страха в крови, культ личности был историей, Твардовский редактировал и публиковал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, Некрасов печатал в «Новом мире» «По обе стороны океана», «Коллеги» Аксенова были знаменитейшей из книг и «Звездный билет» тоже, критики громили Асадова – мы его читали: суки, человек потерял глаза на войне, прекрасные стихи, читали Евтушенко, читали Вознесенского, переписывали «Пилигримов» Бродского: мало знали, еще меньше понимали, но верить умели, это тоже было у нас в крови, – нет, сомневались, издевались, но – верили. Что было, то было – верили.
И когда слетел Никита – радовались. Демократия, справедливость, хватит кумовства, лысый дурак, наобещал коммунизм через двадцать лет, твердо зная, что двадцать лет не протянет и позор не падет на его лысую голову: восьмиклассники сдавали экзамен по истории СССР, а в коридорах издевались над тем, что отвечали насчет построения коммунизма: нет, не настолько наивны были; но – верили: в добро, в справедливость, в честь, в правду.
И потрясающее свойство юности: знать – а не понимать, видеть – а не понимать, спорить – а не понимать! Судили Бродского, выслали: это было плохо, но в основном все было хорошо. Судили Даниэля и Синявского по статье, которой и в кодексе-то не было: соглашались: поделом врагам народа, антисоветчикам. Не знали, что они написали, не знали толком, в чем дело, газетам своим вообще не верили – а в частности верили!.. обычная штука, юных так легко заморочить, внушить, направить: энергия брызжет, опыта нет, идеалы жгут, и на этих-то идеалах умело, как всегда, играли прожженные сволочи, умные и безжалостные бандиты, сделавшие карьеры на костях собственного народа, на пепле своей земли, на почерневшей в застое крови моего поколения.
А мы рвали семирублевые гитары и пели:
Но циниками не были, ох не были: был тот цинизм как панцирь на нежном теле краба, который прикрывал душу: все в порядке было с душой: в любовь верили, в дружбу верили, в советскую власть, в торжество добра, в святые идеалы, в нерушимое преимущество нашего строя над ихним, безжалостным и античеловечным.
Как же мы ухнули, как пролетели мимо кассы, как похоронили уже кое-кого из друзей, как ссучились, упустили свою волну, остались на обнажившемся бесплодном дне; ушел трамвай, ту-ту, и последними, кто успел прицепиться к колбасе, были те, кто родился на десять лет раньше нас, в тридцать седьмом-восьмом: Распутин, Маканин, Высоцкий. Больше в литературу имен не вошло, да что в литературу, что в искусство: в действительность нашу больше имен не вошло: пардон, все места заняты, двери закрываются, ждите следующего поезда…
И мы ждали, еще не понимая, что не будет поезда, что тот, на ком форма кондуктора, гонит нас в тупик, а жезл в его руке – на самом деле дубинка…
I
Когда послышался хруст? Пожалуй, что с процесса Даниэля и Синявского, но мы, семнадцатилетние, этого еще не понимали: ату гадов, ату власовцев, ату предателей: кто не с нами – тот против нас!
Тебе семь лет, идешь по улице и читаешь, по складам еще почти, лозунг: «Советская избирательная система – самая демократичная в мире!» И на всю жизнь впечатывается, вчеканивается: да, самая демократичная! гордость, достоинство, – вот так, наша. У них – голод и синтетика, у нас – натуральные продукты, у них – произвол, у нас – законы, у них – расизм, у нас – интернационализм.
И ведь поразительно: в пятом классе анекдоты рассказывали: американский инженер: «А сколько вы зарабатываете?» – советский: «Ну и что? А у вас негров вешают». Вроде и знали – а вроде никаких обобщений не делали. Похоже, юность не способна к абстрактному гуманитарному мышлению. Нет, не способна. Особенно если ее отучают думать.
Иногда говорят исключительно о поколении москвичей и ленинградцев; чушь; это всего-то пара процентов от всех: Москва – это еще не Россия. В основном-то все мы жили по небольшим городкам, в них именно народа было всего больше, а в столицы стекались сливки провинций, как и было всегда и везде. Мы были здоровы – что было, то было: гнилья в душах у нас в общем не было. Было, но нечасто. Сравнительно нечасто. Мы были убеждены, что если что – то в военкоматы пойдем в первый день и добровольцами; и в основном пошли бы, ей-богу!
Это – тогда. А сейчас – немногие бы туда отправились: научила жизнь отматываться от всего такого.
В провинциях наших зажима и тупости было побольше, в столицах, понятно, поменьше: мы балдели от свобод и демократий. Сколько позволено всего! И не сажают!
И при этом прекрасно знали, что на нашем университетском филфаке, скажем, полагается стукач на каждую группу, и знали, как происходит вербовка – в пустом кабинете декана, и каковы средства давления, и даже кое-кого из стучащих знали! И язык в общем держали на привязи. И все равно балдели от свобод, вот ведь что поразительно! Пьешь водку в общаге со стукачом – и балдеешь от свободы! Будь вы прокляты, грязные фискалы, наследнички палачей, сеявшие драконьи зубы, которые дохрупали теперь державу до самых костей.
Не будут прокляты. Хорошие зарплаты, приличные квартиры, социальный статус, спецобслуживание. Не подавятся. Давимся мы.
А все-таки – все-таки – комплексуют! Истеричными делаются на этой работе, со стеснением о ней сообщают, а если спорят о деле своем – так с озлоблением, тупым отверганием всего не своего… Как ни верти – а ремесло доносчика, полицейского, палача, – всегда было презренным ремеслом.
(«А куда было деться, меня бы исключили за академическую задолженность…»
«А куда было деться, потом не устроился бы ни на какую приличную работу, только в деревенскую школу…»)
Когда (по слухам, официальной информации – тю-тю) у Виктора Некрасова конфисковали архив, то один из уходящих с пачками бумаг сказал вежливо, смущенно, человечно: «Простите ради бога, Виктор Платонович, – служба…» – На что был ответ: «А вот службу себе, молодой человек, каждый выбирает сам». Тоже не всегда сам. Но в наше-то не слишком голодное время – сам, сам, голубчик. И что, получил ты счастье со своей службы? Нет, дорогой, если ты не ощущаешь себя единым, родным со своим народом, – все у тебя может быть, а счастья нет. Э, а может и есть – собаке собачье счастье.